Антоний Фердинанд Оссендовский
ТАЙНА ТРЕХ СМЕРТЕЙ
Избранные сочинения
Том I
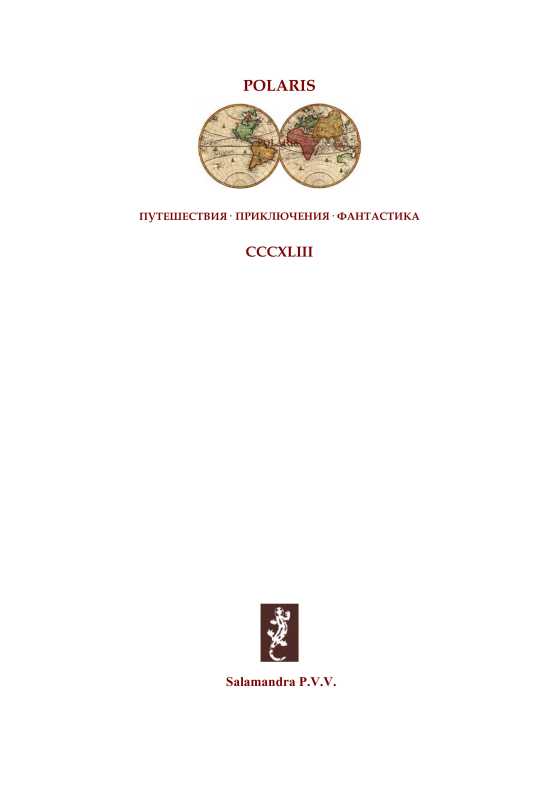

 ТАЙНА ТРЕХ СМЕРТЕЙ
ТАЙНА ТРЕХ СМЕРТЕЙ
От составителей
Имя польско-русского писателя, ученого, путешественника и авантюриста Антония Фердинанда Оссендовского (1876–1945) появилось уже в первом списке авторов, чьи произведения были намечены к изданию в будущей серии
Polaris издательства Salamandra P.V.V. Хотя к тому времени некоторые сочинения Оссендовского уже были переизданы или переведены (включая прославившее автора мемуарно-художественное повествование
Звери, люди, боги), основной корпус его дореволюционных сочинений оставался рассеянным по страницам раритетной периодики и безусловно нуждался в переиздании.
Однако свою первоочередную задачу мы видели в публикации наиболее крупных научно-фантастических произведений Оссендовского, оставивших заметный след в истории русской, а позднее и советской фантастики. Одной из первых книг серии
Polaris стал сборник
Бриг «Ужас» (2013), включивший повести
Грядущая борьба и
Бриг «Ужас». В 2016 г. нами была впервые с 1915 г. переиздана фантастическая повесть
Женщины, восставшие и побежденные; отдельные рассказы Оссендовского были также включены в продолжающуюся многотомную антологию
Фантастика Серебряного века. Одновременно велась работа по подготовке собрания избранных сочинений Оссендовского, которое мы теперь представляем читателям.
В издание включены лишь произведения, написанные Оссендовским в России и на русском языке
[1].
В первый том,
Тайна трех смертей, вошли фантастические и приключенческие рассказы 1909–1914 гг., а также избранные очерки. В приложениях даны статьи о китайской литературе, опубликованные Оссендовским в журнале
Аполлон в 1911 г.
Том второй,
Бриг «Ужас», включает фантастические повести 1913–1915 гг.
Бриг «Ужас»,
Грядущая борьба и
Женщины, восставшие и побежденные.
В третьем томе,
Перуново урочище, представлена серия остросюжетных рассказов о быте золотых приисков и жизни на Дальнем Востоке, рассказы из условного авторского цикла
Старый Петербург и другие рассказы и очерки из периодики конца 1900-х — 1910-х гг.
Заключительный четвертый том собрания,
Мирные завоеватели, включает скандальную титульную повесть, военные рассказы (два из которых имеют отношение к мистическо-агитационной фантастике) и биографический очерк.
Настоящее издание, являясь первым и достаточно представительным собранием русской художественной прозы А. Оссендовского, не претендует на исчерпывающую полноту. В частности, в него не вошли публицистические статьи, научные работы, некоторые рассказы, напечатанные в периодике либо сохранившиеся в архивах и повесть о тюремном быте и нравах
Людская пыль (В
людской пыли, 1909, 1911); справочный аппарат сведен к необходимому минимуму.
В ходе подготовки издания с нами делились своими соображениями и отдельными материалами недавно ушедший из жизни журналист, издатель и фантастовед В. Буря, а также М. Поляков, А. Степанов и Е. Тверский; всем им мы приносим глубокую благодарность.
М. Фоменко, А. Шерман
октябрь, 2019
ЭХО СЕДОЙ СТАРИНЫ
Он только что прибыл в Китай, страну спокойных людей и старых легенд.
Бродил по улицам и рынкам Пекина и с любопытством рассматривал толпу полуголых или пестро одетых людей с длинными косами и мудрыми глазами.
Он подолгу беседовал с маленькими, смелыми детьми, и они говорили ему страшные, чудные сказки о семикрылом драконе Люн и о злой Ши-су, змее, владычице моря…
Однажды внимание его привлекла группа оборванных, полуголодных кули, жадно слушавших слепого певца. Тонкие, загорелые пальцы слепца бегали по струнам самодельной цитры.
Пели струны, гудя, как ветер в ветвях тамариска и грабов, и рассказывал певец седые былины.
— Великий сын неба, богдыхан, повелитель Пэ-синя, могущественный Цинь-ши-хуан-ди справлял день семидесятой зимы.
— Семьдесят раз видел седовласый, подобный вершине Мо-то-линь, повелитель, как желтели лужайки сада под сильными ударами зимнего тайфуна и дождя, слёз высоконависших облаков…
— Согнулся Цинь-ши-хуан-ди, и глаза его тускло смотрели на низко склонившихся перед ним вельмож и князей, а уши слабо различали приветственное «тау-хо» народа, собравшегося в сады Го-кон-га.
— Но вот поднялся и с поклонами встал перед богдыханом грозный князь Циня, У-гун, и молитвенно произнес:
— «Мудрый, великий владыка! Склони ко мне свой милостивый слух и внемли верному рабу твоему. Моя земля, которую омывают пенная Хунг-хэ и глубокая Та-э, шлет тебе дар.
— Это — красивейшая девушка страны. Имя ее, как призывный звон священной струны жрецов Дао. Имя это Тао-инь-мо.
— Она как облако, уносящееся с северных склонов Чан-бо-шана, а румянец ее ланит — поцелуй утренней зари.
— Она стройна, как пальма с Янь-тце, и горда, как пантера лесов Сям-Тур.
— Ее отец, Чжао-ли-жан-фэй, отдает ее тебе, владыка, как жену, любовницу и рабу…
— Именем предков великих и малых родов весь горный Цинь предвещает тебе, седовласый властелин счастливого твоею мудростью Пэ-синя, великий огонь любви, утехи страсти, долгую жизнь и неугасающую радость в жарких объятиях Тао-инь-мо».
— Вошла девушка… и блеснули потухающие глаза владыки.
— Два года прошло с той поры… два быстролетных пэ-тьен
[2] умчались после того, как князь Циня, У-гун, принес владыке на-цай
[3].
— И занемог Цинь-ши-хуан-ди, а ученые жрецы и маги предсказали ему, что близится великий конец, когда повелитель Пэ-синя сольется навсегда с сонмом «ста духов».
— Дряхлый повелитель приказал выковать огромную сводчатую пещеру в скале горы Ли, где повелел поставить гроб со своим державным телом, на третий день после вечерней молитвы Тси-то-янь, поручающей его заботам великих и малых духов неба…
— Днем и ночью… три длинных месяца… семьсот тысяч рабочих рыли землю и ковали крепкую скалу, превращая ее в храм с причудливыми колоннами и стенными украшениями, обтесывая огромные обломки скал и придавая им форму добрых и злых богов и богоподобных предков державного повелителя Пэ-синя.
— Было все готово, и лишь триста человек искусных мастеров из Шао-бо-эиня украшали стены склепа, когда умер богдыхан…
— Настал третий день, — день погребения… день новых смертей…
— Двадцать два белоснежных мула, обвешанных серебряными, сладкозвучными колокольчиками, с белыми перьями на головах, везли красную боевую колесницу господина с тяжелым гробом из тысячелетней сикоморы, крепкой как камень и скованной золотыми скобами.
— За колесницей шли тридцать жен богдыхана…
— Тридцать бесплодных жен, неутешных вдов, и среди них юная Тао-инь-мо.
— Она видела голубое, веселое небо и яркие цветы лесов и лугов Синя и толпы лежащего ниц народа…
— Она слышала беззаботное пение птиц; и плеск недалекой реки, и причитания плакальщиков, и визг длинных флейт, и дрожащие стоны медных гонгов…
— Далеко… далеко… звучали призывные рога смерти…
— Дошли мулы до пещеры в горе Ли… Жрецы и старые бонзы Дао и хранители капищ Лао-Цзы внесли гроб владыки, ввели тридцать вдов и бичами загнали оканчивавших работу мастеров из Шао-бо-эиня…
— Ушли бонзы и жрецы, отдав гробу и живым семь последних земных поклонов и произнеся семь молитв «тао-ши-янь».
— Гору Ли ласкали последние красные лучи вечерней зари и заглядывали в глубь пещеры…
— Триста тридцать грудей издали последний крик…
— Вход пещеры заложили гладкими камнями, залили цементом и на свежей стене начертали кроваво-красные знаки имени и подвигов великого Цинь-ши-хуан-ди.
— Стон и слезы стояли в сумраке пещеры… Слабо мерцали тридцать висячих бронзовых ламп, в которых шелковые светильни напитывались человеческим жиром, тускло, зловеще горя…
— Десять первородных сыновей лучших родов Пэ-синя погибли от священных ножей жрецов, а жир их служил источником последнего света для гроба владыки…
— Но начали меркнуть лампы. Кроваво блеснув, посинел огонь… и погас…
— С ним вместе угасали и люди…
— Одни извивались в страшных муках, иные душили себя, третьи молча, как рыбы, тяжело дышали, хватая сухими устами мертвый воздух, и уходили в царство «ста духов» за тенью властелина.
— Поднялась Тао-инь-мо со ступеней саркофага и тихо пошла вглубь пещеры, вытянув тонкие руки вперед и глядя в темноту…
Так из влажного мрака тянутся к солнцу белые цветы орхидей…
— Долго шла Тао-инь-мо… и увидела яркий свет дня и вдохнула живительный воздух…
— Она прошла сквозь камень горы, как проникает скалу голубая стрела молнии…
— Когда очнулась она, то увидела у ног своих темную пучину Пэй-хэ, а сверху мрачный свод скалы…
— И ринулась она в глубокие воды реки, которая подхватила ее, и понесла, и закрутила, и засосала…
— Смерть заглянула в глаза Тао-инь-мо, но она протянула белые, гибкие руки к яркому солнцу, к голубому небу, и звонким голосом, как пение речного зимородка, крикнула ввысь:
— «Привет тебе, великий день! Привет и моление тебе, о солнце! Не зная жизни, не зная счастья любви, я понимала только радость света… только песню лучей…»
— И скрылась Тао-инь-мо в желтых волнах Пэй-хэ…
Заиграл слепец на рокочущих струнах и умолк, поникнув седою головой…
Молодой поэт нашел гору Ли, а под толстым слоем травы и мхов, за сетью кустарника, повилики и винограда отыскал кровавые знаки богдыхана Цинь-ши-хуан-ди…
В часы прогулок в окрестностях забытой могилы, он вынимал камень за камнем, разрушал цемент, твердый, как алмаз, и проник в пещеру.
Среди груды костей, набросанных в беспорядке и наваленных друг на друга, стоял высокий гроб богдыхана…
Но не его искал чужеземный поэт…
Он обошел кругом всю пещеру и в далеком углу нашел маленький скелет, беспомощно протянувший руки к восточной стене и застывший в стремлении вперед…
Клочки черных волос… обрывки истлевших одежд… золотой шнур… тяжелые браслеты… да тонкие, белые кости… вот все, что осталось от красавицы, дара У-гуна, князя горного Циня…
Грустно глядел чужеземец, задумался и начертал на гладкой стене:
— Тао-инь-мо! прими привет чужестранца! Ты была как пальма Янь-тце и как пантера Сям-Тура…
— Ты сестра белоснежных облаков Чан-бо-Шана, и тебя целовала заря радостного утра и тихого вечера…
— Ты знала только солнце, и лишь его лучи ласкали тебя, девственницу, жену и вдову…
— Твой рок был печален и суров…
— Ты не спаслась от смерти в могиле Цинь-ши-хуан-ди, как поют слепцы, и умерла во мраке рабою господина, получившего тебя в дар от страны горного Циня, омываемого быстрыми и пенными реками, бегущими со скал Мо-то-Линь и зеленой горы Льо…
— Живи же, красавица Пэ-синя, подруга яркого солнца, живи же в старой былине и в песнях седой старины!..
Закрыл поэт вход в пещеру Ли, забросал его камнями, мхом и яркими цветами и удалился, вздохнув о Тао-инь-мо, живущей доселе в Китае в песнях бродячих гусляров-слепцов…
 НОЧЬ В ХРАМЕ АМО-ДЖАН-НИН
НОЧЬ В ХРАМЕ АМО-ДЖАН-НИН
Илл. Г. Моотсе
I
В уютном кабинете, изредка перебрасываясь короткими фразами, наслаждались отдыхом три человека.
Двое русских и один китаец.
— Вы напрасно, Лев Георгиевич, — тихим голосом говорил молодой китаец, — считаете нас равнодушными и лишенными высших признаков культурности.
Старший из собеседников добродушно и снисходительно улыбнулся.
— Я не говорю, что в вас нет признаков культурности. Я лишь утверждаю, что китайцы совершенно неспособны воспринимать неуловимые ощущения из области обостренных и неисследованных чувств, соединяющих нас с миром духов. Как вы на этот предмет смотрите?
Вопрос был обращен к третьему собеседнику.
Тот задумчиво наклонил голову и ответил вопросом.
— Вы, вероятно, подразумеваете явления спиритизма и материализаций духов?
— Хотя бы, милейший Борис Павлович, хотя бы! — утвердительно кивнув головой, сказал старший из собеседников.

Борис Павлович бросил быстрый взгляд на китайца, и тот его понял. Он слегка побледнел, но, спохватившись, затянулся дымом.
— Если капитан Ю-Мен-Лен разрешит мне рассказать один эпизод из наших скитаний по Небесной Империи, я уверен, что сумею опровергнуть ваше ошибочное о китайцах мнение, Лев Георгиевич.
Китаец молчал. Он глубоко задумался и не слышал слов Бориса Павловича.
— Разрешите, дорогой капитан! — попросил Лев Георгиевич.
— Это очень тяжелый момент моей жизни! — задумчиво произнес капитан. — После этого эпизода я считаю себя умершим для жизни. Бодрствует мое тело, но душа витает в иных областях. Это странно, но я ощущаю это совершенно ясно… Однако, пусть Борис Павлович расскажет.
II
— Прежде всего, — начал Борис Павлович, — я должен напомнить, что в 1903 году я, не имея никакой определенной дипломатической миссии, был послан в Пекин и очень тосковал без дела.
Тогда начинались приведшие к войне трения, помешать которым посольство, связанное по рукам и ногам политикой Порт-Артура, не могло. Все время я проводил в экскурсиях по окрестностям Пекина или в прохладных залах библиотеки Тсу-Танги, где прочитывал старинные китайские книги, снабженные, как известно, очень подробными переводами и комментариями английских и французских миссионеров. Здесь я познакомился с капитаном Ю-Мен-Леном.
Китаец взглянул на умолкнувшего Бориса Павловича и, сверкая узкими черными глазами, проговорил:
— Да! Да! В Тсу-Танги мы познакомились с вами. Я тогда изучал там древнюю книгу, где описывался буддийский монастырь около Сяо-Гиляна. Меня поразило в этой книге частое упоминание моего родового имени Ю-Мен. Я знал, что мой род очень древний: при императоре второй династии, Ляо-Шен-Гунси, один из Ю-Мен-Ленов сражался с японским князем Хо-Ниото и разбил его.
Китаец умолк и взглядом попросил Бориса Павловича продолжать рассказ.
— Мы как-то сразу сошлись с капитаном, — начал тот, — и, встретившись с ним однажды в здании посольства, решили провести вместе несколько скучных летних месяцев. Капитан предложил мне посетить заинтересовавший его монастырь, и я согласился.
Жить в Пекине или его окрестностях мало меня привлекало, и мы уехали в Сяо-Гилян, откуда на шаландах по Желтой реке добрались до отрогов хребта Джунар.
С одним проводником, с большим трудом раздобыв в этой пустынной части империи мулов, мы углубились в лесистые горы.
Рассказчик залпом выпил бокал вина и, помолчав немного, обратился непосредственно к Льву Георгиевичу.
— А теперь вообразите густые, девственные заросли дубняка, высокую, сухую траву между толстыми стволами и целую сеть лиан и дикого винограда, перекидывающегося с дерева на дерево. В лесу постоянный полумрак. Солнечные лучи не могут проникнуть сквозь зеленый купол леса. И вдруг мы были ослеплены! Прямо навстречу нам лился поток отраженного света. Что-то необыкновенно яркое находилось перед нами, и оттуда лился ослепительный белый свет.
Даже наши мулы тревожно шарахнулись, а проводник, угрюмый тибетец, проворчал на своем глухом, гортанном наречии:
— Вот и развалины старого храма…
Мы двинулись вперед. Лишь только мы выехали из леса, сказочный вид открылся перед нами.
Огромная поляна, заросшая высокой травой, кустами цветущего багульника и полевыми желтыми лилиями, постепенно суживалась, и в конце ее, на фоне темного дубового леса, ползущего вверх по Джунару, сверкали белые стены развалин.
Местами виднелись в толстых глыбах мрамора широкие трещины, а в них росли верески и пестрели красные венчики асторей. Передний фасад представлял ряд колонн, увенчанных замысловатыми изваяниями слонов и людей. Широкая терраса с ведущими к ней тремя гигантскими, но уже полуразрушенными ступенями, находилась в тени, отбрасываемой массивными арками, перекинутыми с колонны на колонну.
Здесь росли кусты дикого рододендрона и тщедушные тамариски, Бог весть откуда занесенные сюда, в эту горную область. Мы долго стояли, пораженные и молчаливые, в целом море лучей, отраженных белыми стенами развалин.
В этих солнечных гонцах, посылаемых нам навстречу, был непонятный, страстный привет.
Казалось, этот забытый храм, создание давно истлевших людей, улыбался нам, живым, и радовался великой, теплой радостью старцев.
На мраморном полуобвалившемся фронтоне четко выделялась короткая надпись:
«Привет пришедшему…»
III
Борис Павлович замолчал и взглянул на капитана.
Тот сидел с закрытыми глазами, откинувшись на спинку кресла, но во всей его фигуре было заметно напряженное внимание.
— Продолжайте! Продолжайте, — шепнул он, не открывая глаз.
Но Борис Павлович закурил папиросу и долго молчал, пуская кольца дыма.
— Мы тронулись к храму, — вновь начал он прерванный рассказ. — Из травы выскочила пара диких коз и, стуча твердыми копытцами, взбежала по белым ступеням на террасу и здесь скрылась за одной из колонн.
Мы оставили мулов и подошли к развалинам.
В передней стене, тотчас за колоннами, виднелась широкая дверная ниша.
Она вела в огромный внутренний придел, лишенный потолка и сводов и сплошь заросший кустами дуба, с трудом выбивающегося из широких щелей между плитами.
В одном углу чернелось обычное изваяние Будды из серого раковистого камня Адахгры.

Безголовое и безрукое изображение серой, темной грудой пятнало белую, залитую солнечным светом стену, и было в нем столько немой, древней мощи и скорбного величия, что я невольно обнажил голову.
Мне почудилось, что я вижу тысячи, миллионы следов от тех взоров, которые с надеждой и мольбой смотрели на серую фигуру безмолвного бога, родившегося на Ганге.
Чьи глаза взирали на этого разрушенного человеком или временем Будду?
Тюркские завоеватели, индийские кочевники, суровые тибетские воины, мирные равнодушные жители Китая, нежные женщины из страны Хо-Дзян-Пао, — все они приходили сюда, в этот храм Амо-Джан-Нин, и смотрели на молчаливое, полное силы и спокойствия изваяние.
Где же теперь эти люди? Выслушал ли их моленья Будда из серого камня индийской земли? Почему их нет теперь здесь? Почему белый Амо-Джан-Нин рассыпается в прах? Мне тотчас вспомнились жестокие времена, когда кровавый и дикий Яма-та с огнем и мечом прошел через эту страну и, подобно седому морскому прибою, разбился о каменные стены самой природой защищенной Лхасы.
Яма-та шел через Джунар. После него исчезли с лица земли богатые и шумные города Бо-Та-Су, Шин-Ли-Эй и Фа-Та-Капен.
От них не осталось камня на камне и, подобно Атлантиде, поглощенной волнами океана, погрузились навеки эти человеческие муравейники в бездонную пучину времени.
Исчезли города… что же говорить о людях?..
От их жизни ничего не осталось, и память о них живет лишь в тех следах, какие видел я на сером изуродованном туловище некогда всемогущего Будды.
Мне сделалось грустно, и я вышел из этой светлой могилы, где упорно, но бесплодно борясь с тлением камня, постепенно сливался с временем и природой индийский бог.
На террасе я увидел капитана Ю-Мен-Лена. Он стоял в тени, и, низко опустив голову на грудь, смотрел на плиту в углу за колоннами.
Здесь на белой плите виднелось небольшое пятно. Что-то давно истлевшее глубоко въелось в мрамор и навсегда осталось с ним, подобно тем неизвестным письменам, которые высечены на древних скалах Самгоса.
Тут же истлевал почерневший от дождя и наносной цветени остаток черепа…
Разрушение, следы всемогущей смерти были разбросаны повсюду в этом старом храме.
Разыгрывалось воображение, тихий вздох невольно подымал грудь, в сладкой истоме неизведанного замирало сердце, а губы молитвенно шептали:
— Амо-Джан-Нин!.. Древний, белый Амо-Джан-Нин…
IV
Настала ночь. Таинственная ночь глухих, гористых стран, где все засыпает и спит, не шелохнувшись. Не шумели насекомые, даже не стрекотали цикады и не вскрикивали, просыпаясь, птицы.
Тихо мерцали звезды, и луна заливала своим серебристым светом Амо-Джан-Нин. В мертвенно-бледных лучах ее призрачно белели стены старого храма.
Казалось, что при тусклом мерцании погребальных свечей смерть справляет безмолвную таинственную тризну, а время гложет камень колонн и арок, неслышно впиваясь в них.
Засыпая, я мельком взглянул на капитана. Он лежал на спине рядом со мной и ровно, спокойно дышал…
V
Проснулся я внезапно и сразу открыл глаза. Что разбудило меня? Что так мгновенно и властно отозвало сон? Почему я был так взволнован? Я хотел разбудить капитана, но его уже не было возле меня… Я быстро сел и начал искать его глазами. Он стоял в нише входа во внутренний придел храма и отчетливо выделялся на фоне дальней, ярко освещенной луной стены.
Дрожь пробежала по моему телу и волосы зашевелились на голове, когда я взглянул на капитана.
Высокий и стройный, он, казалось, замер и окаменел, но лицо его было ужасно. Оно было совершенно бледно. Крепко сжатые челюсти были сведены судорогой. Нечеловечное напряжение мысли виднелось в каждой черте лица.
У меня не было сомнения, что этот человек видит и ощущает невидимое и неощущаемое, видит с ужасом и ощущает с невероятным страданием.
Глаза капитана были неестественно расширены и в них затаилось и замерло то же напряжение, которое было на лице.
Его глаза говорили мне, что душа его витает в ином мире, далеко от этих белых мраморных развалин храма и черных, сонных стен леса.
Я начал следить за взглядом капитана и скоро заметил необъятную, но странную подробность.
В том углу, где днем я видел пятно и обломок черепа на полу, теперь что-то медленно и равномерно колыхалось.
Это был красный цветок астореи. В голубых лучах месяца он казался совсем черным. Цветок медленно колебался из стороны в сторону, и к нему были прикованы взоры Ю-Мен-Лена.
Что приводило в движение красный венчик нежного цветка? Ветра не было. Тихо дремала трава и не шевелились высокие стебли тонких лилий.
Я начал пристально вглядываться в колебания цветка и… вдруг понял все.
В углу стояла юная китаянка. Царственные одеяния широкими складками скрывали ее хрупкое, едва сложившееся тело женщины.
На светло-голубой шелк курмы были брошены рельефы белых ибисов с серебряными коронами на головах.
В черных волосах девушки ярко рдели два красных, кроваво-красных цветка, приколотых к причудливой прическе двумя длинными шпильками с тихо звенящими золотыми бубенчиками.
Девушка как бы плавала в лунном тумане и медленно покачивала маленькой изящной головкой.

За китаянкой открывалась длинная анфилада комнат. Белые с бамбуковыми колоннами переплетом потолка залы, где вся мебель была из полированного багряно-красного дерева; черные и белые комнаты, «покой солнца» — желтый, круглый зал, изукрашенный старой слоновой костью, перламутровой инкрустацией и золотом — шли эти комнаты одна за другой, теряясь за далекой завесой тумана.
Девушка то уплывала вглубь, то вновь приближалась, и тогда я мог видеть ее чудное лицо.
Матово-белое, с нежным румянцем и яркими, свежими губами, — оно было прекрасно. Темно-синие глаза под длинными ресницами и тонкими дугами бровей сверкали, как звезды, но в них были слезы.
Эти глаза и теперь живут в моей памяти! Тогда же я чувствовал себя во власти этих чарующих глаз и знал, что, если бы они взглянули на меня, я все бы бросил и пошел за ними через всю бесконечную анфиладу загадочных комнат, если бы даже знал, что там, за каждой колонной, за колыхающейся занавеской, за тяжелой ширмой из бронзы и резного черного дерева подстерегает меня смерть.
Но глаза юной китаянки смотрели на капитана Ю-Мен-Лена.
А он стоял зачарованный, оторванный от земли, живой, но не живущий здесь.
Тихо зашевелила маленькими, хрупкими ручками призрачная красавица и бесшумно зашептали ее губы.
Капитан еще более побледнел, а глаза еще упорнее и напряженнее впились в видение.
Я почувствовал, как во мне куда-то отхлынула кровь, и леденящий холод окутал меня. Я с нечеловеческим упорством вслушивался в звуки ночи, старался уловить шепот девушки, тень которой трепетно колебалась у черного цветка астореи.
Ни один звук не долетал до меня, но я с ужасом сознавал, что слышу грустный голос девушки-видения. Я был уверен, что схожу с ума. Тело не повиновалось мне, и мои органы чувств спали. Но действовали и бодрствовали иные, неизвестные мне, чувства, и я все видел, слышал и понимал.
VI
Девушка шептала:
— Привет тебе, Лен, последний в роде кровавого Ю-Мена!
— Привет дочери Сам-Ур-Вея, Дзи-Шо-Каюн!
— Я родилась в тот час, когда злой дракон Люун закрыл своим извивающимся хвостом золотое лицо огненного Жи-То
[4].
И предсказали мне мудрые бонзы жизнь славную.
«Ты — говорили они моему отцу, Сам-Ур-Вею, — будешь велик и славен через свою дочь. Она будет женой богдыхана, потомка Люуна».

И только один бонза, пришедший из древнего Кой-Пин-Унга, горько задумался и сказал:
«Сам-Ур-Вей! Дочь твоя будет несчастна. Тяжела будет кончина в тот час, когда злой Люун будет пожирать небесный шар».
С той поры прошло четырнадцать весен, и я стала первой красавицей от лесов Ан-Гема до высокой стены, оберегающей Пэ-Синь
[5] от диких людей студеного севера.
В честь мою слагались песни, и их услышал сам богдыхан, молодой повелитель Пэ-Синя, захотел увидеть меня и взять в жены. Через верных гонцов великий потомок Люуна известил о прибытии своем в Со-То-Шен.
Богатый город Со-То-Шен! Двадцать дорог вели к нему через леса, горы и долины; окружен он был высокими стенами из мрамора с вершины Джунара Мо-Линь.
В средине города стоял белый дом моего отца, богатого Сам-Ур-Вея. Теперь город исчез, и только камни от стен его домов я нахожу под покровом трав и диких мхов, когда в шестое полнолуние блуждаю по земле.
Заросли папоротниками дороги. Остались только стены дома моего отца.
Здесь принимал он Юань-Шин-Ба-Фая, последнего богдыхана из великого гнезда Хун-Бао…
VII
С закатом солнца ждали мы прибытия повелителя Пэ-Синя… На стенах стояли с длинными юнгами сто младших бонз и ждали появления первых гонцов богдыхана.
И вдруг задрожал воздух от заунывных звуков труб, и сбежался народ к воротам белых стен.
По дороге шел юноша, шел одинокий, но гордый.
Подойдя ко мне, он заглянул мне в глаза и сказал:
«Я узнал тебя, Дзи-Шео-Каюн! В моей стране, далекой Кау-ли-та-бат, я много слышал о твоей красоте, которая, как истинная мудрость, редка на земле.
Сегодня я пришел взглянуть на тебя и уйти. Я шел тысячу дней, чтобы только увидеть тебя и сказать, что давно люблю тебя в мечтах моих!»
Мне было сладко слышать ласковые, любовные речи прекрасного юноши, но в этот миг затрубили опять медные гонги, и скоро двенадцать пар снежно-белых мулов внесли в город золоченый паланкин богдыхана.
Но в этот день мы не видели лица могучего Юань-Шин-Ба-Фая.
Он не вышел из внутренних покоев нашего дома и не звал к себе моего отца.
Стража печально стояла у дверей дома, и тревожно шептались о чем-то слуги и приближенные повелителя. Храбрые начальники войск богдыхана куда-то скакали на быстрых конях и возвращались усталые и нерадостные, а с коней струилась на землю белая горячая пена.
В тревоге, чуя беду, разошелся народ по домам и стали гаснуть благовонные светильники в нашем доме.
Я сняла с себя дорогие уборы и, перебирая яхонтовые шарики, думала о прекрасном юноше.
— Где он теперь? Кто он? Откуда пришел и куда удалился?..
Тихо скрипнула дверь из резного бамбука… Видно, ветер дунул, примчавшись с Джунара, и тронул легкую дверь…
Но я вдруг услыхала голос… тихий, еле внятный шепот. Я узнала голос того юноши, который подошел ко мне у ворот города и сказал простые и сильные слова любви.
«Дзи-Шо-Каюн! Нежный цветок девственного Джунара и солнца Хо-Дзян-Пао, душа души моей! — шептал он. — Ты знаешь ли, девушка, что значит счастье, что значит жизнь?»
«Это любовь… одна любовь… Без любви нет жизни… И я люблю тебя, но ты… ты любишь ли меня?»
Я молчала в страхе и стыде.
«Но я беден, — продолжал юноша, — беден, как птица! Зато я, как птица, умею петь».
И он запел тихую песню о стране, где вся земля залита кровью. Где богатый обижает бедного, сильный убивает слабого, умный обманывает глупого.
«Каждая обида, — пел юноша, — капля крови. Каждая слеза — алая кровь.
Много обид, много слез… — так много, что кровью напилась земля.
Люди тонут в кровавой земле, как в бездонной трясине мрачной страны Ргунджа. Тонут и гибнут, проклиная жизнь, созданную ими.
Но придет богатырь и полюбит он Дзи-Шо-Каюн. И полюбит Дзи-Шо-Каюн богатыря! Сильна и горяча, как солнце, будет их любовь! И подобно тому, как исчезает вода от жарких солнечных лучей, сбиваясь в гряды серебристых облаков, так от их любви исчезнет вся кровь на земле».
Окончил певец и подошел ко мне. В мои глаза погрузил он острия своих взоров и смотрел долго и глубоко.
«Люблю тебя, прекрасный юноша! — сказала я, не боясь и не стыдясь своей любви. — Пусть ты беден, как птица — я пойду за тобой. Зной и стужа, счастье и горе будут на радость мне! Не беден ты, если тебя беззаветно может полюбить девушка. Ты — богатырь!..»
И пока золотое солнце не блеснуло из-за островерхого Джунара, мы тихо шептали друг другу о счастье и любви.
«Завтра ночью я опять приду к тебе, песня песней моих!» — сказал мне юноша и исчез, как видение.
В полдень сам Юань-Шин-Ба-Фай, последний богдыхан из великого и славного гнезда Хун-Бао, призвал меня к себе.
Я пала ниц перед повелителем и, не дыша, лежала и внимала тому, что говорил он мне громким голосом:
«Дочь Сам-Ур-Вея! Ты будешь моей женой. Первой звездой среди всех жен Пэ-Синя будешь ты! Шелк Туян-Лоу, золото Хин-Гана, самоцветные камни Мо-Га-Линя, слоновая кость далекого Джинда и перлы То-Ра-Суаня будут у ног твоих, красавица Джунара! Рабов и рабынь бесчисленных я дам тебе! Жизнь всякого человека Пэ-Синя будет в твоей власти! Ты будешь женой моей. Это говорю тебе я — Юань-Шин-Ба-Фай, сын божественного луча На-Юань-Хун-Бао, потомок всемогущего Люуна».
Кончил свою речь повелитель, а я молчала.
«Ю-Мен! — позвал повелитель твоего давно умершего предка. — Спроси девушку о ее согласии».
Тяжелыми шагами подошел ко мне, бряцая оружием, Ю-Мен, и грозно вопросил: «Дзи-Шо-Каюн! Согласна ли ты быть женой повелителя всего Пэ-Синя?»
И тихо прошептала я, как дуновение ветерка, одно лишь слово:
«Нет!»
«Повелитель! — вскричал Ю-Мен. — Прикажи и я убью ее!»
«Оставь девушку! Она свободна в своих желаниях», — ответил повелитель и подошел ко мне.
«Дзи-Шо-Каюн, — спросил он, — ты любишь другого?»
«Да!» — ответила я, как далекое горное эхо в ущелье Льо-Ма-Рабука.
«Он — богат и знатен?»
«О нет, великий сын Люуна! Он беден и благороден!» — ответила я.
«И ты не хочешь забыть его для меня, всемогущего Юань-Ба-Фая?» — спросил он мрачным голосом, в котором дрожал гнев.
«Великий! — воскликнула я. — Нет! Никогда…»
Ушел повелитель, а за ним ушла его свита и скрылись в покоях дома моего отца… Я же вся дрожала, как тростник священного озера Саю-Хан, и ждала ночи.
Лишь только осветила луна дубовый лес и густые заросли пахучих тамарисков, юноша пришел ко мне.
«Приветствую тебя, вздох счастья, мечта добрых духов, яркий луч жизни! — начал он. — Я люблю тебя! Ты сегодня в полдень отказалась от богатств моих, богатств богдыхана. Отказалась от меня, великого и могущественного, для меня — бедного и безродного!
Я, Юань-Шин-Фай, повелитель Пэ-Синя, узнаю тебя, девушка, как простой смертный, и, как простой смертный, я молю тебя войти в мой дворец на Ку-Оли-Ачане, как жена и царица!..»
Лишь белый месяц и густые тамариски заглядывали в окна и видели, как они крепко взялись за руки и смотрели друг другу в глаза.
Но заскрипел песок под окном и, выглянув, я увидела воина в бронзовых латах и в шлеме с золотым драконом.
Он быстро шел и держал в руке обнаженный меч.
«Уйди, повелитель! злой человек спешит сюда. Иди — укройся!» — сказала я. Он улыбнулся и ответил:
«Я уйду. Не надо, чтобы до времени знали люди о нашем счастье. Хочу быть счастливым вдали от чужих глаз».
Он крепко прижал меня к себе и исчез, как исчезает утренняя мгла в Фо-То-Бойе при южном ветре с Ко-По-Ту.
Едва успел замереть за ушедшим юношей-богдыханом золотистый шелк занавесок, — вошел грозный воин.
«Слушай, ты, дочь Сан-Ур-Вея! Тебе скажет слово военачальник повелителя, Ю-Мен, прозваньем Су-Га-тун, — горный орел.
Ты околдовала великого Юан-Шин-Ба-Фая. Он не знал тебя, в своем дворце на Ку-Оли-Ачане, сквозь сон, нараспев, он говорил о тебе, хвалил твою красоту, сердце доброе и ум. Две ночи подряд он исчезает из своих покоев так же бесследно, как исчез он из своего паланкина, лишь только вдали мы увидели белые стены Со-То-Шэна.
Ты околдовала повелителя, и вот, взгляни — ползет по небу злой Люун и уже начинает пожирать бледный шар мертвой, холодной луны. Это предвещает опасность потомку Люуна, богдыхану Пэ-Синя, и твою смерть, Дзи-Шо-Каюн!»
Грозный Ю-Мен вонзил в мою грудь широкий меч, и пала я, как подрезанный колос созревшей пшеницы.
На другой день юный повелитель объявил меня своей женой и повелел сжечь мое тело. Мой прах в золотом сосуде он опустил в выдолбленный мрамор восточной стены и скрыл его от взоров людей Буддой из серого камня Аждагры.
Кровавого Ю-Мена казнил мой супруг и повелитель и его кровью он обагрил подножие Будды и залил ею стену, где покоился мой прах.
Юан-Шин-Ба-Фай купил дом Сам-Ур-Вея и сказал:
«Отныне этот дом — храм! Имя его — Амо-Джан-Нин, это значит: великое горе человека!»
И велел богдыхан переселиться всем жителям Со-То-Шена в соседние города и сжег он Со-То-Шен, сохранив лишь новый храм.
А через год примчался в Амо-Джан-Нин юный, прекрасный повелитель Пэ-Синя и трепетной тенью у цветка астореи предстала перед ним Дзи-Шо-Каюн, вызванная силой его любви и страстью его зова.
Длинные ночи коротали мы с ним, молчаливые, то страстно, безумно пылкие, то грустно-нежные, но на десятый день услыхали мы звуки гонгов и боевых рожков. То мчались воины на поиски богдыхана.
«Прими меня в стране „ста духов“, — воскликнул тогда Юань-Шин-Ба-Фай, — прими меня, моя возлюбленная жена, Дзи-Шо-Каюн!»
И, разбежавшись вот от той колонны с звероподобными людьми на вершине, он ударился головой о твердый мрамор стены Амо-Джан-Нина…
Брызнула царственная кровь последнего из рода Хун-Бао, и пал он мертвый… Его душа с тихой песнью слилась со мной в прекрасной стране «ста духов».
Мимо промчались воины богдыхана, и долго жила тревога и смута в Пэ-Сине…
Прошли века. Истлел Юань-Шин-Ба-Фай. Его тело въелось в белый мрамор Mo-Линя, и только череп богдыхана пережил длинный ряд бесконечных тьен-баю…
[6]
Кровавый Ю-Мен свершил грозное дело. Он лишил Пэ-Синь благороднейшего из владык и нежную Дзи-Шо-Каюн возлюбленного мужа…
VIII
…Наступило глубокое молчание. Казалось, что в уютном кабинете нет живых людей.
Борис Павлович оборвал свой рассказ на последнем слове и не двигался.
На лице Льва Георгиевича застыло выражение ожидания.
Долго длилось молчание. Его нарушил бледный, взволнованный капитан Ю-Мен-Лен.
— Борис Павлович! — попросил он. — Вы должны окончить рассказ!
— Мне очень тяжело это сделать, — сказал тот, — но я исполню ваше желание, капитан.
Он помолчал немного, а потом начал:
— Когда китаянка замолкла, я собрал все свои силы и старался сбросить с себя ужасный кошмар, но, к моему ужасу, я не мог отделаться от страшной власти видения. Что-то могущественное охватило меня, и я был убежден, что все наблюдаемое мною — действительность, необъяснимая действительность. Я чувствовал, что схожу с ума, что еще миг, и в моем мозгу исчезнет граница, разделяющая известное от неизвестного, и что тогда я перестану существовать. Взглянув на капитана, я убедился, что он находится весь во власти непонятного видения…
В то же время кажущийся при лунном свете черным, пряно пахнущий цветок астореи, мерно колебался из стороны в сторону, а около него, то расплываясь в полумраке, то вновь появляясь, молчала таинственная маленькая китаянка с яркими, неземными глазами.
Что-то толкнуло меня… Я бросился вперед и с диким криком схватил стебель астореи и рванул его. Мне ответили два звука. Неистовый крик капитана и тихий, еле уловимый слухом стон. В эту минуту я почувствовал острую, жгучую боль и упал на белые плиты старого храма Амо-Джан-Нин…
Когда я очнулся, надо мной склонилось лицо капитана Ю-Мен-Лена.
Я долго был болен, и врачи Пекинского лазарета с трудом вырвали меня из цепких объятий смерти. Рана была глубокая. Нож лишь на два сантиметра прошел правее аорты.
— Рана? — спросил Лев Георгиевич. — Откуда рана?
Капитан быстро поднялся со своего кресла и, блестя глазами и нервным движением сжимая тонкие пальцы, быстро проговорил:
— Когда он сорвал цветок — исчезла тень Дзи-Шо-Каюн, и я в порыве непонятного, но безграничного отчаяния выхватил нож и ударил… Мой нож поранил моего друга…

Борис Павлович подошел к китайцу и молча пожал ему руку.
— С той поры, — продолжал капитан, — я не ощущаю интереса к жизни. Все, что я делаю, это делает мое тело, но дух мой, все дремлющие в человеке и неизвестные ему чувства очень обострены и живут собственной жизнью. Я часто слышу недоступные для других звуки, подобные голосу давно убитой моим предком дочери Сам-Ур-Вея. Мы ведь и тогда не слышали ее голоса ушами, он проникал к какому-то другому слуху, но был еще более ясен и понятен нам. Этот слух не знает языков и наречий. Он воспринимает язык мыслей и воли подобно тому, как слух принимает язык звуков. Нередко я вижу колебания чего-то безграничного и прозрачного, повисшего в воздухе, и в этом прозрачном море плывут и движутся ясно различимые мной лица и события… Но кто мне скажет: кто они? где они были? Откуда приходят и куда исчезают? И когда они совершались и жили на земле?
Все молчали. В голосе капитана звучало глухое отчаяние, страстная мольба дать ему выход из того мира загадочного и страшного, куда загнала его прихотливая, полная неожиданности, неизведанная жизнь человека.
— Да! — уже спокойным голосом произнес капитан. — Летом я возвращаюсь в Китай, а в июле, когда вы оба будете отдыхать в Трувиле, я буду приближаться к Джунару, к развалинам Со-То-Шена. Древний Амо-Джан-Нин увидит еще одну смерть. Там, на белом мраморе, пережившем ряд веков, пала мертвой Дзи-Шо-Каюн, там отдал свою кровь мой предок, жестокий Ю-Мен, и разбил о камень свою царственную голову последний Хун-Бао, благородный Юань-Шин-Ба-Фай… Там же окончит свои дни умерший уже давно для жизни Ю-Мен-Лен, последний потомок убийцы…
…Все молчали. В дальних комнатах начали бить часы…
 СОЧЕЛЬНИК В СТАРОМ ЗАМКЕ
СОЧЕЛЬНИК В СТАРОМ ЗАМКЕ
Илл. К. Биндинга
В старинном, как Кейстутов камень, замке княгини Рожковской в сочельник собрались друзья. В большом, сводчатом зале, верхушкой своей касаясь расписанного итальянцами XVII века потолка, горела елка.
Залитая тысячами электрических огней, увешанная блестящими безделушками, разноцветным мишурным дождем, золочеными пряниками, звездами и фонариками, елка отражалась в гладком, как ледяная поверхность, паркете из палисандрового и розового дерева.
Гости не танцевали.
В доме не было молодежи, так как единственный сын княгини, молодой князь Адольф, не мог покинуть, несмотря на праздник, свою дипломатическую службу при венском дворе.
Гости сидели группами, весело и непринужденно беседуя и смеясь.
Молчаливые лакеи ловко и быстро разносили подносы с плодами, сластями и вином.
Сама княгиня стояла перед большим столом из ляпис-лазури, скованной бронзой, и, нахмурив свои властные брови, говорила почтительно склонившемуся перед ней дворецкому:
— Когда гости уйдут, — тогда…
— Поздно и опасно, ваше сиятельство…
— Я так хочу! А опасности я не боюсь. Кто посмеет бросить тень подозрения на меня, княгиню Рожковскую?!
И она пошла к гостям, величественная в царственном платье из золотистого, тяжелого, как парча, шелка, покрытого тонкой паутиной кружев.
Лицо ее было гордо, но какая-то тайная прелесть, очарование ума и еще могучей, хотя уже осенней, красоты влекли к ней все взоры.
Мужчины при ее приближении поднимались в каком-то стихийном восхищении и, как зачарованные, шли ей навстречу, а женщины невольно улыбались ей, как солнцу, и даже забывали о зависти и сплетнях.
Глядя в эти гордые и прекрасные глаза, все прощали ее безумную жизнь в пирах и угарных развлечениях и здесь, в тесном кругу немногих друзей, и за границей, где имя красавицы-княгини Рожковской было окружено поклонением и изумлением.
— О, как вы прекрасны, княгиня! — сказал глубоким баритоном богатый помещик Коптский, сосед по имению. — Красота бессмертна!
— Вы — льстец! — ответила она, наклоняя голову.
Бойкая молодая дама, сидевшая на мягкой козетке, при этом движении княгини всплеснула руками и воскликнула:
— Боже мой! Какой чудный камень!
Все взглянули на грудь хозяйки замка. На белой матовой коже с просвечивающими, как у девушки, синими жилками, на цепи из крупных разноцветных алмазов, висел изумительной величины рубин, красный, как кровь.
Все обступили княгиню, а она, сняв цепь, передала ее гостям.
Драгоценность ходила по рукам, а когда она вернулась, княгиня сказала:
— Этот рубин принадлежал моему предку, другу и советнику герцога Филиппа-Равенство. Он, по приговору Трибунала якобинцев, погиб на эшафоте. Святая гильотина обагрилась кровью моего прадеда и смешалась с кровью санкюлотов. Какая честь для
французских выскочек, людей неизвестного происхождения и случайного родства.
Княгиня умолкла, но огни, внезапно загоревшиеся в ее глазах, долго не гасли.
— А скажите, — продолжал Коптский, — в вашем роду сохранились подробности казни вашего прадеда, его последних минут?
Княгиня крепко сжала губы и холодным, почти резким голосом сказала:
— Да! Палачом, работавшим в этот день, был Круо, прозванный «Быком»…
С этими словами княгиня пошла навстречу маленькой, изящной девушке, несшей в корзиночке конвертики, перевязанные желтыми лентами.
— Кто эта особа? — спросила полная, пожилая дама, вскидывая на девушку золотой лорнет.
— Новая компаньонка княгини, — ответил, с видом своего человека, Коптский. — Она недавно прибыла из Парижа вместе с нашей очаровательной хозяйкой.
— Господа! — сказала в это время княгиня, хлопнув в ладоши. — Mademoiselle Blanche раздаст всем конверты с номерами. По ним вы найдете на елке маленькие подарки себе на память.
Началась суматоха. Около елки толпились гости, разыскивая свои подарки, смеялись, острили и шутили. В общем веселье не принимали участия только княгиня и дворецкий.
Княгиня сосредоточенно, с каким-то упорством, смотрела на большой портрет мужчины в роскошном костюме времен последнего Капета.
Дворецкий же стоял в почтительной позе, но глазами он следил за стройной фигурой компаньонки…
Уже давно опустел зал дворца. Погасили огни, и только кое-где, освещенная одинокой угловой лампой, блестела позолота рам и разбрызгивали разноцветные огни хрустальные слезы люстры.
В синем будуаре княгини горят лампы, и за столом сидят двое людей. Это — княгиня и дворецкий. Почтительный француз преобразился. Он сидит, с достоинством и спокойствием смотря в глаза княгини, и говорит с ней, как равный ей.
Княгиня повернула ключ в стоящей перед ней шкатулке и, переглянувшись с дворецким, шепнула:
— Пора…
— Да! — бросил он коротко, и в его глазах появился стальной блеск.
Княгиня нажала кнопку изящного звонка. Через несколько минут дверь открылась, и на пороге показалась компаньонка.

Увидев дворецкого, она вскрикнула от изумления.
— Войдите! — сказала княгиня, — и заприте за собой дверь на ключ.
Девушка исполнила приказание.
— Сядьте! — приказала княгиня и, злобно улыбнувшись, продолжала:
— Вам, вероятно, неизвестно, какая связь существует между нами троими? Страшная связь, mademoiselle, связь, которая уже в четвертом поколении служит проклятием вашей семьи!
— Моей семьи? — прошептала девушка, бледнея и дрожа.
— Да! семьи Круо, потомков палача, прозванного «Быком»! — рассмеялась княгиня, и пальцы ее начали сгибаться, как когти хищной птицы.
Девушка молчала, в ужасе глядя в прекрасное, ставшее зловещим, лицо княгини.
— Круо-«Бык» казнил на площади Бастилии моего прадеда, и кровь его тысячелетнего рода смешал с кровью подонков Вандеи. Сын Круо, Гаспар, пропал без вести, и только впоследствии его труп найден был в одном из подземелий города. Потом Альфред Круо, а затем Себастиан…
— Ему мой отец всадил нож в спину на улице Прони, мстя за смерть на гильотине своего деда… — сказал, вскидывая на девушку злые глаза, дворецкий.
— Теперь пришел твой черед! — сказала княгиня. — Мы не хотим убивать тебя… Мы предоставим твою участь решению судьбы…
И она еще раз повернула ключ в шкатулке.
Девушка бросилась к двери, но ее грубо схватил за плечи дворецкий и швырнул на землю.
— Tenez!
[7] — крикнул он повелительным голосом княгине.
Она бросила шкатулку на пол, рядом с упавшей девушкой, а сама быстро вскочила на диван.
Из шкатулки едва заметной тенью выскользнула маленькая змейка. Узкое коричневое тело ее, с красной полоской вдоль хребта, замерло на одно мгновение, а затем темной лентой быстро поползло по белому платью обезумевшей от страха девушки и вновь остановилось, коснувшись теплой шеи. Маленькая плоская головка с быстрыми зелеными глазками и жадным языком прильнула к коже и искала то место, где бился пульс.
Глаза лежащей девушки расширились, как у безумной, и в ужасную маску превратилось красивое лицо. Она не кричала и не шевелилась.
Змейка одним броском соскользнула с плеча девушки и, быстро извиваясь, поползла по ковру. Дворецкий схватил щипцы и, поймав змею, запер ее в шкатулку.
— Это — сурит! — прошептала княгиня, наклоняясь над девушкой. — Самая ядовитая из змей. Ее укус — смерть! Всякую ночь ты будешь заглядывать в глаза смерти, пока сурит не избавит тебя от мучений ужаса. А теперь в подвал ее, — крикнула княгиня.
Дворецкий, больно выворачивая руки ослабевшей девушке, поставил ее на ноги и поволок куда-то, изрыгая проклятия, какие слышит Париж тогда, когда перед тюрьмой Рокетт в утреннем тумане маячит силуэт «красной вдовы»… гильотины.
…А наутро от крыльца дворца тронулась карета, запряженная четверкой рысаков.
Княгиня отправлялась к торжественной рождественской обедне и никто, смотря на ее прекрасное и гордое лицо и величественную фигуру, коленопреклоненную в молитвенном экстазе, не знал, что палач, жестокий и беспощадный мститель, молится вместе с народом.

 ЛОЖА СВЯЩЕННОГО АЛМАЗА
ЛОЖА СВЯЩЕННОГО АЛМАЗА
Илл. С. Плошинского
1
Татьяна Семеновна Горлина, пугливо озираясь, вошла в свою спальню и заперла дверь на ключ.
Она зажгла все лампы и начала осматривать комнату. Тяжелые шелковые драпировки на окнах и двери уже возбуждали в ней страх. В их широких складках, казалось, скрывался тот, кто вдруг начинал слегка шуршать шелком и едва заметно колыхал драпировку. Преодолевая страх, Татьяна Семеновна быстро распахнула занавески и остановилась, закрыв глаза и боясь увидеть что-нибудь ужасное. Но в темных нишах окон и дверей никого не было, и только юркие отблески уличных фонарей бегали по стеклу.
Под широкой, покрытой шкурой какого-то зверя кушеткой, за шифоньеркой и трехстворчатым зеркалом, под кроватью, выдвинутой почти на середину спальни, — Татьяна Семеновна не нашла ничего подозрительного.
Набросив на себя пеньюар, она позвонила и открыла дверь.
— Что делают Ниночка и Гриша? — спросила она у вошедшей горничной.
— Уже спят, — ответила девушка.
— Разве так поздно? — с недоумением в голосе протянула Горлина.
— Скоро час, барыня! — сказала горничная, с любопытством и насмешкой взглянув на Татьяну Семеновну.
— А я и не заметила… — злобно передернула она плечами.
— Хорошо! Ступайте спать, Аннушка!
Когда горничная ушла, Горлина прижала холодные руки к голове и, почти побежав к двери, с треском захлопнула ее и два раза повернула ключ.
Она на цыпочках подошла к столу и опустилась в глубокое, покойное кресло, все время наблюдая в зеркало за тем, что делалось в комнате, позади нее.
Она долго сидела неподвижно, с широко открытыми глазами, и знала, что ее так пугало и в то же время манило к себе.
Случилось это впервые полгода тому назад, тотчас же после смерти мужа Татьяны Семеновны.
Однажды она шла около трех часов дня по Морской улице и вдруг почувствовала, что кто-то сильно и грубо схватил ее за плечо.
Она с негодованием оглянулась и крикнула от страха и изумления.
Возле нее никого не было.
Ничего не понимая, она пошла вперед, и опять повторилось то же.
Она подошла к первому попавшемуся извозчику и уже намеревалась сесть в пролетку, когда взгляд ее упал на противоположную сторону улицы.
Не отдавая себе отчета в том, что она делает, Татьяна Семеновна быстро перешла улицу и очутилась рядом с господином, одетым в легкое серое пальто и мягкую фетровую шляпу.
Он стоял, опершись о толстую трость, и не спускал глаз с встревоженного и растерянного лица Татьяны Семеновны. Взгляд у него был особенный. Какие-то яркие, рассеивающиеся во все стороны лучи, как сияние алмаза, приковывали к себе взор и заглядывали в душу, словно копались в ней и искали скрытую в ней тайну.
Он низко поклонился Горлиной и мягким голосом, отчеканивая каждое слово, сказал:
— Не грустите… он счастлив там… Вы же должны вернуться в третью страну…
— Куда? — не удержалась от вопроса Татьяна Семеновна.
— В страну, где вихри слагаются из людских неопределенных желаний и ничтожных страстей; туда, где рождаются нездешние силы…
Не отвечая незнакомцу, Горлина быстро пошла в сторону Невского.
Странный господин сделал за нею всего несколько шагов и тихо произнес, почти шепнул:
— Если вспомните обо мне — я приду…
С той поры его не встречала Горлина, но зато начались непонятные и расстраивающие молодую женщину явления.
Горлина медленно разделась и, легши, закрылась с головой одеялом. Быстрым движением руки она сразу погасила все лампы.
Она не спала и чутко слушала. В спальне только будильник тикал едва слышно, да раздавались неясные ночные шелесты и шорохи.
Какая-то тяжесть налегла на нее, сосущая тоска наполнила сердце и холодной струйкой пробежала по всему телу.
Горлина вздрогнула, затрепетала, словно умирая, сразу открыла глаза и сдернула с головы одеяло.

Комната была ярко освещена. Свет этот рождался где-то в самом воздухе, в каждом предмете. Все излучало таинственно мерцающий свет, все было напоено, пропитано им. Все очертания сделались подвижными, казалось, что вещи дышат, то увеличиваясь, то уменьшаясь. Разноцветные лучи нигде не скрывались и не погасали. Они проникали повсюду, и в этом море разноцветных вспышек постепенно тонули все предметы, растворялись стены и рождался ужас перед беспредельностью. Лучи, сталкиваясь и сплетаясь в причудливую световую сеть, мчались все дальше, словно рой стрел, выпущенных из миллионов луков. Слившись, где-то в бесконечности, в одно огромное облако, тихо мерцающее нежной, поблекшей радугой, свет сделался неподвижным.
Но это длилось одно мгновение, а вслед за этим все снова завихрилось и заметалось, вскинулись кверху столбы огней и тучи разноцветного дыма, помчались какие-то безобразные черные обрывки, огромные, как миры; они росли и надвигались, грозя все уничтожить, превратить в пыль; из-за столбов дыма и колеблющихся языков пламени взвивались кверху крылатые чудовища с длинными, судорожно изгибающимися хвостами и жадно раскрытыми пастями, за ними мчались, словно погоняя их, черные, как ночь, гиганты с бичами в руках, отбиваясь от налетающих со всех сторон больших птиц с огнем вместо головы и от толстых блестящих змей, грохочущих жесткой чешуей.
В треске огня, в свисте бушующего пламени гремели голоса, слышались крики, стоны, грохот и звон.
Вся напряженная, покрытая холодным потом, с глазами до боли неподвижными, лежала Горлина и ожидала появления самого страшного, кто неминуемо должно было прийти и одним видом своим погасить всякую жизнь, уничтожить свет, движение и радость.
Однако, и на этот раз свет погас, и в комнате, по-прежнему, был мрак, и слышались лишь те необъяснимые шумы и шорохи, какие рождает ночь, еще не поглотившая дневной суеты.
Горлина села на постели, зажгла лампу и долго думала. Наконец, приняв какое-то решение, она сразу успокоилась и даже уснула.
Наутро, к изумлению Татьяны Семеновны, все радовало ее. Спальня показалась ей веселой и красивой. Розовый шелк, мягкая, изысканная мебель, граненые тяжелые зеркала в золотых рамах, прекрасная кровать из белого блестящего, как стекло, дерева, с целым облаком батиста, шелка и кружев, картины в гладких белых рамах и филигранные тюльпаны ламп — все это давно уже так не радовало Горлину, охваченную непонятным и мучительным недугом. Теперь неожиданно вернулись к ней и здоровье и прежняя бодрость.
Она быстро оделась и, поздоровавшись с детьми, вошла в гостиную и сказала горничной:
— Сейчас должен прийти один господин. Проводите его сюда!
Одновременно с ее последним словом в передней раздался звонок.
2
— Вы вспомнили обо мне сегодня ночью, — сказал, входя в гостиную, высокий, полный господин в черном сюртуке и с мягкой шляпой в руке. — Вы приказали, — и я явился.
— Очень благодарна вам, — произнесла дрожащим от волнения голосом Горлина. — Я просто не понимаю, я с ума схожу!.. Как вы могли узнать мои мысли?
Незнакомец устремил на нее свои лучистые глаза и поднял голову:
— Вчера и каждый день вас тревожат космические бури. В пространстве без начала и конца сталкиваются силы земли и духа. Рождающиеся призраки терзают вас и влекут в борьбу вихрей и пламени. Удел редких избранников…
Сказав это, он низко поклонился ей и попросил:
— Дайте мне вашу левую руку, но сначала пристально взгляните на середину своей ладони.
Он взял ее руку и начал медленно поворачивать ее, разыскивая линию и изучая сеть тонких, как паутина, складок и морщинок.
И вдруг он резким движением откинул от себя ее руку и, отойдя к окну, угрюмо глядя на нее, произнес:
— Счастье и несчастье… У вас двое детей. Кармой предопределено им увидеть невиданное людьми и постигнуть — непостигаемое. Великим волшебникам и пророкам будут подобны они, и счастлива мать их и горда она, передавшая им неземную силу! За это счастье ждет, однако, вас и несчастье, великое и тяжкое.
В этот день, поздно вечером ушел из дома Горлиной незнакомец, назвавший себя брамином Гатва.
Когда к нему привели детей, семилетнюю Ниночку и десятилетнего Гришу, всегда молчаливых и серьезных, они радостно улыбнулись ему и доверчиво взяли Гатву за руки.
3
С того дня прошло семь лет.
Они промчались как сон, как одно мгновение. Если бы Татьяне Семеновне пришлось рассказать по годам свою жизнь после знакомства с брамином, ей бы это не удалось.
И как это странно случилось…
Гатва однажды пришел к ней и сказал:
— Надо отдать ваших детей «великой силе»! Пусть они начнут свой путь в третью страну, пусть поведут в нее избранных…
Она попробовала тогда сопротивляться, но Гатва взял ее за руку и заглянул ей в глаза своим лучистым, всегда повелевающим взглядом и сказал:
— Отдайте своих детей! Всякий раз, когда вы захотите видеть их, они будут к вам приходить.
И она отдала Гатве Гришу и Ниночку, а те с радостью и беззаботным, веселым смехом взяли его за руку и бежали за ним.
Прощаясь с Горлиной, Гатва вынул из кармана узенькую золотую полоску с тремя непонятными черными знаками, вырезанными на ней.
Он приказал детям прикоснуться к ней по очереди руками и головой и передать матери.
— Возьмите эту пластинку и в минуты тоски о детях смотрите на нее — они придут…
Гатва не обманул ее. Всякий раз, когда Горлина начинала грустить, она доставала полоску, данную брамином, и смотрела на нее.
Золото темнело, становясь из желтого почти красным, три непонятных знака, напоминающих изогнувшихся змей, начинали шевелиться… Перед глазами повисал туман, за завесой которого Горлина видела своих детей.
Лица у них были спокойные и радостные, но призрачные и светлые, а глаза пылали горячим огнем. С каждым днем лица детей становились прекраснее, а глаза все ярче и ярче сверкали неземным, могучим блеском.
Что делала в эти семь лет Татьяна Семеновна? И ничего, и очень много.
Обладая большими средствами, она объездила все страны. Нигде долго не жила. Какое-то легкое беспокойство, будто ожидание чего-то важного и счастливого гнало ее все дальше и дальше.
В Петербурге ее считали сумасшедшей. Удивлялись, почему не вмешаются в ее судьбу родственники мужа, почему не потребуют они возвращения из-за границы учащихся там детей Горлиной.
Татьяна Семеновна понимала все, что делается вокруг нее, и все реже и лишь на самое непродолжительное время возвращалась в свой дом.
Наконец она вернулась под самое Рождество и через несколько дней созвала к себе всех родственников и друзей.
Она рассказала о встрече с Гатвой и о том, как он дал ей возможность всегда вызывать к себе увезенных во Францию детей.
— Я в декабре жила в Афинах, — окончила она свой рассказ. — И здесь ко мне вернулась моя страшная болезнь. Всякую ночь надо мной бушевала космическая буря и, захватив меня в свою стихию, мчала куда-то. Я снова вспомнила о Гатве, я звала его, но он не явился. Не знаю, как случилось, но я потеряла золотую пластинку и вот уже давно не вижу своих детей. Что мне делать?
После долгих совещаний было решено, что Татьяна Семеновна и ее двоюродный брат — врач — поедут в Париж, искать Гатву и детей Горлиной.
4
На улице Bretteniére в мрачном особняке, принадлежащем некогда фаворитке короля Филиппа, Сюзанне Мармелль, помещалась старейшая ложа оккультистов.
Это было как нельзя более подходящее помещение, так как в доме г-жи Мармелль некогда жил и колдовал оставшийся до настоящего реального времени таинственным — Калиостро.
У входа посетителя обычно спрашивали:
— Вам известно имя ложи?
И посвященный отвечал двумя короткими словами:
— Священный Алмаз…
В один пасмурный и холодный день на улице Bretteniére можно было наблюдать большое стечение конных экипажей и автомобилей.
Нарядные дамы и важные мужчины в цилиндрах выходили из удобных колясок и блестящих моторов и, молчаливые и сосредоточенные, скрывались в темном подъезде помещения ложи.
Посетители входили в большой круглый зал, уставленный скамейками, как в католических храмах, освещенный высокими семисвечниками, стоящими тремя рядами, образующими треугольник.
На самой середине зала, в центре треугольника, высилась стройная колонна из зеленого нефрита; верхняя, расширяющаяся в капитель, часть колонны была закрыта легкой материей, отороченной широкой золотой бахромой. У колонны помещалось возвышение с двумя креслами на трех изогнутых ножках.
Стены зала были обтянуты черным сукном, с идущими по карнизу белыми письменами, напоминающими извивающихся и бьющихся змей.
Когда все скамьи были заняты, на возвышении появился необыкновенно высокий и худой человек с темным лицом и густыми черными волосами, падающими на лоб и глаза.
Он поднял руки вверх и глухим голосом произнес:
— Брат Грегуар и Тень его шлют собравшимся привет и слово покоя!
Тихий, сдержанный шепот пронесся по залу и стих, когда высокий человек опять поднял руки.
— Брат Грегуар и Тень его в поисках истины и древней науки нашли для братьев своих и сестер — новый путь правды, а имя ему — атанат. Из диких трав скалистых ущелий, из коры бамбука, обвитого змеею в новолуние, из снега, выпавшего на землю в час таинственных деяний, — вот атанат.
При этих словах в нескольких местах зала открылись потайные двери, и мальчики в белых одеждах начали разносить на черных деревянных блюдах маленькие, зеленоватые лепешки.
Собравшиеся ели их и, по мере того, как исчезал «атанат», медленнее становились движения людей и неподвижнее и тяжелее их взгляд.
Люди, бывшие до того возбужденными или носившие следы болезней и горя, делались похожими друг на друга: одинаковые безмятежность и равнодушие были в глазах и в непроницаемости выражения их лиц. Казалось, что скоро все собравшиеся здесь впадут в оцепенение или тяжелый, бредовый сон. Но в воздухе чувствовалось такое напряжение, какое бывает перед бурей, когда каждый атом атмосферы, каждая капля испарившейся воды несут в себе могучий заряд электричества, рождающий молнии, разрушение и жизнь.
Напряжение это становилось все более и более ощутимым. Чувства обострялись до крайнего предела. Глазам становилось больно от тихого мерцания восковых свечей; резким и оглушительным казался шелест платья и легкий треск обгоревших светилен. Сквозь каменные стены старого дома и толстое сукно прорывались световые потоки с улицы, — и его ясно видели глаза, перерожденные «атанатом».
Тихий и благозвучный удар колокола задрожал под сводами зала, и, окруженные мальчиками и черными людьми с яркими глазами, на возвышение начали медленно всходить красивый, бледный юноша и девушка, почти ребенок, с волной русых волос, покрывающих ее плечи и грудь.
Они держались за руки и некоторое время стояли лицом к собравшимся, склонившим головы при их появлении. У обоих глаза были закрыты, а по лицам блуждала загадочная улыбка, внезапно исчезающая у строгих, молчаливых губ.
Не открывая глаз, юноша подошел к нефритовой колонне и поднял кверху свое прекрасное лицо, выражающее непреклонную волю и приказание.
В тот же миг легкая материя, покрывающая вершину колонны, шевельнулась, затрепетала, словно подхваченная сильным ветром поднялась и прижалась к украшениям капители. Под нею, по карнизу шел двойной ряд великолепно сверкающих алмазов, переливающихся всеми цветами радуги.
Одновременно открылась небольшая дверца, скрытая в камне колонны, и в зале пронесся крик:
— Священный Алмаз! Священный Алмаз!
Из зеленого камня смотрел огненный, пристальный глаз.
Он был больше руки взрослого человека и оправлен в черное серебро, с вырезанными на нем теми же письменами, какие шли по карнизу зала.
Алмаз этот не сверкал, но переливался разными огнями.
Он был так прозрачен, что, глядя на него, становилось страшно.
Человек, заглянув в эту бездну световой прозрачности, где ничто не говорило о пределе, о конце, чувствовал, что сходит с ума, что стремится туда, где нет ни явлений, ни времени, ни пространства.
При малейшем движении и даже без него, алмаз вдруг изменял свой цвет: он сразу наполнялся то зеленым, то красным, то синим огнем, холодным и ярким, не скрывающим таинственной бездны небытия, таящейся в алмазе.
Когда восклицания и шепот удивления начали затихать, юноша открыл глаза и медленно обвел ими присутствующих.
Люди под этим взглядом перестали дышать, и взоры их утонули в лучезарной пустоте их. Эти глаза поглощали, втягивали в себя и ни на мгновение не загорались собственным блеском.
Только с самого дна их, с беспредельной глубины, смотрел кто-то могущественный и зоркий и приказывал.
Никто не мог оторваться от глаз юноши. Глаза его становились все глубже и больше. Казалось, что они сливаются в один огромный, неподвижный зрачок, заполняют собою все пространство и впитывают в себя людей с их мыслями и чувствами, тревогами и сомнениями.
Долго смотрел юноша на собравшихся, на каждого из них упал его взгляд и вынул что-то и впитал в себя; потом он коснулся сложенных на груди рук девушки своими руками и сказал тихим, но внятным шепотом:
— Видел многое, скрытое веками и жизнью… Слышал правду и нашел ее… в людях, в старых книгах мудрецов, в говоре лесов, воды, гор и ветра. В шуме вихря, в свисте пламени, в грохоте гроз прилетал он ко мне и вещал…
С каждым словом призрачнее и страшнее становились глаза брата Грегуара и все повелительнее обводил он взглядом собравшихся.
Мальчики, бесшумно ступая по мягкому ковру, погасили свечи, и на одно мгновение глубокий мрак воцарился в зале.
Все затаили дыхание. Слышно было биение сердец и хрустение сжимаемых от волнения пальцев.
Мрак тихо рассеивался, хотя в зале не горело ни одной лампы, ни одной свечи. Голубоватые лучи неясного, трепетного света, зыбкие ореолы и тихие вспышки бесшумных зарниц, протянулись между собравшимися людьми и бездонными глазами юноши, поглощающими эти людские излучения.
В воздухе, словно перистые облака, в лучах неясного сияния мелькали легкие тени, неуловимые, без очертаний. Они становились яснее и определеннее, и когда юноша поднял кверху обе руки, под стрельчатыми сводами зала появились образы.
Белая, неуловимо быстрая, клубящаяся тень метнулась под самым сводом, на один миг мелькнуло злобное, безобразно искривленное лицо и исчезло в непрозрачном тумане. Вынырнули откуда-то длинные, костлявые руки и швырнули вниз горсть горящих углей. Не долетев до толпы пораженных людей, угли превратились в живых существ.

Черные и красные птицы с змеиными головами, крылатые ящерицы с горящими глазами, мягкие, отвратительные гады с текущей из пасти густой слюной и огромные светящиеся спруты обхватывали своими лапами и щупальцами головы кричащих от ужаса и боли людей, припадали к их лицам жадными ртами, грызли и терзали.
Потом опять все исчезло в непроницаемом слепом мраке. Только высоко, под самой дальней готической аркой, чуть заметно светилась яркая точка. Она быстро двигалась и скоро превратилась в светлую полоску, быстро качающуюся от одного свода к другому. Так длилось несколько мгновений, пока из груди собравшихся не вырвался крик:
— Паук! Великий Паук!..
Откуда-то из пучин пространства, кидая паутину от звезды к звезде и плетя свою сеть, к земле полз паук. Своими гигантскими лапами он, как рычагами машины, опутывал миры бесконечной нитью. За серой сетью исчезало небо и меркло солнце, а на землю пришла ночь. Из мутных сумерек глядели огненные глаза паука, и когда он вполз в зал и, опершись толстым животом на колонну, обдал всех огнем безумных зрачков, коснулся острыми шипами ядовитых лап, несколько человек с громкими криками и стонами упали на пол и начали биться в судорогах.
— Пришел! — раздался крик юноши. — Пришел рожденный силами земли и духа…
У колонны вырос гигант. В этом месте мрак словно прорвался, и в прорыве явилась неясная фигура. Она делалась отчетливее и светлее. Огромное тело было мрачно, чернее темноты, а голова озарена внутренним светом. Гигант почти касался сводов зала. Глаз не было видно, так как он устремил их вверх. Могучие руки он скрестил на груди, по которой почти до пояса спускалась длинная, седая борода.
Он вдруг что-то произнес. Голос его был подобен удару грома.
Стены вздрогнули от этого голоса, заколыхались семисвечники, и пали лицом на землю все присутствующие…
Погас свет, и исчез гигант.
У входа в зал раздался пронзительный крик и долго не смолкавший вопль:
— Мой сын… мой сын… мои дети!..
Вспыхнули лампы, и люди начали подниматься, испуганные и подавленные.
Какая-то дама, вся в черном, протискивалась сквозь толпу к возвышению у колонны.
Мальчики в белом и люди с черными курчавыми волосами и загорелыми лицами окружили юношу и девушку, и они, взявшись за руки, медленно и важно спускались по ступенькам.
— Гриша! Нина! — надрывным голосом крикнула, взглянув на них, ворвавшаяся в зал дама.
Ни юноша, ни девушка не взглянули на нее. У обоих были плотно закрыты глаза, а на лицах безмятежный покой.
— Вы не узнаете своей матери! — с отчаянием в голосе крикнула несчастная женщина. — Пожалейте меня! пожалейте…
Тяжелые, призывные рыдания матери услышал юноша и, безотчетно улыбаясь, открыл свои глаза.
Он потопил в их бездне тревожный взгляд несчастной женщины, заглянув ей в душу, понял и узнал все, хотел что-то сказать, даже губы его уже шевельнулись, но вдруг какая-то странная улыбка исказила его прекрасное лицо и, смеясь и приплясывая, он начал, заикаясь и сбиваясь, шептать:
— Ниночка с белой козочкой играла… у козочки рожки золотые, попугай еще был… а старый Гатва ушел уже… совсем… в страну сил… Белая козочка с золотыми рожками…
Он залился бессмысленным, блеющим смехом, жалобно передергивая узкими плечами и хлопая в ладоши…
— Ниночка! — бросилась к девушке дама. — Что с Гришей?
Девушка не шелохнулась и не издала ни звука.
Когда мать в ужасе обвела присутствующих взором, полным отчаяния и горя, один из мальчиков сказал:
— Девушка — глухонемая, и она никогда не открывает глаз!
5
В одном из отдаленных монастырей славится своей добротой и строгой жизнью нестарая еще инокиня Ксения.
При монастыре построен приют для калек, за которыми присматривает мать Ксения.
Особенной любовью ее пользуются высокий стройный юноша с красивым, но бледным и строгим лицом аскета и совсем молоденькая девушка с всегда закрытыми глазами и внимательным чутким лицом, таким обычным у глухонемых.

По целым дням ходит по старому саду инокиня Ксения и что-то говорит юноше и с тревожной пытливостью смотрит ему в глаза и ждет ответа…
И не спит она, и ни на минутку не оставляет их без попечения и присмотра.
Худеет инокиня с каждым днем, тяжелый кашель разрывает ей грудь, а слезы — частые гостьи на ее впалых, потухших глазах. Но неутомима она и сильна духом, не поддается тоске и недугу, хоть говорят, что в миру она богато и беззаботно жила…
НОЧНОЙ ПОСЕТИТЕЛЬ
I
Был тот час, когда в ночной редакции не было работы. Сонные сторожа изредка подавали пакеты с телеграммами агентства и казенными бюллетенями.
После шумного, суетливого редакционного дня, я пользовался этим обычным перерывом и медленно ходил из угла в угол небольшой комнаты, отгороженной от узкого коридора деревянной переборкой. Часы медленно тикали и уныло, сипло хрипели, словно злились втайне и брюзжали.
Я потушил одну лампу и в полумраке ходил, закрыв глаза и стараясь ни о чем не думать.
В открытую форточку врывался свежий морозный воздух и очищал спертую, пропитанную табачным дымом атмосферу грязной, закопченной комнаты с двумя письменными столами, залитыми чернилами, телефоном и целой сетью каких-то ни к чему не нужных проволок. Эти проволоки всегда интриговали меня, но я никак не мог узнать, для чего они проведены и пользовался ли ими кто-нибудь хотя бы в самые отдаленные времена.
И теперь я иногда поглядывал на эту почерневшую от копоти, пыли и паутины сеть тянущихся под самым потолком проволок и старался догадаться об их назначении.
Но я ни на шаг не подвинулся в своих предположениях и невольно улыбнулся, вспомнив одного из сотрудников, который на мой вопрос о загадочных проволоках притворно серьезно ответил:
— Для солидности учреждения проведены, Александр Михайлович!
Я начал вспоминать различные новости, переданные мне днем репортерами, и вдруг почувствовал толчок.
Да! это был самый обыкновенный толчок, сильный и короткий, заставивший меня остановиться.
Я с изумлением оглянулся и еще более удивился, когда заметил, что был совершенно один в комнате.
— Однако, пошаливают же нервы! — подумал я, начиная вновь ходить. Часы начали бить одиннадцать, и я направился в наборную переговорить с метранпажем.
В дверях своей комнаты я столкнулся с стоящим здесь человеком, одетым в рясу католического священника. Меня поразила его маленькая, совершенно круглая голова с густыми, коротко остриженными седыми волосами, круглыми птичьими глазами и толстыми чувственными губами.
— Я давно на вас смотрю! — сказал он глухим, скрипучим голосом.
— Что вам угодно? — спросил я, осматривая рваную, грязную рясу странного посетителя.
— Я — сотрудник, — ответил священник. — Он меня знает… — При этом посетитель мотнул головой в сторону редакторского кабинета и вдруг, сжавши все свое лицо в маленький, сморщенный комок, захихикал и затрясся.
— Он ничего не понимает, — залепетал он, — а любит со мной душеспасительные беседы вести на высокие канонические темы. А я ему при этом удобном случае сейчас статью о сектантах каких-нибудь подсуну! Я — старый писатель, и меня сам папа знает…
Старик заволновался. По сильному запаху спирта я понял, что мой собеседник пьян.
— Папа? — переспросил я с недоверием.
— Ну, да, папа! — заворчал он обиженным голосом. — Я ведь в «Osservatore Romano»
[8] сотрудничал и меня Рим знает.
Священник схватился за грудь, слегка застонав. Болезненная улыбка искривила его подвижное, старческое лицо.
— Присядьте! — предложил я, обрадовавшись возможности скоротать время, остающееся до приезда театральных критиков, репортеров по происшествиям и других сотрудников, дающих поздно ночью хроникерские заметки. Старик вошел в комнату и тотчас же сел за стол, подперев обеими руками свою круглую голову.
Свет лампы падал на него, и я очень внимательно всматривался в это изможденное, порочное лицо. Глубокие морщины прорезали его нависший, плоский лоб и змеились около красных, жадных губ, вокруг которых чернели давно не бритые, щетинистые усы. Красные веки окаймляли блестящие, беспокойные глаза, порой совсем скрывающиеся под кустистыми, черными еще бровями.
Священник долго молчал, ежась и вздрагивая, а потом поднял голову и слегка заплетающимся языком спросил меня:
— Вы, кажется, хотели узнать, зачем я сюда пришел?
— Вы уже объяснили мне, — ответил я. — Посидите, — редактор скоро вернется!
— Что — редактор? — забормотал старик. — Я хочу все рассказать. Я сюда прихожу редко. Из «Osservatore Romano» да вдруг сюда! Ха-ха-ха! — залился он каким-то обидным, колючим смехом. — А впрочем, все это, конечно, тщета! Разве лира, полученная в римской редакции, не то же стоит, что сорок копеек, заработанные здесь?
И он лукаво подмигнул в мою сторону.
Я молчал.
— Я долго не знал, что люди торгуют словом. А как узнал, что слово — дорогой товар, так понял весь смысл жизни…
Он поперхнулся и долго и глухо кашлял, хватаясь за грудь.
— Я сегодня вышел из больницы, меня накормили, но завтра мне опять захочется есть. Вот я принес статью. Буду просить аванс! А он злой сегодня? — вдруг оживляясь, спросил священник, указывая на дверь редакторского кабинета.
— Не знаю! — ответил я.
— Куда он уехал? — тревожно и деловито спросил старик.
— В театр, кажется, куда-то… — сказал я.
— Ну, это ничего! Хорошо! — спокойным уже тоном произнес священник и, громко смеясь, замахал руками по направлению к двери, где стоял смущенный сторож Алексей, с жирными прилизанными волосами и сконфуженным лицом. — Прозевал, братец, проспал!..
Алексей переминался с ноги на ногу, смотрел на меня и бормотал:
— Невзначай заснул на минуту, а они шасть в редакцию! Совсем даже незаметно…
— Хе-хе-хе! — залился дребезжащим смехом старик. — А ты думал, что я к тебе с докладом кого-нибудь пришлю? Ступай! Ступай!
И, качаясь на стуле, он повелительно махнул рукой в сторону окончательно растерявшегося Алексея.
— Идите, Алексей! — сказал я.
Когда сторож ушел, священник встал и, подобрав рясу, обнажил правую ногу.
— Посмотрите, какая рана! Лечили, лечили, а все не залечивается! К смерти это…
Я увидел на грязной ноге с дряблой кожей большую язву с посиневшими, омертвевшими уже краями и красной опухолью вокруг.
— Выписали из больницы, — говорил он, глядя на меня бегающими, хитрыми глазами. — Ничего не поделаешь! Не хотят больше держать. Ну, и выписался! А домой не на что вернуться… Вот, в трактире с знакомым сидел и там написал статью под аванс…
— Ведь вы же священник, я вижу? — спросил я. — Почему вы не обратитесь к другим католическим священникам? Они помогут вам. Если хотите, я напишу письмо, они меня знают и не откажут вам.
— Нет! Нет! — смешно кривляясь, замахал руками старик. — Я лишен сана. Я теперь хочу быть мариавитом!
[9] Я ведь священник Плискевич. Вы слышали, конечно?
Я промолчал, так как фамилия священника была для меня совсем незнакома.
— Плискевич, — забормотал старик, которого все более и более клонило ко сну, — это воплощение разврата и всяческих пороков. Он признает радости жизни и женскую любовь! А это не дозволяется, когда надел на себя вот это одеяние…
Старик дернул себя за пелеринку рясы и поднял кверху палец.
— Плискевич знает богословские труды великих праведников и мыслителей церкви, но он также знает сочинения доброго мудреца Анакреона, Вергилия и Горация.
О Venus, regina Cnidi Paphique,
Sperne dilectam Cypron et vocantis,
Ture te multo Glycerae decorum
— продекламировал он, разводя трясущимися руками и закатывая свои круглые глаза.
— Но это ведь тоже воспрещается! Поймите вы это! — крикнул старик и с силой ударил себя в грудь кулаком.
— Как же вы живете? — спросил я.
— Живу, живу всем назло! — крикнул он так громко, что Алексей снова выглянул из дверей. — Все думают, что пьяный старик замерзнет где-нибудь под забором или с голоду пропадет, а он все живет да живет! Скрипит, заживо гниет, а живет! Да что, живет! Он даже еще радоваться и любить может! За это меня все ненавидят… Завидуют — я в этом уверен…
Старик замолчал, так как в это время дверь из передней с шумом распахнулась, и в свой кабинет прошел редактор в сопровождении двух дам. Священник поднялся и тревожно поглядывал на закрывшуюся дверь кабинета редактора. Он говорил шепотом и, видимо, волновался.
— А если он не даст мне аванса, — спросил он, заискивающе глядя мне в глаза, — вы дадите мне рубль до завтра?..
— Дам! — улыбнулся я.
— Я так и знал! — шепнул старик. — Но я завтра не отдам.
— Не надо.
— Спасибо!
И он замолчал, уставившись круглыми глазами на дверь, за которой слышался сухой, отрывистый смех редактора и громкие возгласы дам. Наконец, в мою комнату вошел редактор. Заметив Плискевича, он нахмурился и молча протянул ему руку.
Тот низко, раболепно поклонился и, подавая ему три листа грязной бумаги, исписанной неровным, размашистым почерком, заискивающим тоном произнес:
— Статья о хлыстах… Много новых данных…
— Хорошо! — сказал редактор. — Благодарю вас! Я прочитаю завтра.
И, обращаясь ко мне, он спросил о последних новостях дня и собирался уже уходить, но в коридоре его задержал Плискевич.
— Мне бы в счет гонорара хоть пять рублей сегодня… — бормотал он.
— Не могу — касса заперта! — бросил на ходу редактор.
— Я из больницы вышел. Есть нечего… — сказал уже спокойным голосом Плискевич.
— Что же я, свои деньги буду давать? — отрезал редактор и захлопнул за собой дверь.
Старик вернулся в мою комнату и, тихо смеясь, сказал:
— Пропал ваш рубль! Он никогда живым не помогает! — добавил Плискевич, кивая в сторону двери. — Его специальность — хоронить. Он любит только покойников. Но скоро он и меня полюбит в этой благодарной роли…
— Ну, это еще неизвестно, — возразил я, пожалев старика.
— Очень даже известно! — зашептал он и, замолчав, поднял край рясы и с лукавым видом показал мне опять бледную ногу с чернеющей на ней язвой.
— Как вам не холодно? — удивился я.
— Привычка! — отрезал он. — Я переношу легко все лишения, за исключением отсутствия радости. Мне мало надо для радости, и потому она у меня всегда есть. Я помню Эпикура и его великое «Carpe diem!»
[11]. Но, кроме рясы — у меня имеется еще крепкое, порыжевшее от времени и похвальной бережливости моих предшественников пальто. Я его повесил в прихожей, под самым носом спящего сторожа…
Кто-то быстро вышел от редактора и постучал в мою дверь.
— Можно войти? — раздался женский голос.
— Пожалуйста! — сказал я и взглянул на священника. Он быстро оправил на себе рясу и грязной рукой начал приглаживать короткие, щетинистые волосы.
Вошла средних лет дама в синей бархатной кофточке и в черной меховой шляпе с голубой птицей. Ее лицо и губы были заметно накрашены, а глаза резко подведены. В руках она держала большую коробку конфет и, протягивая ее мне, сказала:
— Возьмите конфет! Вам скучно…
— Благодарю, но я не хочу, — ответил я.
— Возьмите! — капризным голосом протянула дама и топнула ногой. — Это нелюбезно!
Я взял конфету и поклонился. Дама исчезла, и скоро в кабинете зазвучал ее фальшивый, преувеличенно веселый смех.
— Какая смешная! — произнес старик. — Кто это?
— Не знаю, — ответил я. — Судя по наружности, артистка.
— Это-то вне сомнения! — сказал он. — Много грима, слишком много грима! Но маленькая какая-то, дикая…
— Однако! — заметил я. — Вы уже успели разглядеть?
— Мне нетрудно было это сделать! — проговорил он серьезным тоном. — У меня есть мера для определения женской красоты. Я обладаю самой прекрасной женщиной в мире!
Он произнес это с гордостью и вызывающе взглянул на меня. По его лицу побежали какие-то теплые, ласковые тени, а в глазах вспыхнули яркие огоньки.
— Марина!.. Марина!.. — прошептал он вдруг, сжимая руки.
— Дайте рубль, — спохватился он, — я поеду! Нет! дайте мне лучше пять рублей!.. Успокойте старика!..
— Куда же вы поедете? Вам надо домой.
— Я и поеду домой! Я жил две недели тому назад в Лигове, — ответил старик. — И там Марина…
Он встал, подвинул ко мне стул и начал шептать на ухо:
— Я боюсь приехать к ней без денег! А вдруг она голодна и у нее нет крова над головой? Как взгляну я ей в глаза? Я повешусь…
Он застонал и обеими руками сжал голову.
— Я все время там, в больнице, думал об этом и мучился по ночам. От этой тревоги, вероятно, и рана не зажила, — шептал он быстро-быстро и дышал мне в лицо коротким, свистящим дыханием.
— Дайте пять рублей! — умоляющим голосом попросил он. — Дайте! Я ее завтра накормлю, побалую и буду счастлив! Хорошо? Вы дадите мне пять рублей, а я отблагодарю вас за это. Увидите — отблагодарю!
— Каким образом? — спросил я, с удивлением наблюдая за волнением Плискевича.
— Я покажу вам свою Марину, и вы на всю жизнь будете застрахованы от женщин. Вы не полюбите ни одной, никогда! Перед вами будет всегда ярко пылать жуткая, неземная красота Марины. Поедем со мной сейчас, сию минуту!
В дребезжащем голосе старика слышалась страстная мольба. Я взглянул на него. Лицо его, изборожденное глубокими морщинами, дергалось, чувственные губы вздрагивали, а в круглых глазах горел недобрый, хищный огонь.
Предложение старика показалось мне заманчивым.
«Почему бы мне, — думал я, — одинокому человеку, любящему заглядывать в глаза жизни, не отправиться с этим безумцем или пьяницей в Лигово, где живет какая-то Марина?» Назавтра было воскресенье и я не дежурил в редакции.
— Хорошо! — сказал я. — Я еду с вами, но только после окончания работы здесь. Часа в два мы отправимся. Я довезу вас и вручу вам деньги там, в Лигове.
— Прекрасно, прекрасно! — обрадовался старик. — Вы меня довезете до дома и поможете отыскать Марину, если она ушла.
— Отправляйтесь теперь в заднюю комнату. Там есть кушетка и вы можете отдохнуть. Я вас разбужу.
— А вы не обманете? — спросил он и подозрительная, трусливая улыбка зазмеилась около небритых губ. — Дайте лучше деньги сейчас и держите меня заложником.
— Не хотите верить, не надо! Берите деньги и оставьте меня в покое! — сказал я, заметив входивших сотрудников.
— Нет! Нет! — заторопился старик. — Я иду спать и буду вас ждать. Я верю, верю вам!
Он ушел в заднюю комнату, волоча ноги и громко вздыхая.
II
Меня начало забавлять все это происшествие. Прочитывая рукописи сотрудников и телеграфные бюллетени, я невольно все время думал о странном священнике, лишенном сана и сбившемся с круга.
Мне казался очень долгим последний час наиболее оживленной и веселой редакционной работы, когда доставляются последние ночные новости.
Двое сотрудников, дающих полицейскую хронику, не потешали уже меня сегодня, хотя они, стоя в дверях моей комнаты, вели обычную стычку.
— Сухов-то вчера какую утку пустил! — говорил, обращаясь ко мне, рыжеватый юноша в щегольском сюртуке. — Он сообщил, что убитая Жучкова была светлая блондинка лет двадцати двух, с виду интеллигентка, а у ней (я ее сам видел в покойницкой!) волосы черные и, к тому же, она пожилая и одета очень бедно…
— А в какой покойницкой она лежит? — спросил, лукаво щуря черные глаза, маленький Сухов. — Если я пустил утку, то вы пускаете ежедневно целых лебедей! Кто написал, г. Белов, о похищении бумажника у каких-то комиссионеров Зусьмана и Зунделевича? Этак я могу по тысяче строк в день катать! — И Сухов рассмеялся презрительным смехом.
— Александр Михайлович! Ей-Богу, такой случай был на Николаевской железной дороге! — воскликнул Белов, подбегая к моему столу.
— Он даже этот бумажник видел! — съязвил Сухов и, повернувшись в сторону прихожей, произнес: — Старый черт идет..
Вошел высокий худой человек с сухим лицом, на котором бегали черные блестящие глаза. Тонкий горбатый нос, узкая черная борода и искривленные в злобную саркастическую улыбку губы делали его похожим на Мефистофеля.
Он, не произнося ни слова, поклонился мне и, взяв со стола лист бумаги, направился в комнату для сотрудников.
— Вы что принесли, господин Шорин? — спросил я.
— Нечто, имеющее чрезвычайный интерес! — сказал он вкрадчивым, проникновенным басом, подозрительно косясь на Сухова и Белова.
— Ничего такого не случилось! — с притворной небрежностью отозвались они.
— В ваших палестинах? — засмеялся Шорин и с вызывающим видом выставил вперед свой горбатый нос. — Но Петербург велик, а я повсюду рыскаю. Я — старый репортер!
Он с гордостью ткнул себя пальцем в грудь и выпрямился.
— Но все-таки? — сказал я. — Быть может, принесенные вами сведения уже имеются в редакции?
— Я принес нечто, как уже докладывал вам, имеющее чрезвычайный интерес и совершенно упущенное из виду моими коллегами! — произнес он язвительным голосом и удалился неслышной, крадущейся походкой.
— Сколько вы напишете? — бросил я ему вдогонку. — У нас сегодня в газете тесно, а вы поздно приходите.
— Сколько прикажете! — откликнулся он уже из соседней комнаты. — Можно происшествие описать в пятистах строках, можно и в полутораста вогнать.
— Дайте сто! — засмеялся я, зная его любовь к многословию.
— Слушаюсь! — тотчас же согласился он и заскрипел пером.
Через минут двадцать он входил в мою комнату и, низко согнувшись, бережно нес в руках три узких полоски бумаги.
Проходя мимо Белова и Сухова, Шорин злорадно хихикнул и пробормотал:
— Шерлоки!..
Подойдя к столу, он протянул мне рукопись и глухим, зловещим басом тихо произнес:
— Свеженькое-с! Кровью пахнет…
После этого он закурил папиросу, обернул шею темным шарфом и, надев потертую каракулевую шапку, сказал, подавая мне руку:
— Доброго утра, Александр Михайлович!
Когда он ушел, оба репортера бросились к столу и, к своему огорчению, убедились, что «старый черт» принес действительно интересное сведение из хроники преступной жизни Петербурга.
— Он за три часа до убийства знает о нем! — проворчал с завистью Белов и тотчас же залился тонким, блеющим смехом, радуясь своей остроте.
Сухов только презрительно оттопыривал губы и молчал.
III
Был третий час, когда я разбудил Плискевича. Он, громко зевая и охая, сполз с кушетки и начал растирать затекшие ноги.
— Едем! — сказал я.
Он сразу пришел в себя, оживился и, пошатываясь, торопливо пошел в переднюю.
Одевшись, мы вышли на улицу. Было темно и морозно. Добравшись до вокзала, мы едва поспели к какому-то товаро-пассажирскому поезду, битком набитому отправляющейся на линию артелью метельщиков.
Приехав в Лигово и выйдя с вокзала, я пошел за священником, быстро шагавшим впереди.
Он что-то бормотал и иногда оглядывался, с нетерпением и тревогой вскидывая на меня круглые, злые глаза.
— Почему вы в городе не живете? — спросил я, скользя на каждом шагу и хватаясь за дощатый забор, тянущийся вдоль еле освещенной улицы.
— А! хитрый… — тихо засмеялся Плискевич. — Для того, чтобы кто-нибудь увел ее от меня? Нет! Никогда!
Он остановился и, выпрямившись, смело поднял голову и, казалось, ждал нападения.
Он был очень похож в эту минуту на хищную птицу, приготовившуюся к бою.
Я промолчал. Он же топнул ногой и еще раз крикнул:
— Никогда! Я ее нашел и только я мог найти такую прекрасную женщину! Только я, потому что в моем мозгу она жила всегда. Я ее видел в бессонные ночи и в суетливые, трудовые дни. И я не только мечтал о ней, но я ее искал! Теперь же я для нее — все, — и раб, и господин, и для нее я убью, ограблю, обману, буду торговать словом, убеждениями, верой — всем, всем, но ее не отдам никому!
Я молчал. Мы двинулись дальше.
Бесконечная, прямая, длинная улица вывела нас в поле, и здесь только изредка попадались стоящие поодаль темные, заколоченные дачи. Откуда-то доносилось тонкое, жалобное тявканье собаки и пение петухов, чующих близкий рассвет.
Старик становился все тревожнее и мрачнее.
— Дайте деньги, — я вас до вокзала провожу! — предложил он, не глядя мне в глаза. — Чего интересного? Красивая женщина, но сумасшедшая, совсем больная. Пойдемте назад, а я потом один вернусь!
— Нет! — сказал я твердо.
— Ну, как хотите! — вздохнул он и, досадливо махнув рукой, прибавил шагу.
Наконец мы увидели низкий, одноэтажный дом, в котором светилось окно.
— Здесь! — прошептал старик. — Это у нее свет…
Он сильно постучал в дверь. Кто-то завозился в доме. Слышались шаркающие шаги, шлепанье туфель; в темной комнате кто-то зажег свечу или лампу и видно было, как по потолку заметалась чья-то тень и исчезла.
— Кто там? — раздался тревожный старческий голос.
— Это я — пусти! — грубым голосом ответил священник.
Маленькая, сморщенная старушонка с такими же, как у Плискевича, круглыми, птичьими глазами, впустила нас в холодные сени.
Заметив чужого, она поджала губы и подозрительно поглядывала на меня.
Мы вошли в кухню, где на остывшей плите лежал засаленный тюфяк и ворох грязных лохмотьев.
— Спит? — шепотом спросил священник.
— Нет! — забрюзжала старуха. — Все время спала…
Он замолчал, взял из рук огарок и вошел в комнату.
Мне показалось, что я попал в лавку старьевщика.
Поломанные кресла с вылезшей мочалой; колченогий диван с продавленным сиденьем и несколькими неопределенного цвета подушками; два шкафа без створок; перевернутые вверх ногами столы; старые, из облупившегося и потемневшего багета рамы, разбитая ваза — стояли где и как попало; оставался лишь узкий проход к дивану.
Старик с трудом пробирался среди всей этой ветоши и лома, заслоняя собою широкую щель, откуда вырывался поток света.
Когда он распахнул дверь, я взглянул и остолбенел.
На широкой кровати, среди целой горы больших измятых подушек и сбившегося к стене одеяла, сидела женщина.
Ярко-красное бархатное платье стягивало величественную, стройную фигуру, открывая круглые плечи и белоснежную грудь. Тонкая шея гордо и неподвижно замерла в изящном повороте и, казалось, что передо мной, в темной, зловонной трущобе, вдруг открылось изваяние древней богини, вышедшей из-под резца великого мастера, творившего его с пылким сердцем, горящим любовью и непоколебимой верой.
Женщина не двигалась, ни один мускул не дрожал на ее обнаженных руках, закинутых за голову.
Я не мог оторвать глаз от этого бледного, почти прозрачного лица с таким нежным овалом, какие бывают у мраморных статуй, полускрытых в фиолетовом сумраке ниши, когда в нее заглянет последний, ласкающий прощальным приветом луч заходящего солнца.
Бессознательная негаснущая улыбка открывала красные, свежие губы, и за ними влажным блеском мерцали мелкие, белые зубы.
Я медленно скользил взором по этому почти нечеловеческому лицу и дошел до глаз Марины.
Как часто говорят о горящих глазах! Это вошло в привычку и никого уже не удивляет. Но в глазах сидящей передо мной женщины бушевал огонь.
Настоящий, горячий, неудержимый огонь!
Мне казалось, что я вижу, как где-то глубоко, на дне внезапно раскрывшейся пропасти, взметнулось пламя, и безумно пляшет оно там, то вскидываясь вверх, то припадая и исчезая на миг только для того, чтобы быстро-быстро пробежать вперед и разогреться вновь, еще жарче, еще сильнее, гордо, победно пируя…
Я дрожал и, когда заметил это, попытался успокоить себя, но не мог.
Какая-то мелкая, тревожная дрожь бежала по телу, оставляя горячий, колючий след…
— Смотри! Смотри! — кричали во мне какие-то голоса, и, повинуясь им, я всматривался в глаза Марины.
И вдруг я понял… Передо мной было воплощение того, что соблазняло и мучило великих подвижников и святых отшельников прежних времен. Было то, что заставляло их бросаться в кровавую сечу без надежды на победу, бросаться в глубокие овраги на острые камни, носить на теле своем каменные плиты, перекинутые через плечи на железных цепях, мучить себя непосильным трудом, бессонными ночами, голодом и жаждой и умирать без веры в одержанную победу.
Я понял, что вижу пред собой в этой полуразрушенной лачуге, в которую свободно врывался ветер и ночной холод, образ великого, всемогущего соблазна — врага невинности тела и духа; я видел перед собою божественного, непорочного ангела, зовущего к молитве и неземным восторгам, но в глазах его таилось и вдруг призывно, властно обнажалось царство порока.
Мне чудилось, что из глаз женщины-ангела, женщины-демона тянутся сотни, тысячи незримых, прозрачных и юрких, как перекрещивающиеся в слезе лучи света, щупальцев, и чувствовал, как тянут они меня туда, где в черных, бездонных пропастях пляшет, бушуя и радуясь, горячий, жадный огонь забвения и греха…
И вдруг щупальцы исчезли, погас огонь и скрылась пропасть зрачков. Я протер глаза.
Женщина повернула голову в сторону двери и, оправляя одной рукой черные, спутанные волосы, другую протянула вперед, розовой ладонью вверх и, быстро сгибая длинные, хрупкие пальцы, манила кого-то к себе.
Я взглянул на Плискевича.
Он стоял неподвижно, но я заметил, что он дрожал и сильно сжимал челюсти.
— Марина! — позвал он глухим голосом.
— И-и-и… — внезапно разразилась она каким-то надрывным скорее стоном, чем смехом, и быстрее замелькали длинные, манящие пальцы. — И-и-и!.. — стонала она, безотчетно улыбаясь.
Старик бросился к ней, упал на колени, целовал ее ноги и, исступленно выкрикивая бессвязные слова, громко стучал зубами и дергался тщедушным, больным телом.
Я ушел на кухню и спросил у старухи, где мне переночевать.
— А вот в первой комнате, на диване… — заворчала она, высовывая голову из тряпья на плите. — Места много…
Я ушел и лег, стараясь не слышать заунывного, жуткого смеха женщины и страстных, граничащих с безумием выкриков старика за стеной.
В окне уже брезжил рассвет, и в тусклом сумраке клубились неопределенные очертания разных предметов. В соседней комнате все стихло. Я начал забываться, одновременно злясь на себя за то, что впутался в эту ночную историю со стариком, как вдруг до меня донесся тихий, но внятный разговор за стеной. Я насторожился.
— Оставишь ты меня или нет? — раздался горячий шепот старика. — Ты, как смерть, всегда со мной! Хоть бы умерла ты… сама!
— И-и-и… — расхохоталась женщина.
— Я скоро убью тебя… — зашептал он снова. — Убью! Слышишь? Ты понимаешь, безумная, — убью? Приди ты хоть на миг в себя, чтобы понять, как люблю я и как мучаюсь. Пойми меня хоть в минуту смерти! Марина! Марина!..
Она не переставала тихо и жутко смеяться.
— Вот скоро возьму руками за шею… твою шею… и… сожму… вот так…
За стеной послышалась возня и тяжелое, порывистое дыхание, переходящее в сдавленный стон.
Я громко кашлянул и сказал:
— Я ухожу, возьмите деньги!
Плискевич вошел и, не глядя на меня, протянул руку.
— Давайте! — сказал он повелительно.
Я подал ему деньги и, наклонившись к нему, шепнул:
— Плохое затеяли вы дело!
Он оглядел меня с ног до головы презрительным, холодным взглядом и проворчал:
— Не сегодня-завтра мы оба с ней умрем… Последние дни доживаю я, а другому не видать ее!
Он повернулся и, войдя в комнату, плотно закрыл за собой дверь.
Когда старуха выпустила меня в сени, до меня опять донеслось тонкое, жалобное:
— И-и-и…
Мне чудились горящие глаза, безотчетная улыбка на прекрасном лице, стройная, белая шея, а на ней синие следы крючковатых, грязных пальцев старика.
Я вышел на дорогу и, не оглядываясь, быстро зашагал к вокзалу.
Вдали я увидал несколько ярких пятен электрических фонарей, синеющих в мутном сумраке, и слышал доносившееся из-за леса тяжелое громыханье поезда.
Было холодно, жутко и безотрадно…
IV
Прошло два дня. Был на исходе третий час ночи. Я собирался уже уходить из редакции домой, когда вдруг резкий звонок телефона заставил меня вздрогнуть.
— Александр Михайлович, имею честь кланяться! — услыхал я голос Шорина. — Позвольте вам доложить, что сейчас на какой-то даче около Лигова задушена женщина…
— Убийца — старик? Она сумасшедшая? — спросил я.
— Да! — ответил Шорин упавшим голосом. — Разве в редакции уже имеются сведения об этом преступлении?
— Нет, я случайно узнал о нем, — успокоил я старого репортера.
— Так позволите дать мне об этом происшествии строк триста? Мрачная картина преступления… — начал он.
— Дайте, но узнайте все подробно, — сказал я.
— Слушаю. Сейчас же выезжаю на место. До завтра.
Я повесил трубку телефона.
Мне стало грустно. Вспомнилась гордая шея и прекрасная голова. Перед глазами заметалось яркое пламя, взвиваясь кверху.
— Неужели погас огонь этих глаз? — спросил я себя вслух.
Мне ответил хриплый бой часов и громкий зевок Алексея за дверью.
Я был уверен, что Шорин на одинокой даче за Лиговом найдет еще один труп… худой, посиневший труп старика с черной язвой на ноге…
 БЕГ КОНЦА
БЕГ КОНЦА
Илл. А. Александровского
Он знал эти тревожные ночи. Они были его недугом, тягостным и неизлечимым. Сон бежал глаз, а мысли и воспоминания, словно когтями, впивались в мозг и сердце.
Никто из знакомых Михаила Феодоровича Коркунова, всегда такого спокойного на вид, сдержанного и изящно одетого, никогда не подозревал о его невыносимо тяжелом недуге. Сам же он называл его «бегом конца».
Всякий раз, когда это на него находило и когда в долгие, бессонные ночи он рыдал или хохотал, как безумный, то проклиная, то молясь горячо и исступленно, как язычник, — им овладевало одно воспоминание, а когда и оно, наконец, проходило, оставив в душе мрачное пожарище, то Коркунов знал, что он осунулся и постарел. В зеркале он видел тогда свое желтое, морщинистое лицо, новые пряди седых волос и мертвые, тусклые глаза.
Это-то он и называл «бегом конца», чувствуя, что еще один скачок болезни, и — наступит смерть. Воспоминания, терзавшие Коркунова, были такими обыкновенными и в то же время такими ужасными.
Лет пятнадцать тому назад, когда Коркунов только что начал в провинции свою службу, он полюбил замужнюю женщину.
Любовь была нерадостная и надрывная, какой бывает всегда любовь к женщинам лживым и легкомысленным. Нина Мостовская была странная женщина. Отдавалась она легко и скоро, а в своих привязанностях была неразборчива. Репутацией она пользовалась очень сомнительной: одни называли ее развратной, другие — больной, а то и просто психопаткой.
Случайно сойдясь с Ниной, Коркунов полюбил ее. И ему казалось, что в их почти мимолетных отношениях было больше света и тепла, больше души и понимания друг друга, чем во всех его бывших порой очень серьезных романах.
Она же скоро изменила ему. Изменила так грубо, гнусно и нелепо, что он долго не мог понять, как полюбил он Нину, как нашел он в себе отклик для ее лживого, порочного чувства. Однако, вспоминая все, прожитое с ней, ее тихий, ласкающий голос и глубокие, непрозрачные глаза, он тосковал все чаще и сильнее и, ломая руки, упорно смотрел в слепую темноту и шептал:
— Где ты теперь? Думаешь ли обо мне? Жива ли ты и тоскуешь ли о моей ласке и любви?
Он безумствовал, мучился неизвестностью, что он, любивший ее так, как, вероятно, не умеют любить люди, не знал, что с нею, и где она. Не сомневаясь, что Нина покинула мужа и, быть может, переменила фамилию, Коркунов впадал в отчаяние, когда думал, что он не узнает ее при встрече и что уже забыл ее тихий, всегда ласковый голос.
С годами любовь перешла в ненависть. Желание свидания с нею сливалось с желанием жестокой мести.
Иногда ночью он вскакивал с постели, страшным напряжением мысли вызывал в памяти прежний образ Нины и бросал ей в лицо короткие, злые слова:
— Встречу… все равно встречу… Не завтра — через год, через десять лет… старухой будешь, седой, безобразной… встречу и убью!..
Но все его поиски были безуспешны. Нина исчезла бесследно.
С течением времени у него появилась навязчивая идея. Он с тревогой думал, что лживую, изменчивую Нину убил какой-нибудь опередивший его и обиженный ею любовник.
Он собрал портреты всех убитых за время его разлуки с нею женщин и старался отыскать в этих лицах знакомые черты. Но все было тщетным. Портреты, снятые до убийства, не представляли сомнений и затруднений. Коркунов, изучив их, приходил к выводу, что это — не Нина. Труднее было разобраться в снимках с мертвых женщин.

Все эти портреты Коркунов развесил по стенам своего кабинета и часто разглядывал их, стараясь проникнуть в тайну этих загадочных лиц, сделавшихся одинаково неуловимыми и расплывчатыми, лишь только коснулась их смерть.
Это была жуткая коллекция. Со стен, из черных рамок смотрели призрачные лица. Откинутые назад головы, с полуоткрытыми глазами, в которых не успел еще умереть ужас, искривленные губы с оскаленными зубами; раны на лбу, с раскрывшимися и набухшими краями; раздробленные виски, где чернели зловещие пятна из крови и слипшихся волос; перерезанные шеи и вздувшиеся, оплывшие веки и губы удавленных женщин — все это было собрано Коркуновым.
Сегодня день был темный, серый, настоящий гнилой петербургский день. Коркунов вернулся со службы в угнетенном состоянии, предчувствуя новый приступ своей болезни.
Ночью ему было очень тяжело. Он не мог сомкнуть глаз, с трудом дышал и иногда даже громко стонал. Наконец тревожная потребность сделать что-то важное и спешное, о чем никак нельзя было сразу вспомнить, погнала его из спальни. Сжимая голову и потирая лоб холодными ладонями, Коркунов вошел в кабинет и зажег лампу.
Со стен глядели на него из рам портреты своими безумно расширенными, остановившимися и вытекшими глазами, которые, казалось, тускло блестели на этих мертвых, расплывшихся в отвратительные и зловещие улыбки лицах.
— А все за любовь? — улыбнулся Коркунов. — Любовь — и жизнь… и смерть…
Он громко расхохотался.
— За вашу любовь надо платить деньгами, а если кто-нибудь отдал вам хоть намек на чувство, тогда за вашу любовь, ядовитую и лживую, только нож… или топор!..
Он подбежал к стене и, приближая лицо к портретам, повторял:
— Только нож… Только топор…
Он тыкал пальцами в лица портретов, называл всех по имени и иногда, улыбаясь им, лукаво подмигивал или резко и злобно смеялся.
— Так и та… моя… когда-нибудь попадет сюда! — чуть слышно произнес он. — Тогда я пойду и все увижу… Кровь и лживое лицо, такое нелепое в своей беспомощности и испуге… Я буду смеяться прямо в это лицо, смеяться долго и громко… Пусть считают меня безумным тогда! Пусть! Мне все равно… А потом я приду к убийце и стану целовать его руки, добрые руки, уничтожившие ее…
И вдруг Коркунов отскочил от стены и насторожился. Чьи-то тихие шаги и легкий шорох платья доносились из передней. В полуоткрытую дверь заглядывал мрак, и на фоне его мелькнуло что-то белое и слабо мерцающее. Еще и еще раз… Все яснее и отчетливее…
Коркунов на пальцах, стараясь ступать неслышно, подошел к двери и, высунув голову в переднюю, шепнул:
— Это ты, Ниночка?.. Ты умерла сейчас и пришла ко мне? Вспомнила, умирая…
Никто не откликнулся. Вдали треснул паркет. В столовой хрипло и ворчливо пробили часы, им отозвались другие в кухне, забив торопливо и звонко. Но Коркунов все знал и успокоился. Утром лакей подал ему газеты. Он, не торопясь, пил кофе, деловито уложил бумаги в портфель и только тогда развернул газеты. Сразу же бросилась в глаза статья с черным, бьющим на сенсацию заголовком.
Ночью была убита в своей квартире дама. Убийца сам явился к следователю и просил арестовать себя, объясняя преступление любовью и ревностью.
Имя убитой было неизвестно Коркунову, но он знал, что убита Нина и спокойно ждал.
Дня через три, когда уже было сделано вскрытие и исполнены все судебные формальности, Коркунов прочитал в газетах, что тело убитой перевезено на квартиру мужа. Он торопливо надел черный сюртук и вечером отравился на панихиду.
Густая толпа любопытных стояла в небольшой гостиной, где был гроб. Войдя через боковую дверь, Коркунов оказался сзади покойницы и видел только верхнюю часть ее головы и несколько белых цветов, лежащих на подушке.
Зато он увидел мужа убитой. Высокий и строгий старик с жестокими, не простившими еще глазами стоял и крепко сжимал бледные руки. Он волновался, быть может, он даже плакал, так как мускулы лица у него напрягались и дрожали, и судорожно сдвигались густые, седые брови.
Когда публика стала расходиться, Коркунов незаметно вошел в соседнюю комнату и огляделся. Это был будуар убитой.
После смерти хозяйки сюда, вероятно, никто не заходил.
Коркунов встал за портьеру и притаился. В будуаре было темно, и только с улицы проникал сюда свет, ложась полосой на светлые обои.
В гостиной постепенно затихли голоса и шарканье ног. Потом все ушли, и только монахиня однообразно-тягучим голосом читала Псалтирь, произнося нараспев последние слоги, отчего слова делались чужими и непонятными. Устав, она смолкла, повздыхала, а потом, постукивая каблуками грубых сапог, ушла и бережно прикрыла за собой дверь.
Коркунов быстро вошел в гостиную и, став перед гробом, заглянул покойнице в лицо. Он тихо вскрикнул, но сдержал себя и, наклонившись ниже, смотрел, не отрывая глаз.
Лицо было обвязано марлей и почти закрыто. Только тонкий, слегка горбатый нос и приподнятая губа оставались на виду.
Коркунов протянул руки к гробу и немного сдвинул повязку. Она легко скользнула назад и упала на подушку, открыв все лицо.
Он сразу узнал Нину и, словно наблюдая за собой откуда-то издалека, ясно сознавал, что не удивился и не испугался.
Левый глаз покойницы, с длинными, пушистыми ресницами, был плотно закрыт. Другого не было видно; вместо него был сплошной синий подтек, расплывшийся на лоб, и в трепетном колебании света казалось, что это черное пятно бежит и прыгает по лицу. Мягкие очертания губ, нежный овал лица и даже эта увядшая, словно немного утомленная кожа, все сохранилось, и здесь, в гробу, она лежала близкая ему, любимая и такая жалкая, такая беспомощная, как жестоко наказанный ребенок в слезах.
Коркунов припал к ней головой на грудь, потом долго целовал ее губы и глаза и шептал:
— Зачем же так? Зачем?

Вернувшаяся монахиня увидела человека, упавшего на гроб, и с криком убежала.
Пришли люди и окружили Коркунова.
Его манеры, спокойное лицо, внятный голос и изящное платье произвели впечатление.
— Вы муж покойной? — спросил он у хозяина дома и, не ожидая ответа, взял его за руку и сказал: — Я попрошу у вас несколько минут разговора без свидетелей. После — я к вашим услугам.
Высокий, строгий старик движением руки пригласил его в будуар. Они вошли и сели.
Старик молчал, Коркунов с сосредоточенным видом что-то обдумывал.
— Она вас обманула… Изменила с тем… убийцей… Я знаю… Я читал в газетах его исповедь… Бедный он!.. Бедный и вы!..
Коркунов умолк и задумался. Старик пошевелился на своем стуле.
— Нет, подождите! — попросил его Коркунов. — Я сейчас… У вас в глазах ненависть к ней… к Нине… Это больно и тяжко… Зачем?.. Она всех обманывала… всех… и вас… и своего первого мужа, и меня, и убийцу, и многих еще… Я это знаю!..
Старик поднялся во весь рост и зашипел, словно почувствовал боль.
— Я тоже очень несчастен! — вздохнул Коркунов. — Страдаю так давно и так безнадежно. А она обманывала…
— Да! Она всю жизнь обманывала… эта… — старик произнес гнусное слово, самое обидное, самое оскорбительное для женщины слово, и опять сел, понурив голову и закрыв глаза.
— Но разве, — говорил Коркунов, растягивая слова, будто отыскивая каждое из них, — разве солнечный луч обманывает, скользя по лицам, цветам и камням? Обманывает ли он, когда ласкает, радует сейчас одного, а через мгновение другого?
Ответа не было. Коркунов подождал, потом тихо поднялся, подошел к старику и опустился перед ним на колени.
Он поклонился ему до земли, обнял его ноги и, громко всхлипывая, начал целовать их, шепча горячим, страстным шепотом:
— Если мы, оскорбленные и обманутые, не простим ей, давшей нам любовь, мгновенное счастье и горе… если мы не простим ей всей нашей обиды, не защитим ее нашей любовью, — с чем же предстанет она, бедная, перед престолом Предвечного Судии?..
Уже на заре выходил Коркунов из дома, где оставалось тело Нины. Старик провожал его до двери и долго смотрел ему вслед затуманенным слезами взглядом.
А Коркунов был счастлив. Что-то большое и радостное сжимало ему сердце и клокотало в груди.
Выходя у своего подъезда из пролетки, он вдруг почувствовал, что ему нужно крикнуть всем, всему миру, одно только слово, и тогда все на земле изменится, вся жизнь станет светлее и проще.
Только он не знал, какое это слово, а надо было торопиться: то большое и радостное, что наполняло его сердце и, грудь, росло и не давало ему ни вздохнуть, ни шевельнуться…
То нужное, дорогое слово само пришло… Коркунов выпрямился, но в груди у него вдруг что-то оборвалось. Словно чем-то мягким и черным ему окутали голову, и все закружилось, замелькало, забилось…
Потом все сразу остановилось…
 ТАЙНА СТАРОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ДОМА
ТАЙНА СТАРОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ДОМА
Илл. Мисс
Софронов знал этот вечер. Он с детства помнил ту напряженность и возбуждение, которыми отличается сочельник от всех дней года.
Ему всегда вспоминалось все то, что обыкновенно вспоминается всем одиноким людям в дни больших, трогательных праздников.
Софронов шел по Гостиному двору и вздрогнул, когда его кто-то окликнул.
— Вы куда, Семен Павлович? Не хотите ли со мною? — приподнимая меховую шапку, спросил сослуживец Софронова, Кульчинский. — А я в Александровский рынок за старой бронзой собрался. Знакомый старьевщик приглашал. Поедемте, если делать нечего!
Софронов согласился.
У старьевщика Семен Павлович, скучая, начал копаться в груде книг, валявшихся у входа. Один томик заинтересовал Софронова. На обложке стоял штемпель «Французская библиотека Дерваля в Санкт-Петербурге», а рядом «1818 г.».
Софронов заплатил рубль и ушел, распрощавшись с увлекшимся бронзой сослуживцем и хозяином лавки.
Вечером, после ужина, он сел в кресло у письменного стола и начал перелистывать купленную книгу.
Это был роман «Le chevalier de l’Aubel»
[12], написанный неизвестным автором в половине XVIII века. Книга была старая. От нее шел тот странный аромат, каким обладают только древние книги: смесь запахов сырости, тлеющих листьев и увядающих полевых цветов.
Павел Семенович нашел в книге и обрывок совершенно пожелтевшей и почти истлевшей бумаги. Мелкими, аккуратными буквами, написанными бурыми, выцветшими чернилами, неизвестная женщина писала:
«Сегодня я узнала, кто вы… Простите, умоляю вас! Случилось это так неожиданно, само собой! Сердце мое забилось, как встревоженная птица. Я всегда думала, что в вас пылает божественный огонь, но тайно мечтала о том, что он горит для меня. Когда вы видели мою игру в Летнем театре и хвалили меня, я чувствовала себя гордой! Я знала тогда, что игра моя прекрасна. Но теперь, — все погибло! Что я перед вами? Я недостойна смотреть на вас, произносить ваше имя! Имя… Мне нужно уйти, я это знаю, но будьте милостивы (это свойство отличает вас среди всех), дайте мне сегодня в последний раз провести с вами этот вечер. У нас в театральном доме, супротив Елагина дворца, справляют сегодня сочельник, зажгут, как всегда, елку. Я буду ждать вас в последний раз! Не гневайтесь на почтительнейшую и преданнейшую вам Марию».
Он осторожно перевернул обрывок бумаги и на оборотной стороне увидел почти совсем стершиеся слова:
«Приезжайте к полуночи! Заклинаю вас великой силой моей любви! Не повидав вас, — не смогу жить.
М.»
Он взглянул на часы. Был одиннадцатый час на исходе.
Павел Семенович вспомнил старый деревянный дом на Островах против Елагина дворца. Длинная, полусгнившая казарма с маленькими окнами и заколоченным входом с площади бросалась в глаза своим мрачным видом. Только дикорастущий виноград цеплялся за деревянные столбы крыльца и полз по стенам, словно лаская любимого, древнего старика.
Неясное решение созревало в голове Софронова, и наконец он понял, что ему надо ехать к театральному дому на Островах, куда звал его кто-то, смутно понимаемый, но близкий. Извозчик довез его до дуба Петра Великого и, уезжая, с изумлением смотрел вслед удаляющейся по аллее фигуре одинокого барина, приехавшего в такую ночь на Острова.
Павел Семенович обошел театр слева и встал у черной железной решетки дачи графини Клейнмихель. Простое, строгое здание разрушающегося театра высилось перед ним, все белое, залитое голубым светом луны. Заколоченные окна и двери не казались такими мрачными, как днем, и Софронову даже почудилось, что там, внутри, светятся огни и слышатся отклики тихих разговоров и осторожных шагов.
Сквозь решетку и ветки кустов он увидел белый Елагин дворец с круглой крышей и ярко-блестящим снежным газоном, сбегающим к самой Неве, покрытой толстым слоем снега. Только посредине реки была длинная и узкая полынья, где переливалась холодною рябью вода.
Глаза Павла Семеновича скользнули дальше. Вот прибрежные липы. Они стояли, словно из алебастра. Белые, без блеска, покрытые пушистым инеем, неподвижно высились липы. Через дорогу, по вспыхивающему в лунном свете снегу, протянулись черные, как змеи, тени ветвей и стволов, образуя хитрые сплетения и причудливое кружево.
А вот и старый театральный дом…
Софронов даже вскрикнул. В стеклах широкой двери и в окнах виднелся яркий свет. Горели свечи в золоченых люстрах и канделябрах. На легких занавесках колыхались тени и проходили то парами, то толпой.
Ворота были открыты настежь. Посреди двора горели дрова в железном казане, и кучера в широких рогатках с меховыми опушками попрыгивали у огня, били ногу о ногу, размахивали руками и возились, стараясь отогреться.
Почти каждый миг во двор с размаха влетали горячие кони. Широкие сани с возками, одиночки и французские «маркизы» с загнутыми полозьями взметали клубы смерзшегося снега и останавливались, как вкопанные, у внутреннего подъезда.
Павел Семенович, крепко стиснув зубы, шел к старому дому. Он вошел в ворота и поднялся по лестнице. Казачек принял у него шубу и шапку и указал на дубовую дверь.
— Господа просят! — сказал он.
В большом, ярко освещенном зале было шумно и тесно. Веселая толпа громко смеялась и разговаривала, переходя из одной комнаты в другую. Посреди узкого и длинного зала с гипсовыми амурами и бледно-розовыми гирляндами на потолке стояла елка, увешанная золочеными орехами, расписными пряниками, крымскими яблоками, бумажными звездами и фонариками, в которых мерцали маленькие плошки. В канделябрах и люстрах, сильно коптя, горели желтые, зеленые и красные восковые свечи.
Белые лосины военных, богатое шитье их форменных рейтфраков, пышные кисти шарфов, палаши и сабли, развевающиеся перья треуголок, прижатых локтем к левому боку; напомаженные прически с хохлами, бритые, смелые лица; высокие белоснежные жилеты и воротники статских, разноцветные фраки, чулки, туфли с бантами и пряжками, лорнеты, сверкающие яхонтами и смарагдами табакерки, трости с золотыми набалдашниками ошеломили и ослепили Софронова.
Заставил его прийти в себя звук духового оркестра.
Боковые двери широко распахнулись, и появились новые пары. Дородные красавцы с бритыми, насмешливыми лицами, с хитрыми, неискренними улыбками, в преувеличенно изящных фраках и панталонах, в туфлях с высокими цветными каблуками важно вели под руку прекрасных женщин. У них были узкие, легкие платья, отчетливо облегающие стройные ноги и бедра; низкие вырезы открывали грудь и плечи; изящные головки были украшены высоко взбитыми локонами причесок.
В первой паре шел полный, осанистый старик с добродушно-лукавым лицом и, опираясь на толстую трость, вел юную девушку.
Только глаза ее и рот видел Софронов.
В зрачках темных глаз было столько страстного ожидания и нетерпения, что казалось, будто эта девушка смотрит сквозь людей и стены дома куда-то далеко, откуда надвигается любимое и желанное.
Она шла среди расступающихся пред нею гостей, и ее губы кривились в горькую, неудовлетворенную улыбку.
Старик остановился у елки и, опираясь на палку, низко поклонился и громким, привычным голосом произнес:
— По древнему русскому актерскому обычаю, в полуночь сочельника, гости дорогие, гости знатные, именитые, люди одинокие, семья придворных актеров государевых поклоном-честью, хлебом-солью, вином-весельем принимает.
Величавый старик еще раз поклонился и быстро выпрямился, лукаво улыбаясь.
Девушка оглядела всех тоскующими глазами и утомленным, нетерпеливым голосом заговорила:
— Самый старый актер хлебосольством и приветом вас, гости дорогие, подарил, а, по обычаю исконному, самая молодая из актерской братии должна весельем, забавой, лаской женскою потешить. Елка мохнатая, плошки светлые, огни потешные, звезды сусальные, шутки да смехи, забавы-прибаутки — все для вас!..
И, произнося эти слова, она прямо пошла в сторону Софронова. Тот хотел посторониться, но она подошла к нему, и, взяв его под руку, повела вдоль залитых светом комнат в крайнюю малую залу, откуда открывался вид на площадь с театром и уходящей вглубь парка аллеей.
На изогнутой козетке они сели. Софронов ждал.
— Он приедет? — горячим шепотом спросила она и тронула его за плечо.
— Приедет! — твердо ответил Софронов, и повторил: — Приедет…
— Нет! Нет, — зашептала она. — Все тщетны надежды! Он и тогда не приехал! И жду я его каждый, каждый год… но все напрасно. Длинная цепь лет осталась за мною, а его все нет!.. Если к полуночи он не прибудет, все кончено тогда для Марии…
— Что будет? — беззвучно спросил Софронов.
— Ах! — застонала она и с отчаянием заломила руки, сжав пальцы так сильно, что они хрустнули.
— Он разгневался тогда… но ведь я не хотела знать, кто он! Он был для меня божеством, солнцем, был моим счастьем! Старый граф, шутя, назвал его… Я не могла обмануть его, скрыть от него, что знаю его имя… За что же гневается он так долго… так страшно долго?.. Наши дороги, наши судьбы разные, но милость великая — его правда!.. За что же гневается он так долго?..
Девушка скорбными глазами смотрела на Софронова и складывала губы в горькую улыбку страдания и тяжелой обиды.
Оба они вздрогнули, когда в далеких залах раздались крики, а когда восклицания и смех смолкли, до них донесся торжественный бой часов.
— Полночь… полночь! — услышал Софронов страстный, полный отчаяния шепот.
Он оглянулся. Марии в зале не было.
Холод щипал ему лицо и неприятной волной бежал по спине. Софронов долго смотрел на пустынную аллею и площадь.
Он не прибывал.
Павел Семенович ждал его. Он знал, что он приедет, и ждал его твердо и уверенно.
В дальних комнатах уже стихала музыка, во дворе угасал костер, и меньше саней стояло под навесами. Гости разъезжались.
Софронов ступал по скрипучим половицам и, задевая за загнувшиеся края старых ковров, искал Марию.
В боковых комнатах играли в карты, кости и домино; в буфетной бражничали за круглыми столами, обмениваясь беззаботными, красивыми речами.
Только в одной комнате было шумно и весело.
Там играли на гитарах цыгане и пели хором заунывные, дикие песни.
Толстый вельможа в синем фраке и кружевном жилете полулежал на софе и пальцами, унизанными алмазными перстнями, закрывал и открывал золотую табакерку. Цыгане чинно сидели на стульях под стеной, а посреди комнаты на ковре стояла Мария.
Цыгане чуть трогали струны гитар, а весь хор вполголоса, отрывая каждое слово, пел незнакомую Софронову песню:
— Цыгана в поле воля звала
И да-а широ-о-кая,
— Цыганке сердце любовь рвала
И да-а глубо-о-кая…
И под эти тихие напевы, под рокочущие звуки струн, Мария танцевала.
Тихо ступая по ковру, девушка в восхищении складывала руки на груди и закидывала голову назад, замирая в молитвенном экстазе. Потом она медленно раскачивалась в такт отрывочных слов песни, вытянув руки вперед, и с покорным видом рабыни приближалась к кому-то величественному и бесконечно доброму, кто звал ее.
Цыгане-гитаристы резким движением оборвали мотив и заиграли уже громче и чаще.
Девушка всплеснула руками и рванулась вперед. Вихрь страстных движений, безумных ласк и восторгов, крики блаженства, любви и неги были в каждом движении тонкого стана девушки и в извивах ее обнаженных рук.
Она плясала долго, пока звуки струн и напевов не сделались вновь заунывными и отрывистыми. Тогда Мария вся увяла, опустилась; с лицом, озаренным глубокой мольбой, с глазами, блестящими от слез, она упала на колени и, прижавшись к чьим-то невидимым стопам, горячо, страстно шептала:
— Я не хотела знать вашего имени!.. Я только любила…

Софронов увидел, что глаза Марии померкли, знакомая горькая улыбка закопошилась около губ, и девушка, обведя всю комнату недоумевающим взглядом, быстро поднялась с пола и крикнула резким и вызывающим голосом:
— Э! Не все ли равно?! Вина!
К ней подбежал цыган и подал кубок с пенящимся шампанским, а она, быстро выпив, крикнула:
— Плясовую, фараоны!
Софронову показалось, что девушка вдруг исчезла, и что перед ним вьется белое облако и машут белыми крыльями налетевшие на него белоснежные птицы.
— Будет! — крикнула Мария и кинулась к вельможе, обняла его за шею и, целуя в жирную, бритую щеку, смеясь и вздрагивая не то от смеха, не то от рыданий, просила:
— Коней самых быстрых, самых быстрых, и умчи меня, умчи!
— Ладно, моя повелительница! — говорил старик, щуря за стеклами лорнета близорукие глаза.
В этот миг быстро раздвинулась драпировка и на пороге выросла величественная фигура человека в военном мундире. Лицо его было прекрасно, а голова гордо закинута.
Пристальные глаза скользнули по лежащей в объятиях старика девушке, по кубку в ее руке и… пестрая материя вновь повисла, лишь колыхнувшись, словно мимолетный ветерок пробрался сюда и шаловливо тронул мягкий шелк.
Софронов слышал жалобные крики убегавшей девушки и поспешил за нею. Он увидел ее, бледную и призрачную, когда она уже сбегала по шатким ступеням на площадь, где был старый театр и где, взметая облако снега, мчались одинокие сани, взлетая на мост.
Мария, прижав руки к груди, сбежала с берега и пошла по глубокому снегу, покрывшему Неву. Перед нею сверкала струя незамерзшей воды и на ее золотистых бликах на один миг девушка замаячила чуть заметной тенью…
Долго смотрел ей вслед Софронов, но над переливающейся золотом и серебром водою лишь клубилась морозная испарь и тяжело опадала холодным туманом…
Он оглянулся. Старый театральный дом, с заколоченным входом и воротами, стоял темный и мрачный. Его окна глядели мертвенными глазами на белый снег, по которому ползли черные, извилистые змеи теней, отбрасываемых ветвями прибрежных лип.
Вдали по аллее, тревожно гудя, сверкал желтыми глазами большой автомобиль.
Когда Павел Семенович вернулся домой, он зажег электричество и, не снимая пальто и шапки, бросился к книге.
«Le chevalier de l’Aubel» лежал на письменном столе под тяжелым куском мрамора, но Софронов тщетно искал записку. В том месте, где она была, он нашел лишь мелкие обрывки и бумажную пыль, и на остатках старого забытого письма не было видно ни одной буквы, на одной черточки…
* * *
Такие странные, трогательные случаи бывают и в наше время, совсем лишенное чувствительности, тихой красоты и таинственности.
Это, может быть, только и примиряет нас, нуждающихся в грезах, с жизнью.

 КЛАД АТАМАНА ОЧЕРЕТА
КЛАД АТАМАНА ОЧЕРЕТА
— Со мною, сударь, произошел лет двадцать тому назад изумительный случай, — начал свой рассказ старый, седой моряк. — Нашему брату приходится много разного народа видать и бывать в различных передрягах. Но та, о которой я вам хочу рассказать, доложу я вам, почище других была!
Служил я тогда штурманом в Бриндизи в небольшой компании «Гаярди-сын и Альфредо Бови». Служба была невеселая. Компания не могла похвастать блестящими делами, и два единственных парохода, старые, ржавые ушаты, таскались только вдоль итальянских и греческих берегов.
Однажды, когда я пришел в Бриндизи с Корфу и не успел еще объявиться в портовой конторе, — из правления прибежал
мальчишка и сказал, что зовут меня к себе немедленно «синьоры директора»…
Приодевшись, я пошел. В кабинете уже сидели оба патрона и с ними белокурый гигант с глазами синими, как Адриатика, если позволите привести такое поэтическое сравнение!
Взглянул я на него и сразу признал в нем, сударь, земляка. А синьор Гаярди пожал мне руку и говорит:
— Вот что, командор Иванно (так он звал меня, потому что я — Иван Иванович Иванов). Вы знаете Черное море?
— Помилуйте, говорю, синьор! Я знаю те воды так же, как рейд вашего Бриндизи.
— Отлично! Тогда будьте любезны, командор Иванно (я уже объяснил вам, почему меня так звали итальянцы!), побеседуйте с этим синьором.
Он ткнул мне в руку толстую черную сигару, зажег спичку и, подождав, пока я закурил, вместе с синьором Бови, смешливым толстяком, вышел в соседнюю комнату.
— Синьор Иванно, вы, вероятно, русский? — с трудом выговаривая итальянские слова, спросил меня белокурый гигант.
Засмеялся я тут, знаете ли, сударь!.. Не стройте, говорю я ему, дурака, молодчик! Иваны бывают только в России.
Он, ничего не говоря, как вскочит, как обнимет меня, на воздух поднял, к груди жмет. Уж на что дюж я был в то время и крепок (меня в некоторых портах и по сейчас помнят, честное слово, сударь!), а чуть не задохся. Такая машина! И, поверите ли, оказался молодчик совсем не дурак. Занимался он в Риме в какой-то библиотеке, где рылся, как крот, в старых, пыльных и, по правде говоря, сударь, никому на целом свете не нужных бумагах и книгах. В ученые, видно, готовился, хотя ему куда бы лучше было сделаться борцом или моряком. Отличный материал в нем был! Молодчик, вдосталь наобнимавшись со мною, такую штуку рассказал мне…
— Знаете ли вы, капитан, что в 1595 г. в Черном море, недалеко от устья Днестра, был бой. Дрался там славный казацкий атаман, Остап Очерет. Саш кошевой «батька», Емельян Сагайдачный, послал его переловить плывшего из Волошины хана Урюмкая. Вез с собой хан много золота и самоцветных камней, отняв их у непокорного волошского господаря, Бармуса. Очерет переловил Урюмкая и без дальних слов пошел на абордаж.
Одних татар зарубил, другие в море потонули, а самому хану Остап привязал веревку к шее и поставил его на мертвый якорь. Пока он перегружал весь клад с татарского брига на свою «чайку» (так звали запорожцы боевые парусные баркасы), налетел на него отставший от хана отряд ага Назия. Пришлось тут, сударь вы мой, атаману туго! Либо позор, либо смерть! Взял он, да и потопил свою чайку со всеми сокровищами ханскими, да и с собой вместе…
— А что, капитан (спрашивает меня земляк), рассказ занятный или нет?
— Рассказ, — говорю, — как рассказ! Не совру, однако, что из занятных. А не выдумка? — спрашиваю.
— Какая выдумка! — кричит молодчик. — В Ватикане, в библиотеке нашел старый-престарый пергамент, где вся эта история подробно расписана.
— Отлично, — говорю, — а только я-то тут причем?
Ну, и рассказал мне земляк (Сусловым, Петром Егорычем звали его), что он предлагает моим синьорам взяться за это дело и добыть подводный клад Очеретовой «чайки». И план свой изложил. Поднимем, — говорит, — судно, отведем его на мель, где начинается уже речная дельта, и там станем разбирать судно. Работать на глубине водолазами долго и трудно. Ведь, поди, за это время весь корпус чайки окаменел. Я с ним согласился, сударь! Я видывал на своем веку старые сваи. В камень превратились они, в столбы из кремня!
Пришли потом синьоры Гаярди и Бони… да, впрочем, я не стану о таких пустяках рассказывать вам.
Скажу только, что через семь дней после этого разговора мой допотопный пароход «Бентовино» стоял на якорях в 20 милях от устья Днестра, на том самом месте, где, как утверждал Суслов, атаман Очерет потонул со своей чайкой и золотом. На борту у меня, кроме Петра Егорыча, находился молодой инженер, итальянец Свальбини, и человек пятьдесят рабочих и водолазов.
На палубе и в трюмах кипела работа.
Водолазы нащупали занесенный илом и обросший гидрами и тиной остов затонувшего судна, и инженер с Сусловым сооружали подъемный кессон. Недалеко от нас начиналась мель, и сюда-то хотел отвести поднятую чайку Свальбини. Для этого рабочие строили огромный железный ящик из отдельных склепываемых друг с другом частей. Целые груды железа были навалены на носу и на юте моего «Бентовино» и, я думаю, что со стороны противно было смотреть на наш пароход. Но, к счастью, мы никого не встречали в этой пустынной из-за мелей части моря. Я сказал, — никого, потому нельзя же считать судами те два парусных баркаса, которые неподалеку занимались ловлей кефали и причаливали к заросшему тростником и ивой пологому берегу песчаного острова!
Когда железный ящик был почти готов и лежал на носу «Бентовино», далеко выставляясь за его борта, случилось первое происшествие.
Мы, сударь, спускали искусного водолаза, чтобы он точно определил положение затонувшего судна. И вот тогда-то впервые мы заметили, что кто-то мелом написал на левом борту «Бентовино»: «Убирайтесь, пока живы».
Никого, кроме рыбаков на баркасах, мы не видели на горизонте. Пока возились с ящиком, я приказал спустить с талей шлюпку и, захватив четырех гребцов, на всякий случай поплыл к баркасам.
Меня встретили радушно. Подарили корзину свежей кефали, сударь, хлопали по плечу. Удивлялись, что на итальянском пароходе русский штурман и желали счастливого пути и удачи в работе.
Ничего подозрительного я не заметил, вернулся на борт, не рассеяв недоумения по поводу надписи повыше ватерлинии «Бентовино», где даже не было русских, кроме Суслова и меня.
Но ведь мы сами не написали бы таких глупых и дерзких слов?!
Два дня возились мы с опусканием подъемного кессона. Его наполнили водой, и он медленно погрузился. Водолазы донесли, что лег он рядом с затонувшей чайкой, и вновь принялись за работу.
Надо было, сударь, окопать вокруг судна морское дно, подобраться под киль, по возможности освободить весь остов от ила и тем облегчить подъем. Под дно чайки подвели стальные тросы, опутали ими весь корпус старого судна, захватив его будто в сеть.
Работали быстро. Смена за сменой опускалась на дно, и к вечеру все тросы были уже на своих местах и заделаны в кольца нижней части кессона.
Суслов и Свальбини настаивали на том, чтобы работать и ночью. Однако, сударь, это оказалось невозможным.
Я никогда не видел таких изнуренных людей, в каких, после работы на 12-саженной глубине, превратились несчастные водолазы. Ни кровинки на лице, мутные глаза и сильное кровотечение из носа и ушей! И это, знаете ли, в новых аппаратах со сгущенным воздухом, идущим из резервуаров на спине. А что бы было при старой системе?..
Страшно подумать, сударь!.. Плохое, все-таки, ремесло водолаза…
— Итак, на чем я остановился? — спросил старый моряк и вопросительно взглянул на меня.
Я поспешно налил ему портера, а он сразу успокоился и, хлопнув себя по голове, продолжал свой рассказ.
— Да, да! Ну, словом, работать ночью было совершенно невозможно и мы решили дать передохнуть команде. К ночи поднялся свежий ветер. Пошла высокая волна, и нас порядком тряхнуло бы, если бы мы не стояли на прочных якорях. Проверив первую ночную вахту (я это, сударь, всегда делаю), я спустился к себе в каюту и вскоре заснул.
Проснулся я часа через два и проснулся потому, что «Бентовино» дрожал, как в лихорадке. Я понял, что мы стоим на мелком месте и винт выгребает, что есть мочи. Я, в чем был, выскочил на палубу и увидел, что всего в нескольких саженях от нас горят на баканах красные сигналы, а из труб парохода валят клубы черного дыма.
— Кто приказал сняться с якоря? — крикнул я своему старшему помощнику, стараясь перекричать шум волн и вой ветра, свистящего и гудящего среди такелажа.
— Я не снимался! — ответил он, и в его голосе я ясно различил ноту страха.
Но для разговора у нас не было времени. Ветром и волнами «Бентовино» относило на мель, к дельте, где нас ожидала крупная авария и даже, быть может, настоящая катастрофа.
Мы дали самый полный ход и, поднимая со дна, вместе с пеной, песок и водоросли, медленно начали выходить на фарватер.
Когда уже мы вывели пароход на надежную глубину и были далеко от красных сигналов, я приказал подобрать якоря.
Лебедка с визгом и грохотом рванула цепь, и она с лязгом, с размаха проскочив в клюзеля, грохнулась на палубу.
— Командор, командор! — кричали итальянские матросы. — Кто-то перепилил цепи!..
И действительно, ровные, блестящие разрезы, сделанные чем-то невероятно твердым и острым, виднелись на якорных цепях.
Для меня было ясно, что надпись на борту «Бентовино» и эти свежие разрезы на цепях — дело одной и той же руки…
Но кто бы это мог быть?
Мы с Сусловым ломали себе голову, но придумать ничего не могли.
Это понятно: ведь, и вы, сударь, ничего не можете сказать, не правда ли?
На другой день водолазы с трудом отыскали место нашей прежней стоянки и даже нашли наши якоря. К ним мы привязались уже канатами и с утра принялись за работу. Это была интересная штука, и я никогда, ни раньше, ни позже, не видал ничего похожего на этот способ.
Какой-то американец Гастингс изобрел его, как мне объяснил тогда Суслов.
Дело в том, что в железном ящике, склепанном со всех сторон, оставили небольшое отверстие внизу и через него загрузили несколько крупных партий какого-то белого порошка в стеклянных банках. Внутри ящика, наполненного водой, их разбили. Порошок, как только он попал в воду, закипел и начал выделять газ. Вода из ящика вытеснялась через нижнее отверстие, и кессон всплывал.
Уже можно было разглядеть в воде его очертания…
Мне даже сейчас как-то не по себе, сударь, честное слово!.. Я вам уже говорил, сударь, что сквозь воду можно было различить уже очертания железного ящика. Мы все знали, что это значит. Кессон наполнялся газом и всплывал. Теперь он, следовательно, уже натянул все тросы, подведенные под чайку, а в следующий миг он должен был поднять ее со дна.
Но как раз в это время вскинулся высокий столб пара, дыма и воды, мелькнули в воздухе обломки железных листов, со свистом, как бичи, взвились обрывки стальных тросов; на одно мгновение зачернел среди пены и дождя брызг водолаз, а вслед за этим все это упало обратно в море. Однако, поток воды и несколько тяжелых кусков железа ударились о борт моего старика «Бентовино», сорвали обшивку и сломали грот-мачту.
Это, конечно, даже для моего парохода была, к счастью, пустячная авария, и не в этом была беда.
Худо было, сударь, то, что двое водолазов, работа нескольких дней и столько материала даром пропали.
Но Суслов и Свальбини были упрямыми малыми. Знаете ли, сударь, что на все мои покачивания головой и намеки ответил Суслов?
Он сказал, спокойно хлопнув меня по плечу:
— Жизнь усложняется, дорогой капитан, и борьба сделалась законом. Вот и мы свели счеты в борьбе с врагом, называемым случаем. Он нас победил, потому что у него оказались сообщники. Наши водолазы, которых за это черт унес на дно, напустили, вероятно, в кессон воздуха, а потом неосторожно обращались со своими электрическими фонарями. Где-нибудь получилось соединение и взрыв. Но ничего! Теперь победим мы…
Вот какой человек был этот гигант с мечтательными глазами. Я знал, что ни в чем не повинны были погибшие водолазы, и убеждала меня в этом еще не стертая надпись на борту «Бентовино».
Через сутки мы вернулись уже обратно, закупив в Одессе новый запас железных листов и заклепок. Мы нашли свою шлюпку с 4 матросами. Их основательно болтало, потому что зыбь стояла серьезная.
Мои матросы очень обрадовались нам и рассказали, что кружившие около них баркасы во время нашего отсутствия вели себя крайне подозрительно.
Они поставили все паруса, и притом такие, каких никто из моих матросов не видал. Кливера и бом-кливера были такие широкие, что полоскались в воде, а из-за выдвинутых далеко за борт косых фока и грота нельзя было рассмотреть, что делали люди с баркасов.
Когда мне об этом рассказывал старый боцман, видавший виды, я понял, сударь, что он хочет мне рассказать кое-что наедине.
В моей каюте он разговорился и, не боясь показаться трусом и смешным, уверял меня, что люди с баркасов спускались в воду и долго не возвращались обратно.
Я, конечно, не удивился, так как и раньше предполагал неладное.
Когда я сообщил содержание доклада боцмана Суслову и Свальбини, итальянский инженер энергично махнул рукой и сказал мне:
— Командор отрядит вельбот с несколькими молодцами и прогонит баркасы подальше от «Бентовино».
— Простите, сударь! — ответил я тогда. — Но мы находимся в русских водах, и за всякое нарушение законов страны отвечу я! Поэтому я вовсе не намерен вступать в пререкания с командой баркасов и лишь могу посоветовать вам торопиться с вашей работой и быть начеку.
Когда склепали новый кессон и хотели послать водолазов загружать его порошком, выделяющим газ, я сказал, что следует Свальбини или Суслову самим спуститься с водолазами и последить за правильностью работы.
Мне, сударь, просто было жаль этих молодчиков. Если бы вы только видели, как они работали. Сами клепали, шпаклевали и подчеканивали железные листы… Лучше всякого рабочего трудились!
Спустился с ними и я. Не люблю я, сударь, походить на краба, ползающего по дну, не годится это нашему брату-моряку, но из жалости сделал это.
Думаю, народ молодой, чего-нибудь не подметит и опять, глядишь, — неудача. Пока они возились около кессона, я бродил вокруг затонувшей чайки. Удивило меня сразу то обстоятельство, что, хотя прошло несколько дней, раскопанное дно вовсе не было занесено илом. А ведь это (я не знаю, сударь, известно ли вам?) делается очень быстро, особенно если вблизи находится река. Отойдя дальше, я бродил среди холмистого дна, пугая рыб и крабов, и хотел уже вернуться к своим, но внимание мое было привлечено каким-то блестящим предметом. Я подошел и увидел круглый шар, от которого уходили и терялись вдали провода, обмотанные резиной и просмоленной лентой.
Я уже повернулся и пошел за Сусловым, чтобы показать ему мою находку, но в то же время что-то серое, почти не отличающееся по окраске от морского дна, шевельнулось за большим, обросшим водорослями камнем. Остановившись, я пристально начал смотреть в ту сторону, и мне показалось, что я вижу скафандр притаившегося водолаза. В ту же минуту меня схватили сзади за плечи и начали валить.
Вы видите, сударь, что я стар, и это, к сожалению, правда! Но тогда я был еще в силе. У меня, сударь, были дюжие руки, а голова в самые рискованные моменты работала быстро и точно, как морской хронометр. Вскоре на дне лежал один из напавших на меня водолазов. Его я оглушил здоровенным ударом железной палкой по скафандру. Другой же водолаз, а также тот, который прятался за камнем, опередив меня, бежали к кессону.
Предчувствуя беду, погнался за ними и я, сударь, так как видел, что один тянет за собой провода и высоко поднял над головой блестящий шар.
Однако, бегущих заметил Свальбини и тотчас же бросился им навстречу, а за ним, славно гигантская акула, метнулась могучая фигура Суслова.
Один из нападавших подмял под себя худого, как вяленая рыба, Свальбини и не давал ему подняться, а другой, ускользнув от Суслова, пробежал несколько шагов и метнул свой шар в сторону кессона. Не доплыв до него, шар взорвался.
В это время Суслов, повернувшись, схватил водолаза в свои могучие объятия и, сжав его, поволок в сторону лежащего Свальбини, тщетно отбивающегося от насевшего на него бандита.
Я видел, как отлетел от итальянца его враг и растянулся на дне. Но Суслов помог инженеру подняться, а сам встряхнул упавшего бандита и поволок его вместе с другим своим пленником к лестнице, опущенной с борта «Бентовино».
Чтобы не отстать от товарищей, и я подобрал своего врага и потащил его.
Мы запрятали наших пленников в трюм и свободно вздохнули. Наконец-то наши враги были обезврежены!
Нам, сударь, казалось, что мы можем спокойно спать. В этот день немало рома было выпито на «Бентовино»…
Наш пир продолжался и ночью. Мы уже чувствовали себя обладателями всех сокровищ Остапа Очерета, когда прибежал к нам в кают-компанию дежурный матрос и сообщил, что из воды поднимаются в разных местах пузыри воздуха и громко лопаются на поверхности.
— Где-то прорвался газ, — заметил с беспокойством в голосе инженер. — Надо опуститься и осмотреть.
Посоветовавшись, мы решили втроем совершить новую экскурсию на дно и скоро погрузились в воду.
Я должен признаться, что даже у меня сильно шумел в голове ром, а о моих спутниках и говорить нечего. Это были… сухопутные крысы, сударь, и этим, простите, все сказано!..
Была ночь. На дне — непроницаемая темнота. Ни зги не видать. И только впереди каждого из нас находилось освященное пятно, — небольшой круг от бросаемых нашими фонарями лучей электрического света.
Мы прошли уже около тридцати шагов, и вдруг мне показалось, что я схожу с ума.
Прямо передо мной, сверкая разными огнями, стоял призрак. Белый и неподвижный, он казался мне страшным и грозным.
Я повернул голову в сторону товарищей и сквозь стекла скафандра увидел их с поднятыми руками и беспомощно подогнувшимися коленями.
Я успел еще разглядеть большой цилиндр, из которого стремился целый поток пузырьков газа; и где только пробегали они, — замерзала вода, образуя тот белый, сверкающий призрак, который напугал нас и который, сударь, был гигантской льдиной, обволакивающей потонувшее судно.
Я опять взглянул перед собой, и мне почудилось, что страшный призрак шевельнулся. Еще миг и, сразу рванувшись, льдина всплыла, унося за собой чернеющую в ней чайку с сокровищами хана Урюмкая. Подхваченные восходящей струей воды, страшной силой водоворота, перевертываясь и иногда ударяясь друг о друга, мы были увлечены вверх.
С трудом отыскали мы друг друга после того, как наши тяжелые подошвы и шлемы погрузили нас вновь. Только у Свальбини остался невредимым фонарь, остальные были разбиты и смяты. Однако, не раньше, чем через час, подняли нас на палубу.
Всплывшей льдиной сломало лестницу и сорвало один клюзельный канат.
Первой нашей заботой после того, как с нас сняли скафандры, было узнать о судьбе льдины.
Однако, ночь была черна, и все тонуло во мраке. Мы вслушивались в внуки, доносившиеся с моря, но это был лишь плеск небольшой волны и изредка стук машины идущего вдали парохода.
Приходилось ожидать рассвета, а чтобы скоротать время, мы решили допросить наших пленников.
Когда их привели, мы увидели крепких загорелых людей с хитрыми и дерзкими лицами.
— Вы кто такие? — спросил я их.
— Рыбаки мы! — ответили они, пожимая плечами и ухмыляясь.
— А не пираты, не контрабандисты?
Лица пленников сразу сделались сторожкими и непроницаемыми.
— Никак нет! — пробормотал один. — Мы только служили своему барину.
— А он кто?
— Он?.. — говоривший хитро улыбнулся. — О нем нам говорить не велено. Нанимались — молчать обещались…
Больше ничего от них нельзя было добиться, и я приказал опять отвести их в трюм.
Свальбини объяснил мне, что неизвестный противник остроумно догадался применить донный лед для поднятия судна. Достигши известного объема, льдина, более легкая, чем вода, всплывает и поднимает вместе с собой все то, что вмерзло в нее.
Чуть только начало светать, мы все выбежали на палубу, но от льдины не осталось даже следа.
Растаяла ли она? Или неизвестный «барин» отбуксировал ее в безопасное место — вот эти вопросы нужно было решить.
Я тотчас же приказал спустить шлюпку и, поверите ли, сударь, очень волновался, когда мы тронулись в путь! А ведь я дважды был в большом деле с пиратами на Востоке, и право же, сударь, никто не называл меня трусим.
Мы быстро плыли в сторону острова, поросшего тростником. На низкий берег этой большой мели то и дело взбегали волны. Тучи бакланов и куликов поднялись с разных мест при нашем приближении, и нам казалось, что остров необитаем. Однако, из-за сплошной стены высоких тростников поднимался сизый дымок.
С револьверами в руках мы бросились туда.
На песчаном холме горел костер, и вокруг него сидели и спокойно хлебали уху из котла загорелые рыбаки и даже не оглянулись на нас. Только один человек поднялся к нам навстречу. Высокий, бритый джентльмен с безукоризненным пробором и крупными белыми зубами.
Он подошел к нам и учтиво поклонился, обведя нас пытливым и насмешливым взглядом.
При всей злобе на этого человека, я, сударь, почувствовал к нему симпатию. Подумайте только, какая должна быть выдержка, чтобы сохранить спокойствие в таком… довольно щекотливом положении.
— Кто-нибудь из джентльменов говорит по-английски? — спросил он.
Оказалось, что мы все трое владеем этим языком.
— О, прекрасно! — улыбнулся он. — Мне приятно свести с вами более близкое знакомство, джентльмены. Мы одновременно охотились за несуществующей дичью… потерпели фиаско и понесли много убытков.
С этими словами он печально поник головой.
Помолчав немного, он продолжал:
— Я думаю, джентльмены, что мы можем подать друг другу руки и мирно разойтись? Вот, прошу вас взглянуть…
Говоря это, он повел нас на другую сторону острова.
Здесь на берегу виднелись осколки еще не растаявшего льда и обломки злополучной чайки Очерета.
— Вы видите? — спросил он. — Он хозяйничал здесь раньше, чем мы.
В кормовой палубе, превратившейся от действия воды в сплошную кремневую плиту, виднелось широкое и круглое отверстие. Оно не могло быть сделано каким-нибудь инструментом: слишком правильно были срезаны края обширного люка, достаточно вместительного для прохода одного человека.
Сударь, я никогда в жизни так искренне не ругал себя, как в тот раз!
Потерять столько дней на бесполезную, тяжелую и опасную работу, — это казалось мне чудовищным!
Внутри кормового трюма чайки ничего не было, кроме обломков окаменевшего дерева и каких-то заржавленных железных скоб и колец.
— Трюмы этого судна пусты совершенно! — сказал бритый джентльмен. — А теперь — good day!
— Простите! — сказал я. — Еще один вопрос… Откуда вы узнали о существовании затонувшего судна?
— О! — поднял кверху кулаки наш недавний противник, — я, джентльмены, обманут самым бессовестным образом! Ко мне в Англию явился русский негоциант Громов и предложил купить у него подводный клад, недавно им найденный. Я заплатил за него 7.000 фунтов, нанял рабочих, застраховал их жизнь, платил им исправно большие деньги и вот награда — пустая, гнилая коробка! Я не мог догадаться, что под толстым слоем ила скрыт люк, через который Громов вытащил все, что было в этой старой лодке…
— Позвольте узнать ваше имя? — спросил его Суслов.
— Меня не интересуют ваши имена, — гордо ответил англичанин, — и меня, джентльмены, очень бы порадовала и ваша скромность.
— Отлично! — сказал Суслов. — Но ведь вы не имели права хозяйничать в чужих водах?
— А вы? — улыбнулся англичанин. — На «Бентовино» я видел итальянский флаг, а насколько мне известно, джентльмены, от Италии до этой мели довольно далеко?.. Впрочем, вы были такими же пиратами, как и я, конечно… подводными пиратами.
При этих словах англичанин расхохотался колючим, сухим смехом.
— Однако!.. — вспыхнул Свальбини.
— Не горячитесь! — остановил его англичанин. — Вы знаете, что я говорю правду. Если бы вы не были пиратами, вы бы, поймав моих людей, передали бы их властям в Одессе, но вы предпочитали и предпочитаете расправляться с ними собственными средствами.
Согласитесь, сударь, что этот проклятый англичанин говорил очень убедительно?
Ну, и мы, разумеется, волей-неволей молчали…
— Кто из вас командир парохода? — спросил он. — Я предлагаю за ваших пленников 6000 фунтов.
Меня передернул наглый и насмешливый тон англичанина.
Я подошел к нему вплотную и сказал:
— Сэр, мне бы следовало за предложение такого сорта причинить вам боль, но я предпочту, ввиду того, что наши силы неравны, отпустить ваших людей, подарив вам, таким образом, 600 фунтов. При вашей неудаче — они вам могут пригодиться!
Вскоре мы расстались с англичанином.
На память у меня хранится и до настоящего времени кусок окаменевшего киля чайки Очерета.
Если окажете мне честь, сударь, и зайдете ко мне, я вас угощу отличным ромом (прежние товарищи не забывают старика!) и покажу эту редкость…
— А этого Громова никто из вас так и не встречал? — спросил я.
— Видите ли, сударь, — о других я ничего не знаю. Я вскоре после этого случая ушел со службы у синьоров «Гаярди-сын и Альфред Бови» и с той поры не встречал ни Суслова, ни Свальбини. Сам я служил потом несколько лет на Дальнем Востоке и вот там…
Старик умолк, разжигая погасшую трубку.
— Там-то, однажды, я слышал рассказ и вспомнил об этом Громове, так ловко обманувшем доверчивого англичанина. Я шел из Сингапура во Владивосток. В Амое я получил предписание зайти на один из островов Гокубу-Шото, южнее параллели бухты Ханг-Чу, где должен был взять на борт своего парохода какую-то английскую ученую экспедицию. В Май-Пинге я спустил шлюпку и вельбот и доставил к себе с берега четырех ученых английских археологов и их груз из 24 тяжелых ящиков.
В пути с одним из ученых, доктором Вилли Бексфордом, я разговорился, и он мне рассказал преинтересную историю.
В XII столетии около Гокубу-Шото был большой морской бой. Китайский пират Ху-бец-сан напал на эскадру Фудутуна Си-Ляна, везущую бронзовые статуи, драгоценные вазы и утварь для дворцов в Пекине. После долгого сопротивления часть кораблей сдалась пиратам, а два затонули.
Вот за этими-то кораблями и отправилась в бухту Май-Пинг археологическая экспедиция англичан.
Доктор Бексфорд рассказал мне, что водолазы нашли на значительной глубине потонувшие китайские галеры, но проникнуть в них не было никакой возможности.
Корпуса галер представляли сплошные глыбы твердого камня. Дерево пропиталось кремнеземом и окаменело. Поднять суда было бы очень трудно. На помощь пришел русский изобретатель. Фамилии его доктор не знал, но рассказал мне, как работал этот человек.
Так как запаса сгущенного воздуха хватает обыкновенно ненадолго и водолазу приходится скоро прекращать работу, то русский, точно определив место работы, ставил на якорях пловучий резервуар с сжатым воздухом, достаточным для работы пяти человек в течение 12 часов.
Изобретатель, очистив палубу от ила и наросших на ней губок, кораллов и раковин, проделывал отверстие. Для этого он пользовался аппаратом, выделяющим под давлением фтор. Этот газ очень быстро разрушал кремневую оболочку палубы и открывал доступ внутрь окаменевшего судна. Англичанин говорил мне, что впервые такой способ был применен при изучении подводного города в Дарейте, у берегов Шотландии, и разработан шотландцем Майсом, но я, сударь, знаю, что на Гокубу-Шото англичанам помог не шотландец, а русский! И я уверен, что этот русский был не кто иной, как Громов!
Он дал возможность английским археологам добыть из-под воды великолепные бронзовые колонны, светильники, вазы и столы; водолазы нашли в одной из галер серебряный трон; он был чем-то украшен, — может быть, слоновой костью, драгоценными камнями или перламутром, но вода уничтожила эти украшения; много ценного оружия, старинного, как сам Китай, подняли англичане со дна моря; редкие бронзовые таблицы с перечислением подвигов одного из давно умерших богдыханов Мингов, серебряные и золотые слитки, разная посуда попали в руки ученых-археологов.
 ТАЙНА ТРЕХ СМЕРТЕЙ
ТАЙНА ТРЕХ СМЕРТЕЙ
Теперь, когда они погибли, можно рассказать тайну их жизни.
Всех в городе удивляла эта странная пара. Он — с густой, седой гривой мягких волос, с задумчивым и глубоким взглядом карих детских глаз, один из величайших ученых, чье имя произносилось студентами благоговейным шепотом. Когда, прямой и стройный, он шел по улице, негромко стуча камышовой палкой, еще прекраснее казалась она, прозванная его тенью.
Откуда пришла к нему эта юная, цветущая красавица с короной светло-русых кос на гордой голове? Спокойный взгляд синих глаз, приветливая улыбка, тонкие белые руки, — все было прекрасно в этой девушке, тени великого ученого. Царственная простота, величественное обаяние жили в ней, и все в старом, мирном городе любовались и восхищались ею.
Иногда говорили о профессоре и его тени, строили догадки об их отношениях, но в общем гордились этими необыкновенными людьми, придавшими всему складу жизни городка особую интимность и нежную прелесть романтизма.
Старый химик, профессор… назовем его Шмидтом (не все ли равно, какова была его настоящая фамилия?) года три тому назад на одной из своих лекций неожиданно заметил девушку. В лаборатории она проявила столько усердия и знаний, что профессор все больше и больше занимался ею, посвящая ее занятиям немногие часы своего досуга.
Она говорила с каким-то чуждым слуху Шмидта оттенком речи, и он через несколько недель знакомства спросил ее о родине, семье и о ней самой.
Что сказала она ему, — остается тайной; в письмах и отрывочных записях в дневнике ученого не нашлось ответа на этот вопрос.
Зато…
Быть может, строгий моралист сочтет эту часть рассказа нарушение тайны корреспонденции, за вторжение в личную жизнь людей, но пусть будет и так; однако, необходимо передать все подробности этого происшествия.
Необходимо потому, что они лишний раз доказывают, что, лишь согретые личным счастьем, ум и воля могут создать великое и прекрасное.
В одном из писем, найденных в шкатулке Лауры (так звал профессор девушку) и написанных, несомненно, рукой Шмидта, были следующие строки:
«…Дорогая и прекрасная! Ты, как солнце, даришь жизнь и силы. Ты озарила мой потухающий ум своей любовью. Я хочу быть достойным твоего обожания, твоей любви, я создам теперь, в эти немногие годы остатка моей жизни, большее и важнейшее, чем все, сделанное за всю мою долгую и трудолюбивую жизнь! Я не знаю, будут ли у нас дети… но я тебе оставлю мои труды; это — тоже наши дети. Ты меня вдохновила, а я исполню твою волю. Дорогая! Каким ярким пламенем, вместе с любовью и страстью, вспыхнула в уме моем творческая мысль!.. Ты — мое солнце!»
Этот отрывок, конечно, разъясняет многое. Праздное и немного фривольное любопытство многих будет удовлетворено. Люди же серьезные, сравнив число, выставленное на письме, с периодом последних, изумительных по напряженности мысли и трудности выполнения ученых исследований и открытии профессора Шмидта, должны будут признать, что знаменитый химик сдержал свое слово.
За последний год перед смертью этих людей, они были неразлучны. Мудрые глаза профессора с нежной лаской покоились на прекрасном лице и стройной фигуре Лауры, а она с гордостью и торжеством шла рядом с ним, величественная, как принцесса, и покорная, как трепетная рабыня.
Затем их видели втроем.
Третий был приезжим русским доктором. Маленького роста, широкоплечий и с грудью атлета, этот человек обладал властным, покоряющим и дерзким взглядом и насмешливой, даже презрительной складкой около небольшого чувственного рта.
Всем, наблюдающим за старым химиком и его тенью, было совершенно ясно, что время равноправного восхищения миновало и что все влияние перешло к русскому доктору с беспорядочно всклокоченными волосами и сверкающими из-под узких черных усов белыми, как у молодой собаки, зубами.
Он шел всегда немного впереди и, оживленно жестикулируя и по временам останавливаясь, по-видимому, о чем-то просил Шмидта или уговаривал его.
Так продолжалось несколько дней, а потом добрые жители городка, ухмыляясь, начали спрашивать друг друга:
— Скажите, милейший herr Фишер, чьей тенью считаете вы теперь прекрасную фрейлен Лауру?
И как низок человеческий род! Все очарование, которое так недавно расточал вокруг себя седовласый ученый и его прекрасная, юная подруга, рассеялось. Остался анекдот, повод к пошлым остротам и шуткам очень плохого сорта.
А между тем, в дневнике ученого химика в это время была сделана такая запись:
«Странный человек этот Громов! Как все русские, — он дерзок и лишен способности отличать возможное от несбыточного. Он привез мне старинную рукопись, найденную им в каком-то забытом северном монастыре его родины. Это, несомненно, один из древнейших памятников зарождающейся науки человечества. Изъеденный пергамент покрыт сливающимися и налегающими друг на друга латинскими буквами и содержит алхимический рецепт приготовления сложной смеси, дающей начало первобытнейшему из когда-либо живших на нашей планете существ».
В лаборатории, где все это потом случилось, найден был среди бумаг и толстых «Bericht’oв»
[13] маленький клочок почтовой бумаги с несколькими строчками, написанными твердым, размашистым женским почерком и подписанными Лаурой.
Вот что писала она:
— «Мне кажется, что ты боишься повторить опыт древнего алхимика и потому отклоняешь предложение доктора Громова? Мне стыдно и больно за тебя, такого мудрого и смелого… В первый раз в жизни мне стыдно! Но я решила. Если ты не захочешь попытаться создать первобытное существо, я уйду с русским доктором и буду помогать ему в другом месте, пока он не откроет тайны зарождения первой жизни на земле…»
Вероятно, тотчас же после получения этих решительных и, быть может, показавшихся старому ученому жестоких строк, начались те приготовления, о которых впоследствии с различными подробностями рассказывал всем — и ректору, и судебному следователю, и полицейскому комиссару, и студентам, и даже извозчикам болтливый лабораторный служитель Мейснер.
Трое людей в четверг с вечера вошли в лабораторию и покинули ее лишь в субботу около полудня. Когда они вышли, то служителю бросилось в глаза выражение их утомленных лиц.
Профессор и Лаура были очень бледны, взгляд их блуждал и вздрагивали сухие, словно обожженные знойным ветром губы. Походка их была тяжелая и разбитая, как у людей, сделавших большой переход или переутомившихся от тяжелой и продолжительной работы. Они тотчас же покинули здание лаборатории и поехали к себе.
Что же касается русского доктора, то он нисколько не изменился. Так же, как и всегда, глаза его были дерзки и не мигали, а постоянная насмешливая и презрительная морщина змеилась вокруг ярко-красных, будто кровавых губ. Он ходил по лаборатории и, казалось, боялся покинуть ее. Только к вечеру, когда уже сгустились сумерки и забрались во все закоулки старого университета, Громов, нахлобучив на глаза широкополую шляпу, ушел.
Мейснер (и это вполне понятно!) не удержался, чтобы не заглянуть в лабораторию, но ничего особенного он не нашел. В небольшом стеклянном сосуде с наглухо запаянным гордом была какая-то смесь, а кругом стояли банки и бутыли с серой, аммиаком, содой и спиртом. На большом листе фильтровальной бумаги были набросаны рукой профессора слова: «Глупо ученым произносить заклинания!».
Служитель не понял значения этих слов, но запомнил и впоследствии рассказал об этой важной детали…
Что произошло дальше — никому не известно. Эту тайну хранят толстые, сложенные из грубых глыб песчаника стены, помнящие еще несчастного Рудольфа Слепого
[14].
Весь город был встревожен оглушительным взрывом, заставившим вздрогнуть колокольню собора и задребезжать все окна в домах. Пастор передавал потом, что в башне долго качались и с жалобным гулом гудели колокола.
Когда испуганные жители выбежали из домов, они увидели, что над рекой, из окон университета, рвется наружу со свистом и злым завыванием пламя.
С другого берега неслись тревожные звуки набата, крики людей и громкий треск мчавшегося пожарного обоза.
Толпы людей бегом направились через каменный мост к университету и здесь узнали от сбежавшихся раньше всех мальчишек, что горит лаборатория старого профессора Шмидта.
Опасно было бы при описании причин и картины пожара доверять словам служителя Мейснера или случайных очевидцев. Обратимся поэтому к сухому протоколу полицейского комиссара, доносившего по начальству:
«Когда огонь был сбит и пожарным удалось, взломав запертую дверь, проникнуть в лабораторию знаменитого профессора химии, тайного советника Шмидта, то глазам вошедших вслед за ними правительственных чиновников представилась следующая картина. У стола лицом вниз лежал профессор Шмидт. На него со стола густой струей стекала липкая, тускло светящаяся слизь и, непостижимо быстро выдвигая, подобно щупальцам, длинные отростки, двигалась вперед.
Дерево, одежда и бумага при прикосновении с этой живой слизью мгновенно вспыхивали, а слизь ползла дальше, оставляя за собой полное разрушение. Голова профессора была совершенно чем-то съедена: кожа, мускулы и даже череп — все это превратилось в кровавую массу. Доктор Громов, — недавно прибывший в наш город из России русский ученый, — сидел, откинувшись на спинку кресла. Он был мертв, так как врачи определили, что вбившиеся глубоко в грудь осколки толстого стекла проникли в сердце. Находившаяся вместе с погибшими девица Лаура истаяла почти бесследно. Ее, очевидно, разорвало на мельчайшие части взрывом, и только один глаз был найден в стене, приставшим к какой-то неровности».
Так доносил комиссар, но находившиеся при осмотре судебный следователь и городской врач дополняли это официальное описание весьма существенными подробностями.
Прежде всего, о глазе Лауры. Этот синий, как утреннее небо, глаз, вправленный в камень стены, блестел и с величавым спокойствием смотрел на мертвых и живых людей. Он так же блестел и после нескольких дней, в течение которых шло следствие и исполнялись все формальности перед погребением жертв научной любознательности.
Затем не менее важное, хотя совсем необъяснимое, наблюдение сделали эти же лица. На столе, рядом с остатками разорвавшегося сосуда, лежал почти съеденный слизью и огнем старинный пергамент. На нем были какие-то знаки или, быть может, даже буквы и слова, но все это было закрыто кроваво-красным следом огромной ладони с длинными и худыми пальцами. Такие же два следа виднелись на двух противоположных стенах и были глубоко вдавлены в штукатурку и камень. Можно было подумать, что какой-то гигант уперся руками в стены и силился раздвинуть их и повалить. Это тем более казалось правдоподобным, что вдоль всего свода змеей вилась длинная и широкая трещина…
Долгие годы прошли, пока слизь не исчезла совсем в здании старого университета. Ее зародыши появляются и теперь: поедают книги, коллекции и производят разрушительные пожары.
Лаборатория профессора Шмидта стоит и поныне обгорелая, покинутая, всеми заброшенная. В ней гнездятся пауки, мокрицы и тысяченожки, а по ночам здесь пронзительно цыкают летучие мыши.
…Заезжайте в старый Леобен, и словоохотливый служитель Мейснер расскажет вам всю эту историю с большими подробностями, хотя, быть может, и не совсем правдоподобными.
ИЗ ЖИЗНИ СТАРОГО УНИВЕРСИТЕТА
1
В химической лаборатории одного старого немецкого университета, несмотря поздний час, за своими столами работали студенты. В большой сводчатой зале было тихо. Ярко горели электрические лампы, а в воздухе стоял тот туман, который никогда не исчезает в лабораториях. Кое-где дымились папиросы. Студенты редко и негромко разговаривали. Слышался лишь ворчливый стук вентилятора и шипение горящего газа. Иногда раздавался всплеск воды, выливаемой в раковину под краном.
Какой-то толстый студент, раскачиваясь на высокой табуретке, тянул монотонную немецкую песенку и лениво перелистывал толстый «Handbuch»
[15], изредка рассматривая на свет стакан с кипящей в нем жидкостью.
В дальнем углу лаборатории, в одном отделении, работали трое студентов из России. Один из них, высокий, широкоплечий Михаил Карташев, стоял у вытяжного шкафа и внимательно следил за столбиком ртути в термометре.
Перед ним на железном треножнике стоял толстый чугунный сосуд, в горло которого были вставлены термометр и стеклянный холодильник. В охлаждаемой внутренней трубке по временам появлялись мелкие, прозрачные кристаллы и тотчас же плавились в желтое масло, стекающее обратно из холодильника в чугунный сосуд. Карташев не спускал взгляда с колеблющегося столбика термометра и, когда ртуть начинила подыматься, тотчас же гасил огонь, горящий под треножником, и прикладывал к сосуду мокрые тряпки с завернутым в них льдом. Иногда он нагибался и, почти прикладывая ухо к чугуну, слушал, как, шипя и потрескивая, внутри что-то кипело и бурлило. Тогда бесцветное, прозрачное пламя газа бросало на лицо студента мертвенные, колеблющиеся тени и зажигало в его глазах холодные огни.
Порой у выхода из сосуда вспыхивали голубые языки, и тогда по лаборатории тянулись длинные, извилистые струи тяжелого белого дыма.
Пока Карташев торопливо замазывал гипсом трещины в пробке и пламя гасло, из всех отделений сбегались немецкие студенты и тревожно смотрели на тяжелый дым, медленно опадающий на землю.
Один из студентов подошел к русским и спросил:
— Вам известно, что над этой лабораторией тяготеет злой рок? До вас пытались закончить эту работу уже трое химиков, и все они пострадали. Одного сильным взрывом убило, других искалечило.
— Да! — ответил Карташев. — Профессор Флешер предупреждал меня, но я все-таки взялся за работу.
Немецкий студент пожал плечами и отошел, бормоча:
— Конечно, это дело ваше, поскольку ваша работа не может причинить нам ущерба…
Тощий, узкогрудый поляк Контский, работающий в одном отделения с Карташевым, засмеялся и сказал:
— Что русскому здорово, то немцу смерть!
— Верно! — протянул басом друг Карташева, Силин. — Нашего брата немецким взрывом не зашибешь. Чего его бояться? Не все ли равно?
— Конечно! — согласился Карташев. — Не все ли равно? Куда тут денешься? Домой незачем возвращаться. Там диплом не скоро получишь, а надо же начинать жизнь — устали ведь? А тут…
— Тебе медаль обещал вчера Флешер, если закончишь его работу? — спросил Контский, закуривая папиросу.
— До и ассистентом хочет пристроить, — улыбнулся Карташев. — Уж очень этот Флешер прыгает около меня. У него, видно, есть свои расчеты на эту работу, а какие, я не знаю.
— Гляди, — не продешеви, Миша! — заметил Силин. — А то, чего доброго, и физиономию тебе спалит, и ничего ты не получишь. Заграничные ученые, брат ты мой, люди тонкие, никак ты их настоящим манером не рассмотришь.
— Профессор! — раздался окрик, и слышно было, как задвигались табуреты и зазвенела посуда на столах.
Флешер, коренастый, краснощекий мужчина с толстой шеей и круглой головой, ни с кем не здороваясь, шел прямо в отделение русских студентов. С большим вниманием и интересом он выслушал доклад Карташева, осмотрел кристаллы, осаживающиеся в трубке холодильника, и сказал:
— Теперь уже скоро! Опасный момент вашей работы заканчивается. Первое напряжение пройдет, и вы не будете так волноваться, heir Карташев!
— Я должен заметить, г-н профессор, — ответил, улыбаясь, Карташев, — что я вовсе не волнуюсь. У меня крепкие нервы и прекрасное здоровье.
— Отлично, отлично! — закивал головой Флешер и, подав руку студенту, быстро направился к выходу, шаркая туфлями и оставляя за собою клубы сигарного дыма. Немецкие бурши с любопытством и завистью заглядывали в отделение русских и спрашивали о Флешере.
Когда все немцы ушли, русские долго еще работали, и уже в окнах начал брезжить свет, когда они, замкнув свои столы и шкафы, оставили лабораторию.
2
Перед самыми праздниками Рождества захворал Контский. Двое товарищей по очереди оставались дома и, сидя с ним по вечерам, читали вслух. В один из вечеров, когда в лаборатории был только один Карташев, к нему прибежал служитель и сказал, что профессор Флешер просит его к себе.
Квартира Флешера была над лабораторией. Профессор принял Карташева у себя в кабинете. Красное лицо Флешера и серые навыкате глаза были тревожны.
— У меня к вам дело, herr Карташев, — сказал он шепотом и, встав, быстрым шагом подошел к двери и плотнее прикрыл ее. — Очень важное дело! Я буду с вами откровенен, как с другом, полагаясь на вашу скромность.
Карташев недоумевающим взглядом смотрел на Флешера и ждал.
— Вы делаете работу, с которой у меня связано много неприятных, тяжелых воспоминании. Люди злы, herr Карташев, и часто говорят не то, что было на самом деле: не надо им верить!
Карташев молчал.
— Вы знаете, что тема, над которой вы работаете, необычайно важна для всей красильной промышленности, herr Карташев? За ее разработку фабриканты дадут большие, о! очень большие деньги.
— Я это знаю, г-н профессор! Если мне удастся найти легкий и безопасный способ получения этого вещества, — будет произведен переворот в красильном деле.
— Но вы ничего не говорите мне о ваших условиях? — продолжал профессор.
— Условие будет зависеть от вас. О том, что я получу, как ученый-исследователь, вами уже мне заявлено. Что же касается остального…
— Я вас озолочу! — зашептал Флешер. — Озолочу… но при одном условии. При условии, что вы никогда и никому не откроете секрета приготовления нашего вещества! Согласны?
Студент сидел в глубоком раздумье. Наконец, он поднял глаза на Флешера и сказал:
— Я не могу согласиться, не зная тех причин, которые заставляют вас так волноваться и выставлять подобные элементарные требования…
— Это причины интимного свойства, herr Карташев, причины почти семейные! — заволновался Флешер.
— И все-таки, г. профессор, не зная их, я не могу согласиться ни на какие условия!
Флешер начал ходить по кабинету, хватался руками за голову, бормотал отрывочные слова, видимо, борясь с нахлынувшими на него мыслями. Он остановился перед Карташевым и долго смотрел на него, сдвигая брови и кривя губы в болезненную улыбку.
— Нет! — наконец сказал он. — Угодно вам принять мои условия без всяких с моей стороны излияний, — отлично! В противном случае — как хотите.
Из дальних комнат донеслись звуки рояля и Флешер вздрогнул и поднялся с своего места.
— Нет! — сказал он. — Я вам не скажу ничего. Да и нечего, в сущности, рассказывать!
Встревоженный и опечаленный, уходил от Флешера Карташев. Профессор, не глядя на него, пожал ему руку и не пошел даже проводить его до дверей.
Выйдя от Флешера, студент свернул на бульвар, но лишь только он зашел за угол, здесь его кто-то окликнул. Это была женщина. Она была молода и стройна. На бледном лице ее горели темные, полные огня глаза.
— Вы меня не знаете, — сказала она. — Я жена профессора Флешера. Я ждала вас, так как слышала, что вы работаете над получением альфа-пигмента.
— Да, сударыня, я работаю в лаборатории вашего мужа, — ответил с недоумением в голосе Карташев.
— Вы должны отказаться от этой работы! — страстно вырвалось у нее.
— О, нет, сударыня! — пожал плечами Карташев. — Я делаю работу на заданную мне тему. Быть может, моя карьера зависит от этого. Мне нет ровно никакого дела до того, какие воспоминания и обстоятельства связывают профессора Флешера с этой работой! Мне необходимо продолжать мое исследование, и я его закончу!
— Если бы вы были немец, я бы никогда не обратилась к вам с таким странным, даже больше, дерзким предложением. Но вы — славянин, вы — русский, вы все мечтатели и идеалисты. Вы поймете, что здесь случилось необыкновенное… даже страшное… Эта работа обагрена кровью… Кровью благороднейшего человека!
— Кровью человека? — удивился Карташев. — Впрочем… Да! Мне говорили, что уже несколько человек пострадали при этой работе.
— Был еще один пострадавший… ужасно! — заволновалась госпожа Флешер, нервно теребя пуговицы своего жакета. — Пострадавший больше всех и так несправедливо, так несправедливо!
Она замолчала, но потом схватила Карташева за руку и, прежде чем он успел сообразить, что она делает, госпожа Флешер поцеловала ее.
— К вам придет один несчастный, очень несчастный человек, — шепнула она. — Выслушайте его и пожалейте! Он заслужил этого…
Когда она замолчала, Карташев не знал, что ей сказать, и они долго стояли безмолвно и растерянно глядели друг на друга.
— Прощайте! — сказала она наконец и пошла вперед, пристально посмотрев ему в лицо.
— Я внимательно выслушаю того человека, о котором вы говорили мне! — произнес от ей вдогонку.
3
Дома студенты долго обсуждали таинственное происшествие, но не могли прийти к какому-нибудь решению. Сначала они очень беспокоились, ожидая разных осложнений, но потом начали находить смешные стороны во всей этой истории. Силин прозвал альфа-пигмент, получаемый Карташевым, «кровавой немецкой тайной» или «горячим поцелуем в 180° — по Цельсию».
Контский поздравил товарища с завязывающимся романом.
— Знаешь, Карташев, — говорил он, — что ты сделай? Оканчивай работу, продавай свой пигмент купцам, увози чувствительную Frau и натяни длинный-предлинный нос красному Флешеру. Вот будет потеха! Говорят, что немец обезьяну выдувал, ну, а такой веселой штуки и сотне немцев не придумать!
— Вам легко смеяться! — возражал Карташев. — А мне каково? Делаю трудную работу. Альфа-пигмент может в один прекрасный момент снести мне голову. За ним уже труп и калеки. Около него женщина с глубоким и искренним, насколько мне показалось, горем. Тут же Флешер со своими опасениями и волнением. Есть над чем подумать, черт подери! Такую задали загадку, что хоть куда! А главное, боюсь, что в результате этот Флешер, в отместку мне за несогласие молчать, станет нам мстить. Неужели же и здесь нам не удастся кончить университет и начать, наконец, самостоятельную жизнь?
— Пока ты возишься со своим пигментом, Флешер нас, конечно, не тронет, — доказывал Контский. — Ему надо получить эту работу. Ты окончишь ее не раньше апреля. Мы же отделаемся от него к концу февраля и будем ждать тебя в качестве уже свободных граждан.
Работа у студентов кипела. Они сдали последние экзамены и усердно занимались в лаборатории, заканчивая самостоятельные исследования, требуемые от докторов философии немецкими университетами.
Карташев весь ушел в лабораторные занятия. Его чуткость и наблюдательность, умение пользоваться подчас мелкими работами различных исследователей и основательные знания уже давно выдвинули его из ряда самых способных студентов.
Тоска по России, желание вернуться на родину, чувство отчужденности от местного студенчества и заметная враждебность товарищей-немцев сделали его замкнутым и не по-юношески серьезным и задумчивым. Все предсказывало ему блестящую карьеру ученого, и даже немецкие профессора, недолюбливающие своих русских учеников, предлагали Карташеву остаться ассистентом и работать дальше в ожидании кафедры. Карташев, однако, откладывал решительный ответ.
Бурное время, переживаемое Россией, водоворот событий, налетевших так внезапно и мощно, нарушили течение жизни университетов. Надежды на окончание курса у Карташева не было, не было и средств на безнадежное, как казалось тогда многим, ожидание успокоения глубоко взволнованного общественного моря. Выбиваться же на дорогу представлялось необходимым.
Карташев был сирота. У единственной родственницы его, какой-то дальней тещи или бабки, хранились оставшиеся после отца деньги, несколько сот рублей на черный день. Карташев долго думал и, наконец, решился. Он взял эти деньги, и, найдя среди своих товарищей двоих с небольшими средствами, образовал, как они называли, коммуну и все трое уехали в Германию. Живя скромно и очень бережливо, им удалось дотянуть до конца курса, и приближался уже день вручения им докторских дипломов.
У Карташева была тайная мечта. Удрученный тем, что ему пришлось искать знание на чужбине, он все-таки хотел войти в русскую науку. Без диплома, полученного в России, это было трудно, поэтому он решил, в качестве заграничного доктора философии, добиться степени магистра.
Вот почему Карташев не давал своего окончательного согласия на предложения немецких профессоров, ожидая, к тому же, очень многого от заканчиваемой им трудной и опасной работы.
Когда декан и даже ректор, ученый и суровый старик, просили дать ответ на лестное предложение университета, Карташев с улыбкой отвечал:
— Я затрудняюсь сказать: да или нет, так как даже не знаю, буду ли завтра жив! Ведь я работаю с крайне опасными веществами и не моту ни о чем другом, кроме моей работа, думать, чтобы не отвлекаться…
Потом у себя в пятом этаже, на Ring’e, они обыкновенно смеялись над глубокомысленными и растроганными лицами декана и ректора, ничего не смыслящих в химии, так как один читал метеорологию, а другой был знаменитым богословом, другом и вместе с тем ярым критиком Ренана
[16].
Был уже конец февраля, и студенты заканчивали свои работы. Опасная часть работы Карташева осталась позади, и он уже не так напряженно следил за ходом своего исследования, предвидя уже счастливое его окончание.
23-го февраля, в ненастный день, когда вместе с холодным, пронизывающим до костей дождем падал снег, сразу таявший на асфальте улиц и собирающийся лужами на панелях, в лабораторию к Карташеву вбежали Контский и Силин. Они были очень веселы и бросились обнимать приятеля, крича:
— Все сдали, и работу факультет принял!
Грузный, огромный Силин, неуклюже подпрыгивая, плясал и пел:
— Последний нонешний денечек гуляю с вами я, друзья…
Двое оставшихся в лаборатории студентов-немцев с недоумением смотрели на развеселившегося молодого доктора, а старый лабораторный служитель в длинном синем халате улыбался и одобрительно тряс головой.
Весело болтая, товарищи засиделись у Карташева.
— Вот! — сказал Силин, — пошли бы теперь вместе и пивца бы хватили, как следует; был бы ты тоже доктор, а то втемяшился тебе этот пигмент, и жди теперь апреля.
— Ничего! — защищал Карташева Контский. — Зато Мишка выйдет из университета с докторским дипломом и с немецкой медалью. Хоть в Schutzmann’ы
[17] сейчас!
Побеседовав и накурившись, Силин с Контским собрались уходить. В лаборатории никого уже не было, и только в отделении Карташева горел свет и, как всегда, шипело колеблющееся и рвущееся синим языком пламя газа.
Карташев провожал товарищей к выходу. На темной лестнице какая-то черная тень торопливо юркнула за одну из колонн.
— Вы видали? — спросил Карташев. — Может быть, мне показалось? Я видел, как что-то черное спряталось там!
— Видел и я, — почему-то шепотом ответил Силин. — Поглядеть надо!
Но не успели они подойти к колонне, как из-за нее вышел высокий человек. В темноте лица его не было видно, слышно было только его быстрое и шумное дыхание.
— Что вам надо? — спросил его по-немецки Контский. — Как вы сюда попали?
— Мне нужен студент, русский студент… Карташев…
Высокий человек с трудом произнес это слово и глухо закашлялся, хватаясь за грудь и хрипло переводя дыхание.
— Пойдемте в лабораторию, там переговорим! — предложил Карташев, догадавшись, кто был странный посетитель.
— Нет, нет! — заволновался тот и хотел бежать. — Там Флешер, я боюсь его! Он убьет меня! Теперь… убьет.
С трудом удалось его успокоить и убедить его, что профессор уже был и больше не придет.
Высокий человек недоверчиво, ступая на цыпочках и пугливо озираясь, вошел в лабораторию. Он закрыл глаза руками от света, поразившего его и, низко нагнув голову, долго сидел, неподвижный и высокий, бросая бесконечно-длинную, ломающуюся под потолком тень.
Приятели внимательно рассматривали его. Коричневый, сильно поношенный плащ со старомодной, измятой пелериной висел на нем широкими складками, скрывающими, очевидно, очень худощавую и угловатую фигуру. Когда незнакомец отнял руки от лица, всех поразила болезненная прозрачность и синеватая бледность кожи, сливающейся с бескровными, вздрагивающими губами. Длинная белокурая борода, в которой виднелись уже серебристые нити, и такие же волосы, густой, седеющей гривой падающие на плети, окаймляли грустное, больное лицо ночного гостя. Немного близорукие глаза, добрые и робкие, смотрели прямо, не моргая, как у замученного зверя.
Он молчал и ждал вопросов.
— Я о вас слышал! — начал Карташев. — Меня просила ожидать и переговорить с вами г-жа Флешер.
Высокий человек сразу встал и вытянул руку. Все заметили, что на правой руке у него не хватало четырех пальцев, а левая была обезображена и покалечена. Она вся была покрыла длинными, блестящими рубцами от ужасных ран и сведена в бесформенный кулак.
— Ни слова о ней! — зашептал он. — Бога ради, ни слова! Я не хочу быть обязанным этой женщине…
— Успокойтесь! — попросил его Карташев. — И расскажите все, что считаете нужным мне сказать.
Высокий человек долго стоял в нерешительности, растерянно оглядываясь, и усиленно тер высокий лоб ладонью правой руки.
— Простите мне! — шепнул он и вдруг, уронив голову на стол, зарыдал тяжело и громко. Его узкие плечи дергались под плащом, и беспомощно тряслась голова.
— Я так несчастен! — сказал он, успокоившись немного. — Я — бывший доцент… Отто Ян…
— Вот что! — вырвалось у Силина. — Я знаю много ваших работ!
С этими словаки он добродушно обнял его и участливо заглядывал в бледное лицо Яна. Все невольно притихли, когда он обвел их печальным взглядом.
— Мы — товарищи с Флешером. Долго работали вместе, пока он не украл у меня моей работы, еще неоконченной, но важной для промышленности. Он сумел продать ее выгодно… О! он очень ловкий человек, очень преступный человек, профессор Карл Флешер!
Ян вновь заволновался и, обдергивая на себе плащ, ходил от одной стены к другой, как-то странно подпрыгивая и покачиваясь на ходу.
— Когда я упрекнул его, он сознался в своем гнусном поступке! Эта готовность признать свою низость так свойственна Флешеру и так ярко подчеркивает ничтожество его души! Но Карлу Флешеру надо было получить все, над чем я работал и что могло создать мне имя и устроить всю мою жизнь. Всю жизнь… я ведь тогда любил Берту фон Шетц, и она, кажется, меня тогда любила…
Он вдруг умолк и прислушался, повернув голову в одну сторону и скосив глаза. Видно было, что этот человек может сейчас рвануться и побежать, пугливо слушая, как настигает его погоня. Где-то едва слышно скрипнула дверь, и легкий шорох донесся со стороны дальнего темного коридора.
— Флешер? — шепнул Ян.
— Нет! — успокаивал его Контский. — Он в это позднее время спит.
— Я думаю, — сказал, несколько ободряясь, Ян, — что Флешер проснется и долго не заснет сегодня. Он инстинктом преступника поймет, что его жертва вблизи…
Он прошелся несколько раз по лаборатории и затем, наклоняясь над сидящим Карташевым, начал говорить:
— Вы продолжаете работу, мою работу. Быть может, вы ее окончите и Флешер окончательно победит меня! Он сам не осмеливается делать эту работу. Он суеверен, как все преступники. Флешер думает, что судьба ему отомстит за меня, а потому дает эту тему своим самым способным ученикам. Турнера убило взрывом, Мюнцу оторвало губу и раздробило челюсти, Фигнер фон Гейнтце потерял глаз и руку… Теперь вы…
— Но что случилось с вами? — спросил Карташев. — Профессор Флешер намекал мне на какое-то печальное событие, но не сказал ничего определенного.
— Флешер просил у меня прощения, и мы продолжали нашу работу. Вернее, я продолжал… Я, конечно, был уже скрытен и самых важных подробностей исследования ему не сообщал, боясь вторичного обмана. Тогда он решил меня погубить…
Ян нагнулся в сторону слушателей и, разделяя слова, сказал:
— Он устроил искусственный взрыв. Это стоило мне обеим рук! Я долго хворал и был на краю могилы! На мою смерть рассчитывал Флешер…
Ян вдруг закричал и закрыл лицо руками. Крик его был так пронзителен и полон ужаса, что все вздрогнули и с беспокойством оглянулись.
В проходе, куда не доходил свет ламп, стоил профессор Флешер. Он был бледен, и лицо его подергивалось судорогой. Все поднялись. Отто Ян согнулся и казалось, что он сейчас побежит, но вдруг он выпрямился и тряхнул головой.
— Ты лжешь! — проворчал, подходя к столу, Флешер. — Господа, — обратился он к своим ученикам. — Этот человек — сумасшедший и все, о чем он говорит, бредовая фантазия.
Все молчали. Чуялась неправда в дрожащем голосе Флешера, а виноватая, трусливая улыбка не сходила с его бледного, покрытого потом лица. Ян опять тряхнул головой и вытянул свои обезображенные руки.
— Гляди, Карл Флешер! — сказал он, подходя к профессору. — Ты никогда еще не видал этих рук. Это — твоя работа, и не бред, не фантазия! Это — смерть моя, а убийца — ты, старый товарищ, Карл Флешер! Пусть эти иностранцы знают, пусть все поймут! Пусть они знают и то, что ты, когда я умирал, оклеветал меня пород Бертой; ты ее уверил, что я, желал украсть у тебя приготовленное тобой вещество, произвел взрыв. Ты говорил ей, со слезами в голосе, ты, убийца и лицемер, что меня за тебя покарал Бог!..
Флешер молчал, и только на лбу его появлялось все больше и больше капель пота.
Карташев сел за свой стол и перелистывал какую-то книгу. Силин и Контский стояли, прислонившись к стене, наблюдая за этой тяжелой сценой.
— Ты теперь не говоришь, Флешер, что я лгу? — с иронией спросил Ян. — И я знаю, почему. Потому, что ты вторично тогда убил меня! Ты отнял у меня сердце и уважение девушки… Ты украл у меня ее, как украл все, чем я жил! Я раз только мстил тебе. Ты знаешь то письмо к Берте фон Шетц? Я ей все объяснил и уверен, что она поняла, кому отдала она свою судьбу… Быть может, она теперь сделалась пошлой, низкой женщиной, — я не знаю! Но если она чиста, то ты должен чувствовать всегда ее презрение… Не уходи! Не уходи, Флешер!..
Ян бросился догонять Флешера, но тот быстро шел, не оглядываясь, и с шумом захлопнул за собой дверь лаборатории.
4
— Как же вы живете теперь, когда вы — калека? — спрашивал, ведя под руку Отто Яна, Силин, когда все они шли вместе по улице за глубоко задумавшимся Карташевым.
— Я даю уроки в городской школе и в одном семействе. Но теперь уже недолго! — сказал, грустно покачивая головой, Ян. — Я ведь морфинист. И это все чаще и чаще находит на меня. Я борюсь, как могу, но это трудно. Ведь нужно же человеку хоть на мгновение забыться, отвлечься от своих нерадостных мучительных мыслей?!
На площади они расстались с Яном.
— Я буду у вас скоро! — сказал ему на прощание Карташев. — Будьте спокойны! Я уже решил один вопрос.
Когда высокая фигура Яна исчезла за углом какого-то дома, Силин взял Карташева под руку и произнес:
— Ты что сделаешь, Миша?
— Я отдам часть моего вещества Яну. Пусть он его продаст и получить патент на свое имя. Мне не нужна его работа, его идея. Проживем как-нибудь и своими! А этого Флешера проучить следует и, если его удар не хватит, — здоров, значит!
И, обсуждая все подробности рассказа Яна, химики долго возмущались Флешером и решили, что в России таких не найти. Начались разговоры о Петербурге, и эти тоскливые, мучительные воспоминания, будящие тревогу и какую-то неудовлетворенность, отвлекли их мысли от печальной странички из истории старого университета и усилили желание вернуться к своим, более простым, бесхитростным людям.
А наутро Карташев уже был на своем месте. Пришел Флешер и спокойно, ни словом не обмолвившись о ночном происшествии, выслушал доклад студента, дал указания и начал обход лаборатории. Потом он вернулся к Карташеву и, заглянув ему в глаза, прошептал:
— Надеюсь на вашу скромность… и на ваших товарищей…
— Конечно, — ответил тот. — Это не касается нас, да и не подлежит разглашению.
— Да! Да! — подтвердил Флешер. — А ваше решение, herr Карташев?
— Профессор! Я могу вам обещать только одно: я не продам секрет приготовления альфа-пигмента…
— Да, да! — повторил печальным голосом Флешер. — Да… да… вы не продадите…
И, сгорбившись, он пошел в свой кабинет, подняв плечи и опустив голову.
Но Флешер не мог уйти. Через полчаса он вернулся и, вытирая потную шею, сел рядом с Карташевым. Он молчал долго и томительно. Встал, прошелся по лаборатории, опять сел и, понуря голову, спросил едва слышным шепотом:
— Вы поверили рассказу Отто Яна?
— Зачем вам это знать, господин профессор? — вопросом на вопрос ответил Карташев. — Мы уедем, и наше мнение для вас безразлично.
— Вы поверили Отто Яну? — повторил Флешер.
— Мы можем дать вам слово, что никто об этом никогда не узнает! — сказал студент.
— Вы поверили? — шепнул Флешер и встал.
— Да! — ответил, глядя ему прямо в глаза, Карташев.
Флешер долго ходил те отделении, где работал студент, тер себе лоб и так сильно сжимал руки, что пальцы трещали в суставах. Он растерянным и испуганным взглядом смотрел на Карташева и казался ему жалким и несчастным, потерявшим обычную самоуверенность и спокойствие. Постояв немного, он пошел к себе.
5
Через неделю Карташев с Силиным подымались по узкой и грязной лестнице старого дома в предместье. На покривившейся двери с отломанной ручкой была прибита гвоздками захватанная пальцами визитная карточка Отто Яна.
Товарищи постучали. Долго не было ответа, хотя ключ был вставлен в скважину. Долго ожидали товарищи, пока из-за двери не послышался слабый окрик:
— Войдите!
Карташев толкнул дверь, и они вошли. На измятой постели лежал Ян. Он был в расстегнутой на груди куртке и покрыт стеганым одеялом. Волосы его были спутаны и разметались по грязной, засаленной подушке и спускались длинными прядями на высокий лоб. Глаза Яна были широко раскрыты и смотрели спокойно и радостно. Губы его были сложены в неподвижную улыбку, безумную и напряженную.
— Мы к вам! — сказал Карташев. — Сейчас устроим дело.
— Оставьте меня! — слабо махнул в их сторону обезображенной рукой Ян. — Я болен и не могу разговаривать. Мне тяжело и стыдно. Не смотрите на меня и уходите, пожалуйста.
— Вы можете понять, что я скажу вам? — спросил Карташев, с печалью и тревогой смотря на шприц и флакон со светлой жидкостью, стоящий на стуле рядом с кроватью.
Ян чуть заметно кивнул головой и с утомлением опустился на подушку. Потом он с усилием открыл глаза и смотрел напряженным, странно пристальным взглядом.
— Я принес вам альфа-пигмент. Вы его отдадите в правительственное бюро патентов и получите на свое имя привилегию. Постарайтесь устроить свою жизнь получше! До свидания…
В глазах Яна мелькнуло изумление, когда он увидел запаянную в трубку, с тонко отогнутым кончиком, прозрачную, желтоватую жидкость. Больной сделал какое-то усилие, словно хотел подняться, сказать что-то, но тотчас же по лицу его пробежала судорога боли, и он схватился за шприц, тяжело и порывисто дыша.
Карташев с Силиным ушли. Силин пошел домой, а Карташев в лабораторию. Его ждал Флешер. Профессор был, видимо, встревожен и ходил широкими, быстрыми шагами.
— Вы окончили работу? — спросил он, торопливо подходя к Карташеву.
— Да! Вот оно, — ответил студент, открывая ключом шкаф. — 30 граммов абсолютно чистого вещества, г-н профессор! Если его охладить до нуля, выпадут огромные пластинчатые кристаллы.
— Тридцать граммов? — переспросил Флешер. — Вы должны были получить, herr Карташев, шестьдесят граммов вещества? Где остальная часть?
Карташев смутился, но, взглянув в злые, светящиеся ненавистью глаза Флешера и пожав плечами, он уже совсем свободно сказал:
— Я при чистке пролил часть пигмента, г-н профессор!
— Небрежность и неточность в работе у нас преследуется. Я доложу об этом факультету я, конечно, медаль вам не будет присуждена. Благодарите, если получите свой докторский диплом!
Карташев, немного помолчав, улыбнулся и, подойдя вплотную к Флешеру сказал:
— Начинается месть? Отлично!
— Что вы думаете делать? — невольно вырвался у Флешера трусливый вопрос.
Карташев рассмеялся и тотчас же ответил:
— Думаю получить медаль во что бы то ни стало!
Флешер не оставлял отделения Карташева. Он ходил вокруг его стола и с удивлением смотрел, как он устанавливал железный сосуд и прилаживал к нему холодильник.
— Вы начнете сначала готовить новую порцию пигмента? — недоумевающим голосом спросил его Флешер.
— Это мое право, г-н профессор, и я думаю им воспользоваться. До 12-го апреля я успею!
Флешер топнул ногой и ушел, громко стуча каблуками и что-то бормоча.
Вечером Силин и Контский нашли Карташева сидящим перед чугунным сосудом и с прежним сосредоточенным видом следящим за столбиком ртути в термометре. Карташев передал им разговор с Флешером.
— Да, его надо припугнуть! — решил Силин, ударяя кулаком по столу. — Тебе все равно не успеть закончить работу до крайнего срока! Ты изведешься!
— Ничего, успею! — успокаивал его Карташев. — Буду меньше спать, — вот и все. Не хочу объясняться с Флешером! Наварю ему 90 граммов альфа-пигмента, пусть подавится, на другое — ему он уже не пригодится!
В тот же день Карташев вернулся домой на заре. Немного соснув, он опять отправился в лабораторию, оставив дома записку, в которой просил товарищей не приходить к нему и не отвлекать его от работы.
Флешер заходил в лабораторию несколько раз и с злорадным любопытством смотрел на работающего студента. Карташеву были очень неприятны эти посещения. Ему казалось, что Флешер, как хищная птица, кружит над ним и готовится напасть на него. Но студент ничем не обнаруживал, что присутствие профессора раздражает и волнует его. Имея уже опыт по предыдущей работе, он очень быстро и успешно подвигался вперед и постепенно в нем росла и крепла надежда, что работа будет окончена гораздо раньше срока.
Череп несколько дней после начала работы Карташев, утомленный нервным напряжением, бессонными ночами и упорным трудом, принес домой запаянную трубку с оставшейся у него половиной альфа-пигмента. Он передал ее товарищам и сказал:
— Спрячьте получше! Боюсь я что-то сегодня, не украл бы у меня трубку Флешер.
— Это очень возможно! — согласился Силин. — Флешер — человек современный и на темные дела большой, видно, мастер. А ты бы, Миша, выспался? Нельзя так работать! Гляди, сколько дней ты спишь по два часа…
— Нельзя иначе! — возразил, тяжело вздыхая, Карташев. — Ночью не приходит Флешер и мне спокойнее и легче работать. Дня через три я закончу опасную часть работы и тогда отдохну. Дальше все пойдет гораздо проще и скорее!
С этими словами он встал из-за стола и ушел в университет. Когда Карташев вошел в лабораторию, в дверях он столкнулся с выходящим Флешером. Профессор шел быстро и казался растерянным и смущенным. Не ответив на приветствие студента, он быстро стал подниматься по лестнице, ведущей к его квартире. Карташев улыбнулся. Ему показалось, что он догадался. Флешер искал трубку с полученным им веществом и, не найдя его, уходил злой и потерявший последнюю надежду.
Студент осмотрел сосуд, холодильник и трубки, идущие от водопровода, и зажег газовую горелку под треножником. Ртуть в термометре долго не двигалась с места, но наконец она медленно, неровными скачками, стала подниматься, а в то же время в холодильнике стали всплывать тяжелые желтые капли и затвердевать в длинные, сразу же плавящиеся кристаллы.
Когда температура в железном сосуде дошла до 170 градусов, Карташев уменьшил газовое пламя, и оно казалось чуть заметным язычком. В это время, совершенно неожиданно, из холодильника вырвался столб дыма. Он тотчас же вспыхнул ярким синим огнем, и вслед за этим громкий взрыв оглушил Карташева, прикладывавшего к сосуду тряпки со льдом, обдал его огненным удушливым паром и отшвырнул к стене…
Только утром прибежавший лабораторный служитель сообщил Силину и Контскому о взрыве у Карташева.
Раненого уже отвезли в больницу. Товарищей к нему не допустили, но сказали, что Карташев получил сильное сотрясение мозга и, только по счастливой случайности, не был искалечен осколками взорвавшегося сосуда. Легкие царапины и незначительные ожоги на лице и руках не представляли опасности, но жар и бред доказывали, что положение больного очень серьезно.
Более недели боролся Карташев со смертью, и только 5-го апреля к нему вернулось сознание.
От тотчас же потребовал к себе друзой и, с трудом шевеля губами, рассказал им о взрыве, особенно огорчаясь тем, что ему не удалось довести свое исследование до конца.
— А медаль ты все-таки получишь! — сказать Силин. — Мы с Контским уже надумали.
Они наклонились над больным и рассказали ему свой план. Карташев внимательно слушал и кивал головой.
— Ну, с Богом, идите! — шепнул он, протягивая им бледную, исхудавшую руку.
Силин и Контский отправились прямо к Флешеру. Он был дома и тотчас же принял их.
— Как здоровье вашего друга? — спросил он, стараясь казаться спокойным.
— Он поправляется, г-н профессор! — сказал Силин. — Теперь же мы пришли сделать вам одно вполне категорическое заявление. 12-го апреля состоится присуждение университетских медалей и премий за лучшие докторские работы. Конечно, вы знаете, что наш товарищ, Карташев, сделал интереснейшую и очень опасную работу, при которой погибли четверо.
— Трое… — пробормотал Флешер.
— Четверо! — повторил Силин. — И если наш товарищ не получит медаль благодаря вашей придирчивости, то университетский совет узнает все обстоятельства гибели первого из предшественников Карташева, бывшего доцента Отто Яна…
— Господа… — начал было Флешер, но Контский, хмуря густые брови, прервал ею и сказал:
— Мы все изложили, что нам было поведано! Описание работы и часть вещества, полученного Карташевым, сегодня представлены совету. Теперь мы будем ждать акта. Позвольте пожелать вам, г. профессор, счастливого выхода из очень запутанного положения!
6
На акте Карташев не был. Он еще с большим трудом передвигался по больничной палате и скоро утомлялся.
Ректор прочитал длинный отзыв комиссии о работе молодого русского ученого, которому суждено занять место в науке. По решению факультета, Карташеву присуждалась большая золотая медаль и премия имени Варентраппа.
Флешер, молчаливый и бледный, сидел неподвижно и не смотрел на русских, также волнующихся и возбужденных.
Когда они уходили, он быстро поднялся и подошел к ним.
— Скажите доктору Карташеву, что он должен сдержать слово! — с казал он дрожащим голосом.
— Вы о чем говорите, г. профессор? — спросили сто молодые доктора.
— Он не должен продавать секрет получения альфа-пигмента! Я слишком дорого заплатил за него! — страстным шепотом произнес Флешер.
— Положим, что и нашему товарищу недешево обошлось решение заданной ему вами задачи! — возразил, пожав плечами, Силин, — но он все-таки не продаст секрет. Пользуйтесь им вы, если можете.
С этими словами они оставили Флешера.
На лестнице их нагнал Отто Ян. Он не был так бледен, как всегда, был хорошо одет и радостно улыбался, отчего лицо его приобрело незнакомое, чуждое выражение.
— Скажите Карташеву, что я спасен! — почти кричал он. — Я уже продал альфа-пигмент и получил задаток! Пять тысяч марок! Пять тысяч марок! Скажите, что Карташев будет моим компаньоном… Я очень прошу!..
Силин остановился, долго смотрел на чуждое ему теперь, заискивающее и нелепо-радостное лицо Яна и насмешливым голосом, в котором, однако, звучали горькие ноты, сказал по-русски:
— Изыдите вы, торгующие наукой! Изыдите из храма науки, вы, сребролюбцы и убийцы!
С этими словами он отвернулся от Отто Яна и погрозил кулаком в пространство.
ДУЭЛЬ СТАРЦЕВА
(Из жизни русских студентов)
I
В физической лаборатории Сорбонны было тихо, как в церкви. Почтенный Бути, прозванный «воспитателем королевских сыновей», обходил студентов. Высокий, строгий старик в безукоризненном черном сюртуке и неизменных черных лайковых перчатках подходил к работающим студентам и расспрашивал о ходе опытов и исследований. Гладко выбритое лицо профессора с щеткой седых волос над высоким лбом и холодные, серые глаза были бесстрастны. Никогда польза было угадать, доволен ли он результатами работы или сердится. Он уходил так же спокойно и величественно, как и приходил, оставляя после себя смутное впечатление недосягаемости и какого-то величия.
В присутствии профессора умолкал всегда нервный, увлекающийся Ледюк и только тогда возвращался в «первобытное состояние», когда шаги «воспитателя королевских сыновей» затихали в конце галереи Дюма.
По мере того, как прояснялось лицо добрейшего Ледюка, в лаборатории становилось шумнее и веселее. Какой-то красавец-марселец принял развязную позу, встал в проходе между столами и запел, приплясывая, веселую фривольную шансонетку, последнюю новинку «Chat noir»
[18].
Из дальнего угла совершенно неожиданно глубокий, могучий баритон подтянул ему и тотчас же покрыл маленький тенорок француза, стыдливо умолкшего.
Но баритон сразу оборвал песню и вдруг пропел другое, чуждое для слуха присутствующих.
Это были привольно-безнадежные слова Лермонтовского «Демона»:
На воздушном океане
Без руля и без ветрил
Тихо движутся в тумане
Хоры стройные светил…
[19]
Оглушительные аплодисменты были наградой певцу. Он вышел раскланиваться.
Это был широкоплечий юноша, лет двадцати двух-трех, с густыми русыми волосами и проницательными и веселыми глазами. Одет он был в длинный, серый халат, из выреза которого выглядывал белый крахмальный воротничок и большой черный бант.
Поклонившись, он уходил на свое место, улыбаясь приветливо кивающему ему головой Ледюку, но его остановила молодая девушка в таком же сером рабочем халате. Огромный узел великолепных светло-русых волос едва умещался на ее затылке и тяжело опускался на стройную шею.
Девушка протянула певцу две красные гвоздики, а он, взяв цветы, сказал по-русски:
— Ну, теперь держитесь, Вера Михайловна. Проходу нам не дадут с вами: засмеют зубоскалы здешние…
— Ничего! — улыбнулась она. — И так дразнят. Да ничего — выдержим как-нибудь, Николай Львович!..
Все разошлись по своим местам, и работа пошла обычным чередом.
Уже начало смеркаться, когда из дальней комнаты лаборатории пришла к ним Вера Михайловна. Она были одета в темное суконное пальто английского покроя и в широкополую серую шляпу, украшенную спереди огромным цветком эдельвейса. Девушка натягивала перчатку на левую руку и, кивнув обоим товарищам головой, проговорила:
— А бы засиделись сегодня? А то бы пошли вместе к Дювалю на Буль-Миш?
— Надо для «воспитателя королевских сыновей» одно определение сделать, — ответил барон, надевая пенсне. — А вы все-таки, Вера Михайловна, не забудьте, что у меня сегодня журфикс…
— «Все-таки» я не забуду! — засмеялась девушка. — Вы, Николай Львович, будете?
— Барон пригласил меня, и я приду после заседания в клубе, — ответил Старцев. — У нас сегодня в славянском клубе первое собрание под моим председательством.
— Monsieur le president… — сказала она насмешливым тоном и присела, как школьница. — А петь, г-н председатель, будете?
— Если общество пожелает… если вы прикажете, — поправился он, улыбаясь и идя вслед за ней.
Когда девушка ушла, барон Раух опять вздохнул и, сняв пенсне, закатил глаза.
— Если бы у меня была уверенность, что Вера Михайловна… — начал он.
Ему не дали докончить крик и быстрые шаги бегущего студента.
— Товарищ Старцев! Раух! — кричал, вбегая в лабораторию, маленький, юркий хохол Педашенко. — Бегите на выручку! Немцы затевают скандал, их очень много, а нас двое, причем с нами Вера Михайловна и еще студентки. Мы…
Но Старцев уже не слушал. Он торопливо сбрасывал халат, который трещал при каждом его движении. Стянув его и на ходу уже надев пиджак, Старцев, не ожидая товарищей, побежал к выходу. На площади, перед храмом Сорбонны, стояла группа людей. Старцев сразу заметил Веру Михайловну. Она стояла, опустив голову, а какой-то грузный, краснощекий студент, наклоняясь к ней, старался заглянуть в лицо. Человек пять других заграждали доступ русскому студенту, который обращался за помощью к толпе, собравшейся на тротуаре, но из любопытных никто не желал вмешиваться и, пожимая плечами, они ухмылялись, следя за происходящим. Две девушки стояли рядом с Верой Михайловной и не уходили, так как студент, при первом же шаге, хватал их за руки, стараясь удержать.
Старцев быстро шел в сторону этой группы. Его не заметили, так как он обошел площадь и сразу очутился рядом с Верой Михайлов ной и ее подругами.
— Идемте, сударыни! — сказал он по-французски, и они пошли.
Краснощекий студент опешил и громко выругался по-немецки.
Старцев сразу повернулся и, подойдя к студенту, сказал ему холодным, звенящим голосом:
— Слушайте, коллега! Мы, русские, знаем европейские языки, но мы не привыкли, чтобы при наших женщинах так называемые интеллигентные люди произносили ругательства.
— Что это такое? — крикнул немец, сжимая кулаки.
— Ничего особенного. Только то, что вы должны извиниться перед дамами и немедленно для собственного вашего блага убраться отсюда, куда вам будет угодно!
— Я не желаю извиняться… — опять закричал немец и подошел вплотную к Старцеву.
— В таком случае, — сказал мрачным голосом Старцев, — mesdames, я вас очень прошу на минуту отвернуться.
С этими словами студент коротким, но сильным толчком в грудь немца отбросил его от себя, и тотчас же два быстрых, ловких удара по шляпе и затылку свалили противника с ног. Подоспевшие Педашенко и Раух с оставшимися студентами вступили в схватку с немцами.
Бежали, размахивая белыми палочками, всевидящие полисмены, и вскоре вся компания, кроме девушек, очутилась у комиссара.
При выходе к Старцеву подошел побитый им студент и протянул согнутую пополам визитную карточку.
— Я — Бильдер, Вилли Бильдер из Потсдама, вызываю вас на дуэль. Сабли… Три дня срока… Мой адрес ваши секунданты найдут на моей карточке.
Он приподнял шляпу и ушел с независимым видом, громко насвистывая бравурный марш.
Стар отправился в славянский клуб.
II
Собрание было многолюдное. Толпа студентов разных славянских народностей возбужденно обсуждала выступление немецких товарищей на лекциях в различных учебных заведениях Парижа. Об этом Старцев ничего не знал, но понял, что нападение Бильдера на русских студенток имело несомненную связь с общей тактикой немногочисленных, но сильно сплоченных немецких корпораций.
Секретарь клуба, всегда молчаливый и угрюмый чех Иосиф Мртичка, взял Старцева под руку и увел его в соседнюю комнату, где рассказал ему, что сегодня во многих аудиториях совершенно неожиданно поднялись немцы и предложили французам изгнать некультурных славян. Когда французские студенты на это предложение ответили свистом и возмущенными криками, немцы демонстративно покинули аудитории.
— Вероятно, — говорил Мртичка, — нашему клубу придется иметь с немцами горячее дело. Они будут вызывать нас на резкие выступления, станут попросту провоцировать, и нас парижская полиция, не любящая шума среди иностранцев, без всяких церемоний закроет.
В общей зале, Старцеву с трудом удалось несколько успокоить собравшихся студентов и рассказать о происшествии на площади перед храмом Сорбонны и о вызове Бильдера.
После заседания, Старцев обратился к присутствующим с такой речью:
— Товарищи! Вам, вероятно, известно, что я человек миролюбивый и никаким смертоносным оружием не владею. Вот почему мне кажется, что если во время дуэли Бильдера не свалит молния или апоплексический удар, мне придется подвергнуться основательному кровоиспусканию. Теперь другой вопрос: кто желает быть моими секундантами? Где-то я читал, что полагается иметь двух свидетелей, которые могли бы потом рассказать, как тебя по всем правилам избили.
Среди воцарившегося молчания, к Старцеву подошел усатый, расфранченный, как модная картинка, поляк Рулицкий и сказал:
— Я к вашим услугам, товарищ, так как эти дела мне знакомы!
При этих словах он любезным движением указал на длинный шрам, идущий от виска до подбородка, и продолжал:
— Я вижу, что среди здешних товарищей специалистов по дуэли немного, поэтому я позволю себе пригласить в качестве другого вашего секунданта французского капитана Патино, большого мастера, забияку и весельчака. Он же вас хоть немного потренирует…
Условившись с Рулицким относительно встречи его и Патино с секундантами Бильдера, Старцев просил его зайти к нему в квартиру барона Рауха.
Когда Старцев ехал к товарищу, на сердце у него был неприятный, щекочущий холодок, но какое-то радостное чувство, усиливающееся по мере приближения к дому, где жил барон Раух, заглушило эту щемящую, тоскливую боль.
III
В передней студент с удовольствием заметил широкополую серую шляпу с эдельвейсом и весело улыбнулся.
Все общество находилось в первой комнате,
служившей и гостиной, и кабинетом.
На диване сидели дамы, а по всем стульям, на подоконнике и просто на полу разместились студенты.
Перед диваном, поставив перед собой низенькую скамеечку, молодой скульптор Бржега лепил из глины головку пианистки Таньевой. Это была совсем юная девушка, только что окончившая консерваторию. Ее бледное, с детски мягкими линиями, прекрасное, как у ангела, лицо с огромными невинными глазами вдохновляло уже многих художников.
Старцев искал глазами Веру Михайловну. Ее в комнате не было. Отсутствовал и Раух.
Николай Львович обеспокоился и, извиняясь, начал протискиваться в сторону балкона.
Дверь была открыта и здесь Старцев нашел Веру Михайловну и хозяина. Раух стоял, опершись спиной о решетку балкона и теребя листья лаврового дерева, растущего в кадке. Он казался смущенным, и его близорукие глаза блестели.
Девушка нетерпеливо морщила брови, хотя старалась казаться спокойной. Увидев Старцева, она быстро встала и подошла к нему.
— Наконец-то вы! — вспыхнула она. — Я страшно тревожилась за вас, а милый барон очень плохо развлекал меня, настраивая на еще более грустный лад.
— Как так? — спросил Раух.
— Ну, да вы мне твердили о вашей любви и о серьезном намерении лишить меня свободы, — засмеялась она и повернулась к Старцеву: — Как дела? Что за нелепость эта дуэль? Конечно, вы не обратили никакого внимания на вызов этого Бильдера?
— Обратить не обратил, а секундантов послал! — засмеялся Старцев. — Да я еще поспорю с ним! Меня будет обучать какой-то знаменитый капитан Патино.
Раух грустно смотрел на Веру Михайловну и молчал.
Это заметил Старцев и сказал:
— Пойдемте в комнату — я спою! А то мы незаметно для самих себя впадаем в грустный тон. А собственно говоря — нечего, потому что не отрубит же немец Бильдер мне голову и не перережет меня пополам?
Таньева уселась за пианино, и Старцев начал петь.
Уже заря начала заниматься над Собором Богоматери, и на прозрачном небе, как кружево, чернелись Saint-Chapelle и башня Св. Якова, когда пришел Рулицкий. За ним вошел маленький и круглый, как шар, Патино.
Они увели Старцева в столовую и сообщили ему об условиях поединка. Противники должны были встретиться через три дня в парке военной школы.
— Не скрою от вас, — заметил, шевеля нафабренными усиками, Патино, — что Бильдер — противник серьезный. Мы навели справки в соседних манежах и узнали, что немец считается чемпионом боя на саблях. Вы хоть как-нибудь деретесь?
— Нет, капитан! — улыбнулся Старцев. — Совсем не умею. Поучите — очень буду благодарен!
Патино пригласил Николая Львовича к себе на завтра утром, и оба они с Рулицким, молчаливые и полные таинственности, улетучились.
Уже совсем рассвело, когда гости покинули Рауха.
Старцев возвращался домой один. Барон и Педашенко провожали Веру Михайловну, к ним присоединились и Бржега с Таньевой.
Николай Львович жил в переулке Monsieur le Prince. Перейдя Сену у Лувра, он пошел вверх по du Вас. На углу какой-то улицы внезапно открылась дверь подъезда, и довольно потертый субъект в широкополой, измятой шляпе быстро вышел, почти толкнув Старцева.
— Улица Вожирар, 13, — сказал незнакомец, идя за студентом.
Старцев оглянулся, но тот, расправляя поля шляпы, быстро прошел мимо и свернул в узкий тупик дома Касини.
IV
В комнате у Патино на низкой софе лежали несколько человек. По их разговорам и манерам можно было догадаться, что это военные.
— Я знаю этого Бильдера, — говорил один из сидящих на софе, — он отлично дерется. Горяч только, и потому иногда разбрасывается, но вообще, он — опасен…
Он хотел еще что-то прибавить, но в это время открылась дверь, и в комнату вошел Старцев.
Познакомившись со всеми, он вопросительно взглянул на Патино. Капитан любезно улыбнулся и сказал:
— Разденьтесь, monsieur Старцев! Нам надо посмотреть, как можно вас использовать и как вас учить.
Немного конфузясь, Старцев скинул пиджак и жилет и остался в одной рубашке.
— И это, пожалуйста! — попросил Патино.
Николай Львович снял рубашку и повернулся к офицерам.
Широкая и высокая грудь студента, отчетливо обрисовывающиеся мускулы и могучая спина произвели впечатление.
— Атлет скорее, чем фехтовальщик! — заметил кто-то.
— Будем обучать приемам на силу, — сказал Патино и подал Старцеву шлем, нагрудник и рукавицу.
— Выберите по руке эспадрон! — скомандовал капитан. — А ты, Бужеро, в круг!
Старцев начал фехтовать с Бужеро. Часа через три он шел к себе с ноющими руками и порядочными синяками на плечах и ногах.
После обеда урок повторился и длился до поздней ночи.
У добродушного Патино Старцев поужинал и, когда уходил, то капитан сказал:
— Ну, завтра последний день обучения! Конечно, у вас шансов мало, но… все бывает. Если вы побьете немца, черт возьми! я буду страшно хохотать, страшно… Нет! лучше я перестану быть атеистом и буду считать вашу победу карой Провидения за Седан.
С бульвара Haussman’a, где жил Патино, Николаю Львовичу пришлось опять идти по улице du Вас. И опять из того же дома стремительно вышел тот же субъект и, быстро обгоняя Старцева, сказал хриплым, но настойчивым голосом:
— Улица Вожирар, 13…
— Послушайте! К кому вы обращаетесь?! — спросил студент.
Но тот даже не оглянулся и быстро прошел вперед.
Дома Старцев нашел записку от Веры Михайловны:
«Приходите завтра после урока у Патино, — писала она. — Я очень боюсь за вас и хочу перекрестить вас перед дуэлью».
Письмо это обрадовало и тронуло его.
Он решил на другой вечер зайти к Вере Михайловне.
Следующий день прошел в упражнениях, и Старцев не уходил от капитана.
Когда уже стемнело, Патино подошел к студенту, хлопнул его по плечу и сказал, кисло улыбаясь:
— Мой друг, мы сделали все, что от нас зависело; однако, я не нахожу, чтобы у вас были особенные способности к физическим упражнениям вообще, а к фехтованию в частности. Вы, зато, обладаете одним несомненным достоинством: вы очень сильны, а потому вот вам мой совет. Как только скрестите сабли, дуйте Бильдера с плеча, колотите его, рубите, машите саблей, как дубиной — ничего! Пусть защищается, а вы бейте и не давайте ему опомниться и перейти в нападение. А теперь, мой друг, до завтра! В 6 часов утра мы заедем за вами…
Выйдя от Патино с невеселыми мыслями, Старцев побрел к себе, так как перед посещением Веры Михайловны ему нужно было переодеться.
— Улица Вожирар, 13… — услышал он знакомый голос.
— Слушайте, сударь! — крикнул Старцев. — Мне это надоело, наконец! Кому вы указываете этот адрес, и кто там живет?
— Улица Вожирар, 13… — тем же грубым и невозмутимым голосом произнес субъект и юркнул в какую-то пивную.
Старцев постоял, подумал, а потом сразу решил идти. Он взглянул на часы. Был десятый час. Николай Львович заторопился и, подозвав фиакр, поехал.
V
Тринадцатый номер по улице Вожирар оказался рядом с католическим университетом. Огромный, тяжелый дом старой архитектуры был весь в надстройках. Узкий проход вел во двор, откуда подымались лестницы. Двор был слабо освещен светом, падающим из окон нижнего этажа, и Старцев не знал, куда ему идти. У одной двери, ведущей на лестницу, он заметил белую дощечку и какую-то надпись. Он подошел и с трудом прочитал:
— Maître des armes!..
— Учитель фехтования!..
Старцев даже вскрикнул, — таким странным было это случайное совпадение. Да в было ли оно случайным?
Николай Львович не успел ответить на этот вопрос, так как на лестнице хлопнула дверь, какая-то женщина вышла на площадку и, заметив Старцева, сказала:
— Пожалуйте сюда! Вас ждут.
Он попал в сплошную темноту. Он громко шаркал ногами, нащупывая пол и боясь оступиться, пока наконец в глубине длинного коридора не мелькнул свет.
Женщина открыла дверь, и студент из темноты попал в ярко освещенную комнату. Сводчатая, с низким нависшим потолком и узкими, ушедшими в толстые стены окнами, она была увешана оружием.
Кривые турецкие сабли, старинные мечи, палаши, шпаги разных образцов, рапиры и эспадроны, бердыши, копья, секиры и алебарды, даже утыканные шипами палицы покрывали все стены и стояли в углах.
Старцев не заметил, как откуда-то к нему вышел очень высокий человек, почти гигант. Он был совсем седой, и его белые волосы красиво падали на кожаную куртку, протканную на груди стальной проволокой. Кожаные панталоны и высокие желтые сапоги дополняли костюм старика, не спускавшего горящего взгляда с посетителя.
— Отлично! — сказал он. — Я знаю все. Дайте руку!
В голосе его звучало приказание и, повинуясь ему, студент протянул руку. Старик нагнулся и начал внимательно изучать линии складок на ладони Николая Львовича.
— Отлично! — повторил он. — Долгая жизнь… У вас завтра дуэль с Бильдером?
Не дожидаясь ответа, старик продолжал:
— Я хочу научить вас двум ударам! Они уложат Вилли Бильдера… они уложат его!
Он снял со стены два прямых палаша и поглядел на их лезвия. Один из них он протянул Старцеву.
— Это настоящие боевые сабли. Вы видите? Я хочу доказать, что я — мастер своего дела и могу быть вам полезным. Рубите меня!
Старцев ударил. Тот принял удар и крикнул:
— Сильнее!
Удары сыпались чаще и энергичнее; наконец, видя, что старик с непостижимой уверенностью парирует каждый удар, Николай Львович размахнулся и ударил со всей силы. Лишь только его клинок коснулся палаша учителя, оружие дрогнуло в руке Старцева, кисть повернулась так, что могла сломаться, а сабля со звоном и дребезжанием отлетела в сторону.
— Это один удар! — крикнул старик. — А второй уже смертельный.
Он показал студенту этот удар, быстрый и неуловимый, как молния, и бесшумный, как прыжок хищного зверя. Он всякий раз приходился около сонной артерии и был неотразим.
Николай Львович так увлекся упражнением в этих двух ударах, что, только когда пробило полночь, он спохватился и стал прощаться.
— Чем я могу отблагодарить вас? — спросил он старика.
— Мне ничего не надо, кроме вашей победы! — ответил тот. — Или, впрочем… Впрочем, зайдите сюда до субботы и спросите Мариетту Греко. Она передаст вам письмо, а вы исполните мою просьбу, которую я изложу в нем. Будьте завтра спокойны и не торопитесь. Никто не устоит перед этими ударами.
Старик проводил студента до двери и вывел на лестницу.
Не переодеваясь, он поехал к Вере Михайловне. Она ждала его и беспокоилась.
— Я вас очень, очень прошу — откажитесь от дуэли!
Говоря это, она сложила руки на груди и смотрела на него глазами, полными слез.
— Теперь уже поздно! — ответил он.
— Значит, вы меня не… — грустно произнесла девушка.
Старцев вспыхнул и, взяв ее руку, долго держал в своих, а затем поцеловал и сказал:
— Не бойтесь за меня! Мне ничто не угрожает…
Вера Михайловна тяжело вздохнула. Они не возвращались больше к вопросу о поединке и говорили о посторонних вещах, словно ничего особенного не произошло.
Затем Старцев стал прощаться.
— Господь с вами! — сказала девушка и трижды перекрестила студента, крепко прижимая свои пальцы к его лбу и груди. — Господь с вами!..
Столько тепла, любви и тревоги за него было в голосе девушки, что Старцев, не отдавая себе отчета, привлек ее к себе и целовал ее глаза, губы и густые, душистые волосы.
Уже алело небо, когда они расстались. Вера Михайловна стояла у окна и крестила Старцева, пока он, махнув ей шляпой, не свернул в боковую улицу.
Тогда она встала на колени и, глядя на вспыхнувшее небо и мчащиеся по нему облака, горячо шептала почти забытые, простые и трогательные слова молитвы.
VI
Едва Старцев успел вымыться и переодеться, явился Рулицкий.
Он был сосредоточен и необыкновенно мочалив.
— Мне очень тяжело, что придется быть свидетелем поражения славянина немцем! — сказал он, когда они уже мчались в моторе к месту дуэли.
Патино только пожал плечами и поднял брови.
— Быть может, и не побьет меня Бильдер, — произнес веселым и задорным голосом Старцев. — Знаете, я намерен его победить!
Секунданты переглянулись, а глаза Патино, казалось, говорили:
— Перед дуэлью, со страха это бывает. Заговариваются люди…
Всю дорогу они молчали.
На полянке их уже ждали противники и врач.
Бильдер в сером спортсменском костюме и белой шляпе громко хохотал и проделывал разные акробатичные штуки. Двое таких же, как он, краснощеких и толстошеих студентов были его секундантами. Молодой, тщедушный доктор в стороне раскладывал свой саквояж, доставая из него бинты, вату и разные склянки.
После первых приветствий Патино сказал:
— Еще рано… Однако, я думаю, мы можем начать?..
Противники сбросили куртки и рубашки и остались обнаженными до пояса.
Старцев был совершенно спокоен, чем вызвал неподдельное к себе уважение Патино.
— Он или совсем дурак, или храбр, как лев! — шептал он Рулицкому, вытягивая вперед руку с эспадроном.
— Начинать! — скомандовал он и тотчас же отскочил в сторону.
С сухим, длительным лязгом ударились клинки. Бильдер наступал. Удары делались быстрее и короче. Патино даже зажмурился, боясь увидеть падение Старцева. В душе капитан ругал студента:
— Ведь сказано ему: нападай сам, маши саблей, но нападай! А теперь…
И Патино, открыв глаза, увидел спокойное лицо отбивающегося Старцева. Он уверенно принимал удар за ударом. Раз только конец сабли немца коснулся готовы Старцева, и тонкая струйка крови тотчас же побежала за ухом и начала стекать на плечо крупными, тяжелыми каплями.
И вдруг случилось что-то непонятное, о чем два года толковал потом весь военный Париж.
Старцев немного присел, и в тот же момент сабля Бильдера описала в воздухе какой-то зигзаг. Видно было, что еще немного, и оружие было бы выбито из рук немца. Старцев тем временем повторял удары. Он быстро перешел в наступление, но длилось оно всего одно мгновение, так как вслед за этим клинок его сабли мелькнул около глаз Бильдера, и немец, пронзительно крикнув, упал лицом вниз.
Когда его подняли, то увидели, что шея его у правой ключицы глубоко разрублена, а голова была притянута к левому плечу.
Хирург долго копался с перевязкой и с приведением раненого в чувство.
— Я не ошибусь, — сказал врач, — если скажу, что этот господин прохворает долго и останется калекой. У него рассечены все шейные мышцы…
VII
О своем таинственном учителе Старцев никому, кроме Веры Михайловны, не сказал. В то же утро — вместе с нею — он поехал на улицу Вожирар и очень удивился, не заметив дощечки учителя фехтования.
Он разыскал Мариетту Грено, оказавшуюся старухой-прачкой, жившей в подвале.
— Это вам оставил у меня письмо господин Саньер? Вот оно там, на окне — возьмите! — говорила она, но переставая тереть щеткой мокнувшее в чане белье. — Саньер уехал сегодня на заре. И вещи увез. Да у него, впрочем, кроме оружия ничего не было! Будьте здоровы, сударыня и сударь!
На улице они прочли письмо. Старик писал:
«Вы были добры, обещав исполнить мою просьбу. На кладбище Монпарнас, в аллее № 8, похоронена моя дочь, Генриетта. Она покончила с собой. Ей ничего не оставалось делать, так как ее погубил Бильдер. Я за ним следил зорко… Остальное вам понятно! Просьба — снесите в субботу на могилу моей несчастной малютки букет. Это годовщина ее смерти».
В субботу Вера Михайловна и Старцев украшали скромный мраморный памятник Генриетты Саньер белыми розами и нежными, душистыми мимозами.
Хотя они оба находились на кладбище и притом у могилы 8-й аллеи, где хоронят только самоубийц, — грусть не коснулась их. В глазах студента и девушки ярко горела любовь, и была в них острая, могучая жажда жизни.
БУШИДО
Авториз. пер. Е. Э. фон Витторф
Я жил уже несколько дней в отеле «Station» и изнывал от скуки. Июльские жары в Токио невыносимы, и общественная жизнь совершенно замирает, потому что иностранная колония спасается из этого царства раскаленного камня и асфальта в Камакиру, Иокагаму, Никко или даже дальше к озерам, расположенным вокруг Фузи.
Вскоре, однако, однако я нашел себе развлечение. В ресторанном зале, охлаждаемом бешено вертящимися вентиляторами и укрытом от палящего солнца, или в тихом баре отеля я встречал обаятельную пару.
Она — японская мусмэ, элегантно одетая, изящная в каждом движении и очаровательная сочетанием черных, как смоль, волос, свежего белоснежного цвета кожи, алых губ и блестящих карих глаз.
Он — высокий, гибкий, породистый русский лет тридцати, в белом фланелевом костюме, с головой, гордо сидящей на широких плечах.
Они говорили по-французски, а когда их взгляды встречались, густой румянец заливал их щеки, и теплое сияние загоралось в зрачках.
Во всей их манере себя держать и в каждом слове и движении сквозила взаимная любовь и торжествующая влюбленность.
С радостью останавливались глаза всех на этой красивой паре. Даже ресторанные лакеи, швейцар и служанки, покачиваясь на своих кривоватых ножках, встречали их приветливой и счастливой улыбкой.
Я часто их видел, когда они вместе выходили из театра, ресторана, музея, находил их, когда они сидели в парке Хибиа или заходили в Уено (большой парк в Токио со статуей Будды и могилами рыцарей). Они были всегда веселы, счастливы и, взявшись рука за руку, вели бесконечные разговоры.
Видеть их каждый день стало для меня просто потребностью. Если мне не удавалось встретить их в зале ресторана, я шел искать их в парк или на Гинза. Они были мне нужны, как солнце, как воздух, были самым лучшим лекарством от моей тоски.
И вдруг все исчезло.
Раз вечером незнакомец появился у своего столика без мусмэ.
Глубоко огорченный, сидел он, погрузившись в свои думы. Курил папиросу за папиросой и, едва закурив ее, бросал в пепельницу. Я пристально смотрел на него, следя за игрой его лица и беспокойными, полными раздражения движениями.
«Что случилось с мусмэ, свежей, как цвет вишни? — задавал я себе вопрос. — Неужели улетучились чары вашей любви?»
В эту минуту незнакомец окинул меня быстрым взглядом, встал и подошел к моему столику. Прерывающимся, нетвердым голосом он сказал:
— Всегда я видел вас здесь и в других местах… Мы почти знакомы… Меня зовут князь Петр Ганин…
Я назвал себя. Он сел рядом со мной и, с внезапной и стеснительной, но такой обыкновенной у русских откровенностью, начал свой рассказ:
— Больше жизни любил я Иоко Витони, о, и она меня любила! Ее родители радовались на наше счастье. Через неделю должна была быть наша свадьба. Два месяца я был так счастлив, как только может быть счастлив человек! И вдруг, как гром с ясного неба, такое несчастье!
Он умолк, а в его голосе слышались сдержанные слезы.
— Что же случилось? — спросил я.
— Вчера мы шли по улице Гинза, и Иоко неожиданно задала мне вопрос: «Где ты был во время войны России с Японией?» Ответил, что был на войне. «Сражался?» — спросила она. — Да! Сражался и за потопление японского миноносца получил крест Георгия Победоносца за храбрость. «Вот как!» — протянула она и, побледнев, прижала руки к груди. Я начал ее успокаивать; не помню уж, что говорил, но она молчала и шла рядом, бледная, потрясенная. На все мои вопросы она не отвечала ни слова. Дошли мы до парка Хибиа, сели на скамейку, и тут все, все кончилось!
В отчаянии он схватился обеими руками за голову. Помолчал несколько минут, а потом грустным голосом продолжал:
«Прощай! — прошептала мне Иоко. — Прощай навсегда!»
Прошептала и встала.
— Но почему же? — спросил я, хватая ее за руку.
Грустно опустила она головку и прошептала только одно слово: «Бушидо!»
Он умолк и долго молчал, а его плечи и грудь вздрагивали от рыданий. Встал и быстро ушел из зала. На другой день он уехал из отеля «Стэсион». Я встретил его в холле, где он платил по счету. Японский «воу» укладывал его багаж на повозку.
Гамин увидал меня, подошел, стиснул мою руку и сказал:
— Не спал сегодня всю ночь, много думал и понял благородство японской женщины. Я страшно несчастен и грустен, но глубоко преклоняюсь пред Иоко.
Ушел и смешался с толпой.
* * *
Могущественна Япония своим «бушидо». «Бушидо» — это патриотизм и соблюдение прав и обязанностей гражданина по отношению его к власти, народу, обществу и семье, составляющих отчизну.
О бушидо помнят и мужчины, и женщины, и шаловливые мусмэ, и дети. Ради бушидо приносят в жертву жизнь, личное счастье, удовольствие и даже сильнейшее из всех чувств — любовь.
Бледнеет она пред другою любовью, могущественной и огромной, потому что является культом целого народа, исключительно трудолюбивого, исполненного жертвенности, и островов, составляющих государство Дай-Ниппон, которые, как нитка жемчуга, тянутся от хладной Камчатки, где кончаются ледяные горы, до пламенной Формозы, пышно расцветшей под палящим солнцем тропика Рака.
ХАРАКИРИ
Авториз. пер. Е. Э. фон Витторф
I
«Честь — знамя, честь — оружие, честь — цель жизни рыцарей-самураев искони веков. Сабля — душа самурая».
Так когда-то говорил знаменитый Шогун Еяс в «Завещании Гогензамы», а его слова вспомнил молодой доблестный капитан Таки Зензабуро, когда остался наконец один в большом зале, отделенном от главного нефа храма тяжелым шелковым занавесом, расшитым золотом. Он осмотрел внимательно весь зал, даже поднял глаза к своду и только тогда на его лице отразилось удовлетворение и спокойствие.
Пол был устлан новыми белыми «татами» (матами) из рисовой соломы, на стенах между окнами висели длинные, широкие полотнища белой материи, и белые же ленты почти совсем закрывали свод зала. На окнах стояли гладкие цветочные горшки, покрытые красным лаком, с большими букетами из траурных веток кипариса.
Два простых деревянных подсвечника стояли по углам южной стены.
Таки Зензабуро нигде не увидал приготовленной постели, усмехнулся и прошептал:
— Конничи… яроси! Сегодня… хорошо!
Он прошелся по залу и хлопнул в ладоши. Занавес сейчас раздвинулся, вошел в полном вооружении офицер и с вежливым поклоном спросил:
— Что угодно благородному самураю? Мой властелин — князь Хиого приказал мне исполнять все желания достойного узника.
Зензабуро кивнул головой и скалах:
— Принесите мне, пожалуйста, мою «тоо» (саблю) и устав харакири.
Сказав это, он начал ходить вдоль зала, а офицер, поклонившись еще раз, вышел.
Таки Зензабуро принялся вспоминать, что произошло за последние дни. Он воскресил в своей памяти все с величайшей точностью.
— Микадо воевал с Шогуном — не наше дело нам, рыцарям, мешаться в их дела! Мм должны повиноваться приказаниям. Наш вождь Шогун. Он приказал мне напасть на территорию чужеземцев в Кобэ, потому что, как рассказывают люди, чужеземцы подбили Микадо на войну с Шогуном, чтобы иметь возможность безнаказанно проникнуть в Дай-Ниппон. Он исполнил приказание вождя, но даймиот Хиого, защитник Микадо, приказал схватить Зензабуро и предать ею суду даймиотов. Его приговорили к смерти. Тогда он подал прошение судьям о разрешении ему лишить себя жизни по древнему рыцарскому обычаю посредством харакири. Микадо выразил согласие, и тогда сейчас же Зензабуро был препровожден в храм Икута.
Из осмотра зала он вывел заключение, что пребывание его здесь не продлится до восхода солнца. До вечера оставалось еще несколько часов.
Капитан сел на подушку перед маленьким столиком с пачкой тонкой папиросной бумаги и письменными принадлежностями. Взяв кисточку, он быстро написал письмо и опять хлопнул в ладоши. Вошел другой офицер, повторил то же, что его предшественник и, узнав, что узник просит отослать его письмо, взял конверт и ушел.
Облокотясь на подоконник, Зензабуро посмотрел в окно. Он увидел бирюзовое ясное небо без единой тучки; а там в отдалении, на горизонте, как выгнутый хребет ужа, тянулась цепь покрытых лесом холмов. Над ними возносилась вершина высокой горы.
— Это Мая-Сан! — вздохнул капитан. И вспомнилось ему, как еще недавно он избирался на эту вершину вместе с Кинсукэ Изоно и его сестрой. Он, как теперь, видел цветное кимоно маленькой кокетливой мусмэ, ее маленькие ножки и горящие глазки, смотревшие на него. Они отдыхали в храме луны, где стояли старинные статуи богов и тихо, бесшумно двигались фигуры степенных и серьезных монахов.
Там, перед храмом, сидя под деревьями, сквозь которые пробивались лучи месяца, они смотрели на сверкающее в его сиянии море. Тогда у капитана вырвались слова любви и признаний, а мусмэ ответила тихим вздохом и положила головку ему на плечо.
«Все это прошло… навсегда, — подумал Зензабуро, — не стоит об этом и думать!»
Опять он начал осматривать зал. Он знал, что за занавесом скрывается неф храма с позолоченным алтарем и статуей Будды из зеленой бронзы.
«Храм Икута, — вспомнил капитан, — построила храбрая царица Джинго, которая во главе войск в золотых доспехах воевала с корейцами. Заступницей царицы была мудрая богиня Вака-Хирумено-Микото, и она-то дала ей победу… Давно это было…»
Вошел офицер и подал ему саблю и книжку в белом переплете с единственным черным иероглифом. Зензабуро указал офицеру на свободную подушку, и тот сейчас же сел.
— Боевой товарищ! Отдаю в твои руки это благородное оружие. Мой знаменитый предок шесть веков тому назад нашел эту саблю в пне чиноки, расколотом молнией. С того времени блеск этой стали видели разные страны и моря и никогда она не выходила из рук нашего рода. Отдай ее Тенби Зензабуро, моему младшему брату, вместе с моим обетом, что до последнего издыхания я не посрамлю чести рода и рыцарской чести. И конец!
— Исполню все, что ты сказал, благородный самурай! — ответил офицер и ушел, унося саблю на вытянутых вперед руках. Капитан провожал его взглядом, пока он не скрылся за занавесом. Тогда он начал перелистывать страницы книжки. Он знал ее, как военный устав, как азбуку: читал ее уж сотни раз. Это было описание, история и ритуал харакири.
Он уже кончил читать, когда стоящий на страже офицер доложил о приходе «благородного Широ Шиба».
Немного погодя, занавес раздвинулся и вошел высокий, широкоплечий мужчина в дорогом шелковом кимоно. Войдя, он остановился и отвесил земной поклон.
Долго продолжалась церемония приветствий, пока наконец капитан не заговорил:
— Широ Шиба! Мы принадлежим к родственным родам одного и того же клана. Отцы наши вместе ходили на войну, клялись на мечах и огне в вечной дружбе. Я писал тебе, дружище, потому что хочу попросить оказать мне последнюю услугу.
— К твоим услугам, Таки! — воскликнул, кланяясь, гость.
— Прошу тебя быть моим «каншаку»
[20], — продолжал капитан. Я знаю, что твоя сабля одним ударом отсекает конскую голову, поэтому я спокоен, что мою ты отсечешь прежде, чем свидетели успеют моргнуть глазом. В этом я уверен! Но я прошу тебя, не торопись рубить мою голову, а позволь мне сначала самому нанести себе смертельный удар, как полагается по традиции.
— Таки Зензабуро… — начал было Шиба, но капитан прервал его словами:
— Не противься просьбе того, кто сегодня еще отойдет в царство теней, Широ, и помни, что я не дрогну, не струшу, даже не побледнею и не причиню стыда и бесчестия роду, клану и касте самураев.
— Знаю, — прошептал гость. — Я согласен быть твоим «каншаку»…
— Аригато! Благодарю! — сказал обрадованный капитан. — Пусть посмотрят эти чужеземные вороны, как умирает самурай!
— Я возьму меч знаменитого Гото Арида, который воевал рядом с великим Иоритомой! — сказал Широ Шиба.
— Аригато! — повторил Таки Зензабуро и поклонился гостю до земли в знак того, что он может уйти. — Будь же готов!
Капитан остался в одиночестве. Он стал прислушиваться, и до его слуха дошел визг пилы, стук молотка и шаги нескольких человек.
«Да! несомненно, сегодня…» — подумал он и вперил свой взор в небесную лазурь.
II
Уж сумрак спускался на землю, и Зензабуро, предавшись грезам, следил за золотисто-багряными полосами последних лучей заходящего солнца. Красные отблески вдруг зажигались на изгибах карнизов под лепным потолком и на острых краях колонн. Громкие шаги множества людей вывели его из задумчивости. Раздвинулся занавес, и в зал вошел князь Хиого в окружении вооруженных самураев. Капитан Зензабуро встал и низко поклонился князю. Даймиот почтительно наклонил голову, рыцари же преклонили колени, положив, в знак привета, руки на эфесы мечей.
— Я пришел. — сказал даймиот Хиого, — чтобы узнать желания благородного самурая, которого с великой радостью принимаю в храме Икута, стоящем на моей земле.
Таки Зензабуро низко поклонился и отвечал тихим и взволнованным голосом:
— Ваша светлость! Приношу благодарность светлейшему князю за его любезность, но у меня нет никаких желаний. Премного благодарен князю за его милости, оказанные мне с той минуты, что я был отдан под его высокую руку. Прошу, чтобы князь соблаговолил передать мое глубокое почтение и обожание нашему владыке Микадо — и благодарность дворянам своею клана за доброжелательное отношение ко мне.
— Все ли распоряжения сделал, благородный самурай? — спросил церемониймейстер.
— Моя «тоо» уже в руках моего брата Генби, который сумеет сохранить ее в нашем роде. Мой «каншаку» — самурай Широ Шиба; он готов и ждет твоего приказания, могущественный господин.
Зензабуро поклонился и сел, неподвижный и серьезный. С этого момента он имел право произнести только несколько слов, требуемых этикетом.
Даймиот и его рыцари почтительно поклонились ему, как какому-то владыке, и ушли. Зензабуро сидел неподвижно, как бы всматриваясь в неведомый мир, уже видимый его очами. Он не обращал внимания на двигавшихся по залу людей, которые зажигали светильники, бросавшие во мрак большого зала кровавые и проворные тени, устилали пол новыми матами, стараясь, чтобы между их краями не осталось непокрытого пола, кидали в кадила благовонную смолу и лепестки цветов.
Капитан Зензабуро сидел, как изваяние, ничего не видя и не слыша, хотя вокруг началось большое движение. Поставили деревянную панну из нового белого дерева и начали топить печечку. Дым поднимался узкой лентой и носился под сводами зала, улетучиваясь в окно, невидимое в темноте. Капитан не пошевелился даже тогда, когда перед ним поставили столик с завернутым в белую бумагу кимоно и длинным мягким полотенцем.
Только когда в зале и храме воцарилась абсолютная тишина, Таки Зензабуро вышел из своего оцепенения. Он встал, осмотрел все перемены, совершившиеся вокруг него, раздвинул занавес и заглянул внутрь храма, едва освещенного несколькими масляными лампочками, которые свешивались с потолка. Посреди, перед алтарем, устроено было невысокое возвышение, покрытое красным сукном. На полу разостлана была широкая полоса белой ткани до самого возвышения, на котором должен был покончить с жизнью он — капитан Зензабуро. Это была последняя дорога, ведущая в Нирвану, страну блаженных теней. Капитан задвинул занавес, быстро разделся и вошел в ванну. Потом надел принесенное кимоно, старательно причесался и сел, ни о чем больше не думая.
Оставалось около часа до полуночи, когда в храме раздались шаги и послышались голоса людей. Блеснули на минуту глаза капитана, но сейчас же погасли, прикрытые веками…
Занавес медленно стал раздвигаться и открыл внутренность храма мудрой богини Вака-Хирумено-Микото.
Таки Зензабуро увидал четыре высоких светильника, стоящих по углам возвышения, и четырнадцать человек, сидящих в нескольких шагах от него, с лицами, обращенными к алтарю. На пороге остановился «каншаку» и поклонился ему до земли. Капитан встал. Широ Шиба осмотрел его с ног до головы, удостоверился, что Зензабуро снял обувь, поправил у него складки кимоно и узел узорчатого пояса, отошел шага на два, поклонился и опять стал на пороге.
Таки Зензабуро на минуту зажмурил глаза, как будто собираясь с мыслями, но сейчас же двинулся вперед. Переступив порог храма, он заметил трех знакомых офицеров, стоявших при входе в зал.
Зензабуро с высоко поднятой головой тихим шагом двигался по «белой стезе смерти» в сторону свидетелей, остановился перед представителями клана и сделал им низкий поклон, потом, обратившись к семи чужеземцам, поклонился и им.
Свидетели ответили ему почтительными поклонами; тогда капитан тихим, но твердым шагом взошел на возвышение, два рала преклонил колени перед алтарем и потом сел спиной к нему, подобравши под себя ноги.
Воцарилось минутное молчание.
Таки Зензабуро подумал:
«Сколько стадий пробежал бы мой вороной конь в то время, какое остается до моей смерти?..»
В эту минуту один из офицеров подошел к капитану к подал ему маленький сверток в белой тонкой бумаге на красном лакированном подносике.
Капитан развернул бумагу и увидел «вакинаши», короткий кинжал, острый и блестящий. Офицер отошел с поклоном. Тогда другой офицер подошел к «каншаку», стоящему налево от капитана, и подал ему меч.
Таки Зензабуро поднял кинжал обеими руками на высоту лица и положил оружие на своих коленях. Он посмотрел вверх, заметил блики на позолоте свешивающихся с потолка ламп и кадильниц, слегка поклонился и твердым голосом сказал:
— Я, капитан войск Шогуна, Таки из рода самураев Зензабуро, приказал бомбардировать территорию иностранцев, Кобэ. Суд признал это преступлением, которое принуждает меня порвать нить моей жизни. Прошу благородных рыцарей моего клана и сановных чужеземцев оказать мне честь и быть свидетелями этой церемонии.
Это были последние слова самурая Зензабуро.
Теперь царство теней, таинственная Нирвана, приближалось к нему. Самурай еще раз поклонился, спустил с плеч и груди кимоно, обнажил свое мускулистое тело до пояса и подвернул широкие рукава одежды под ноги таким образом, чтобы, по рыцарскому обычаю, упасть лицом вперед.
Он взял в руки кинжал и внимательно его осмотрел. Это длилось одно мгновение ока, но и этого было достаточно, чтобы пред взором Таки Зензабуро пронеслись картины из битвы под Киото и Камакурой, темные стены храма луны, взволнованное личико маленькой мусмэ, сестры Кинсукэ Изоно, полные отчаяния глаза матери самурая и еще что-то, чего он не мог разобрать за недостатком времени.
Он сразу ударил кинжалом в живот, медленно продвинул сталь слева направо, повернул клинок в ране и вынул кинжал, наклоняясь одновременно вперед и вытягивая шею.
Странно размахнулся Широ Шиба, сверкнула в полумраке его длинная «тоо», низверглась вниз, как молния; раздался глухой грохот катящейся с возвышения головы и падающего тела.
Один из офицеров подбежал, схватил за клок волос голову самурая и, подняв вверх, подал ее «каншаку». Тот медленным шагом пронес ее на рукоятке меча перед сидящими свидетелями, говоря:
— Вот голова самурая Таки Зензабуро!
Японцы и чужеземцы встали и, обменявшись поклонами, ушли.
Церемония была кончена. Ушел верный «каншаку» Широ Шиба и его помощники-офицеры.
В храме на красном ковре, залитом горячей благородной кровью, осталось неподвижное тело и лежащая рядом на пачке белой бумаги голова того, кто несколько минут тому назад был храбрым, любящим отчизну и народ капитаном Таки Зензабуро.
В полночь бонза тихо открыл двери храма Икута и исчез.
Тогда в храм проскользнули две женские фигуры. На коленях они проползли к зловещему месту гордой казни и, наклонясь, стали что-то шептать, класть земные поклоны, вознося руки к Вака-Хирумено-Микото, и рыдать, рыдать, рыдать… до самого рассвета…
Кого скрывали темные, широкие плащи, надвинутые на головы и закрывающие лица?
Может быть, это были нанятые похоронные плакальщицы, которые ждали, пока самураи возьмут тело боевого товарища и понесут за город, чтобы предать его сожжению с почестями, подлежащими рыцарю?
А может быть… А может быть, одна из них была матерью самурая, полная отчаяния и вместе гордости за своего сына, который не дрогнул пред лицом смерти, а другая — маленькая, стройная мусмэ, которая никогда не забудет лунной ночи в объятиях самурая в лесу храма на склонах Маи-Сан?
ОЧЕРКИ
 КРОВЬ ЗА ЗНАНИЕ
КРОВЬ ЗА ЗНАНИЕ
Илл. И. А. Гранди

ядом с быстрым и блестящим развитием современного знания идет кажущееся таким странным в наши дни изучение тех явлений, вызывание которых в Средние века влекло за собой неминуемую гибель в тюрьме, на костре или на плахе.
Первый толчок научной алхимии дал покойный М. Бертело, знаменитый химик, последние годы своей жизни посвятивший исследованию памятников глубокой древности.
«Свободная школа»
Вслед за Бертело, тотчас же после смерти этого знаменитого ученого, целая плеяда богатых и независимых людей, получивших отличное образование, как естественнонаучное, так и философско-историческое, сплотилась и организовала «Свободную школу» для изучения древней химии, — алхимии, — и ее приложений в практике адептов таинственных знаний, игравших в истории всех веков и народов мрачную и часто роковую роль.
Во главе этой школы современных алхимиков встал Пьер Пиобб
[21], лаборатория которого в улице Monsieur le Prince в Париже переполнена учеными исследователями этой древней науки. Пишущий эти строки провел среди этих оригинальных ученых около полугода и с особым удовольствием сообщает о работах и исследованиях современных алхимиков.
Участники «Свободной школы»

Вооруженные современными знаниями и опытом научных исследователей последней эпохи, эти ученые пользуются книгами древности. В их распоряжении, кроме знаменитого восьмитомного труда Гермеса Трисмегиста и почти современного эпохе научного естествознания — Парацельса, имеется целый ряд книг второстепенных алхимиков, среди которых находятся такие авторы, как Давид из Суансона, Натан Хромоногий, Марсель дю Мурье и мрачные апологеты черной магии: египтянин Сафарис, халдейский волхв Тургата и индийские брамины, а между ними встречается имя человека, произведения которого служат неисчерпаемым источником филологических и философских споров. Этот человек — брамин из Траванкора, Али-Дулеб, живший в начале четвертого столетия после P. X.
Алхимические знаки и культ демонов
Когда читателю приходится знакомиться с алхимическими книгами, то его неизменно поражают различимо оккультные знаки, — эти условные символы совершенно определенных явлений, которые алхимики старались скрыть от взора непосвященных или опасных людей.
Если внимательнее ознакомиться с этими символами и проследить их начертания в древних рукописях ассирийско-халдейских, позднее — египетских, китайских во времена царствования Мингов, а затем уже в средневековье, то с полной очевидностью пройдет перед глазами теснейшая связь между этими символическими алхимическими начертаниями и знаками, красовавшимися на фронтонах тех храмов, которые были посвящены злым божествам и духам, — от древнего, как земля, Оримана и злого «духа земли», имя которого в летописях «святой инквизиции» сопровождается целым морем крови пытаемых и казненных. Скажем короче, — символические знаки алхимиков — это имена злых демонов, и одно это делает уже понятным всю жестокость, с которой главенствующие жрецы, а затем и церковная власть, преследовали адептов алхимии.
«Синорион» — монограмма Вельзевула
В алхимии особенным распространением пользуются знаки, называемые «синорионами», и еще недавно, лет 10 тому назад, один из современных филологов, изучая культ дьявола в современной истории, упоминает о знаке «синориона» — два столкнувшихся острыми вершинами треугольника с вихренными линиями вокруг, — как о типичной монограмме Вельзевула.
Египетская «динамо»
Парижские алхимики стараются разгадать те древние египетские знаки, которые представляют собой какие-то неизвестные колеса, вращаемые, по-видимому, бегущей водой и обозначающие собой слова: «сила» и «всемогущество».
Толкование некоторыми египтологами этих знаков, как частей водяных мельниц, не выдерживает критики; ибо на Хевронских глиняных пластинах найдено точное описание водяной египетской мельницы, поставленной на одном из притоков Нила фараоном Сафсфагерном.
В описании этом ни словом не упомянуто об этих таинственных колесах, которые всегда сопровождают надписи на саркофагах наиболее почитаемых фараонов, носящих название «Ра-Байдар», что значит: «фараон — первосвященник», а также верховных жрецов Египта.
Основываясь на филологических изысканиях, современные алхимики полагают, что эти колеса были наливными и приводили в движение какие-то особые машины, быть может, похожие на современные динамо-машины и предназначавшиеся исключительно для выработки электрической энергии. Это утверждение алхимики стараются доказать описанием ночи в первое новолуние в празднество Аммон-Абаса, когда толпы молящихся вводились жрецами в одно из отделений храма и, по знаку верховного жреца, оставались здесь недвижными в необычайных позах, словно парализованными, до первых проблесков зари.

Известный историк науки древности Ганс Гефер в одном из египетских музеев нашел глиняную пластину с описанием этого отделения.
Неизвестный автор пишет:
«Четыреста рабов ливийских в 13 дней и 13 ночей покрывали пол аммонийского храма тяжелыми плитами из блестящей руды, привозимой финикиянами из страны северных людей…»
В этой «тяжелой руде» комментаторы усматривают большие куски магнитного железняка, который отлично мог проводить электричество и, заряженный большим количеством его, мог производить то парализующее действие, которое, как известно, производится на людей сильным электрическим током.
Праздник Аммон-Абаса
Пьер Пиобб и Густав Бути в своей лаборатории построили копию храма Аммона и в конце лета текущего года пригласили членов общества поощрения изучения древнего Востока на чрезвычайно интересный сеанс.
У входа в импровизированный храм, представляющий собою сделанные из папье-маше и ящиков массивы из серого камня с нанесенными на них клинообразными и символическими египетскими письменами, посетителей встречал верховный жрец в белом одеянии, с красной повязкой на
голове и с висящим на груди изображением священного Аписа.
Внутренность храма представляла собой сводчатую комнату, едва освещенную высоко висящей масляной лампой. Стены и прочие детали этой комнаты пропадали во мраке и только медленные и монотонные голоса свидетельствовали, что в комнате кто-то находится.
Когда посетители заняли предназначенные для них места, главный жрец остановился перед ними и в полумраке прочел краткую лекцию о египетской алхимии, носившей даже в то время название «науки черного свитка».
Алхимизм и родственные ему знания носили общее название «Ормандай» и являлись знанием жрецов и особо любимых последними и ими избранных фараонов.
После такого общего вступления жрец приглашал слушателей присутствовать при повторении таинственных богослужений, совершавшихся в одно из новолуний.
«Живое умерщвление»
Первым опытом было так называемое в египетской литературе «живое умерщвление», которым пользовались при человеческих жертвоприношениях как в храмах культа Аммона, так и в культе, позднее занесенном и прославляющем жестокую Астарту.
На небольшом возвышении перед зрителями, довольно ярко освещенная, появлялась введенная жрецами овца.
Она должна была играть роль одной из 72 девушек, родившихся 16 весен назад до рокового для них новолуния, и родители которых вспахивали землю Нильской дельты.
Один из жрецов давал овце сахар, пропитанный ядом кураре или изоциановой кислотой.
Под голову овцы подставлялся особый треног и такой же треног подводился под тело овцы с тем расчетом, чтобы при всяком положении животного, оно оставалось на ногах. Через несколько мгновений зрители видели, как, вздрогнув, несколько оседало тело несчастной жертвы, после чего двое жрецов кусок за куском начали отделять от тела овцы дымящееся, кровавое мясо, не трогая лишь головы. Ни в глазах животного, ни в движении его губ не было заметно страданий, несмотря на то, что с каждым мгновением все более и более открывался костяк и сквозь прорезанную соединительную ткань между ребер виднелись вздрагивающие внутренности.
Постепенно отпиливались ребра и только тогда, когда в грудной клетке, совершенно уже обнаженное, билось сердце, главный жрец говорил, что древним египтянам известны были анестезирующие и вызывающие паралич чувствительных нервов вещества, применяя которые, они могли производить те ужасные безболезненные операции, которые сопровождали «живое умерщвление» жертв, избранных на радость и благоволение Аммона и Астарты и умиравших без крика и стона, едва ли не с блаженной улыбкой какого-то неземного счастья.
Великая тень
Вторым опытом было вызывание «великой тени». Этот обряд, как известно, всегда сопровождал посещение наиболее почитаемых храмов египетскими властителями и состоял в том, что на темной стене среди дыма и вспыхивающих огоньков появлялась огромная фигура совершенно черного человека, в котором видели сказочную «Ра-Ана» — ночь, сестру «Ра-Солнца», считавшуюся праматерью всех египетских династий.
И действительно, перед глазами зрителей повторялась сцена, описанная одним из египетских историков и прочитанная недавно Маркусом Зейлингером.
На черной стене, совершенно поглощенной мраком, то здесь, то там начинали вспыхивать яркие зеленые, красные и голубые звездочки, тихо трещащие и быстро гаснувшие с тем, чтобы загореться в другом месте, на неуловимо короткое мгновение освещая выкрашенную в темно-серый цвет стену. Уже по самому пути, по которому бегали эти красивые вспышки, можно было судить, что какое-то пространство на стене окружено веществом, не способным к этим вспышкам. Когда, не коснувшись этого пространства, мгновенные вспышки обежали всю стену, внизу ее, на уровне пола, появился синеватый огонек, но прежде, чем зрители могли понять и разглядеть причину этого явления, густой белый дым, озаренный словно каким-то внутренним светом, заволок всю стену, и тотчас же глубокая темнота залегла снова, но она вскоре исчезла, когда зеленоватый, тускло мерцающий свет начал излучаться самой стеной, которая казалась какой-то световой завесой, медленно падающей и струящейся откуда-то из беспредельной высоты.
Невольно глаза устремлялись кверху, ища начала этой завесы и источника света, а на стене в это время все более и более отчетливо выделялось черное, как бездонная пучина, пространство, зияющее и жуткое. Когда оно совершенно определилось, то, казавшееся раньше бесформенным и случайным, пространство это представляло собой не зияющий прорыв световой плоскости, но строго и уверенно очерченную фигуру большого человека.
Это и была «великая тень», а происхождение ее объяснялось чрезвычайно просто и, вероятно, соответствовало тому, что происходило в храме оазиса Аммона.
Вся стена, как потом показали алхимики, была покрыта темно-серым составом из смеси сернистой сурьмы и некоторых азотнокислых солей. При пропускании по этой электропроводной плоскости электрического тока, — в тех местах, где между отдельными кристалликами азотнокислых солей могла проскочить электрическая искра, загоралась мгновенно, с треском вспыхивая, сернистая сурьма. Голубые вспышки были вспышками самого электричества, красноватые — сернистой сурьмы, а зеленые — являлись продуктом разложения азотнокислого бария.
После того, как эти вспышки продолжались достаточно долгое время, сильным электрическим током зажигался расположенный под самой стеной слой бенгальского огня с примесью к нему магния, от вспышки которого покрытая упомянутой выше смесью стена начинала в течение нескольких секунд светиться вторичным, «наведенным» светом, т. е. «люминесцировать».

И только свободное от этой смеси пространство, заранее очерченное так, чтобы представлять собой человеческую фигуру, оставалось зияющим — и в древние времена, когда цари и боги жили на земле и порой вели между собой ожесточенную борьбу, пугало людей и заставляло их беспрекословно повиноваться тем, кто мог вызывать к смертным «великую тень» предков фараонов.
Лучистые скелеты и мумии
В Египте, как известно, был чрезвычайно распространен культ мертвецов — некротеизм, который из Египта перешел затем почти ко всем народам, так или иначе соприкасавшимся с Нильской империей.
Сэр Артур Никольсон во время недавних раскопок своих к северо-западу от Ассуана нашел саркофаг, принадлежавший роду одного из военачальников Рамзеса Великого. В саркофаге были найдены мумии, по-видимому, не представлявший собой ничего особенного и даже интересного, так как эпоха Рамзеса, наиболее богатая культурными памятниками, очень подробно изучена египтологами.
Основываясь на этом соображении, сэр Никольсон, доставив Великобританскому Музею сам саркофаг и две из найденных в нем мумий, остальные две перевез в свой частный музей. Хранившиеся в течение нескольких лет, при перестройке затем музея, мумии были вынесены в дворцовый зал, где на них в течение нескольких дней попадало много солнечных лучей.
При помещении затем мумий на приспособленные для них места в музее, обнаружились новые свойства, казавшиеся на первый взгляд странными и давшие повод к целому ряду таинственных рассказов и нелепых слухов.
Мумии ночью, в глубокой темноте, ярко светились, вызывая немалый страх среди музейной прислуги. Опыт этот произведен алхимиками в Париже и объяснен просто. Оказывается, что около Ассуана находятся залежи извести и немало сернистых ключей. Если же взять соединение извести и серы, так называемый многосернистый кальций, и, пропитав им какое-нибудь вещество, выставить его затем на действие солнца, то такое вещество в течение нескольких часов сохраняет способность излучать свет, поглощенный им из солнечных лучей.
При повторении молений в храме Аммона алхимики воспроизводили этот опыт, который, безусловно, судя по оставшимся памятникам литературы, применялся при публичных богослужениях египетскими жрецами.
В одном из темных углов в лаборатории Пьера Пиобба, превращенной в храм, стоял человеческий костяк. Он был покрыт черным покрывалом, но, когда его сдернули, то зрители увидели светящийся скелет, излучающий колеблющийся зеленовато-желтый свет.
Хоровод духов
Самым эффектным, конечно, таинственным, ревниво оберегаемым жрецами всех египетских толков, был обряд, очень подробно описанный во многих памятниках египетской литературы и называемый «хороводом духов».
Это — изумительное по тому времени знание свойств бактерий, которыми, конечно, кишела плодородная и всегда сырая почва долины Нила. Египтяне, конечно, не могли не знать и не интересоваться светящимися остатками гниющих растений и рыб, которыми они удобряли почву, но, каким образом дошли они до познания причины этих явлений, — остается неразгаданным, так как ни один жрец не оставил в этом направлении никаких следов.
В сырой почве, богатой разлагающимися органическими веществами, всегда живут, наряду с другими многочисленными микроорганизмами, так называемые «люминесцентные бактерии», которые, находясь в пространстве, лишенном воздуха, остаются невидимыми, но лишь только коснется их струя воздуха, они начинают ярко светиться и быстро размножаться, производя впечатление постепенно расплывающейся световой волны. Алхимики Парижской свободной школы на эстраде, перед своими зрителями, повторили обряд «хоровода духов». На эстраде появились танцовщики в коротких туниках, насыщенных питательным раствором со светящимися бактериями. Эти туники мягко и загадочно мерцали и, при каждом движении танцующих переливался на них свет, то уходя глубоко в складки одеяний, то вскидываясь кверху по мере оживляющегося и становящегося более быстрым танца. По знаку одного из распорядителей танцоры, один за другим, медленно проходили в определенный угол эстрады, где мгновенно гасла на них одежда, а их самих бесследно поглощала темнота.

Потом алхимики объяснили, что в этом месте эстрады из особого сосуда, находящегося под полом, выделялся углекислый газ, который заставлял бактерий прекращать свою жизнедеятельность и гаснуть.
Живые лампы
Алхимики тут же показали довольно известные со времен Парижской выставки 1900 г. так называемые «живые лампы», т. е. сосуды, наполненные раствором желатина с посеянными на нем светящимися бактериями. Из сосудов был выкачан воздух, а потому бактерии оставались невидимыми, но достаточно было открыть такой сосуд, как мгновенно вся находящаяся в нем жидкость ярко вспыхивала и начинала мерцать так сильно, что при свете такой «живой лампы», можно было отлично разглядеть циферблат часов и читать книгу.
Боги! Угодна ли вам жертва?
Это явление, как доказывают глиняные пластинки, находимые в разных местах Египта, было близко знакомо египтянам, жрецы которых весьма часто пользовались этим эффектным опытом.
Применялся он в тех случаях, когда нужно было определить, угодна ли божествам приносимая фараонами или влиятельными людьми страны жертва. С этой целью приносящего жертву заставляли провести ночь в храме, куда он должен был принести сосуд с молоком ослицы. Ночью жрец в черном плаще незаметно брал поставленный у жертвенника сосуд, переливал его в прозрачный сосуд и засевал его бактериями.
Когда перед изумленными глазами жертвователя в темном храме появлялся светящийся сосуд и раздавался торжественный голос главного жреца о желании божества принять дар, — много таинственного и страшного рассказывали потом изумленные жертвователи на пирах во дворце в Фивах, в загородных поместьях военачальников и ночью, во время походов, на биваках.
Волшебные настои
Гипнотизм в чистом виде, вероятно, не был известен египтянам. Так же, как не был он, первое время, известен в Индии и Китае. В двух последних странах явления, сходные с гипнотическими, широко применялись, хотя нигде в литературе не упоминалось о какой либо таинственной силе, которой бы обладали отдельные лица. Наоборот, всякий раз упоминалось, что для произведения того или иного эффекта, какой в настоящее время называется состоянием гипноза, прибегали к помощи разных снадобий и настоек.
Особенной силой обладали сиропы, настоянные на корнях мандрагоры и цибета.
Человек, принявший известную дозу таких настоев, сначала впадал в глубокий сон, а затем находился в состоянии полного оцепенения, во время которого не чувствовал ни боли, ни страха. Были какие-то способы, позволяющие привести человека в парализованное состояние, частично оставляя некоторые части тела в состоянии нормальных движений.
Алхимики современного Парижа, изучая фармакопею Индии и Китая, пришли к заключению и доказали это физиологическими опытами, что настои мандрагоры, цибета и женьшеня, в зависимости от того, прибавлены ли к ним сахар, спирт или растворы каких-либо металлических солей вроде ярь-медянки, малахита или железных солей, производят совершенно различное физиологическое действие, вызывая порою паралич всего тела, но оставляя нетронутой способность речи и мышления; при смешении раствора мандрагоры с крепким раствором соли получается, наоборот, полнейшее прекращение способности мыслить и говорить при полной свободе движений ног и рук. Таким образом, человек, принявший определенное количество такого раствора, очень походит, по внешнему своему виду, на человека загипнотизированного, хотя применение мандрагоры и других сходных с ней растительных веществ относится к самой глубокой древности страны Санскритских наречий, между тем как гипнотизм, как физиолого-психическая сила, упоминается впервые в Индии за 7 веков до P. X.
Как известно, в более слабой степени, чем эти изученные в течение многих веков растения, такое же физиологическое действие паралича или онемения производят и другие растительные и животные яды вроде стрихнина, вератрина, кураре и другие известные трупные яды, а также различные металлические соли, не говоря уже о новейших органических соединениях, — производных аммиака, — этих искусственных сородичей алкалоидов и упомянутых органических и трупных ядов.
«Питье дракона»
Современные алхимики открыли секрет и состав «питья дракона», одинаково распространенного алхимического напитка как в Индии, так и в Китае. Напиток этот давался при некоторых жертвоприношениях и при других обрядах, совершаемых с особой торжественностью буддийскими бонзами, открывшими его в глубокой древности.
 Одно из украшений «школы алхимиков».
Одно из украшений «школы алхимиков».
Подавался он жрецами в высоких и узких стеклянных сосудах и состоял из прозрачной жидкости, в которую жрец бросал несколько цветков какого-нибудь душистого растения. Вместе с лепестками цветков вбрасывались кристаллы какого-то вещества, которые слегка окрашивали всю жидкость в розоватый цвет. Обыкновенно, после того, как кубок был вручен, посетителя приглашали войти в храм или в находящуюся рядом пещеру отшельника, и тут происходило странное и ужасающее легковерного посетителя явление.
В бокале с треском начинали взрываться синие огненные шарики и выделять шипящий газ. Количество таких огоньков с каждой минутой увеличивалось и наступал момент, когда вся жидкость ярко вспыхивала и начинала гореть, распространяя приятный, ароматный запах. Когда это происходило, жрец предлагал посетителю немедленно же отправляться к главному жертвеннику и выливать на него горящее высоким пламенем «питье дракона».
Сверх этого пламени накладывались легко воспламеняющиеся вещества и немедленно приносилась жертва, причем последняя считалась особенно угодной божеству. Как показали алхимики, «питье дракона» составляется из спирта, к которому прибавлялась кислота, а затем вместе с лепестками цветов вбрасывались кристаллы веществ, выделяющих кислород. Пузырьки кислорода, проходя через постепенно нагревающуюся массу спирта, воспламеняли прикасающиеся к их поверхности частицы последнего, что сопровождалось треском, шипением выделяющейся углекислоты, вспышкой и распространением приятного запаха различных получающихся при окислении спирта веществ.
Кровь Фо-джа-юня
Интересны и имеют строгое научное объяснение обряды китайцев, сопровождающие гадание и предсказывающие успех на войне.
Это так называемая «кровь Фо-джа-юня», когда в белом фарфоровом сосуде, от прибавления каких-то неизвестных веществ, налитая кровь превращалась в воду, теряя совершенно свою багровую окраску.
В одном из старых монгольских монастырей недавно был найден объемистый том с описанием гаданий Фо-джа-юня и представляющий собой строго химическое объяснение этого явления.
Вот что говорит эта книга: «Пойди на вершину горы, там, где не растут большие высокие ели, и найди на камне синеватые сухие лишаи. Вывари их и получишь синий настой. Перевари его еще раз с кислыми плодами лесного винограда и ты получишь красную, как живую, кровь. Сожги на плоском камне куски серы из Сапайляня, закрыв горящие куски сосудом. Когда все выгорит, налей в него воды. Прибавив эту воду к полученной тобой алой крови, ты увидишь, как исчезнет она, превращаясь в воду».
Алхимики поступили согласно рецепту, указанному в старой китайской рукописи, и через французского консула г. Леру в Нанкине получили эти таинственные синие лишаи, которые действительно совершенно обесцвечивались при соприкосновении с кислотами.
«Кровь земли»
Такое же явление было известно под названием «крови земли» и повторяется ныне алхимиками, изучившими это много веков сохранявшееся в тайне явление.
«Кровь земли» представляет собой вытяжку из червей кошенили, дающую, как известно, ярко-багровую краску. «Кровь земли» приносили в жертву в то время, когда «черная смерть» бродила по земле, когда тысячи людей по Гангу и Инду умирали от чумы и когда над всей страной черным вихрем взметалась смерть, вопли людей и карканье слетающихся на добычу хищных птиц.
Перед молчаливой статуей каменного Будды ставился большой стеклянный сосуд, наполненный кровью, в которую, по преданию, превращались слезы осиротевших девушек и юношей, и жрецы, взявшись за руки, в плавном хороводе обходили изваяние Будды, по временам нанося себе глубокие раны и издавая пронзительные истеричные крики. Когда уже начинали некоторые из жрецов падать и биться на земле в судорогах, появлялся самый старый из отшельников данного округа, разбивал стоящий у средней колонны храма, так называемой «Бай-Абад», т. е. «опоры силы», сосуд с водой, которая веками хранилась в каждом индийском храме.
Произнося заклинания и громко умоляя добрые и злые божества о пощаде людей, жрец выливал в сосуд с «кровью земли» воду. Происходило чудо: кровь превращалась в воду, и отшельник, благословляя народ, говорил, что злое божество смилостивилось и возвращает людям все пролитые ими слезы, обещая на долгие годы здоровье и плодородие стране.

Этот трогательный и полный мистицизма обряд был повторен адептами новой алхимической школы и, обставленный со всеми подробностями, описанными на древних пачках пальмовых листьев, был основан на точном знании, а именно: кровь была, как и в индийском обряде, кошенилевой настойкой и к ней прибавлялась вода, насыщенная хлором, который мгновенно обесцвечивал красящее начало кошенили.
Как доказал профессор Марион де ля Баск, совершенно таким же образом совершался такой же опыт в древних индусских пагодах, где обесцвечивание производилось водой одного из источников в земле Даков, содержащей свободный хлор, как это было обнаружено при посещении этой страны английскими, а позднее бельгийскими инженерами, производившими здесь железнодорожные изыскания.
Мане, Текел, Фарес!
Очень эффектным опытом сопровождались всегда различные предсказания, которыми старались захватить власть в свои руки представители различных буддийских толков в обеих монархиях, где Брама, Сива и Вишну встали во главе религиозного миросозерцания сотен миллионов людей.
Эти предсказания велись обыкновенно глубокой ночью в совершенно темных подземельях или, в безлунные ночи, в горных ущельях, а порой и на открытых равнинах. Состояли они в том, что пород собравшимися жителями округи, желавшими узнать от богов ответ на какой-нибудь волнующий их и важный вопрос, касающийся благосостояния целой страны или только данной местности, неожиданно загорались знаки, служившие ясным ответом на поставленные вопросы. Знаки эти, в виде огненных букв или простых и понятных рисунков, прогорев некоторое время, потухали, распространяя сильный удушливый дым. И в лаборатории на rue Monsieur le Prince так же вспыхивают отдельные слова, являющиеся ответом на какой-нибудь заданный вопрос, вызывающий короткий ответ.
Бурбонская лилия и корона
Так, недавно кто-то спросил во время демонстрирования алхимических опытов: «Что угрожает Франции?» И через несколько мгновений на темной стене загорелась зеленым огнем бурбонская лилия, которую затем сменила вполне отчетливо различимая корона.
Конечно, в средние века немедленно же этот ответ был бы истолкован как предсказание, что стране угрожает гибель короны и опасности для династии.
В республиканской Франции, конечно, поняли это совсем иначе.
Опыт был немедленно же пояснен. Алхимики обмакивали заготовленный ранее трафарет в раствор фосфора в маслянистых веществах и быстро прикладывали его к стене. Когда масло высыхало, фосфор тотчас же вспыхивал, образуя светящуюся фигуру или соответствующую букву.
Фосфор и древние народы
Что опыты, которые производили при предсказаниях китайские бонзы, относятся к разряду тех же явлений, — об этом свидетельствует то обстоятельство, что фосфор, как совершенно самостоятельное или легко воспламеняющееся вещество, применяемое также китайцами для защиты береговых городов и торговых судов от нападения пришельцев из-за моря (вероятно, — японцев) было известно в Китае за несколько веков до P. X., а легенду о существовании такого зажигающегося вещества, которым владеют люди, живущие у теплых морей, сохранили древнейшие глиняные пластинки, находимые на развалинах древнего Вавилона. В этот город, как известно по историческим документам, доходили караваны китайских купцов.
Алхимия обрядовая и научная
Таковы основы и обрядовая сторона главнейших явлений, производимых адептами древней алхимии, происхождение которой так же старо, как и происхождение поклонения людей силам природы. Но в древнейшие времена, у народов, живших на заре истории человечества, алхимия, в числе прочих оккультных знаний, служила исключительно религиозным целям и, как таковая, не двигалась вперед, не изменялась и не совершенствовалась, оставаясь все время строго консервативной.
Совсем не так обстояло дело в Средние века, которые внесли очень много нового в таинственную науку о веществе, — алхимию, низведя ее с пьедестала культа на ступень исканий, откровений и знания. И здесь, конечно, произошло столкновение алхимиков с всевластным и всезнающим католицизмом. Западная Европа, вследствие этой борьбы, украсилась поставленными позднее памятниками в честь казненных, а в народе начали ходить новые таинственные легенды.
Легенда о черте, разрушающем скалы
Мы знаем немало преданий о том, как к тому или другому из воинственных и непокорных вассалов являлся черт и предлагал разрушить скалу, на вершине которой был неприступный замок врага. Являлся черт и затем, чтобы помочь разрушить соседнюю гору и сделать недоступной дорогу к холму такого рыцаря-разбойника, каким был предок Рокамболя, граф де Валуаз, воздвигший целую крепость на склонах мрачного Пюи-до-Дома.
Кто же был этот черт? Легенда ли это или тень возможности, реальности?
Алхимики из Парижа утверждают, что, внимательно изучив легенды и все версии предложений, делаемых чертом, всегда приходится прийти к заключению, что под личиной черта фигурирует алхимик, какой-нибудь неизвестный, но гениальный изобретатель, на много времени опередивший монаха Бертольда Шварца, составившего на горе человечества рецепт пороха. Они-то, — эти безвестные «черти», владеющие таинственной разрушительной силой, — бродили по темной Европе и старались найти применение для своего гениального секрета.
Серебро — золоту
Случайная логическая ошибка алхимиков, принявших открытие золота в серебре за превращение одного металла в другой, повела к идее о жизненном эликсире, о поисках золота в крови человека, к убийству, к подкупам хирургов, производящих операции, и тюремщиков, которые за хорошую плату позволяли любознательным алхимикам прирезывать некоторых арестантов во время их сна и искать золота и элементов вечной жизни в их крови.
Однако, уже тогда были намеки, что некоторым алхимикам, по-видимому, действительно удалось превратить серебро в золото, но только в половине истекшего века этот опыт удалось воспроизвести американскому химику Сагеу-Lea, показавшему, что в некоторых случаях возможно серебру придать полное сходство с золотом, не претендуя, конечно, на превращении одного металла в другой.
Алхимики, под руководством неутомимого Пиобба, этот сложный опыт повторяют, и в их руках серебряный пятифранковик приобретает вид солидной старинной золотой гинеи. Каким-то образом, эта тайна Carey-Lea сделалась достоянием злоумышленников, и Париж в начале текущего года был наводнен серебряными «petits et grands Louis»… под золото.
Птоломеев огонь
— Птоломеев огонь, — сказал раз пишущему эти строки Пьер Пиобб, — это очень древняя вещь и представляет собой интереснейший опыт. О нем стало известно с того времени, когда из венецианской тюрьмы в 1417 году бежал алхимик Птоломей Нищий, уроженец Греции. Просидев более пяти лет в тюрьме, он выхлопотал для себя разрешение получать апельсинные, лимонные и померанцевые корки. Из них каким-то образом он сумел получить летучие, очень легко воспламеняющиеся масла — эфиры, а когда к нему однажды вошел стражник, Птоломей выдохнул из себя пламя, которое ослепило и так напугало тюремщика, что он упал в обморок. Птоломей же спокойно покинул тюрьму только для того, чтобы, описав свои злоключения в Венеции, опять попасть в руки венецианцев и погибнуть от руки палача в 119 году.
Живые драгоценные камни
Алхимики обладали одним тщательно скрываемым секретом, бывшим известным лишь весьма небольшому числу посвященных.
«На его пальце, — пишет монах Астура в своей хронике XV века, — был перстень с огромным камнем редкой красоты и таинственной способности ярко светиться в темноте, подобно глазу совы или кошки».
А в небольшом труде Альберта, прозванного Великим, есть краткое указание, что надо взять и выдолбить драгоценный камень и поместить в нем крупинку камня «из желтой Майсенской жилы», отчего камень будет и ночью гореть, «как пламя светильника».
Алхимики наших дней нашли где-то указание, что в Южной Богемии есть маленький городок Майсен, около которого находятся открытые недавно залежи уранита, т. е. минерала, содержащего в себе радий. От присутствия радия многие драгоценные камни начинают светиться вторичным наведенным светом.
Алхимики-отравители
Современные алхимики, занятые изучением опытов своих далеких предшественников и изготовляющие настоящие алмазы в жару электрического тока или под давлением сотен тысяч атмосфер, открыли причину поголовного избиения алхимиков в конце XVI века.
Алхимики Барба и Костанелло в Италии пользовались репутацией «исчадий ада». Они изобрели отравленные перчатки и отравленную маску.
Для этой цели они пропитывали материю трупным ядом, добывая его из могил казненных преступников и храня в золотых, наглухо запаянных сосудах, хранившихся у них на груди. Для того же, чтобы яд проник в кровь, Барба и Костанелло внутреннюю часть перчаток и маски обсыпали волосками жгучей крапивы и вырванными у пчел и ос жалами, которые, проникая в тело, несли с собой частицы смертельного яда.
Алхимия будущего
Таковы изыскания современных алхимиков в области давно уже отжившего знания, шедшего все время ощупью, наугад. Много трогательного и много мрачного в исканиях этих давно уже умерших исследователей, и хотя в их методах и задачах нет ничего, казалось бы, общего с современными приемами научного анализа и синтеза, однако, это только кажется при поверхностном знакомстве с вопросом. Общего много. И эта общность в чувстве несовершенства человеческого знания, в призыве к истине.
Современные нам алхимики, т. е. химики, не умещающиеся со своими научными запросами в рамках обычных методов, говорят, что надо изучить человека, как живую колонию существ, вырабатывающих взаимно нужные для жизни вещества, и попытаться пересоздать, переродить человека, создав для него новые условия питания и атмосферы.
В этом задачи алхимия будущего.
Изучить человека и приспособить его к иной жизни. Где существует эта новая жизнь?
Быть может, на луне или на иной планете, куда, вероятно, перенесет кого-нибудь из нас всепобеждающий гений человека, потребовав, как было и раньше, кровь за знание…

ЛЕГЕНДЫ И ПОВЕРЬЯ О ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ
В жемчугах и сверкающих камнях земли сокрыта тайная сила звезд…
(Tabula smaragdina) Гермес
I
Гениальный французский химик Марсель Бертело, изучая историю химии с древнейших времен и до наших дней, уделил много внимания алхимии, говорившей, между прочим, и о драгоценных камнях, как о носителях таинственной силы вещества
[22].
В распоряжение знаменитого ученого были предоставлены национальной библиотекой св. Женевьевы драгоценнейшие документы, ясно определяющие взгляды людей древности, первых веков христианства и Средневековья на драгоценные камни, игравшие в жизни не только отдельных людей, но и народов, подчас важную роль.
Ученые экспериментаторы и мыслителе тех эпох, в поисках подтверждений создаваемых ими предположений о происхождении и значении драгоценных камней, прибегали к метафизике, а еще чаще к тем туманным преданиям, которыми окружены переливающие огнями и спорящие со светом солнца самоцветные камни, окупаемые кровью и потом человечества всех эпох и всех народов.
Наибольшее число легенд и поверий, связанных с драгоценными камнями, дал человечеству восток Азии, где ранее других были известны драгоценные камни и притом великолепнейшие из них. Повторение этих же легенд можно встретить в Китае, у бурят на Байкальском озере и на Урале, куда они занесены киргизами из Тибета.
Бертело, изучая все эти легенды, делит их на две группы: индо-персидскую и индо-китайскую, причем в обе группы входят мифы о солнце, земле, воде и человеческих страстях, как элементах, составляющих внешнюю (материальную) и внутреннюю (духовную) жизнь.
II
У всех людей во все периоды истории особым почетом было окружено солнце, как сила, дающая видимому миру жизнь и движение, а потому и самый редкий из камней — алмаз — посвящен солнцу. По-китайски алмаз — «Жито-ши-то», «камень-солнце», — даже носит название главного светила нашей системы, а древние славяне посвятили солнцу привозимый «от варягов» авантюриновый полевой шпат, назвав его «солнечным камнем». У германских племен, у жителей древней Мексики и у австралийцев солнцу посвящен опал (солнечный или пламенный многоцвет). У народов тюркской группы в честь солнца именуют «лучистыми хрусталями» топазы и прозрачные кварцы.
Относительно последних, во времена Троянской войны было уже известно, что некоторые из этих кристаллов любимы богиней Фемидой. Это были кварцы с включениями зеленого амианта. Из таких камней особо почитаемые жрецы и судьи носили амулеты в виде наконечника стрелы. Такой амулет делал человека бесстрастным, что было особенно важно для лиц, чинящих суд и расправу. У архонтов на груди в особо торжественные для висели дощечки с амулетами из кварца, пронизанного «волосами Фемиды», зеленоватыми жилками амианта.
И в древнем Риме среди жрецов и царей пользовались большим почетом амулеты, известные под именем «венериных волос».
Это куски того же прозрачного кварца с прожилками минерала — красного рутила, привозимого предприимчивыми людьми или воинами во времена северных походов из земли галлов. Обилие таких амулетов и, одновременно, исчезновение их культа наблюдались во времена Цезаря, когда победоносные воины римских легионов привезли из земель, расположенных по обе стороны Альпийского хребта, много прозрачного хрусталя с крупными включениями посторонних минералов.
Весьма поучительны два индийских мифа о происхождении алмаза и опала, как признаков обожествления солнца. В книге «Нардразаран»
[23] есть песня «Раджманаэльколь», где целиком встречается древний греческий миф о Прометее, похитителе небесного огня.
«Некий муж Тулув из воинственного племени „брагуи“, — повествует миф, — дерзнул вступить в бой с Великим Стражем, охраняющим на вершине Гисл-Нгара огонь, вечно пылающий перед троном Всевластелина. Тулув свергнул Стража в горную расселину и, схватив огонь, понес его в долины и на поля своей родины. Но Всевластелин послал за Тулувом в погоню злых духов — доров, — и они настигли его в узком ущелье. В жестокой сече с дорами Тулув получил смертельную рану, но не хотел сдаться врагам, и кровью своей начал тушить похищенный небесный огонь. И каждая капля его крови, падая на огонь, превращалась в твердый, белый камень с горящими внутри огнями. Эти камни глубоко запрятались в землю, но их находят люди и, вместе с богатством, получают таинственную силу и счастье».
Словно продолжением этого древнего мифа служит другой миф, совершенно одинаково изложенный Tiffoldon’ом по санскритским источникам и Scheprhasen’ом
[24] по персидским легендам «агай». В одной из «упанишад» говорится, что воин и певец Магха, похитив огонь и погибая под ударами «доров», действительно залил своей кровью похищенное пламя и, умирая, призвал в свидетелей своей смерти в борьбе за благо людей добрых гениев, Калиан. Одна из Калиан, прекрасная Джадда, полюбила умирающего героя и горько оплакивала его кончину. Ее падающие на землю слезы каменели, и в них переселилась часть огня из алмазов, происшедших от крови Матхи (Тулува!) и небесного пламени, похищенного им. Эти окаменевшие слезы — опалы.
III
В персидском народе до настоящего времени сохранилось, по-видимому, очень старое название опала: «камень огненных слез».
В храме Бейта-дзы, в Мукдене, в западной стене, вделан большой камень с вырезанным на нем очень примитивным, а следовательно, и древним рисунком, изображающим столкновение двух светил, из которых одно — солнце.
Художник показал, что от солнца при этой катастрофе отлетел целый дождь осколков, и все они упали на землю, прожгли ее поверхность и глубоко ушли в недра земли. Если сопоставить с этим рисунком легенду о солнечном камне, как это делает Delbrück, то можно увидеть между ними непосредственную и тесную связь. По этой легенде, в третий год царствования над древним Пэ-Синем
[25] династии Мин-Сит-Айто, находящейся на грани мифических времен, все народы были устрашены необычайным небесным явлением, когда на солнце упало какое-то тело, вызвавшее взрывы на яркой поверхности светила. Осколки его упали на землю и превратились в «жито-ши-то», т. е. камни солнца или алмазы.
В Березовской даче на Урале, как известно, найдено было довольно значительное количество хотя и мелких, но весьма чистой воды алмазов, по своим качествам не уступающих капским и бразильским сортам. И среди местных старожилов до настоящего времени сохранился рассказ о том, как однажды туземец-промышленник в поисках золота призвал на помощь нечистую силу
[26]. Дело было в мрачных ущельях Большого Таганая за «Откликным Гребнем». Туземец вдруг увидел огромного черного человека, горделиво раскинувшегося на скале. Ударом грома показались туземцу слова великана, когда он назвал ему речку, Бискат-Аймат, и приказал ему искать там «искры солнца», — алмазы. Скала эта и до настоящего времени показывается старожилами за «Откликным Гребнем» (рис. 1).
 Рис. 1. «Чертова скала» в Большом Урале.
Рис. 1. «Чертова скала» в Большом Урале.
Среди египетских письмен есть одно, наименование которого Менкаура — камень твердого солнца
[27] — вероятно, по общепринятому толкованию египтологов — алмаз. Жрецы мемфисского толка приписывали этому камню чудесное свойство «ужасом усыплять» человека. Для этого (по Brugsch’у) алмаз клали в ящик, наполненный землей, привозимой из Тейдобы, и оставляли в ней на целую ночь новолуния.
Потом камень вставляли в стену совершенно темной комнаты и вводили человека для опыта.
Оставшись в одиночестве, человек вдруг замечал, что из угла комнаты к нему с необычайной скоростью стремится яркое острие (рис. 2-й).
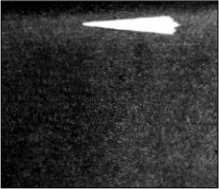 Рис. 2. Острие, излучаемое алмазом.
Рис. 2. Острие, излучаемое алмазом.
В ужасе он оставался неподвижным. Таким образом был наказан фараон Аменомхаат III, подвергнутый мучениям длительного страха, после чего он онемел
[28].
В настоящее время наука дала объяснение этому «чудесному» явлению. Земля из Тейдобы была, вероятно, радиоактивной, а, как известно, лучи радия и тория вызывают в алмазе и в некоторых драгоценных камнях свечение.
IV
Целый ряд камней, по одному своему виду, дал повод к созданию легенды о происхождении их из воды. Таковы синие и голубые сапфиры, аквамарины и аметисты. Их цвет и прозрачность напоминают воду различных оттенков.
Бразильская легенда о том, что задолго еще до Колумба и до знакомства европейцев с Новым Светом, в Бразилию прибыл на челне неизвестный человек с мечом у пояса и злыми глазами на худом и порочном лице, — очень интересна. Пришелец был чужестранцем, и туземцы боялись его и избегали, но он говорил их языком и умел проникнуть повсюду, где собиралась толпа. Чужеземец говорил, что скоро прибудут из-за моря белые люди и принесут с собой новую веру, из-за которой убивают людей и жгут селения. Он призывал дать отпор пришельцам и бороться с новой верой. А когда пришли христианские монахи и начали проповедовать слово Божие, чужестранец соскочил с высокой скалы в мере и ушел под воду. И от падения этого человека от берега отхлынул океан и не вернулся.
Остались лишь прибрежные пещеры (гроты Дель-Сольвенец), далеко идущие под землей, а в них на дне остались следы бившихся здесь волн, а на сводах — сверкающие капля вдруг окаменевшей воды. Это были сапфиры, аквамарины, синие бериллы и фиолетовые аметисты, из-за которых в очень скором времени начались раздоры между туземцами и пришельцами, кровавые бои, измена и предательство с обеих сторон. Так отомстил страшный пришелец за неповиновение ему и за отказ туземцев Бразилии бороться с верой Христовой, ибо был это дьявол (рис. 3-й)
[29].
 Рис. 3. «Дьяволовы пещеры» — грот Дель-Сольвенец в Бразилии.
Рис. 3. «Дьяволовы пещеры» — грот Дель-Сольвенец в Бразилии.
С этой легендой сходны легенды о связи чувств людей и различных камней. Без сомнения, наибольшее число легенд относится к рубину — камню крови и любви, и к изумруду — камню ненависти и осторожности.
Все предания, как индо-персидской, так и индо-китайской груш, весьма между собой сходны — и говорят, что эти красные, как кровь, камни родились при первой встрече двух начал — небесного и земного, — в чем, например, Schiffier видит первые элементы представления о двух полах; другие сказания повествуют о том, что рубины — это капли крови, пролитой, по египетскому мифу, великим Ра, убившим за неповиновение ему своего внука Шу.
В египетских папирусах и на глиняных пластинах встречается ряд указаний на способ гадания при помощи рубина.
«Выйдите в ночь полнолуния, — переводит Brugsch
[30]одно из таких повествований, — на берег моря и отдайте свою лодку во власть волн, прилива и отлива. Потом, когда скроется вдали берег, наведите на яркую луну красный камень „габ“
[31] и произнесите трижды слово „Ра“. Вы узнаете тогда, что, если вы любимы, на светлом лике луны закопошатся темные пятна и образуют две припавшие друг к другу головы» (рис. 4-й).
 Рис. 4. Вид луны при гадании «габ».
Рис. 4. Вид луны при гадании «габ».
Из истории известно, что Нерон в качестве лорнета употреблял шлифованный изумруд. Такое применение изумруда не было случайным, но имело освященное преданиями и поверьями основание.
Занесенное, вероятно, из Индии предание гласит, что, если взглянуть на уходящего человека сквозь изумруд, можно узнать, злоумышляет он или нет. Над головой человека видна тогда грозящая и проклинающая рука (рис. 5-й)
[32].
 Рис. 5. Грозящая и проклинающая рука, видимая сквозь изумруд.
Рис. 5. Грозящая и проклинающая рука, видимая сквозь изумруд.
Бэльсфорд в своем путешествии по Сиаму описывает («The Adventure of Siam», 1885), что в одной из пагод бонзы установили культ изумруда, называя его «блеском грани жизни». В этом храме происходят исцеления припадочных, сумасшедших и «бесом одержимых». Для этого в слабо освещенном приделе огромной пагоды перед глазами пациента быстро вращают огромный изумруд, образующий световые круги с яркой точкой в центре. Очень скоро больной впадает в транс и долго спит. После нескольких таких сеансов, припадки ослабевают и случаются реже. Интересны утверждения бонз, что возле человека, впавшего в состояние оцепенения, сидит и стережет его смерть, и тогда достаточно вспугнуть его, внезапно разбудить, чтобы смерть кинулась на него и прекратила его существование (рис. 6-й).
 Рис. 6. «Блеск грани жизни» (лечение припадочных изумрудами в Сиаме).
Рис. 6. «Блеск грани жизни» (лечение припадочных изумрудами в Сиаме).
Целый ряд второстепенных драгоценных камней (тигровый, кошачий, птичий, рыбий глаз и др.) имеют также свои легенды, но они мало характерны и, глазное, гораздо более позднего происхождения, чем приведенные выше.
Кроме этих легенд и
поверий, каждый сколько-нибудь известный драгоценный камень имеет свою историю и подчас очень древнюю, как, например, история Ко-и-нора, но эти предания не мифологического или ритуального происхождения, а потому не относятся к теме настоящего очерка.
ПРИЛОЖЕНИЯ
СОВРЕМЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО КИТАЙЦЕВ
«Сожмите сердце и примите жизнь».
Из китайских изречений
Знакомясь на месте с современной китайской литературой, приходится иметь дело с двумя главными источниками, откуда можно черпать сведения о творчестве жителей древнего Пэ-Синя (Китая): прессой и бродячими рассказчиками-певцами. Книг в Китае нет, кроме тех, конечно, которые хранятся в библиотеках и являются достоянием богдыхана, государства или храмов.
Газеты и журналы: «Пекинг-бао», «Нанфанг-бао», «Чонг-вай-дзе-бао», «Че-бао», «Фонг-йя-бао», «Фенг-тзен-куаи-бао», «Чунг-Коуок-бао», «Шенуг-бао», «Син-че-киай-ки», «Янг-синг-бао», «Ченг-Фоа-бао», «Тци-той-еи-гау-санг-бао» и «Иен-тчеун-ю-бао» (журнал для девушек) — вот вся пресса Срединной Империи. В фельетонах этих изданий, — кстати сказать, очень распространенных, — помещаются оригинальные романы китайских беллетристов. «Недавние нравы китайского народа», «Дурная дочь», «Новые воспитатели», «Уснувший лев» — вот те романы и повести, которые за последнее время появились в китайской прессе и вызвали известную сенсацию.
Лишнее, кажется, говорить, что общий тон этих романов — тенденциозный и патриотический. Девиз «Китай для китайцев», вражда к манчжурской династии, к мандаринам — взяточникам и развратникам, мечты об освобождении Китая из-под негласной власти чужеземцев — тот фон, на котором авторы развивают фабулу своих сочинений. Рядом с таким политическим направлением существует другое, в котором чередуются — неумолимая и жестокая насмешка над вековым сном и ископаемыми нравами и законами Китая, сатира на мандаринов, привыкших проводить все досуги в домах разврата и азарта и случайно попавших в число советников трона, трогательные рассказы о судебных ошибках, когда казнят невинных, — и заканчиваются иногда каким-нибудь сборником псевдо-древних изречений, в котором в одно целое сплетаются социализм, индивидуальный анархизм и выводы положительных наук.
Образцом такого произведения являются «Книги Ин» (человека). Вот что говорит, между прочим, автор словами своего героя, полубога Ни-Ина:
Я — Ни-Ин. Люди считали меня богом, чем-то непонятным и страшным, суровым, безжалостным существом. Они слепы или безумны. Я — Ни-Ин. Спокойно текла моя жизнь, моя жизнь для меня.
Однажды спросили меня: что такое жизнь? Я долго думал. Четыре понятия рождал мои мозг: Жизнь — свобода — счастье — мысль.
И я ответил низко склонившимся передо мной безумцам:
Жизнь — это время, пока я говорю: Я — Ни-Ин.
Если я, Ни-Ин, умираю, для меня исчезают время и пространство. Это — смерть.
Счастье — свобода. Свобода чувств, желании, поступков. Свобода без границ, без законов, без цепей. И нет в природе иного счастья.
Бога и властелина создали люди, боящиеся свободы и света и ждущие от созданных ими существ нового счастья, которое никогда не придет…
«Книги Ин» являются, вероятно, единственным произведением, в котором автор попытался сделать выводы из известных ему европейских философских учений и научных теорий, придавая своему сочинению дидактическую и тенденциозную окраску. Форма, в которой написаны «Книги Ин», очень поэтична и по своей лаконичности напоминает некоторые произведения Ницше. Нельзя обойти молчанием одного обстоятельства. Автор «Книг Ин» во второй главе высказывает ту же самую мысль, которую определенно формулировал великий натурфилософ наших дней, Вильгельм Оствальд. Вот что говорит Ни-Ин своим слушателям:
Я хочу вам сказать всю простую правду о природе, о которой вы думаете с каким-то страхом, как о чудовищах, населяющих соленые воды Ша-лэй-Тяня.
Время, пространство и различимое в них — вот все, что называется природой и будет так называться, пока по черной земле ходит человек. Это давно знают мудрецы и дети…
Как можно заметить, формулировка понятия о природе у автора «Книг Ин» вполне совпадает с определением природы, данным в некоторых сочинениях великого современного химика и философа.
Романтический элемент в произведениях, помещаемых в газетах и журналах, занимает второстепенное место, причем авторы очень часто, покидая на время фабулу, увлекаются изложением государственных и общественных идей, заполняя ими целые главы, не заботясь о связи их с развитием действия романа или повести. Зато ирония удается китайцам. Она злобна, хлестка и обладает тем простодушным и вместе с тем циничным реализмом, который бьет по нервам читателя. Приводим для примера отрывок из сатиры «Тин-дзы-ин» («Золотой человек»), написанной на Юань-ши-кая:
Когда он встанет с мягкого ложа — он бьет слугу и обижает его бранным словом.
Когда он по улице тихо идет — он любит говорить о судьбе бедняков.
Когда он стоит, окруженный толпой, он сулит горы счастья.
Но во дворце на Пей-хо он — угодлив и, молча, спокойно казнит.
Когда же, домой воротясь, заметит он слугу — он бьет его снова.
Угадай же, житель Пэ-синя, о ком я пропел тебе песню?
Кто тот, кто на волка, лисицу, собаку похож?
Кто людей, лишь как добычу свою, признает?
Кто строить себе из тел их, из крови палаты?
Кто продает обещания за деньги и за деньги от них готов отказаться?
Должно вообще сказать, что по природе своей китаец чрезвычайно вдумчив, а поэтому он подмечает такие мелочи, которые позволяют ему одним штрихом, одним словом сразу обрисовать человека и событие. Китаец — философ и прирожденный циник. Эти два свойства, как нельзя ярче и полнее, выразились в его сатирическом даровании.
Другой источник, из которого можно почерпнуть обильный материал о современной словесности Китая, — это бродячие певцы и рассказчики. Под звуки трехструнной скрипки (ху-тя), певец быстрым речитативом, растягивая концы строф, поет древние легенды о боготворимом Юань-Шин-дао-Фай, о красавице Сын-Ти, околдовавшей трех богдыханов, пока наконец ее не убил Ли-Сан-Чу, о тайне и ужасах храма Амо-Ни-Джан, о великом и мудром Ляо-Дзы. От древних легенд певец переходит к воинственным песням, в которых славит не только давно умерших героев, но и тех, кого знают и помнят слушатели. Часто эти песни упоминают имена невинно казненных героев революционных вспышек, за последние годы так часто волнующих Срединную Империю. Вот наиболее часто исполняемая песня:
За свободу Пэ-Синя с оружием поднялся Кон-То.
Он решил прогнать чужеземцев за горный хребет зеленого Мо-То-Линя.
И ушел он из дома, прощальный пославши привет старикам-родителям и друзьям.
Тайная тревога шевельнулась на сердце чужеземцев.
Они золото шлют мандаринам и просят:
«Убейте Кен-То! Он, восставший на нас, жить дольше не может!»
Ушли мандарины, и… скачут убийцы-гонцы.
Схватили героя. Он спал на рисовом поле, утомленный в бою, что кипел у Тзы-и-ноя.
И, злобно смеясь над Кен-То, мечтавшим о воле,
На рынке они казнили его…
Много таких песен создало боксерское восстание. Иногда в этих песнях прославляется какой-нибудь былинный богатырь и кажется порой, что песня безобидна. Но, вслушавшись, можно заметить, что каждый ее куплет оканчивается припевом:
Нас предают … нас на гибель ведут мандарины, князья!
Восстаньте же, люди Пэ-Синя, и скиньте ярмо векового врага!
До сих пор эти песни живут еще в народе, и часто приходится слышать такие припевы, в которых угрожают смертью давно уже умершему «продавцу своего отечества», князю Ли-Хун-Чангу.
Пользуются успехом у слушателей песни, исполняемые нараспев и состоящие из поговорок, пословиц и других проявлений народной мудрости. Например:
Кто чужую власть принимает —
Тот своей родине причиняет вред.
Неравенство служит началом раздела.
Богатство — сокровище одной жизни.
Мудрость — богатство всех времен и поколений.
Кто не решится пойти в логовище тигра —
Тому не отобрать его детенышей.
Берегись красивых женщин!
Они — как красный перец.
Журавль не строит гнезда на гнилом дубе.
Богдыхан — богдыхан народа, но не богдыхан страны.
Можно говорить ложь —
Если она похожа на ложь.
Нельзя произносить лжи —
Если она похожа на правду.
Эти поговорки и пословицы подхватываются слушателями и поются хором, оставаясь в памяти и часто повторяясь.
Особое место занимает эротика. Она гораздо более развита в словесной передаче произведений различных, часто неизвестных авторов, чем в прессе, которая, как я уже упоминал, отводит романтическому элементу второстепенное место. В последние годы прославился своими эротическими произведениями Фай-Сян, сам бродячий певец, китайский менестрель, песни которого записывал, между прочим, Октав Мирбо, построивший на них не одну главу своего «Сада пыток». Некоторые песни не могут быть переданы по цензурным условиям, и, должно заметить, не потому, чтобы они были слишком циничны или грубы — наоборот — в них чувствуется известная художественность, но зато они поражают извращенностью воображения. Эротические песни, а в том числе и песни Фай-Сяна, — это короткие произведения, воспевающие восторги физической любви и проповедующие необходимость забвения от жизни, которую можно перенести, лишь «сжавши сердце». Приведем одну из песенок Фай-Сяна, называемую «Звено»:
От вас пышет огнем и страстно зовут, молча кричат глаза…
Цепки и длительны прикосновения. Тяжело дышит грудь…
Так тянутся друг к другу алые астореи, дурманя и желая.
Так убивают они себя и так, сплетаясь, замирают.
Не ищите законов, обычаев, привычек в любви и страсти!
Они не знают их. Непокорные и властные, они умеют лишь повелевать.
Нет стыдливости в страсти и нет выше закона,
Чем наслаждение и трепет тел…
Схватившись в страстном порыве, впившись в тело губами,
Застывши в напряженном безумии —
Забудьте жизнь с ее горем, бедой и злобой.
Страсть убивает всю память о прошлом
И миг вам дает. А он — наслаждение…
Описывая любовные сцены и передавая речи влюбленных, авторы-эротики обнаруживают крайнюю изобретательность и богатство фантазии, что впрочем, неудивительно, если вспомнить ритуальные изображения самых интимных человеческих отношений, общую развращенность китайцев и существующие кое-где в Южном Китае сексуальные культы.
Во всяком случае, можно смело сказать, что в смысле чистой эротики китайцы большие художники.
Китай просыпался медленно. И теперь еще лишь верхние слои огромного человеческого моря, раскинувшегося от берегов Великого океана до мрачных склонов западного Памира, всколыхнулись. События последних лет: китайско-японская война, занятие китайских областей, начиная с 1898 г., международная карательная экспедиция 1901 г. в Небесную Империю, грабеж Пекина и манчжурских городов, бессмысленное и жестокое потопление китайцев в Благовещенске — все это разбудило национальное сознание, которое, проснувшись, постепенно углубляется в массе населения Китая. Сначала это национальное чувство едва теплилось в народе, сознавшем свою государственную беспомощность, но победа Японии над Россией дала толчок всем азиатам, придала бодрости китайцам, разожгла в них патриотизм, становящийся все более и более пламенным и искренним.
— Судьба Индии нас не коснется! — говорили мне образованные китайцы и прибавляли: — Мы проснулись и теперь долго будем бодрствовать!
На почве растущего патриотизма возник, конечно, целый цикл песен революционных и националистических. Я приведу две песни, пользующиеся в Китае большой популярностью. Одна из них — «Гимн Свободы», распеваемый на юге Китая и считающийся китайской «Марсельезой».
О, свобода! Ты — наилучший дар небес!
В мире рожденная, — ты на земле источник всех чудес.
Как разум величавая, могучая, как гигант, хватающий облака.
В колеснице туч ты мчишься; твои кони — порывы тайфуна.
Приди же править землею!
Сжалься над мрачной бездной рабства!
Приди и ярким солнечным лучом рассей неправду.
О, бледная Европа! Ты — дщерь распутная небес!
Хлеба и вина ты производишь в изобильи.
Мы же любим лишь свободу, мечтаем лишь о ней,
Как о дне, залитом солнцем, как о вечере прекрасном.
Мысль наша витает вокруг несчастной родины,
И знаем мы, что свобода так неуловима, что трудно добыть ее.
Горе нам! Наши братья томятся в цепях.
Как нежен ветерок и как сверкает на траве роса!
Ароматом дышат пестрые цветы!
И люди гордо смотрят, как цари.
Но не забывайте, что наш народ страдает,
И в Пекине склоняет главу свою
Перед властителем жестоким, богдыханом Пэ-Синя!
Увы! Исчезла тень свободы.
И, как безбрежная пустыня, мрачна вся Азия-великан!
Двадцатый век пусть позовет к работе всех!
Мы новый храм построим общей жизни.
Плечом к плечу, отважные, могучие борцы.
Реформы вырывайте у земли и неба!
Пусть весь народ могучий клич издаст,
И этот клич достигнет вершин туманных
Седого Куанг-Лен!
Вашингтон, Наполеон! — великие сыны свободы!
Придите к нам и нам отдайте жар своей души!
А ты, Гин-Юн, наш славный предок, веди на бой!
О, дух свободы, явись, явись и помоги!
Вторая песня еще более ярко подчеркивает вражду китайцев к манчжурам и их династии, овладевшей троном богдыханов, а также к иностранцам, которых влечет в Китай лишь безграничная алчность. Эта песня — «жалобы страны мертвых». Вот ее текст, приводимый дословно:
Подул с запада ветер и повсюду бросил зерна грусти.
Срединное царство замолкло и спит сном страны мертвых.
Мчась на конях, темной ночью налетела стая манчжур,
И было их столько, что, казалось, пылью серой покрылась страна.
Лишь солнце из-за Лье-Си показалось, уж разрушены наши жилища,
И погнали нас глубокою ночью в ряды ненавистных полков,
На службу и в рабство манчжуров!
О, ужас! На севере огнем нас пугала комета
И предвещала паденье великого царства!
Потом темнота наступила, молчанье глубокое, и вопли раздались внезапно.
Повсюду кости белеют… Как грустно!
Мы — мертвых страна…
Подул с запада ветер и принес лишь горе и муку.
Но никто не вышел на бой за свободу.
Белые флаги кричали о рабстве, неволе, цепях.
И пришли тогда из Европы войска.
Мрак лишь спасает нас от боязни.
Но вслушайтесь в страшные звуки беззвездной ночи!
Слышите ли вы, как во дворце в Пекине пируют чужестранцы?!
Как брешь пробивают в стене данные им права.
И продают им наш древний, славный Китай.
Они золотом грузят свои корабли, мы с голоду мрем и молчим.
Вожди иностранцев в разгуле и песнях проводят все дни.
Но никто не знает наших страданий, не слышит наших воплей!
Никто не видит слез Китая… Все молчит кругом.
Увы! Повсюду унынье, повсюду скорбь одна.
Мы — мертвых страна!
Приведенные выше две песни революционного содержания представляют собой лишь лучшие произведения в этом роде, но ими не ограничивается обширная литература этого направления.
Заканчивая настоящий очерк, я не могу не отметить, что Китай — это страна таинственных сил души и ума человеческого, и от граждан проснувшейся страны мировая культура, без сомнения, получит много ценных вкладов.
Но, конечно, прежде всего этот великий народ должен забыть грустные слова любимой песни:
Счастье не было для меня потоком вдохновений.
Песню мою заглушала насмешка врагов.
Моя жена стала презренной блудницей,
А родина — мрачной тюрьмой…
СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ ПОЭТА ЛИ БО, ВОСПЕВАЮЩИЕ ПРИРОДУ
В. Алексеев перевел с китайского языка четыре стихотворения поэта Ли Бо и сделал это умело, искусно лавируя между Сциллой и Харибдой умышленно-подражательного стиля и изысканных слов одного из самых блестящих поэтов Небесной Империи. Переведены два очень похожих друг на друга стихотворения: «Мне жаль последних дней весны!» и «Весенняя грусть», а также «Ясная осень, скорбные строфы» и, наконец — «Весенняя ночь и пир во фруктовом саду». Многие строки этих стихотворений прекрасно передают бурный и вдохновенный подъем Ли Бо, близкий и понятный нам, европейцам.
— Погружаюсь в стих — и песнь моя жалобна.
— Гляжу на небо и вижу, как несется караван гусей, постепенно тая вдали.
— Пьянею грустью у плакучей ивы…
— Но и грусть и радость в бесчисленной толпе человеческих ощущении как-то одновременно пробуждаются и единятся на этом благоуханном празднике природы.
— Опадает лотос. Река подернулась осенними красками. Долгий-долгий ветер… Длинная, длинная ночь.
— Слушайте, если мы сейчас же не приступим к стихам, то в чем же мы выразим свои красивые, тонкие мысли?
В заключительной фразе переводчика слышится обещание приступить к полному переводу сочинений Ли Бо. Это намерение можно только приветствовать. Ли Бо — это «Сехойлян» (т. е. поэт, ярко блиставший своим талантом с детства), это достояние самой утонченной, многовековой культуры древнего Пэ-Синя. Поэт для немногих, но зато избранных, отмеченных рукой великой красоты.
ПРИМЕЧАНИЯ
Все произведения публикуются по первоизданиям, откуда взяты и иллюстрации. Орфография и пунктуация текстов приближены к современным нормам; безоговорочно исправлены несомненные опечатки. Имена, географические названия и термины, как правило, оставлены без изменений.
В оформлении обложки использован рисунок обложки первого русского издания книги А. Оссендовского
Звери, люди и боги (Рига: изд. Г. Л. Биркган, 1925).
Эхо седой старины
Впервые:
Новый журнал для всех. 1909. № 11, сентябрь.
Ночь в храме Амо-Джан-Нин
Впервые:
Весь мир. 1911. № 18.
Сочельник в старом замке
Впервые:
Жизнь и суд. 1913. № 15.
Ложа Священного Алмаза
Впервые:
Аргус. 1913. № 7, июль.
Ночной посетитель
Впервые:
Новый журнал для всех. 1911. № 37, ноябрь.
Бег конца
Впервые:
Огонек. 1913. № 11, 17 (30) марта.
Тайна старого театрального дома
Впервые:
Огонек. 1912. № 52, 25 декабря (7 января).
Мисс — псевдоним худ. А. В. Ремизовой-Васильевой.
Клад атамана Очерета
Впервые:
Мир приключений. 1914. № 8.
Тайна трех смертей
Впервые:
Огонек. 1913. № 41, 13 (26) октября.
Рассказы А. Оссендовского нередко можно объединить в условные «циклы» или «серии», что позднее делал сам автор в своих польских книгах. Таковы, к примеру, рассказы о жизни на Дальнем Востоке и золотых приисках либо ряд произведений, объединенных образами «старого Петербурга» (откуда мы вынесли в данный том, как фантастический, рассказ
Тайна старого театрального дома). Рассказ
Тайна трех смертей, как и два последующих, относится к условной серии, посвященной русским студентам или исследователям за границей и также не лишенной фантастических элементов либо прямой фантастики. В качестве свидетельства «алхимических» и оккультных увлечений Оссендовского см. помещенный ниже очерк
Кровь за знание.
Из жизни старого университета
Впервые:
Новое слово. 1914. № 8, август. Незначительные лакуны в доступном нам экз. издания восстановлены по смыслу.
Дуэль Старцева
Впервые:
Аргус. 1913. № 4, апрель.
Бушидо
Рассказ взят из авторского сб.
Szkarlatny kwiat kamelii («Алый цветок камелии: Рассказы из японской жизни», 1928). Русский пер. впервые:
Часовой (Париж). 1932. № 71, 1 января.
Харакири
Рассказ взят из авторского сб.
Szkarlatny kwiat kamelii («Алый цветок камелии: Рассказы из японской жизни», 1928). Русский пер. впервые:
Часовой (Париж). 1933. № 98, 15 февраля.
Кровь за знание
Впервые:
Аргус. 1913. № 11, ноябрь, под псевд. Марк Чертван.
Очерк насыщен различными выдумками, частью заимствованными из расхожего оккультизма нач. XX в., частично же принадлежащими, видимо, самому автору; комментирование их не входит в наши задачи.
Легенды и поверья о драгоценных камнях
Впервые:
Новое слово. 1914. № 6.
Современное творчество китайцев
Впервые:
Аполлон. 1911. № 7.
Стихотворения в прозе поэта Ли Бо…
Впервые:
Аполлон. 1911. № 8, за подписью А. Осс-ий.
Рецензия посвящена брошюре будущего акад. В. М. Алексеева (1881–1951)
Стихотворения в прозе поэта Ли Бо, воспевающие природу (СПб., 1911, отд. оттиск из
Записок Восточного отделения Императорского Российского Археологического о-ва. Т. XX (1910), вып. II–III, 1911).
Примечания
1
Исключением являются рассказы
Бушидо и
Харакири, вошедшие в первый том: эти два авторизованных перевода, напечатанные в 1932-33 гг., включены нами по той причине, что они представляют собой, видимо, последние прижизненные русские публикации писателя.
(обратно)
2
Пэ-тьен — год (
Здесь и далее прим. авт.).
(обратно)
3
Подарки при обряде сватовства.
(обратно)
4
Солнца.
(обратно)
5
Китай.
(обратно)
6
Столетие.
(обратно)
7
Tenez! — здесь: «Держите ее!» (
фр.).
(обратно)
8
…«Osservatore Romano» — точнее, L'Osservatore Romano («Римский обозреватель»), ежедневная газета Ватикана, не являющаяся, однако, официальной; была основана в 1861 г.
(обратно)
9
…
мариавитом — Движение мариавитов возникло в Польше в конце XIX — нач. XX в. как реформистское течение внутри католической церкви, от кот. откололось в результате конфликта с епископами, оформившись как независимая христианская конфессия.
(обратно)
10
…О Venus!.. aedem — «Царица Гнидоса и Пафоса, Венера, / Оставь любимый Кипр и с радостным челом / Туда, где ладаном зовет тебя Глицера, / Сойди в красивый дом» (Гораций,
Оды I, XXX, пер. А. Фета).
(обратно)
11
…«Сагре diem!» — букв. «Лови день», т. е. «лови минуту», «наслаждайся моментом» (
лат.), крылатое выражение, взятое из
Од Горация.
(обратно)
12
…«Le chevalier de l’Aubel» — «Шевалье де л’Обель» (
фр.).
(обратно)
13
…Berichf'ов — Bericht — здесь в значении «отчет, протокол опыта» (
нем.).
(обратно)
14
…
Рудольфа Слепого — под этим прозвищем известны пфальцграф Рейнский Рудольф II и второй курфюрст Саксонии Рудольф, оба жившие в XIV в.
(обратно)
15
…«Handbuch» — т. е. справочник, руководство (
нем.).
(обратно)
16
…
Ренана — имеется в виду французский философ, историк религии и писатель Э. Ренан (1822–1892).
(обратно)
17
…
Schutzmann’ы — Schutzmann — полицейский (
нем.).
(обратно)
18
…«Chat noir» — «Черный кот», знаменитое кабаре на Монмартре (1881–1897). В рассказе, возможно, имеется в виду одноименное заведение, открывшееся на бульваре Клиши в 1907 г.
(обратно)
19
…
Тихо движутся в тумане — Так у автора, вместо «Тихо плавают…»
(обратно)
20
…
Каншаку — друг, соучастник в церемонии харакири.
(обратно)
21
…
Пиобб — П. Пиобб (1874–1943), французский журналист и эзотерик, считавший себя представителем «научного» оккультизма. В 1910 г. под загл.
Древняя высшая магия на русском яз. вышел вольный перевод его популярного труда
Formulaire de Haute Magie (1907).
(обратно)
22
М. Berthelot. «Les origines de l’alchimie». Paris, 1885.
(обратно)
23
«The Indian Cults of Extensivity». Boldt, 1906.
(обратно)
24
См. Schroder, «Gruhdriss des Indo-arisch. Philologie», 1899.
(обратно)
25
Китаем.
(обратно)
26
Гребецкий, И. О. «Урал и его историческое прошлое».
(обратно)
27
Brugsch, Е. «Aegyptologie».
(обратно)
28
Meltier, H. «Aegyptologie».
(обратно)
29
Pablo Lopez. «Historia Americana Christianismi», 1775.
(обратно)
30
Brugsch, E. «Aegyptologie».
(обратно)
31
Mornier считает, что габ — это рубин.
(обратно)
32
Dürkoff. «Grund. des Beschocrungs».
 (обратно)
(обратно)
Оглавление
ТАЙНА ТРЕХ СМЕРТЕЙ
От составителей
ЭХО СЕДОЙ СТАРИНЫ
НОЧЬ В ХРАМЕ АМО-ДЖАН-НИН
СОЧЕЛЬНИК В СТАРОМ ЗАМКЕ
ЛОЖА СВЯЩЕННОГО АЛМАЗА
НОЧНОЙ ПОСЕТИТЕЛЬ
БЕГ КОНЦА
ТАЙНА СТАРОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ДОМА
КЛАД АТАМАНА ОЧЕРЕТА
ТАЙНА ТРЕХ СМЕРТЕЙ
ИЗ ЖИЗНИ СТАРОГО УНИВЕРСИТЕТА
ДУЭЛЬ СТАРЦЕВА
(Из жизни русских студентов)
БУШИДО
ХАРАКИРИ
ОЧЕРКИ
КРОВЬ ЗА ЗНАНИЕ
ЛЕГЕНДЫ И ПОВЕРЬЯ О ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ
ПРИЛОЖЕНИЯ
СОВРЕМЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО КИТАЙЦЕВ
СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ ПОЭТА ЛИ БО, ВОСПЕВАЮЩИЕ ПРИРОДУ
ПРИМЕЧАНИЯ
*** Примечания ***

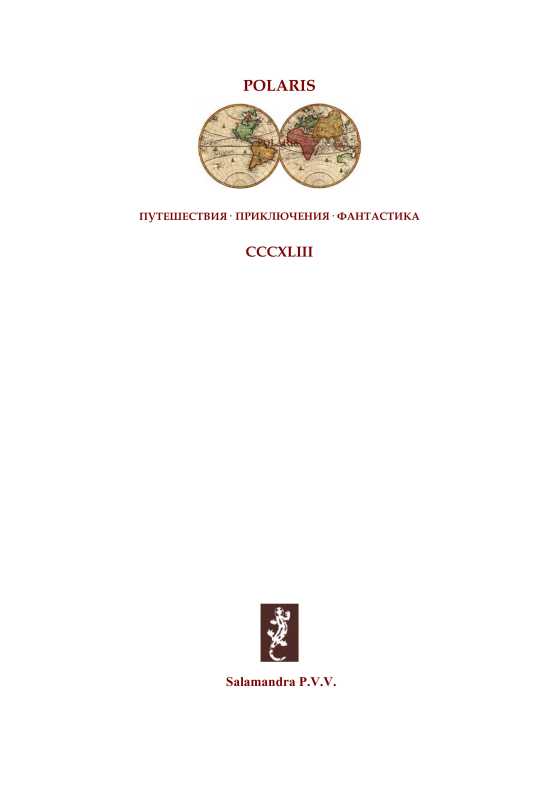

 ТАЙНА ТРЕХ СМЕРТЕЙ
ТАЙНА ТРЕХ СМЕРТЕЙ
 НОЧЬ В ХРАМЕ АМО-ДЖАН-НИН
НОЧЬ В ХРАМЕ АМО-ДЖАН-НИН





 СОЧЕЛЬНИК В СТАРОМ ЗАМКЕ
СОЧЕЛЬНИК В СТАРОМ ЗАМКЕ


 ЛОЖА СВЯЩЕННОГО АЛМАЗА
ЛОЖА СВЯЩЕННОГО АЛМАЗА



 БЕГ КОНЦА
БЕГ КОНЦА


 ТАЙНА СТАРОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ДОМА
ТАЙНА СТАРОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ДОМА


 КЛАД АТАМАНА ОЧЕРЕТА
КЛАД АТАМАНА ОЧЕРЕТА
 ТАЙНА ТРЕХ СМЕРТЕЙ
ТАЙНА ТРЕХ СМЕРТЕЙ
 КРОВЬ ЗА ЗНАНИЕ
КРОВЬ ЗА ЗНАНИЕ
 ядом с быстрым и блестящим развитием современного знания идет кажущееся таким странным в наши дни изучение тех явлений, вызывание которых в Средние века влекло за собой неминуемую гибель в тюрьме, на костре или на плахе.
Первый толчок научной алхимии дал покойный М. Бертело, знаменитый химик, последние годы своей жизни посвятивший исследованию памятников глубокой древности.
ядом с быстрым и блестящим развитием современного знания идет кажущееся таким странным в наши дни изучение тех явлений, вызывание которых в Средние века влекло за собой неминуемую гибель в тюрьме, на костре или на плахе.
Первый толчок научной алхимии дал покойный М. Бертело, знаменитый химик, последние годы своей жизни посвятивший исследованию памятников глубокой древности.




 Одно из украшений «школы алхимиков».
Одно из украшений «школы алхимиков».


 Рис. 1. «Чертова скала» в Большом Урале.
Рис. 1. «Чертова скала» в Большом Урале.
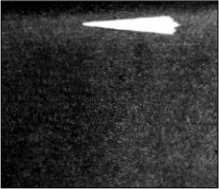 Рис. 2. Острие, излучаемое алмазом.
Рис. 2. Острие, излучаемое алмазом.
 Рис. 3. «Дьяволовы пещеры» — грот Дель-Сольвенец в Бразилии.
Рис. 3. «Дьяволовы пещеры» — грот Дель-Сольвенец в Бразилии.
 Рис. 4. Вид луны при гадании «габ».
Рис. 4. Вид луны при гадании «габ».
 Рис. 5. Грозящая и проклинающая рука, видимая сквозь изумруд.
Рис. 5. Грозящая и проклинающая рука, видимая сквозь изумруд.
 Рис. 6. «Блеск грани жизни» (лечение припадочных изумрудами в Сиаме).
Рис. 6. «Блеск грани жизни» (лечение припадочных изумрудами в Сиаме).
 (обратно)
(обратно)