
E.ШТЕЙНБЕРГ
Утренняя звезда
Исторический роман
Эта книга переносит нас в то далекое прошлое нашей Родины, когда страной правила императрица Екатерина II. Мы видим здесь картины быта отсталой крепостной русской деревни и жизнь северной столицы с ее роскошными дворцами. Мы переносимся к стенам древнего Кремля, освещенных пламенем костров московского «чумного бунта», вместе с героями присутствуем на Болотной площади во время казни Емельяна Пугачева — вождя грандиозного крестьянского восстания, всколыхнувшего всю Россию.
Мы видим смелых вольнодумцев и слышим пламенные речи тех, кто дрался на баррикадах Великой французской буржуазной революции.
Конец XVIII века дал России мужественного и бесстрашного летописца русской действительности — Радищева, который ценой своей личной свободы рассказал людям правду о жестокости и бесправии, царящих на русской земле.
В то время писал свои смелые памфлеты знаменитый Новиков, сочинял оды Сумароков, а гениальный зодчий Баженов возводил роскошные дворцы.
Вместе с русским художником Иваном Ерменевым мы попадаем в Париж и видим штурм Бастилии.
Рядом с писателями, зодчими и учеными трудились и создавали бессмертные ценности безвестные крепостные и мастера, имена которых забыты. Но мы знаем, что их было много и автор книги отдал им должное, избрав их героями своего романа. Кузнец Степан Аникин, актриса из крепостных Дуняша, мальчик Егорушка, ставший ученым-медиком, — все они трудами своими возвеличили Родину.
Написал эту книгу доктор исторических наук, профессор Евгений Львович Штейнберг. Блестящий лектор, которого любили слушать студенты, большой ученый, автор многих научных трудов, он был и талантливым беллетристом. Его книги «Индийский мечтатель» и «Георгий Скарина» (написанная в соавторстве с М. Садковичем) пользуются неизменным успехом. «Утренняя звезда» — его последний роман.
Е. Л. Штейнберг скончался скоропостижно 3 июня 1960 года, работая над корректурой этой книги.
_____
 ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
Почтовая карета, выехавшая из Петербурга, добралась только до Твери. Дальше к Москве не пропускали. Взвалив на спину дорожный мешок, Ерменев пошел пешком. Время от времени он отдыхал на лесных полянках, а на ночь останавливался в придорожных деревнях. Повсюду ему рассказывали об ужасном бедствии, постигшем Москву…
Началось это еще месяцев шесть назад — в канун нового, 1771 года. Привез один фабричный хворую жену на Суконный двор, что у Каменного моста. Лекарь, обнаружив опухоли за ушами, пустил кровь, назначил травяные примочки. На другой день женщина померла, а вслед за ней еще несколько человек, живших по соседству.
И пошло!.. К лету моровая язва разгулялась по всей Москве. Невозможно от нее уберечься ни уксусом, ни огнем, ни молитвой. Проснется человек поутру жив, здоров, а к ночи, глядишь, почернел и корчится в муках, покинутый разбежавшимися в страхе близкими. Лекари — все больше немцы — губят православный народ, а попы и подступиться не хотят к зачумленному дому. Так и мрут люди, без покаяния и святого причастия. Знатные баре умчались из города, сбежал и сам главнокомандующий, граф Петр Семенович Салтыков. Осмелели воры, шарят среди бела дня по чужим погребам, взламывают заколоченные лавки и амбары…
— Видно, конец пришел Белокаменной! — вздохнул мужичок, приютивший путника в подмосковном селе Всехсвятском. — И откуда только взялась напасть?
— Говорят, из Турции, — ответил Ерменев. — Войска наши там в походе. Вот и занесли.
— Из Турции? — недоверчиво повторил хозяин, пощипывая взъерошенную бороденку. — А был иной слух…
— Какой?
— Не из приказных ли будешь? — осведомился мужичок.
Ерменев покачал головой:
— Мастеровой я…
Мужичок окинул его взглядом:
— Одежонка на тебе худая и по обличью, видать, из деревенских.
— Так и есть, — подтвердил Ерменев. — Отец мой конюхом был… Ну, так какой же слух?
Мужичок помялся. Потом, не утерпев, склонился к уху гостя:
— Странник проходил. Сказывал: наслана язва моровая в наказание. Дескать, господь карает за злодейское убиение государя Петра Федоровича.
Ерменев усмехнулся:
— Разве жители московские в том повинны?..
— Ну, значит, Москва-матушка как бы за всю Русь в ответе. Уж так издавна повелось.
— А Русь тут при чем? — насмешливо спросил гость.
— Так странник объяснял… — сказал хозяин и, остерегаясь продолжать спор, замолк.
На другой день, после полудня, путник подошел к заставе. Караул остановил его.
— Назад! — приказал унтер. — В Москву входить не дозволено.
Ерменев подал пакет. Унтер неохотно развернул его.
— А что здесь писано? — спросил он.
Путник прочитал:
— «Императорской Академии художеств исторический живописец Иван, Алексеев сын, Ерменев следует в город Москву по надобности оной Академии…»
Унтер вытянулся.
— Что ж, проходите… Только худо нынче в Москве. Зараза… Мор!.. Может, вам неведомо?
— Слыхал, — сказал Ерменев спокойно.
— Как вашему благородию будет угодно. — Унтер отодвинул рогатку, пропуская путника.
— Это кто же? — полюбопытствовал один из солдат.
— Императорский писец! — важно объяснил унтер.
— Не врет ли?
— Бумагу видал, дурья голова? Герб с царским венцом, края золотые…
Ерменев пошел по Тверской-Ямской.
Во дворах горели костры, и едкий дым, гонимый ветром, взлетал над приземистыми домиками. С разных сторон доносился унылый колокольный звон. Навстречу, громыхая, тащилась телега, покрытая просмоленной рогожей. На облучке восседали двое в широких вощеных балахонах и белых масках. Из-под рогожи торчала почерневшая человечья нога. Порыв ветра дохнул отвратительным смрадом. Ерменев зажал нос и отвернулся.
Под покосившимся заборчиком в пыли сидели ребятишки, погруженные в глубокое, недетское раздумье. Снова послышался грохот колес.
— Мо́ртусы! — вскрикнул один из мальчишек.
Дети бросились врассыпную. Телега въехала в ворота соседнего двора. Страшилища в зловещих нарядах соскочили на землю, в руках у них были длинные железные крючья. Ерменев заглянул во двор. Фурманщики распахнули ставни избы, просунули крючья внутрь. Пошарив, один вытащил крюком труп, другой стал поливать его дегтем.
— Мортусы! — объяснил старичок, подошедший сзади. — Каторжники, бывшие душегубы! Им за это помилованье. Такие-то страшнее чумы, право слово!..
Расспросив старичка, как пройти на Пресню, Ерменев углубился в лабиринт убогих, кривых переулков.
— Не ко времени ты приехал, Иван! Сам видишь…
Сумароков рылся в шкафу, извлекая оттуда вороха исписанных листов. Груды книг, тетрадей, связки бумаг громоздились на столах, подоконниках, креслах, на полу, Ерменев стоял у притолоки.
— Уж не в чужие ли земли собрались, Александр Петрович? — спросил он.
— Как бы не так! — проворчал хозяин, продолжая складывать бумаги. — Сумарокова в чужие земли не посылают… Другие путешествуют, из молодых, да ранние… А Сумарокову, братец, и в Питер съездить не на что. Обобрали, мошенники! В Сивцово, сударь, в Сивцово! — крикнул он фальцетом. — В мою серпуховскую. Деревенька убогая, да своя, никому кланяться не надо.
Он швырнул на кресло последнюю связку, с трудом разогнул спину, отряхнул пыль с камзола.
— Ну, говори, чего ради в Москву пожаловал? Садись вон туда.
Ерменев присел на груду книг, сваленных в угол, и стал рассказывать:
— В запрошлом году окончил я Академию художеств. Но аттестат получил только по четвертому разряду. Оттого к должности не был определен.
— Отчего ж? — с укоризной спросил Сумароков. — Не способен к художеству? Или по лености?
— Ни в том, ни в другом не упрекали, — сказал Ерменев. — Проштрафился. С начальством не поладил.
— Ах озорник! — Сумароков погрозил гостю пальцем. — Да не мне тебя судить, я и сам с начальством не поладил… Продолжай, братец, продолжай!
Живописец рассказал о мытарствах, которые ему пришлось терпеть в течение почти двух лет. Только недавно в судьбе его произошла перемена. Встретил он в академии знаменитого архитектора Василия Ивановича Баженова.
Тот сразу признал Ерменева:
— Как же, помню! Сумароковский протеже. Покровителя твоего высоко уважаю и люблю всей душой!
Сумароков кашлянул и кружевным платочком отер глаза.
— Взял меня Баженов к себе, — продолжал Ерменев. — Зачислил архитекторским помощником второго класса. Жалованье невелико, да зато дело преинтересное. Государыня поручила господину Баженову выстроить в Московском Кремле новый дворец. Великолепное будет здание!.. Вот и послал меня Василий Иваныч сюда: подробно местность описать, обмерить, и прочее.
— Одобряю! — воскликнул Сумароков. — Повезло тебе! В зодческом искусстве нет у нас мастера, равного Баженову. Да и в чужих землях немного таких сыщется. Его в Париже увенчали славой, в Италии… Наконец-то нашлось для него достойное дело, а то ведь по возвращении из Европы с хлеба на воду перебивался. Авось вспомнят и других русских людей, незаслуженно забытых! Радуюсь и ликую!
Он вынул прямо из кармана щепотку табака.
— Да!.. Только не ко времени ты приехал! Чума здесь… Язва моровая!
— Да, пожалуй, не ко времени, — задумчиво сказал Ерменев. — Хотя заразы я не страшусь.
— А я страшусь! — с досадой крикнул Сумароков. — Бегу прочь, словно Орест, преследуемый Эринниями… Уж коли старикашка Салтыков, некогда самого Фридриха одолевший
[1], струсил… умчался, забыв честь и долг, то простым смертным и подавно не в укор… Да тут не только болезнь! Народ озлобился, в отчаяние пришел. А начальство почти все сбежало. Такое начнется, что только держись! Нет, братец, надо уезжать. Нынче же!.. Вот только солнышко зайдет, а то днем совестно… Народ глазеет: баре разбегаются, а простолюдину некуда податься. Совестно!.. Но ничего не поделаешь… Поезжай-ка и ты со мной, Иван! Здесь тяжко: где будешь жить, чем кормиться? Кончится поветрие, вместе воротимся.
Вошел старик камердинер, одетый в потертую, выцветшую ливрею.
— Не извольте гневаться, батюшка, — доложил он. — Еще посетитель…
— Гони прочь! Никого не принимаю.
— Я сказывал, а он — свое.
— Да кто таков?
— Итальянец… Давненько не бывал.
— Бельмонти? — Сумароков снова вынул из кармана горсть табака. — Что понадобилось этому прохвосту?
А непрошеный гость тем временем уже успел протиснуться в приоткрытую дверь. Остановившись у порога, он покорно склонил голову в завитом, напудренном парике, сложил пухлые руки на кругленьком брюшке.
— Je vous demande pardon d’être venu sans permission
[2], — заговорил он по-французски с резким итальянским выговором.
— Да! — прервал его Сумароков по-русски. — Да, синьор! Никто тебя не приглашал. Как же осмелился ты явиться к тому, кого оскорбил смертельно!
— О! — простонал Бельмонта. — Зачем так жестоко! Я пришел объясниться… La grace et la magnonimite de vorte Excellence sont bien connues de tout le monde…
[3]
— Ни объяснений, ни комплиментов ваших мне не надобно, — отрезал хозяин дома.
— Ah monsieur, ne repousser pas un pauvre diable, qui ne désire que de corriger sa faute!
[4] — патетически воскликнул толстяк. — Как говорят русские: «Виноватую голову шпага не режет».
— Экая слезная драма! — усмехнулся Сумароков. — Разыгрывайте их на театре вашем, но не у меня, в доме.
— Верьте мне, Александр Петрович… — На смуглом лице появилась страдальческая гримаса: — Peur moi c’est une question d’honneur
[5].
— Et vous osez parler d’honneur!
[6] — гневно воскликнул Сумароков. — Слышишь, Иван: синьор Бельмонта рассуждает о чести! А сам — мошенник всесветный!..
— Мошенник? — повторил итальянец смущенно. — Mais… C’est trop fort!
[7]
Сумароков вдруг от души расхохотался. Улыбнулся и художник, с любопытством наблюдавший эту сцену, Но Сумароков опять нахмурился.
— Вот что, любезнейший, — сказал он твердо. — Беседовать с вами не имею ни времени, ни охоты. Сношения наши покончены, не пытайтесь разжалобить меня!.. На сем — прощайте.
Бельмонта молчал, его бархатные черные глаза были грустными, умоляющими.
— Слышали вы мой ответ, сударь? — загремел Сумароков и, сжав кулаки, грозно двинулся на посетителя.
Тот, испуганно попятившись, распахнул дверь и скрылся.
Сумароков в раздумье походил по комнате.
— Видал, Иван? — обратился он к Ерменеву, по-прежнему сидевшему в углу. — Паяц вертепный!.. Пульчинелла! Повсюду шатался, гроша медного не нажил. А к нам приехал, мигом фортуну составил. Персона, антрепренер! — Он вздохнул и полез в карман за табаком. — Сперва лебезил передо мной… Еще бы! Ведь я ему и театр выхлопотал, и трагедии мои дал для представления, и актеров обучил. А он, бестия, вместо благодарности снюхался с ненавистниками моими. Немало их, и особы преважные! Сам граф Петр Семеныч Салтыков, например. Гонение на меня повели, комплот
[8] составили, а синьора Бельмонти избрали сих козней исполнителем. Выставили меня всей Москве на посмешище!..
— Это как же? — удивился Ерменев.
— Гнусная история, вспоминать больно и… стыдно! И после мерзкого предательства явиться ко мне! Какое бесстыдство!.. А цель-то какова? Видишь ли, граф Салтыков удрал, а итальянцу без покровителя в Москве никак не возможно. Да еще в столь смутную пору! Вот он опять ко мне на поклон. Знает, каналья: Сумароков сердит, да отходчив… Ох, брат, не могу привыкнуть к низости людской!
— Пора бы, Александр Петрович, — заметил Ерменев улыбнувшись.
— Вот как! — Сумароков снова вскипел. — Нет, государь мой, не привыкну. До гроба, до последнего моего дыханья!.. Разве напрасно прославлял я в трагедиях моих честь, благородство души, высокие помыслы? Разве впустую высмеивал в комедиях льстецов, плутов, лгунов?.. Моим пером заслужил я признательность соотечественников и похвалы просвещеннейших умов Европы. Вот!.. — Он извлек из-за пазухи тщательно сложенную бумагу. — Погляди: это письмо великого Вольтера! Храню его, как святыню, на сердце моем. Знаешь ли, что он мне пишет?..
Снова появился камердинер.
— Готово, батюшка-барин, — сообщил он. — Кладь всю уложили. Можно и в путь.
— Да, да!.. — заторопился Сумароков, пряча письмо. — Прочитаю тебе как-нибудь после. А теперь — пора! Так как же, Иван, поедешь со мной?
— Пожалуй, поеду, — решил Ерменев. — Надеюсь, долго не загощусь…
— А хоть бы и долго. Я только рад буду… Итак, с богом!.. Снеси-ка, Антип, эти вот книги да бумаги, — приказал он камердинеру, — и запрягать!
Вскоре обоз выехал со двора. Впереди, в старомодной, облупленной коляске, Сумароков со своим гостем; на козлах, рядом с кучером, старик Антип. За коляской следовали два возка, нагруженные ящиками, корзинами, баулами, перинами, подушками. Обоз пересек Кудринскую площадь, направился вверх по Никитской. Солнце уже село, наступили летние прозрачные сумерки. Улица была пустынна, только у кабаков толпился народ, раздавались ругань, нестройное пьяное пенье. На Красной площади у заколоченных торговых рядов было особенно шумно.
В центре плотного кольца простолюдинов коренастый паренек лихо отплясывал трепака. Зрители подпевали, ухали, притоптывали.
— П-а-а-ди! — закричал кучер. — Дорогу!
Пляска прекратилась.
Чернобородый мужик в рваном армяке схватил лошадей под уздцы.
— Чего горло дерешь! — огрызнулся он, злобно глядя на кучера из-под косматых черных бровей.
— Торопятся господа, ан чума все равно догонит! — весело крикнул паренек, который только что плясал.
— Пропусти их, братцы! — вмешался русый голубоглазый молодец. — Пусть их едут к… — Он добавил непристойное словцо. — Авось и сами управимся…
Толпа медленно расступилась. Вслед коляске полетели забористая брань, улюлюканье, хохот.
— Слыхал? — спросил Сумароков соседа.
— Не глухой.
— То-то!.. Пока еще цветики, ягодки впереди…
За Москворецким мостом коляска обогнала подростка лет четырнадцати. На нем был малиновый гимназический кафтанчик с голубым воротником и огромными медными пуговицами, на голове — поярковая треуголка.
— Вон Петруша Страхов, — указал Сумароков. — Должно быть, из карантина возвращается, несет отцу сведения об умерших. Позавчера было пятьсот, может, бог даст, нынче на убыль пошло…
Приказав кучеру остановиться, он окликнул мальчика. Тот подошел к экипажу, поклонился, пристукнув каблуками.
— Сколько нынче, Петруша?
— Шестьсот десять, Александр Петрович, — деловито отрапортовал гимназист.
Сумароков только махнул рукой. Мальчик заспешил дальше. Он уже привык к заунывному погребальному звону колоколов, колымагам мортусов, наполненным трупами. Пробегая по опустевшим московским улицам, он не ощущал ни страха, ни уныния. Ему даже нравилось, что взрослые, почтенные люди с нетерпением поджидают его, чтобы расспросить о новостях.
Жили Страховы на Зацепе, у Серпуховских ворот. Петрушин отец был псаломщиком в церкви. Многие церковнослужители либо вовсе покинули Москву, либо попрятались за семью замками. А Иван Страхов, хотя и мог найти приют у родственника, жившего под Рязанью, остался на месте и продолжал исправно исполнять свои обязанности.
Однако он принял всяческие меры, чтобы не допустить заразу в свой дом. Ворота всегда были на запоре. Костер на дворе горел денно и нощно. В горницах дымились курительные свечи, чадили жаровни с древесным углем, по стенам были развешаны корзиночки с чесноком, на столах и полках стояли склянки, наполненные ароматным уксусом.
Старший сын Страхова служил письмоводителем при карантине, а младшему, гимназисту Петруше, отец наказал ежевечерне ходить к брату за сведениями: сколько народу погибло от моровой язвы за день.
2
Федосья Аникина возилась у печи, гремела чугунками, замешивая тесто из ржаной муки. И вдруг напал на нее озноб. Стуча зубами, Федосья прилегла на полати, накрылась овчинным тулупом. Но согреться не удавалось. Потом началась боль во лбу и висках. Перед глазами поплыли огненные круги…
В сенях раздался топот босых ног. В горницу вбежали сыновья.
С трудом приподняв голову, Федосья хрипло проговорила:
— Уходите со двора!.. Зачумела я…
Мальчики остановились на пороге оторопев.
— Матушка!.. Родимая!.. — тихо сказал старший, Васька.
— Бегите, говорю! — через силу повторила мать. — Скорей бегите!
Дети продолжали стоять. Вдруг шестилетний Егор разревелся.
— Ох, мочи нет! Помираю! — застонала Федосья, стуча зубами. — Бегите!..
Василий потянул за руку младшего брата. Егор плакал навзрыд. Васька шагал молча.
У ворот стоял сосед, псаломщик Иван Страхов.
— Чего ревешь? — спросил он ласково и протянул руку, чтобы ущипнуть за ухо малыша.
— Не трожьте! — хмуро предупредил Василий. — Чума у нас. Мать помирает.
Страхов попятился.
— Отцу скажите! — крикнул он вслед мальчикам. — Пусть домой не идет.
— «Пусть домой не идет»! — повторил сердито Васька. — Значит, как собаке, одной помирать?..
Кузня Степана Аникина помещалась в одном из переулков на Ордынке. Когда мальчики пришли туда, дверь была заперта на засов.
— Где ж батя? — спросил Егорка, утирая нос рукавом.
— Я знаю где, — ответил Василий. — Ты вот что, посиди-ка здесь. Я живо сбегаю. Только никуда не уходи!
— Есть хочется, — сказал малыш плаксиво.
— Обожди малость. Вернемся с батей, хлебца принесем…
Петруша Страхов отпер калитку. Лохматый пес, спущенный с цепи, бросился с веселым лаем навстречу. Костер догорал. Мальчик, не заходя в дом, пошел в сарай, принес охапку щепок и сухого навоза. Сникшее пламя вспыхнуло с новой силой, повалил густой, едкий дым.
На крылечко вышел отец.
— Сколько? — спросил он.
Мальчик назвал цифру. Отец в раздумье почесал бороду.
— И у нас беда на пороге, — сказал он. — Кузнеца Аникина жена зачумела… А Васька с Егоркой со двора ушли.
Петруша вздрогнул. Аникины жили рядом, в соседнем дворе. Со старшим из аникинских ребят они чуть ли не каждый день играли в лапту.
— Так вот, — продолжал Иван Страхов. — Их сюда не впускать, и тебе к ним, ежели встретятся, близко не подходить! Понял?
— Понял, батюшка, — сказал Петруша. — Только как же?..
— «Как же, как же»! — в сердцах повторил отец. — Да разве они одни на Москве? Помочь не поможешь, а заразу в дом принесешь. Сказано, и все тут!
— Слушаюсь, батюшка, — покорно сказал мальчик.
Они стояли на крылечке, глядя туда, где за невысоким забором виднелось темное окошко. Там уже безмолвно хозяйничала страшная гостья.
Вдруг к ним донесся невнятный звук. Оба прислушались.
— П-и-и-ть!
— Живая еще! — прошептал Петруша.
Отец снова почесал бороду.
— М-да!.. Пить просит. Их всегда жажда томит…
Он медленно спустился по ступенькам.
— Открыто окошко-то, — заметил он. — Надо сообразить…
Страхов пошел в сарай, вынес длинную обгорелую палку.
— Зачерпни-ка, Петруша, воды в ковшик!
Взяв у мальчика ковш, он привязал его к концу шеста и взобрался на невысокую колоду около забора. Не без труда ему удалось просунуть ковш в приоткрытое окошко.
— Федосья! — позвал Страхов. — А, Федосья!.. Водички испей.
Из окошка послышалось слабое бормотание. Страхов почувствовал, как палка зашевелилась. Он обождал еще немного и отпустил палку. Она с грохотом упала за забор.
Страхов перекрестился, пошел к костру, подержал руки над огнем. Петруша с уважением наблюдал за отцом. Он знал, что немногие отважились бы на такой подвиг.
Егор сидел на траве, подле отцовой кузни. Вокруг было тихо. Где-то протяжно выл голодный пес. Мальчик всхлипывал. Слезы катились по его щекам.
Вдали показался свет, послышался грохот колес. Приближалась похоронная колымага. Один из фурманщиков, сидевших на передке, держал зажженный факел. Багровое пламя освещало белые маски, вощеные балахоны. Ужас вдруг охватил маленького Егора. Ему казалось, что это за ним приехала страшная колесница. Что же теперь будет? Не раз слыхал он, что вместе с трупами и живых сваливают, без разбора, в ямы, далеко за городом. Мальчик побежал прочь. Он мчался что было сил, без оглядки. Телега тащилась медленно, а ему чудилось, будто она летит стремглав. Все громче грохотали колеса, все ближе надвигался звонкий топот копыт. Егор выбежал на площадь. Наперерез ему неслась коляска. Мальчик пронзительно крикнул, метнулся в сторону, споткнулся о камень и упал.
Кучер осадил коней и спрыгнул с облучка. Коляску сильно тряхнуло.
— Что там? — раздался голос Сумарокова.
— Мальчонка! — пробормотал кучер. — Никак задавил!..
Сумароков с Ерменевым вылезли из экипажа. Егор лежал в пыли. Голова его была в крови, глаза закрыты.
— Пойти, что ли, расспросить? — предложил кучер. — Может, кто знает парнишку…
— Да куда идти? — рассердился Сумароков. — По дворам стучаться, что ли? Ночь, глушь… А все ты, разиня! Людей вздумал давить, болван!
— Не моя вина, барин! — взмолился кучер. — Нелегкая его понесла прямо под коней. Вот крест, не виноват!
— Да ну тебя! — досадливо отмахнулся барин и сказал Ерменеву: — Надо взять его с собой… Авось в деревне вылечим.
— Александр Петрович, батюшка! — в страхе воскликнул Антип. — Остерегитесь! А ну как он из зачумленного двора?
Сумароков оторопел. Чумы он боялся больше всего на свете.
— А что, если и впрямь? — проговорил он, взглянув на Ерменева.
Тот пожал плечами:
— Возможно… Вам решать, Александр Петрович.
Сумароков задумался. Художник взял его за руку.
— Я вот о чем подумал, — сказал он тихо. — Я подумал: как поступил бы на вашем месте Хорев?.. Или Синав?.. Или другой герой сумароковских трагедий?..
Сумароков сердито выдернул руку.
— Клади малыша в коляску! — распорядился он.
Ерменев поднял ребенка, уложил на переднее сиденье, отер платком кровь и грязь. Камердинер недовольно крякнул.
— Поворчи, старый хрыч! — в сердцах крикнул Сумароков. — Поворчи еще!
…Васька нашел отца в питейном доме на Варварке. Степан Аникин сидел невдалеке от стойки, за хромоногим столом, сколоченным из грубо остроганных досок. Это и был тот самый русый статный молодец, что недавно на Красной площади изругал уезжавших господ. И чернобородый тоже сидел с ним рядом. Звали его Василием Андреевым.
Завидев сына, Аникин нахмурился. Он не любил, когда жена посылала ребят разыскивать его. Прежде он редко бывал в кабаках, разве что по воскресным дням. Но теперь зачастил: уж больно тоскливо было кругом… А чертова баба не дает душу отвести!
— Чего тебе? — крикнул он. — Сколько раз говорено!

— Батя! — сказал Васька тихо, подойдя к отцу.
Степан занес кулак, но вдруг увидел жалкое, посеревшее лицо мальчика, и рука его опустилась.
— Чего тебе? — повторил он уже не со злобой, а с беспокойством.
Мальчик наклонился к уху отца и зашептал. Рядом орали, стучали кулаками, топотали сапожищами, бранились, горланили песни.
Аникин резко поднялся и, расталкивая толпу плечами, быстро пошел к выходу.
Вася на миг задержался, сгреб со стола недоеденную краюху хлеба и огрызок огурца, спрятал их за пазуху и заспешил вслед за отцом.
У кузни не было ни души. Тщетно они окликали Егорку, шарили под заборами и крылечками. Мальчик словно в воду канул.
— Неужто ко двору вернулся? — испугался Вася. — Я же приказывал не уходить.
— «Приказывал»! — махнул рукой Степан, и голос его дрогнул. — Ведь маленький! Несмышленый еще… Пойдем, Вася, домой!
Еще не дойдя до дома, они почувствовали удушливый запах гари и дегтя. Из-за забора валили клубы черного дыма.
Степан распахнул калитку. Посреди двора пылал костер. Люди в балахонах и масках вытаскивали из избы крючьями разный скарб. В огонь летели подушки, скамейки, корыта. Забор и стены домика были густо вымазаны дегтем. Степан, однако, приметил, что вещи получше — рубахи, сапоги, зипуны — мортусы не бросали в костер, а складывали отдельно.
— Вы что разбойничаете? — неистово закричал кузнец.
— Ступай подале! — ответил один из мортусов. — Не видишь?
— Наша это изба! — сказал Степан, с трудом переводя дыхание.
— Была ваша, а ныне чума тут владеет.
— Федосья! — крикнул Степан и кинулся к дому.
— Стой! — Мортус загородил дорогу крюком. — Увезли твою Федосью. Кончилась!
— Врешь!.. Живую увезли, душегубы!
— Вишь, какой! — вмешался другой мортус. — Еще лается! А ну, братцы, вяжи их — да в карантин!
Мортусы двинулись на Степана. Выхватив из костра горящее полено, кузнец швырнул его в нападающих. Один из них взвыл от боли и повалился. Степан рванул еще полено, метнул в другого. Мортусы отступили. Аникин взял сына за руку и повел его со двора.
3
Золотые стрелки показывают четверть восьмого. В широких окнах брезжит мутное осеннее утро. Пламя свечей трепещет на сквозняке, причудливые тени мелькают по стенам, обитым тисненым шелком.
Императрица за своим письменным столом. Она еще в ночном пеньюаре и чепце. Эти ранние часы она всегда посвящает литературным занятиям. Чего только не выходит из-под ее пера: сатирические комедии и журнальные статьи, памфлеты и законодательные предположения, рассуждения философические, педагогические, экономические.
Теперь она заканчивает большой полемический трактат. Пишется легко. Мысли обгоняют друг друга.
«Цель аббата, — торопливо писала Екатерина, — представить русский народ одичалым и погруженным в крайнюю нищету. Ему хочется, чтобы все было дурно. Можно подумать, что он подкуплен, чтобы изобразить все у нас в мрачном и ненавистном свете… Откройте глаза, господин аббат! Вы обманываете только себя самого. Этой мнимой нищеты не существует в России. Русский крестьянин во сто раз счастливее и достаточнее, чем ваши французские крестьяне… В России на народ налагают повинности лишь в той мере, в какой он их может нести. В России много крестьян, у которых ежедневно на столе соления или свежая говядина. К этому они присоединяют капусту, грибы или иные овощи или кашу… Пироги едятся по воскресеньям и праздничным дням; их много сортов — и постных и скоромных…»
Императрица сражалась с тенью. Автора уже давно не было в живых. Но книга его продолжала ходить по рукам. Ее одобрила Парижская Академия наук, ее читали многие образованные люди на Западе.
Аббат Шапп д’Отерош — священник и астроном — в 1761 году отправился из Парижа в Тобольск, чтобы вместе с русскими учеными наблюдать интересный феномен: прохождение Венеры через солнечный диск.
Несколько лет спустя он издал описание своего путешествия. Сочинение было легковесное, пестрело небылицами… Оцепеневшие от холода селения, жители, закупоренные в избах на девять месяцев в году; бани, где люди не столько моются, сколько развлекаются, хлеща друг друга розгами; медведи, бродящие по деревням и пожирающие женщин и детей…
Но не анекдоты эти раздосадовали Екатерину. Как ни мало успел аббат узнать Россию, он не мог не заметить того, что бросалось в глаза всякому приезжему. Книга Шаппа рассказывала о нищете крестьян, о зверствах бар, самоуправстве чиновников, о деспотическом образе государственного правления.
Это был удар в самое сердце!
Какая дерзость!.. Очернить ее перед всей Европой. Ее!.. Мудрую законодательницу, философа на троне! Автора знаменитого «Наказа», который так напугал министров короля Людовика, что они запретили распространять его во Франции…
Дидро, д’Аламбер, Гольбах, Гримм — лучшие умы эпохи — пишут Екатерине восторженные письма. Сам великий фернейский отшельник
[9], перед которым трепещут вельможи, прелаты, венценосцы, стал ее пламенным почитателем. Разве не объявил он громогласно российскую императрицу «благодетельницей рода человеческого»?
Казалось бы: как может повредить Екатерине такой комариный укус? Что весит сочиненьице второстепенного писаки по сравнению с дифирамбами знаменитых мыслителей? А все-таки, что ни говори, какая-то тень омрачила сияние ее славы. Словно на безукоризненную, каллиграфически написанную страницу упала клякса… Стереть ее, убрать во что бы то ни стало! Написать опровержение, полемический памфлет!.. Хлесткий, ядовитый, разящий!
Давно уже императрица начала его. Да все отвлекали разные срочные дела: то хлопоты с комиссией по составлению нового уложения, то война с турками. Теперь наконец работа завершена.
Екатерина перелистала объемистую тетрадку. Заглавие на титульном листе гласило:
«АНТИДОТ, или Разбор дурной, великолепно напечатанной книги…»
Антидот — по-русски означало «противоядие».
Императрица отложила перо.
— Получайте, господин аббат! — сказала она вслух и тихонько засмеялась.
Часы мелодично проиграли четыре четверти, отбили восемь серебряных ударов. Екатерина поглядела на них любуясь… Голубой воздушный фарфор; мягкие, округлые линии; миниатюрные пастушки; гирлянды из крошечных розочек… Очаровательная вещица! Часы недавно прислал Вольтер из Швейцарии. А в сопроводительном письме шутливо предлагал заказать другие — огромные, чтобы воздвигнуть их на башне святой Софии, когда русские войска овладеют Константинополем.
— Надо сообщить старику о новых победах, — вспомнила императрица. — Пусть порадуется!
Записала в книжечку, переплетенную в синий бархат: «Известить г. Вольтера о получении часов в полной исправности, а также о взятии Керчи, Еникалэ и Тамани нашими войсками».
Предыдущие заметки напоминали:
«Ответить Фальконету на письмо об отобранных картинах для Эрмитажа».
«Ему же — насчет статуи Зимы в Царскосельском парке».
«Олсуфьеву — о приобретении алмазов».
«Поздравить князя Долгорукого с успехами».
«С Ив. Ив. Бецким — о московских театральных дрязгах и прошениях сумароковских».
Екатерина отложила памятную книжечку и, аккуратно сложив бумаги, прошла в соседнюю комнату. Там были приготовлены тазы для умывания, стоял широкий туалетный стол с овальным венецианским зеркалом. Императрица тряхнула колокольчиком. Никто не явился на зов. Позвонила еще. Опять никого… Колокольчик заливался без умолку. Наконец появилась коренастая женщина с широким, скуластым лицом и монгольскими глазками. Это была горничная Екатерины, калмычка Алексеева.
— Опять проспала! — погрозила пальцем царица. — Остерегись, сударыня, в следующий раз взыщу. Непременно взыщу!
Алексеева, не ответив, поставила на пол два фаянсовых кувшина с теплой водой.
— Экая строптивость! — воскликнула Екатерина с досадой. — Слова не вымолвит… Вот характер! Как же будешь в супружестве жить? Я терплю, а муж не стерпит.
Горничная молча гремела умывальными тазами…
Покончив с умыванием, Екатерина уселась за туалетный стол. Калмычка приготовляла мази, притирания, флаконы с душистыми эссенциями.
— Не пойду я замуж! — вдруг решительно сказала Алексеева.
— Вздор! — возразила государыня. — Не век же во дворце прислуживать. Не молода! Тяжко бабе в одиночестве, уж это я знаю.
— Кто меня возьмет, безродную? — сердито молвила калмычка.
— Возьмут! Я хорошее приданое дам. — Екатерина вздохнула. — Мне труднее! Невеста я выгодная, хоть и в годах… А нельзя!
Вошли еще три горничные: гречанка Палакучи, две сестры Зверевы, все старые девы. Явился куафер
[10] Козлов. Началась сложная процедура причесывания, одевания. Впрочем, императрица тратила на нее куда меньше времени, чем любая из ее придворных дам. Не прошло и получаса, как туалет был закончен. На императрице было бледно-зеленое платье из плотного французского шелка, поверх платья — черная кружевная накидка. В высоко взбитых, напудренных волосах горела брильянтовая диадема.
Она возвратилась в кабинет. Там уже дожидался камердинер.
— Здравствуй, Попов, — сказала она приветливо. — С добрым утром! Отчего угрюм?
Попов махнул рукой:
— Дела не веселят, матушка-государыня…
— Да что это вы все дурите! — возмутилась Екатерина. — Разбаловались!.. С жиру беситесь! — Она любила пересыпать речь народными выражениями и поговорками. Знала их множество и, услышав новую, всякий раз записывала.
— «С жиру»! — повторил обиженно камердинер. — Кажется, служу верой и правдой. Сил не жалею…
— Я про службу не говорю. А видеть вокруг постные физиономии не желаю. В чем нужда?
Попов крякнул:
— Дело такое вышло… Да не смею тревожить твое величество…
— Говори!
— Явились намедни ко мне людишки из наших мест. Земляки, значит. Жалуются: нет мочи жить у помещика, господина Улыбьева. Старик-то помер, а сынок больно стал прижимать. Просят: купи нас! За тобой жить будет полегче. Оно верно, я своих не обижу. Да откуда столько денег взять?
— А цена какова?
— Двести душ, сами знаете… Кое-какие деньжонки приберег. Однако тысяч трех все же не хватает.
— Хорошо! — кивнула императрица. — Я распоряжусь, чтобы тебе выдали. Из моих собственных.
Попов упал в ноги:
— Солнышко ты наше, великая государыня!..
— Постой! — вспомнила Екатерина. — Как же ты их купишь? Без земли нельзя, я запретила.
— Покупают иные и без земли. На вывод, — заметил Попов.
— Слыхала. Да это против закона. — Она снова вспомнила о сочинении Шаппа. — Это чужеземцы всякий вздор про нас выдумывают. Мужики наши не рабы, они к земле прикреплены.
— Можно бы и землицу купить. Сказывали, господин Улыбьев продаст.
— Да как? Ведь ты сам крестьянином числишься?
— Это верно, — сказал Попов. — Можно, однако, сыскать кого-нибудь из благородных. На его имя купчую справить. А ему лишнее уплатить.
— Хитер! — улыбнулась Екатерина. — Ну, коли найдешь, покупай! Денег дам. Только смотри, чтоб без тяжб. Моим людям судиться не разрешаю. Сейчас же толки пойдут.
— Слушаю, ваше величество. Спаси тебя Христос! — обрадовался камердинер и, снова упав на колени, поцеловал край царицына платья.
— Ладно, ладно! — мягко сказала Екатерина, умиленная собственной щедростью. — Зови дежурного офицера!
Попов вышел. На пороге появился конногвардейский поручик Васильчиков.
— Здравия желаю, ваше императорское величество! — произнес он не по-военному, а мягко, почти нежно.
— Здравствуй, дружок, здравствуй, — сказала Екатерина приветливо. — Так вот кто нынче на дежурстве…
В больших серых глазах поручика светилось восторженное обожание.
«Хорош! — подумала она. — Строен, румян! А ресницы каковы… Ишь, потупил взор. Совсем красная девица. Чем-то на Гри-Гри похож. Тот в юности тоже скромен был, да куда все девалось. Развратился, дерзок стал…»
— Козицкий здесь? — спросила она.
— Так точно, государыня. Дожидается.
— Зови!
Статс-секретарь Козицкий вошел, держа под мышкой толстую кожаную папку. Низко поклонившись коснулся губами протянутой для поцелуя руки.
— Садись, Григорий Васильевич, и приступим!.. Запоздала я нынче, а дел у нас с тобой многовато, — сказала императрица. — Начнем с этого… — Она указала на законченную только что рукопись. — Погляди на заглавие! Как, по-твоему?
— «Антидот, или Разбор…» — Козицкий залился дребезжащим смехом. — Превосходно придумано! Остро, что твой Вольтер… Вижу, досталось аббату на орехи…
— Да, как будто выстрел меток, — скромно подтвердила императрица. — Так ты, Григорий Васильевич, возьми рукопись, исправь хорошенько.
— Слушаю, ваше величество… Только тут, верно, и исправлять нечего.
— Нет, нет! — сказала Екатерина серьезно. — Лести не нужно. Знаю, пишу неправильно. И по-русски и по-французски… Мысли неглупые, живые, а грамматика хромает. Так ты читай внимательно! Понял?
Козицкий поклонился.
— Есть у меня к тебе еще поручения. Но прежде говори свои дела…
Статс-секретарь раскрыл папку.
— Челобитные… Пензенская помещица, секунд-майора Мятлева вдова, пенсион хлопочет… От купцов ирбитских жалоба на тамошнее начальство… Башкирцы из Уфы тоже жалуются…
— Погоди! — прервала императрица. — Челобитные мне оставь, на досуге прочитаю. Времени у нас немного. Верно, уже дожидаются в приемной?
— Полным-полно, — подтвердил Козицкий.
— Да еще посол английский приедет… Что еще у тебя?
— Разное, государыня. Вот, например, о Новикове…
— А, господин журналист!.. Что ж он? Говорили: словарь составляет… Жизнеописание наших писателей. Пускай себе! Авось будет полезнее статеек злоязычных.
— Словарь как будто готов. А ныне опять журнал затеял.
— Вот как! — Екатерина нахмурила брови. — Стало быть, недостаточно ему полученного урока…
Упоминание об этом человеке всегда вызывало у Екатерины раздражение.
…Николай Иванович Новиков — отставной поручик, небогатый подмосковный помещик — неожиданно оказался соперником императрицы на литературном поприще. Два года тому назад в Петербурге появились почти одновременно два журнала: «Трутень» и «Всякая всячина». Первый издавал Новиков, другой — сама государыня с Козицким. Статьи помещались без подписей либо под псевдонимами. Но если Новиков открыто объявил себя издателем «Трутня», то Екатерина предпочитала прятаться за спиной своего статс-секретаря. Впрочем, все хорошо знали, кто на самом деле является хозяином «Всякой всячины» и автором большей части публикуемых там статей.
«Всякая всячина» — то есть обо всем понемногу… Милая, добродушная светская болтовня… Снисходительно пошутить над модницами и щеголями, над ветрениками и кутилами. Пожурить нерадивого чиновника, льстеца, хвастунишку, самоуверенного невежду… Назидательно потолковать о пользе наук, об уважении к законам, о святости домашнего очага и супружеской верности… Вот чем занималась Екатерина в своем журнале.
А что такое «трутень»?.. Существо бесполезное, тунеядец, кормящийся тем, что доставляет ему рой трудолюбивых пчел.
Название имело скрытый смысл, отгадать его было не так уж трудно. Да кто же трутни, как не дворяне российские? Они живут в праздности и довольстве, равнодушные к горькой участи тех, кто их кормит и одевает.
Вот куда метили стрелы новиковской сатиры!
Императрице не нравился образ мыслей издателя «Трутня», возмущал дерзкий тон, в котором эти мысли были выражены. Все же сперва она старалась проявить терпимость, как подобает «философу на троне». «Всякая всячина» пыталась урезонить своего соперника, наставить его на путь истинный.
«Все разумные люди признавать должны, что один бог только совершенен, — доказывала «Всякая всячина». — Люди же смертные без слабостей никогда не были, не суть и не будут…»
…Новиков поднял брошенную перчатку. Завязался ожесточенный литературный бой. Увлеченный полемическим задором, Новиков однажды осмелился даже подшутить над нечистым русским языком, на котором пишутся статьи «Всякой всячины». Екатерина сделала вид, что не заметила оскорбительного выпада. Но с тех пор и вовсе возненавидела Новикова. А тот не унимался. Листы «Трутня» становились все более ядовитыми. Новиков писал о взяточничестве чиновников, о неправедности судей, самодурстве вельмож, лицемерии придворной челяди… Наконец он заговорил о самом главном и самом запретном — о крепостном праве.
Журнал распространялся все шире. Отовсюду Новиков получал письма, сочувственные и одобрительные.
Императрица прекратила полемику. «Всякая всячина» больше не издавалась. Но против Новикова были приняты иные меры. Однажды он получил грозное предостережение хоть и неофициальное, но достаточно ясное. Вскоре издатель «Трутня» объявил, что журнал окончил Свое существование.
* * *
Курьерская тройка во весь опор промчалась через площадь и остановилась у правого крыла Зимнего дворца.
Спрыгнув с тележки, запыленный фельдъегерь быстро пошел к подъезду. Старик швейцар вызвал дежурного офицера. Фельдъегерь подал запечатанный пакет.
— Экстренно! — сказал он. — Лично государыне!
Васильчиков понес пакет наверх. Екатерина все еще беседовала с Козицким.
— Осмелюсь доложить вашему величеству, — отрапортовал поручик. — Курьер из Москвы… Срочная депеша!
Императрица распечатала пакет, стала читать. На лице ее вспыхивали багровые пятна.
— Unerhort!
[11] — пробормотала она.
В минуты сильного волнения Екатерина часто говорила по-немецки.
— Вот сюрприз! — обратилась она к
Козицкому, задыхаясь от ярости. — Генерал-поручик Еропкин доносит… Моровое поветрие усиливается. Жители мрут сотнями, в городе беспорядок, разбои… Главнокомандующий, граф Салтыков, удрал к себе в Марфино. А за ним следом поспешили губернатор Бахметьев с Юшковым, обер-полицмейстером. Слыханное ли дело: в такой час Москву без начальства оставить!.. Ах, старый колпак! Развалина, трус! А я-то надеялась: прославленный полководец, герой кунерсдорфский!
— Прискорбное малодушие! — поддакнул статс-секретарь.
— Малодушие?.. Нет, сударь, хуже! Преступление! Нарушение воинского долга…
Императрица быстро ходила из угла в угол большими, мужскими шагами.
— Медлить нельзя! — говорила она. — Еропкин пишет: чернь волнуется. Того и гляди, бунт начнется. Еропкин храбр, но стар… Тут требуется ум быстрый и решительный, твердая рука, железная воля… А где взять такого человека?
Слух о тревожных событиях в Москве проник уже в приемную, где толпились вельможи, сенаторы, генералы, иностранные дипломаты. Приемная загудела, словно растревоженный улей.
— Чума из Москвы пошла к нам. Говорят, в Торжке полгорода вымерло.
— А граф-то Петр Семеныч! Слыхали? Сбежал!
— Быть не может!..
Вдруг говор стих… По широкой мраморной лестнице поднимался генерал-фельдцейхмейстер
[12] граф Григорий Григорьевич Орлов. Придворные почтительно расступились. Небрежно отвечая на поклоны, граф направлялся к апартаментам императрицы.
— Государыня еще не изволит принимать, — предупредил стоявший у дверей Васильчиков.
— Ты кто таков, братец? — сухо осведомился граф Орлов.
— Дежурный офицер, ваше сиятельство. Поручик конногвардейского полка Васильчиков.
— Новенький? Оно видно.
— Мне приказано государыней, — стоял на своем поручик.
— Посторонись-ка, любезный! — сказал Орлов и, отстранив офицера локтем, распахнул дверь.
В приемной зашептались. Уже больше месяца Григорий Орлов не появлялся во дворце. Императрице стало известно о его любовной связи с француженкой-актрисой. Прежде она смотрела снисходительно на мимолетные интрижки своего ветреного друга. Однако новое увлечение графа было, по-видимому, более серьезным. К тому же он и не пытался хранить его в тайне: об этом говорил весь Петербург. Екатерина разгневалась не на шутку. При дворе носились слухи о падении всесильного фаворита.
Почти десять лет — с первого дня царствования Екатерины II — Григорий Орлов и его брат Алексей были важнейшими особами в империи. Вокруг них копошился целый рой друзей, родственников, прихлебателей, которым щедро раздавались видные должности, придворные звания, титулы, поместья. Для таких людей опала Орлова была бы катастрофой. Зато соперники, завистники, недоброжелатели во главе с братьями Паниными ликовали и с нетерпением ждали своего часа.
Внезапное появление графа во дворце озадачило тех и других. Чем все это кончится: примирением или разрывом?
…Увидя Орлова, царица оторопела.
— Граф Григорий! — сказала она, и голос ее задрожал. — Разве вам не говорили, что я занята и еще не принимаю?
Орлов добродушно улыбнулся:
— Сказывали, матушка, да я не поверил.
Екатерина возмущенно пожала плечами:
— В таком случае я сама скажу это. Теперь, надеюсь, верите?
— Нет! — ответил Орлов. — Не могу верить. Не бывало такого, чтобы ваше величество не нашли нескольких минут для своего преданного слуги. Особенно, если он является к вам по чрезвычайно важному делу.
Екатерина пристально поглядела на графа. Он продолжал стоять у порога — статный, широкоплечий, красивый, осыпанный орденскими звездами. Голубые глаза светились обворожительной улыбкой.
Козицкий, поспешно сложив бумаги в папку, бесшумно выскользнул из кабинета.
— Пусть будет так! — согласилась Екатерина. — Говорите! Но прошу — покороче. У меня нынче много других дел, полагаю, не менее важных.
Орлов укоризненно покачал головой:
— Ах, матушка! Ужели я заслужил такую холодность?
— Вы, кажется, упрекаете меня в неблагодарности? — заметила царица высокомерно. — Не раз уж я слышала, что обязана вам короной. Остерегитесь, сударь! Услуги ваши ценю и доказала это. Попреков же теперь слушать не намерена…
Орлов поклонился, улыбка исчезла с его лица.
— Слушаю, ваше величество. Тогда позвольте изложить мою просьбу. Известно, что в Москве положение тяжкое. Зараза распространяется, мер надлежащих никто не принимает. Салтыков с помощниками покинул пост, народ волнуется, каждый день можно ждать бунта…
— Откуда вам это известно, граф? — спросила пораженная императрица. — Курьер из Москвы прибыл только полчаса тому назад.
— У меня своя почта, государыня, — ответил Орлов сухо. — И, возможно, иногда она прибывает быстрее вашей.
Императрица улыбнулась.
— Надеюсь, ваше величество, что в память о прежнем вы разрешите мне дать совет.
— В этом я не отказываю никому.
— Полагаю, что необходимо немедля навести порядок в первопрестольной столице. А для этого туда нужно назначить другого начальника.
Екатерина опять улыбнулась.
— Если это и есть ваш совет, Григорий Григорьевич, то не стоило спешить сюда. Несколько минут назад я говорила то же самое…
— И вы сделали выбор?
— Это не так просто.
— Нет ничего проще, государыня… Пошлите меня!
— Вас? — воскликнула императрица. — Да вы с ума сошли!
— Разве, по-вашему, я уже не гожусь для таких дел?
— О нет! — сказала государыня, и в голосе ее прозвучала ласковая нотка. — В достоинствах ваших я нисколько не сомневаюсь.
— А коли так, то за чем дело стало?
— За тем, что не могу столь легкомысленно рисковать жизнью моих лучших вельмож, сударь.
— Ведь брат мой, Алексей, сражаясь с турками на Черном море, тоже рискует жизнью?
— Война — другое дело, — возразила Екатерина. — Но послать вас туда, где свирепствует ужаснейшая болезнь, от которой не могут оградить ни мудрость, ни высокое положение, ни храбрость… Ни за что!
— Матушка! — воскликнул Орлов и опустился на колени. — Умоляю тебя об одной милости. Верни мне твое доверие, и, клянусь, я оправдаю его… — А если откажешь, знай — все равно я отправлюсь в Москву и без твоего приказа буду делать то, что велит мне долг.
Он нежно прикоснулся губами к ее пальцам.
— Узнаю моего Григория, — молвила Екатерина с грустной нежностью. — Все тот же chevalier sans peur nirèproche
[13]… Хорошо, граф, я согласна. Но при одном условии. Вы дадите клятву, что будете всячески беречь себя…
— Мне и самому помирать не хочется… Благодарю, государыня! Уж будь покойна, о решении твоем не пожалеешь.
Екатерина провела рукой по его волосам.
— Не вам, а мне должно благодарить. — Она вздохнула. — Ах, Гри-Гри, если бы только вы не причиняли мне столько огорчений!.. Грешно вам, право!
— Свет мой, Катенька! — шепнул Орлов. — Уж таков я на свет родился, ветреник… Сам себя казню, да против натуры не пойдешь. Но люблю ведь только одну! Одну на целом свете! Или не знаешь?
 — Благодарю, государыня! — воскликнул Орлов.
— Благодарю, государыня! — воскликнул Орлов.
Он медленно поднялся с колен, обнял ее. Екатерина закрыла глаза и склонила голову на могучее плечо графа…
Орлов вышел в приемную. Там воцарилась напряженная тишина. Все взгляды были устремлены на него, но лицо его было непроницаемо.
Лорд Каскарт, английский посол, подошел к Орлову, дружески взял его под руку.
— Дорогой граф, — сказал он вполголоса, — приятно снова видеть вас здесь… Однако не знаю, радоваться мне или печалиться.
— Не понимаю, милорд, — ответил Орлов простодушно.
— У Англии, к сожалению, очень немного друзей при здешнем дворе. Мое правительство считает вас одним из них.
— Так и есть. Мне всегда нравились англичане.
— Вот почему судьба графа Орлова нам далеко не безразлична, граф, — продолжал дипломат. — Наши беседы о Северном союзе, о Польше были прерваны… Не знаю, своевременно ли вернуться к ним?
— Ах, вы об этом! — сказал Орлов, намеренно повысив голос. — Нет, милорд, несвоевременно. Не позже завтрашнего дня я покидаю Петербург.
— Вот как! — удивился Каскарт. — И куда же отправляетесь, если не секрет?
— В Москву, мой друг… В Москву!
Сдержанный шепот, словно дуновение ветра, пронесся среди толпы придворных.
— В Москву? — испуганно переспросил англичанин. — Но там же чума!
— Именно потому и еду, — ответил Орлов. — Я давно искал случая оказать серьезную услугу государыне, моей благодетельнице. Теперь такой случай представился.
Учтиво поклонившись послу, он стал спускаться по лестнице.
— Это что же? Ссылка? — осведомился какой-то сановный старичок у стоявшего рядом Ивана Ивановица Бецкого, считавшегося близким другом императрицы.
— Нет, голубчик, это триумф! — ответил тот.
4
Не страшен более несчастный мне конец,
Когда спасенны мой любовник и отец.
Единил такой боялась я разлуки
Омой невинною моею кровью руки,
Когда ни милости, ни сожаленья нет,
Кончай плачевну жизнь во дни цветущих лет…
— Погоди, Дунюшка! — прервал Сумароков. — Стан выпрямить! Голову вверх горделиво! Левую руку к сердцу… эдак! Правую вперед. Перст указующий поднять! — Сумароков стал в позу. — Стих читать мерой, музыкально!
Он повторил только что прочитанную строфу, слегка подвывая, с придыханиями в патетических местах.
— Повтори-ка!
Девушка прочла снова.
— Теперь, кажется, хорошо. Однако еще позаймемся. Теперь ты, Павлуша!
Юноша стал читать монолог Самозванца. Голос его дрожал, не хватало дыхания.
Ерменев слушал, стараясь сдержать улыбку… Уж больно странными казались крестьянская девушка в простеньком выцветшем сарафане и паренек в посконной рубахе и лаптях, принимающие величественные позы и произносящие выспренние сумароковские стихи.
Егорушка тесно прижался к Ерменеву, Он не отрывал глаз от актеров.
— Интересно? — шепнул Ерменев.
— Да-а! — ответил мальчик тоже шепотом. — А про что они, дядя Ваня?
— После расскажу.
Наконец репетиция окончилась.
— Ступайте! — приказал Александр Петрович своим ученикам. — Завтра приходите об эту же пору.
Артисты поклонились в пояс и вышли.
Сумароков вынул из кармана горсть табака, заложил по понюшке в обе ноздри. Прочихавшись, спросил:
— Ну как, Иван?
— Читают стих ладно, — ответил художник. — Ну, конечно, наряды неподходящие.
— Наряды что! Оденем как следует. Ей — платье синего бархата, кружева, украшения мишурные, Павлуше — плащ, чулки шелковые, шпагу.
— А понимают они смысл? — спросил Ерменев.
Сумароков нахмурился:
— Зачем это? Думаешь, на театре императорском артисты больше понимают? Да им и не нужно. Голос приятный, музыкальный; произношение чистое, ясное; стан стройный и гибкий; жест величественный, плавный; благородство мимики и телодвижений — вот оно оружье истинного лицедея! У этих еще нет всех качеств, однако через некоторое время явятся. У Дуняшки наверное. Я ее не зря выбрал.
— Возможно, — сказал Ерменев. — Но, по-моему, дело не только в этом… Как можно изображать людей, вовсе не ведомых?
— Не людей, а героев! — строго поправил Александр Петрович. — Артист должен изображать не человека, но чувства! Великодушие, отвагу, сострадание, самопожертвование, горе, радость, смятение души. А равно и дурные: злодейство, ревность, вероломство… Чувства же эти в полной мере доступны лишь героям. В последнее время появился новый, пакостный род представлений театральных, именуемых слезными драмами… Вместо древних героев действуют нынешние людишки, с мелкими чувствами, распрями, любовными обольщениями… В Париже некий господин Бомарше сочинил такую комедию, под названием «Евгения». А у нас в Москве прыткий писака из подьячих тотчас же перевел ее и на театре представил. Никогда еще не видано было подобного срама.
— В чем же срам? — поинтересовался художник.
Сумароков вскипел:
— Разве для того существуют театральные подмостки, чтобы по ним разгуливали мещане, хотя бы и французские? Их и вокруг нас довольно, а язык такой слышим мы повседневно: на улице, в присутствиях, поварнях и людских… Можно ли больше оскорбить Мельпомену? В Париже поветрие это не столь опасно. Там глубоко посеяны семена вкуса Расинова и Мольерова. У нас же театр еще в диковинку. Публика — дура: модно, она и рукоплещет!.. Решился я после этого представления обратиться с письмом к господину Вольтеру, спросить его мнения…
Сумароков вышел и вскоре возвратился, держа в руке сложенный вчетверо лист.
— Читай! — сказал он. — Ведь ты грамотен по-французски…
Ерменев с интересом развернул послание.
«Ваше письмо, так же как труды ваши, — писал Вольтер, — служат величайшим доказательством того, что гений и вкус существуют во всех странах. Те, кто утверждает, будто Поэзия и Музыка присущи лишь землям умеренного климата, явно заблуждаются. Если бы климат оказывал столь большое влияние, то Греция продолжала нам давать Платонов и Анакреонов, как она дает все те же плоды и цветы, а Италия имела бы новых Горациев, Виргилиев, Ариосто и Тассо. Но, увы, в Риме остались только крестные ходы, а в Греции — палочные удары…»
Далее следовали комплименты российской императрице и ее просвещенным вельможам, рассуждения о трагедиях Расина и комедиях Мольера как непревзойденных образцах театрального творчества. Вольтер желчно высмеивал современных авторов, неспособных написать хороший текст даже для роли лакея.
Слезные драмы, в которых трагические происшествия облечены в мещанскую оболочку, он презрительно называл пьесами-ублюдками.
— Понял? — торжествующе спросил Сумароков, следя за выражением лица Ерменева. — Вот как рассуждает тот, которого весь образованный мир почитает величайшим ценителем искусства и поэзии. А у нас в Москве, видишь ли, не Вольтеру следуют, но подьячему… Вот до чего дожили! Подьячий стал судьей Парнаса!
— Судить о драмах этих не могу, ни разу не видевши, — сказал живописец. — Но неужто только знатное происхождение дает человеку право подвизаться на Парнасе, а простолюдину путь туда заказан?
— Не о простолюдинах речь! — горячо возразил Сумароков. — Никогда не был я одержим дворянской спесью… Если барчук или барынька при мне зовут простолюдинов хамовым отродьем, я им спуску не даю. А приказных и подьячих — крапивное семя — презираю и ненавижу всей душой… Они не дворянство и не народ, но клещи зловредные, сосущие кровь из тех и других… Нет, братец, уж коли подьячий угодил в судьи парнасские, стало быть, прощайте музы! Каков поп, таков и приход. Зрители московские стали хуже дикарей. Рассядутся в ложах, на сцену и не глядят. Сплетничают, хихикают, орехи грызут. Бранят во все горло провинившегося лакея или кучера, иной раз тут же в подъезде высекут его по всем правилам… Некогда был здешний театр моим Олимпом, ныне стал он моей Голгофой!.. Рассказывал я тебе, какому подвергли меня позору?
— Начали было, да не договорили. Это насчет итальянца?
— Вот, вот!.. Но не в итальянце суть. Кто он? Жалкий лакей, наемный убийца — только и всего. Ищи главных злодеев повыше! Среди тех, которые, кичась титулами, чинами, богатствами, презирают талант и вдохновение. Не могут они простить Сумарокову, что не желает пресмыкаться, что мыслит согласно убеждению своему, а не по указке…
— Что же произошло?
— Сговорились эти господа осмеять меня всенародно. Без моего согласия приказал граф Салтыков итальянцу представить старинную мою трагедию «Синав и Трувор». Актеров подучили играть роли гнусно, вопреки смыслу путать стихи. А многих зрителей подговорили хохотать громко, шикать, свистать… Слава богу, я узнал об этой затее заранее и на представление не явился. Да много ли от того проку?.. Сидел, запершись в доме своем, рыдал, как дитя малое, живо представляя себе, как высокопоставленные невежды издеваются над любимым моим творением. И сочинил в тот памятный вечер элегию… Вот послушай!..
Сумароков поднялся и, закрыв глаза, начал:
Все меры превзошла теперь моя досада;
Ступайте, фурии, ступайте вон из ада,
Грызите жадно грудь, сосите кровь мою!
В сей час, в который я терзаюсь, вопию,
В сей час среди Москвы Синава представляют
И вот как автора достойно прославляют:
Играйте, говорят, во мзду его уму,
Играйте пакостно за труд назло ему!
Сбираются ругать меня враги и други.
Сие ли за мои, Россия, мне услуги?
От стран чужих во мзду имею не сие,
Слезами я кроплю, Вольтер, письмо твое…
Вошел камердинер Антип.
— Вас зовут, батюшка! — сказал он, кивнув в сторону деревянного флигеля, который был виден из окна.
Сумароков оборвал чтение, заторопился.
— Поговорим вечерком, Иван… Сейчас недосуг.
Ерменев уже давно приметил, что между флигелем и господским домом существует какая-то странная связь. Туда то и дело бегали слуги и дворовые девки с кушаньями и самоварами. Сумароков ежедневно проводил там по нескольку часов. Иногда через раскрытые, затянутые кисеей окна оттуда слышался женский голос, окликавший Феньку или Палашку, а однажды, рано поутру, Ерменев увидел на крылечке флигеля дородную фигуру в длинной сорочке. Женщина стояла к нему спиной, лица он не рассмотрел.
Ерменев знал, что жена Александра Петровича с двумя дочерьми остались в Петербурге и что одной из причин, побудивших его переехать в Москву, были семейные раздоры. Живописцу было интересно познакомиться с сумароковской дамой сердца или хотя бы узнать, кто она. Однако Александр Петрович не приглашал его во флигель. При таких обстоятельствах расспрашивать было неуместно…
— Пойдем-ка побродим, Егор! — предложил он.
Мальчик подпрыгнул от радости.
…По приезде в Сивцово Егорушку отдали на лечение отставному военному лекарю, Николаю Матвеевичу Сушкову, который в отсутствие Александра Петровича управлял имением. Врачебное искусство старика было немудреным: лубки при переломах, примочки от ран и язв, травяные отвары и настойки от лихорадки и поноса, мушки и кровопускание при внутренних воспалениях. К счастью, у мальчика не оказалось ничего опасного, только небольшая рана на темени и сильные ушибы плеча и голени. Скоро он поправился.
Узнав из несвязного рассказа Егорушки о том, что приключилось в аникинском доме, Сумароков перепугался: неужели, спасаясь от чумы, он сам привез ее в свой дом? Но положенный срок миновал, никто не заболел, страхи рассеялись.
Мальчик быстро обжился в усадьбе. Поселили его в горнице у старой ключницы Агафьи. Он не грустил ни о родителях, ни о брате. В этом возрасте, так же как в глубокой старости, инстинкт оберегает слабые организмы от сильных душевных потрясений.
Александра Петровича Егорушка побаивался. Его раздражительность, частая смена настроений, припадки бурного гнева, сопровождавшиеся громоподобными возгласами, от которых дребезжали стекла, пугали мальчика. Зато Ерменева он сразу полюбил. Все ему нравилось в этом человеке: простота, приятный голос, а главное — тот разговаривал с ним охотно, как со взрослым.
…Они обогнули господский дом и по узкой аллее, обсаженной старыми березами, вышли за ограду небольшого парка.
Усадьба стояла на пригорке. Внизу был глубокий овраг, поросший ельником и чахлыми осинами, за оврагом — деревня.
Сумароковское поместье выглядело неказисто. Дом обветшал. Деревянные колонны перед парадным подъездом облупились, крыша протекала, окна и двери рассохлись, в комнатах гуляли сквозняки. Деревушка тоже имела унылый вид. По всему было видно, что хозяйство здесь велось кое-как. Прежде Сумароков живал в Сивцове подолгу, устраивал там частенько театральные представления. Доморощенные актеры из дворовых разыгрывали сумароковские трагедии.
Потом Александр Петрович надолго застрял в Петербурге, где управлял императорским театром. По выходе в отставку он вскоре переехал в Москву, но, занятый и там театральными делами, наезжал в Сивцово изредка и ненадолго. Сушков командовал имением по-военному, сурово взыскивал с мужиков за малейшую провинность, но в хозяйственных делах смыслил мало.
Ерменев со своим маленьким приятелем спустились в овраг. На дне его журчал узенький ручеек. Был конец июля, дни стояли ясные, жаркие, давно уже не было дождей. Наверху трава пожелтела, листья на деревьях пожухли, покрылись серым налетом пыли. А в овраге было прохладно и свежо.
— Хорошо, братец! — вздохнул живописец.
Он отер пот со лба, расстегнул кафтан. Мальчик опустился на корточки, разглядывая стрекозу, усевшуюся под цветком.
Они перешли ручей по камушкам. Послышалось негромкое девичье пение.
— Дуняша! — окликнул Ерменев. — Никак ты?
Девушка вскочила, быстро накинула на голову платок.
— Чего испугалась?.. Сиди! И мы присядем рядком.
Девушка стояла, опустив голову и слегка заслоняясь локтем.
— Садись, садись! — сказал живописец и потянул ее за рукав. — Какая дикая!
Он опустился на землю. Девушка присела немного поодаль. Егорушка бегал меж деревьев.
— Где же Павел?
— Пошел сено убирать.
— А ты?.. Небось ленишься? Разве стихи разучивать лучше, чем в поле работать?
Девушка кивнула головой.
— Вот как? Чем же лучше? Ведь ты и слов не понимаешь…
Дуня помолчала.
— Это как песня!.. — сказала она вдруг.
Ерменев внимательно смотрел на нее. Длинная каштановая коса, падающая на спину из-под повязанного на голове платка. Чистый высокий лоб. Широко расставленные серые глаза. Легкий пушок на смуглых щеках.
Он раскрыл альбом, взял карандаш.
— Посиди спокойно, Дуняша! — сказал он. — Вот так, как сейчас…
— Нельзя! — сказала девушка строго. — Я пойду, барин.
— Отчего же?
— Нельзя! — повторила она упрямо. — Ко двору пора.
Она встала.
— Ну ладно! — сказал Ерменев. — Мы тебя проводим.
Они вышли в поле. Рожь почти всюду была убрана, только кое-где еще виднелись снопы. Деревня вытянулась прямой линией между полем и опушкой леса.
Отец Дуняши перед крылечком точил косу.
— Бог в помощь! — окликнул его Ерменев. — Дочку тебе привели.
Кузьма поднял голову и, сняв шапку, поклонился в пояс.
— Нам по пути было… Войти можно?
— Входи с богом. Только нехорошо у нас: тесно, нечисто.
— Это не беда.
Ерменев вошел во дворик, мальчик последовал за ним. Дуня шмыгнула в избу. Кузьма отложил косу, вытер руки краем рубахи.
— Не побрезгуешь нашими харчами, барин? — предложил он.
— Я бы рад, да совестно.
— Не объешь!
В избе было дымно, стоял кислый запах капусты, овечьей шерсти, дубленой кожи. У печи возилась пожилая женщина, с выбившимися из-под косынки жидкими прядями седых волос.
— Марья! — сказал хозяин. — Собери-ка поесть!
Они уселись за стол: Кузьма с Ерменевым, Егорушка примостился рядом. Женщина поставила горшок со щами, каравай свежего ржаного хлеба, три деревянные ложки. Дуня стояла в сенях. Ели молча, сосредоточенно, шумно хлебая горячие жирные щи и постукивая ложками. Женщина стояла в сторонке, подперев щеку рукой.
Отложив ложку, хозяин встал, троекратно перекрестился на икону. Потом опять присел на лавку.
— Родня будете нашему барину? — заговорил хозяин.
— Нет, — ответил Ерменев. — Некогда учил меня Александр Петрович уму-разуму, потом в Академию художеств определил.
— Это что ж такое?
— Училище. Учат рисовать картины, статуи делать. Из глины, мрамора, бронзы… Дома красивые строить.
— Так! — произнес хозяин глубокомысленно. — Дома — это понятно… Избу всякий выстроит, были бы бревна да пила с топором. А вот господский дом, он большой, красивый… Так не поставишь, тут уменье требуется. Ну, а картины? И эти, как их?..
— Статуи, — подсказал Ерменев.
— Ну да… идолы вроде. У нашего барина такие-то в зале стоят, я видал. Они к чему?
— От картин человеку удовольствие. Веселую картину посмотрит — радуется, печальную — горюет.
— От горести какое ж удовольствие? — заметил крестьянин. — М-да!.. Непонятно! Вот, скажем, святая икона. Она спасителя изображает, матерь божью, святых угодников. Чтоб на нее молиться. Понятно! А другие картины зачем? Ну, меня станешь малевать или лес, поле, речку. Это и так всякому видно. Дуньку мою барин Александр Петрович вытребовал для тиятру. Знаю я это, лет десять назад такие представления здесь делали. Господские забавы! Чудно мне! Люди почтенные, умные, словно ребятишки, тешатся! То игрища, то картины.
— Не одни только господа, — возразил художник. — Тебя как звать-то?
— Кузьма Дударев.
— А по батюшке?
— Отца Григорием звали.
— Так вот, Кузьма Григорьевич… Я ведь не барин. Тоже из мужиков.
— Чего? — переспросил изумленный хозяин. — Как так?
— Отец мой, Алексей Ерменев, в государственных крестьянах состоял. Взяли его к царскому двору конюхом. Еще при покойной императрице Елизавете Петровне… Вот и рос я в царском дворце, с самим цесаревичем, Павлом Петровичем, игры игрывал.
— С кем?
— Наследником, сыном нашей царицы.
— И каков же он?
— Мальчиком был не зол. Только вспыльчив и своеволен.
— Ну да, как есть он — царское дитя… — Кузьма почесал затылок. — А ты, значит, конюхов сын? И с царским вместе?.. Чудно!
— Пока детьми были. Чтоб ему одному не скучно… Учили меня всякому, даже французскому языку.
— Опять же непонятно! — сказал Кузьма. — С царевичем запросто, а картинки малюешь. Зачем?
— Затем, что люблю я это дело. И не я один. Есть еще живописцы из деревенских. Сыновья крепостных…
— Чудно! — задумчиво повторил Кузьма.
… Вечером, сидя за ужином, Ерменев рассказывал об этой беседе.
— А ты чего ждал? — пожал плечами Сумароков. Мужики наши невежественны, тупы.
— Невежественны — это так. Но тупости в нем не заметно.
Сушков подтвердил:
— Кузьма Дударев мужик сметливый. Пожалуй, чересчур. Продувная бестия!
Живописец продолжал, как бы не слыша замечания управителя:
— Он прекрасно понимает, что господский дом не только прочен, но и красив. И умеет отличить хорошо написанную икону от скверной мазни. Стало быть, не в тупости дело. Просто для него картины, статуи, театр — пустое баловство. Забавы барские, затеянные от безделья.
— Ахти, какая беда! — воскликнул Сумароков насмешливо. — Кузьме Дудареву, вишь, цветы парнасские не по вкусу! Словно для него они припасены.
— Для кого же? — спросил Ерменев серьезно.
— Для людей образованных, сударь. Вот для кого!
— А много ли таких в нашем отечестве?
— Мало! — крикнул Сумароков с досадой. — Очень мало!.. Вот и надлежит умножить.
— Да как? — В голосе Ерменева послышалась свойственная ему страстность. — Как этого достигнуть?
— Просвещением! — ответил поэт. — Не из мужиков ли вышел Михайла Ломоносов? Из мужиков! Из самых диких, поморских! Да ведь и ты, Иван, тоже не дворянской крови.
— Капля в море! — усмехнулся Ерменев.
— Я и говорю: надо, чтобы было побольше. Сие во многом зависит от нас самих. Долг повелевает нам просвещать и обучать крестьян. Ибо кто таков помещик, как не отец и попечитель вверенных ему людей?
— Ох, Александр Петрович! — вздохнул художник. — Не поздоровится от такого попечения. Торгуют мужиками, словно скотом, истязают их нещадно…
— У меня, сударь, никого не истязают! — строго прервал Сумароков.
— Я про вас и не говорю.
Сумароков, помолчав, сказал:
— Не спорю, есть среди нас изверги, потерявшие облик человеческий. В семье не без урода… Только их по головке не гладят. Вон Дарью Салтыкову, помещицу, за мучительство крепостных велено дворянства и имения лишить, в яму на цепь посадить на всенародное поругание… Слыхал небось?
— Слыхал, — ответил Ерменев. — Однако не заблуждайтесь. Покарав одного-двух тиранов, тиранства не истребишь. Вы сказали; помещики обязаны просвещать крестьян. Да куда им, коли сами грубы, дики! Невежд полным-полно и среди столичной знати. Каково же провинциальное дворянство?
— Что верно, то верно! — подтвердил Сумароков. — Нравы у нас варварские… И я горжусь, что сочинениями моими способствую их умягчению… Разве не так?
— Так, Александр Петрович, — подтвердил художник.
— И не одними сочинениями! Учу мужицких детей искусству театральному. Вот чудодейственное средство, просвещающее умы, облагораживающее души!..
Ерменев хотел было что-то возразить, но поэт уже несся дальше на крыльях стремительной своей фантазии.
— Знаешь ли, что я задумал? Открою новый театр… В Москве! Свой собственный! Чтоб не зависеть от торгашей, не кланяться вельможам… Актеры сыщутся, только кликни клич! Многие из прежних моих питомцев не задумаются оставить императорскую сцену, коли Сумароков позовет… Да еще новые явятся, молодые! Отсюда Дуню повезу! Может, еще кое-кого найду… То-то будет сюрприз синьору Бельмонти! Накось, выкуси, мошенник!
Он быстро зашагал из угла в угол, жестикулируя и брызгая слюной. Расстегнутый кафтан был осыпан табаком, глаза сверкали из-под густых седоватых бровей. Голос то поднимался до фальцета, то переходил в хриплый шепот, на лице блуждала улыбка, похожая на гримасу.
— Помещение приличное надобно, — продолжал Сумароков. — Что ж, сниму у кого-нибудь. Свободных домов в Москве немало: одни владельцы в Питере, при дворе, другие в поместьях своих живут… А нет, сам выстрою. Отчего не выстроить? Даже лучше будет! Подмостки просторные, машины подъемные, декорации всевозможные… Громовые тучи, горные вершины, виды морские, замки да храмы!.. — Он посмотрел на Ерменева и вдруг, хлопнув ладонью себя по лбу, воскликнул: — Погоди! Да ведь ты, Иван, архитектор, баженовский помощник. И живописец к тому же! Вот вместе с тобой и воздвигнем театр… Поможешь мне, не так ли? А, Иван?..
Ерменев тоже поднялся из-за стола. В глазах его светилось неподдельное восхищение. За эти внезапные вдохновенные порывы он и любил старого поэта.
— Я бы с радостью, Александр Петрович, — сказал он тихо, — да в зодчестве театральном неопытен…
— Ничего! — весело вскричал Сумароков. — Кто более смыслит? Желание только надобно, желание! Страсть истинная, священный огонь! Значит, согласен?.. Вот и ладно!
Он засмеялся и крепко обнял художника.
— Стало быть, снова покинете нас, Александр Петрович? — осведомился Сушков.
— А ты как полагал? Неужели в глуши прозябать! Куда как весело! Нет, вовек мне в деревне не жить! Ворочусь в Москву, только мор кончится. Тотчас же ворочусь — и за дело!
— Прискорбно сие! — вздохнул управляющий.
Ерменев покосился на него: вздох показался ему притворным.
— Осмелюсь спросить, — сказал Сушков. — Предприятие, вами задуманное, потребует немалых средств. Станет ли денег, государь мой?
Сумароков нахмурился.
— Добыть нужно!.. Вот ты, Матвеич, и постарайся. Отчетов с тебя никогда не брал: что получал с имения, тем и был доволен. А уж ныне постарайся, как хочешь!
Управляющий развел руками:
— Рад бы, Александр Петрович, да откуда взять? Оброк за нынешний год мужики внесли. И все же не хватило с долгами расплатиться. Я ведь докладывал.
Сумароков досадливо отмахнулся.
— Что мне в докладах твоих? Скучно, братец! Уж ты сам сообрази. Своим умом! — И, обратясь к Ерменеву, сказал: Поутру обсудим все подробно. А теперь пора почивать!
5
Егорушка обежал весь дом — Ерменева не было нигде. Осторожно подкрался к заповедным дверям хозяйского кабинета. Оттуда несся раскатистый храп: Сумароков отдыхал после раннего воскресного обеда.
Поискать в саду? Никого! Ах, как обидно! Такой славный сентябрьский денек: серенький, прохладный. Хорошо бы пойти подалее, к самой Оке… Или на деревню сходить! Там нынче весело: воскресенье. Пойти разве одному? Дорога знакомая, не раз хожено. А вдруг хватятся?.. Да нет, не заметят. Спит барин, а проснется — вирши станет сочинять.
Егорушка тихонько вышел за калитку, спустился в овраг и, взобравшись опять наверх по крутому склону, углубился в лес.
Не спеша брел он по узенькой тропке, раздвигая низко нависшие колючие ветки. Посвистывали птицы, невдалеке мерно стучал дятел, словно плотник. Мелькнула белочка в ветвях огромной сосны… А все-таки скучно одному!.. Иное дело с дядей Ваней. Сколько у него занятных рассказов!
…Идут они, идут. Потом Ерменев присмотрит местечко, усядется, раскроет альбом. А Егорушка смотрит, как на бумаге из черных и серых штрихов возникают очертания всего, что видит глаз вокруг… Жаль только, что все одного цвета! Ведь трава-то зеленая, сосны рыжие, на лужайках играют солнечные пятна. А на рисунке все серо.
— Ты бы намалевал красками, дядя Ваня! — сказал как-то Егорушка. — Разве не умеешь?
— Уметь-то умею, — ответил художник, — но не хорошо. Линию чувствую, а цвет не очень. Вот какое дело, братец…
Егорушка не понял, но серьезно кивнул головой.
…Да, одному скучно!
— Вот дойду только до опушки — и назад! — решил мальчик.
Меж деревьев, на полянке, мелькнуло что-то красное. Никак, Дуняша? Ну да, ее сарафан!
Егорушка приблизился. Девушка сидела на земле, опершись о ствол высокой березы, в руках у нее была охапка пестрых полевых цветов. Спиной к мальчику на пеньке сидел Ерменев с раскрытым альбомом. Егорушка раздвинул кусты, окаймлявшие поляну. С альбомного листа на него глядела Дуняша, совсем такая же, какая сидела напротив: алый сарафан, длинная каштановая коса, перекинутая через плечо; задумчивые серые глаза; белый платочек, повязанный под подбородком; синие, желтые, оранжевые лепестки цветов…
Ну и дядя Ваня! А говорил, будто плохо умеет красками. Вишь, как красиво!
Художник поднялся и с альбомом пошел к девушке.
— Как, по-твоему? — спросил он. — Похожа?
Девушка застенчиво улыбнулась.
— Не знаю…
— Разве в зеркальце не глядишься? — сказал художник, взяв ее за руку.
Дуня покачала головой.
— Ой ли! — улыбнулся Ерменев. — Будто не знаешь, что красавица!
Девушка, вспыхнув, отдернула руку… Ерменев обнял ее.
— Пусти, барин! — тихо сказала Дуняша. — Грех!
Художник порывисто притянул ее к себе и поцеловал в губы. Девушка на миг затихла, потом вырвалась, вскочила и помчалась в лес…
Егорушка вышел из-за кустов на поляну.
— Ты как сюда попал? — удивился Ерменев. — Ведь сказано: одному по лесу не бегать!
— Дядя Ваня! — сказал мальчик. — Зачем ты Дуню обидел?
Художник смутился:
— А ты зачем подглядываешь?
— Обидел ты ее!
— Какая ж обида? — улыбнулся Ерменев. — Мал еще, не понимаешь.
— Понимаю! — упрямо сказал мальчик. — Павлуше можно, у них скоро свадьба. А тебе нельзя!
Ерменев собрал цветные карандаши, уложил их в ящик, поднял альбом.
— Может, и так, — сказал он. — Ну что ж, коли обидел, прощения попрошу…
Мальчик засмеялся, взял художника за руку.
— Пойдем на деревню, дядя Ваня! — попросил он. — На лугу народ соберется, девушки станут плясать, Павлуша на рожке поиграет…
* * *
На лугу и впрямь толпился народ. Только на этот раз не было ни гулянья, ни плясок. Управитель Сушков приказал созвать сход. Старенькая коляска, запряженная парой таких же старых коней, дожидалась тут же, а Сушков, взобравшись на пригорок, держал речь: дескать, барину Александру Петровичу спешно понадобились деньги. Затеял он новое дело, требующее немалых затрат. Придется мужичкам добавить по два рублика от каждого тягла. Внести деньги надлежит к покрову дню, никак не позже. Вот и весь сказ!
Мужики зашумели.
— Тихо! — гаркнул управитель. — Говори по одному, ежели охота.
Сквозь толпу протиснулся старик.
— Дозволь спросить, ваше благородие, — обратился он к управителю. — Ведь оброк плачен сполна. Как велено, плачен оброк-то. По четыре рубли…
Снова гул пронесся по рядам.
— Тихо! — опять крикнул Сушков громовым голосом. — Что оброк вы уплатили, то известно. Да мало! У других помещиков по семи рублей платят мужики. И ничего, не помирают… А вы вовсе разбаловались.
— Да откуда взять деньги? — отозвался старик, пощипывая седую бороденку. — Откуда их взять-то?
— Сообразите сами! — наставительно сказал Сушков. — С вас барин натурой не берет. Торговать вам полная свобода. Торгуй овсом, овощами, яйцами. Хочешь кур продавай, хочешь — поросят. Вот тебе и деньги!..
Кузьма Дударев, отец Дуняши, продвинулся вперед, снял шапку.
— Я вот как рассуждаю, мужики! — начал он. — Верно говорит его благородие. У графа в Надеждине по семи рублей с тягла берут да сверх того на барщину гоняют — три дни в седмицу. Чуть что — батогами дерут. То же, скажем, в Калинове, у господина Нащокина… Людей на вывод продают: мужика сюда, бабу туда. У нас эдакого не бывало, слава господу.
Сушков одобрительно кивнул.
— А раз так, мы сочувствовать должны, — продолжал Дударев. — Чай, не на пустяки барину деньги понадобились, на важные дела… Может, нам оно непонятно, да мы людишки темные… Стало быть, надо платить, коли просят по-хорошему.
«Хитер!» — подумал Ерменев, стоявший в задних рядах.
— Да где деньги взять? — повторил старик. — Негде их взять, деньги-то…
— Можно смекнуть! — пояснил Кузьма. — У кого продать нечего, я помогу. Отдадите, когда бог пошлет…
Из толпы выскочил рыжий, тощий, как жердь, мужик.
— Креста на тебе нет, Кузьма! — закричал он. — Не слушай его, господин управитель. Ему, идолу, легко, раздуй его душа в душу!.. Сыновей господь не послал, так он чужих нанимает… По полушке на рыло да мякину с кваском. Всяку снедь возит в город на рынок…
— А ты бы тоже возил, кто тебе мешает? — степенно возразил Кузьма.
— Да что возить? — вмешался старик. — Возить-то нечего!
— Еще вином торгует! — продолжал рыжий. — У целовальников в Серпухове винище скупает, опосля мужикам продает по шестьдесят алтын ведро. Сколько денег высосал — не сосчитаешь!.. Совсем раздел, сгинь его голова!
— А ты бы не пил, — ответил Дударев спокойно. Нешто тебя заставляют?
— Да разве я один? Всю деревню ты испортил, Кузьма, язви тебя в печенку. Ванька с Мишкой тихие были ребята, работящие; хмельного в рот не брали. Так ты и их споил, окаянный!
— Сперва долг отдай, а потом и лайся! — возразил Кузьма, не теряя спокойствия. — Срок-то давно вышел.
— Откуда я возьму? — завопил рыжий истошным голосом. — В избенке хоть шаром покати… Что нажил, все к тебе пошло… Насосался нашей крови, кобель бессовестный! На вот, забирай последнее! — Он сорвал с нечесаной рыжей головы войлочную шапчонку, швырнул ее наземь… Рванул ворот вылинявшей рубахи. — Все забирай! Бей насмерть, разбойник! — кричал он, топча босыми черными ногами иссохшую траву.
— Цыц! — загремел Сушков. — Я тебе, сукиному сыну, так всыплю, что не скоро очухаешься… А ну, убрать его!
Мужики тянули рыжего за рукава, за край рубахи.
— Да полно, Федор! Чего расходился… Хватит, право!
Но у Федора и так пыл уже прошел. Съежившись, он нырнул в толпу.
— Так вот! — заговорил управитель. Нечего зря лясы точить. Деньги внести к покрову! А теперь еще есть дело…
И Сушков пояснил: приказан новый рекрутский набор. Война с турками продолжается, надобно поболе солдат. С крестьян сивцовских много не спрашивают: одного рекрута, только и всего.
Из рядов послышались голоса:
— По весне Гараську Столярова отдали…
— Куды ж опять!
— Мочи нет!
Сушков переждал, пока мужики смолкнут.
— Дурьи вы головы! — крикнул он. — Приказ не мой и не барина. От самой государыни-матушки! Известно: по Москве да по деревням подмосковным моровая язва гуляет. Оттуда рекрутов брать не велено. А нас господь пока милует. За милость божью благодарить надо! В другое время барин, вас жалеючи, может, купил бы паренька на стороне. А теперь у самого денег не хватает: рекрутов дешево не продают. Так что выбирайте, кого хотите, только чтобы был не хворый и росту подходящего, как положено. Да не мешкайте, на той неделе повезем в Серпухов.
Управитель спустился с пригорка, уселся в коляску.
* * *
Дуняша медленно шла через поле к деревне. Еще издали она завидела Павла, стоявшего у высокого омета. Ей не хотелось встретиться с ним сейчас, но сворачивать было поздно. Павел стоял дожидаясь.
— Где была? — спросил он хмуро. — Везде тебя искал.
— А я, вишь, сама нашлась, — улыбнулась девушка.
— Где ж была? — повторил Павел.
— В усадьбе.
— Полно врать! Ходил я и туда. Небось с приезжим прогуливалась?
— Угадал!
Дуняша вскинула голову. На щеках ее вспыхнули пятна румянца, глаза сияли.
— Ну, коли так… — проговорил Павел медленно, — то знай: больше не дозволю!
— А я и спрашиваться не стану! — пожала плечами девушка. — Надо мной только батюшка волен, да еще Александр Петрович. А более никто.
— Да ты что! — Павел оторопел.
— А то, что по сердцу жить хочу… По сердцу, а не по дубинке.
— Вон как!.. Стало быть, полюбился тебе приезжий барин?
Девушка отвела взгляд.
— Зачем вздор молоть!..
— Нет, не вздор! Так и есть… Только какой он барин? Мужик сиволапый, мазилка!.. На господских задворках вырос да господскими объедками вскормлен…
— И пускай! — воскликнула Дуняша, и голос ее зазвенел. — Пускай! Не знаешь ты, какой он…
— А какой?
— Таких-то я сроду не видывала. Чего только не расскажет! Про книжки разные, про город Петербург, про картинки…
— Картинки!.. — повторил парень, изумляясь, и вдруг сердито прикрикнул: — Ты не дури, Дунька! Слово-то свое помнишь? Сказано — связано!..
— Не забыла, — твердо ответила Дуняша. — Только связанное и развязать можно.
— Ах ты, бессовестная! — Павел в ярости схватил ее за руку и больно сжал у запястья…
Девушка с силой вырвалась и, оттолкнув его, зашагала к деревне…
— Ну погоди, худо будет! — крикнул парень ей вслед.
…На лугу народ не расходился. Разбившись на кучки, мужики толковали все о том же. Ерменев сидел на траве, вокруг него толпились люди.
— Ты вникни, ваше благородие! — гудел степенный бородач. — Ныне засуха была, половины не собрали против прошлогоднего. А оброк плачен, как и летось. Да еще долг не отдали! Как же быть-то?
— Чистое разоренье! — вздохнул кто-то.
— Затвердил управитель: торгуй да торгуй, — вмешался старик. — А что продавать-то? Право, нечего!
— А хоть бы и было, — сказал бородач. — Куды везти? Повсюду заставы… Не то что в Москву, в Серпухов не стали пущать, в Тарусу!..
— Некуда возить, — поддержал
старик. — Вовсе некуда.
— Вот что, братцы, — вмешался Ерменев. — Управитель — управителем, а надобно к самому помещику обратиться.
— И слушать не станет! — махнул рукой бородатый. — Что Сушков скажет, тому и верит. Ему, барину, наши дела невдомек.
— А вы объясните! — сказал живописец. — Не может того быть, чтобы не понял. Уж я-то его лучше знаю.
— Рассерчает! — покачал головой старик. — Кричать почнет, ногами затопает… Страх! Лицо кривит, на губах пена!
— Сердит! — согласился бородач.
— Сердит, да не зол, — возразил Ерменев. — Говорю вам, братцы, ступайте к барину!
Мужики зашумели. Кольцо вокруг художника росло. Подошел и Павел. Присел в сторонке, прислушиваясь к спору.
— Всем скопом к нему идите! — продолжал Ерменев. — Придете ко крыльцу, требуйте самого! Пусть один кто-нибудь говорит. Только не рыжий этот, не то найдет коса на камень. Нужно выбрать мужика спокойного.
— Это верно! — поддержал кто-то. — Федор, он вроде барина… Бесноватый…
Мужики засмеялись.
— Баб тоже с собой возьмите! — говорил живописец. — Можно и девок. Александр Петрович к женским слезам чувствителен… А я, братцы, еще сам поговорю с ним. Попрошу!
Павел злобно сплюнул и отошел. Навстречу ему верхом на палке весело мчался Егорушка.
— Павлуша, Павлуша! — кричал он. — Поиграй на рожке, а Дунюшка пусть попляшет… Поиграешь, а, Павлуша?
Павел поднял голову, посмотрел на мальчика мутными глазами.
— Павлуша! — шепнул мальчик испуганно. — Ты чего?
— Я те поиграю! — пробормотал парень и вдруг ударил ребенка кулаком в грудь.
Тот пошатнулся и, споткнувшись о камень, полетел наземь. Павел угрюмо побрел дальше, вдоль окаймлявшего луг ельника.
Ерменев собрался домой.
— Егор! А Егор! — окликнул он.
Мальчик не отозвался. Художник огляделся по сторонам и увидел Егорушку.
— Что с тобой? — спросил он, подойдя к нему.
Егорушка лежал ничком, плечики его вздрагивали.
Ерменев приподнял ребенка.
— Обидел кто?
— Не! — проговорил Егорушка, захлебываясь слезами. — Об камень зашибся…
— Экий ты, братец, егоза! — покачал головой художник. — Ну ничего, не горюй! Авось заживет до свадьбы… Пойдем-ка восвояси, гляди, как небо насупилось.
…Поздно вечером Сумароков с Ерменевым ужинали вдвоем. В большой столовой было неуютно. На дворе бушевала буря. Косые иглы дождя хлестали в стекла. Ветер гудел в печной трубе, врывался в комнату сквозь щели оконниц. Желтые язычки свечей, вправленных в позеленевшие медные подсвечники, метались и гасли.
— Осень! — говорил Сумароков. — Слава богу, осень… Теперь чуме конец! Она холода боится, это уж точно! Скоро можно и возвращаться. Жду не дождусь!.. Скука — мочи нет. Еще месяц, и будем мы с тобой в Москве. А к рождеству, уповаю, откроем театр… Денег Матвеич добудет, уж я его знаю! Ежели и не хватит, то…
— Александр Петрович! — остановил его Ерменев. — Не прогневайтесь, дозвольте сказать вам правду.
И художник рассказал о том, что услышал давеча в деревне.
— Поверьте, Александр Петрович, — добавил он. — Состояние поселян ваших самое убогое. Взять с них более нечего…
Сумароков нахмурился.
— Да ведь и я живу не в хоромах, ем-пью не на серебре. Вовсе оскудел!
Ерменев возразил:
— Разве деньги эти понадобились вам на пропитание?.
— Да, сударь! — воскликнул поэт. — Именно на пропитание! Ибо не единым хлебом существую. Простолюдину — что! Брюхо набил и доволен. А мне этого мало! Неужто не понимаешь?
— Как не понять! — мягко сказал Ерменев. — Я и сам таков. Только не верю, что духовная пища, обретенная страданиями людскими, может дать радость.
— Ну, ну! — отмахнулся Сумароков. — Уж и страдания! Они тебе с три короба порасскажут… Не всякой песне верь!
Снаружи послышался шум колес. Сумароков прислушался.
— Никак, едет кто-то?
В прихожей слабо зазвенел колокольчик.
— Так и есть! — с досадой пробормотал Сумароков.
Шаркая мягкими подошвами, вошел Антип.
— Гости, батюшка! — доложил он. — Калиновский барин…
— Нащокин? — удивился хозяин. — Чего это ему вздумалось? Об эту пору?
Он поднялся и пошел в сени. Там стоял тщедушный старичок в парусиновом балахоне и старомодной шляпе. Рядом с ним — дородная барышня.
— Давненько не видались, Николай Кириллович! — сказал хозяин сухо. — Каким ветром занесло?
— Прошу приюта, государь мой! — прошамкал гость. — Для себя и дочери моей, девицы Лизаветы… На одну только ночь!
Девица низко присела.
— Милости прошу! — сказал хозяин. — А что приключилось?
Нащокин покосился в сторону слуг, стоявших у стены. Потом сказал, понизив голос:
— После расскажу… Дозвольте же разоблачиться, соседушка!
— Пособите! — приказал Сумароков слугам.
Антип с лакеем Михайлой стали стягивать с гостя насквозь промокший балахон. Горничные засуетились вокруг барышни. Наконец гости проследовали в столовую.
— Это также гость мой! — представил хозяин Ерменева. — Живописец и зодчий петербургский… Прошу любить и жаловать!
Нащокин и Ерменев раскланялись. Девица опять присела, вскинув на художника тусклые бледно-голубые глаза.
Сумароков пригласил гостей к столу:
— Угощайтесь, чем бог послал… Не желаете ли рому, верно, продрогли, едучи?
Старичок хлебнул из чарки, крякнул, бритое его лицо еще пуще сморщилось.
— Так что же у вас стряслось? — повторил хозяин.
— Несчастье! — воскликнул Нащокин. — Люди мои взбунтовались… Ринулись в усадьбу, стали бесчинствовать! На жизнь мою покушались! Слава богу, успели мы с Лизонькой схорониться в конюшне, а Степка-кучер тайком вывез на дрожках… Кабы не десница господня, быть бы нам убиенными…
— Вон как! — Сумароков был поражен. — Да отчего же это?
Старик развел руками.
— Ни с того ни с сего… Словно взбесились!
— Ну нет! — сказал Сумароков. — Не может быть… Не взыщите, Николай Кириллович, скажу откровенно: слишком вы с мужиками круты.
— А откуда вам сие ведомо, позвольте спросить? — обиделся гость.
— Слухом земля полнится… Порют у вас людей нещадно. Продаете их порознь, как скотину бессловесную. Вот и озлобились.
Старик прикрыл глаза, пожевал беззубыми деснами.
— Что ж, может, прикажете вовсе отпустить мужиков? — сказал он вкрадчиво. — Дать им вольную, пускай идут на все четыре стороны? А?..
— Нет! — ответил хозяин серьезно. — Упаси нас господь от такого лиха! Богачам это не опасно: они наймут в услужение сколько хочешь людей. Мы же едва сводим концы с концами. Откуда возьмем пахарей, пастухов да слуг дворовых? Тогда нам погибель! А на ком стояло и всегда стоять будет государство Российское, как не на поместном дворянстве? Именно на нем, а не на придворной знати, осыпанной милостями и богатствами!.. Да и мужики сами не ищут воли. Знают, что без господ совсем пропадут.
— Умные речи и слушать приятно, — одобрил Нащокин.
— Таково всегда было мое мнение, — продолжал Сумароков. — Пять лет назад почел я долгом изложить его самой государыне, письменно… Однако и тогда и ныне я видел разницу между господином и тираном. Одно дело строгость справедливая, иное — тиранство и произвол. В старину помещики были судьи и отцы своим людям, и мужики любили их, как детям должно любить родителей. Теперь же все больше слышишь о злонравии и мучительстве барском. А от сего растет в народе озлобление.
Нащокин усмехнулся.
— Слыхали мы эти песни! Да смысла в них немного. Разве ныне помещики стали свирепее, а мужики своевольнее, нежели прежде? Нет, государь мой! Времена настали другие, вот в чем дело! Все гонятся за деньгой… Торговля бойкая пошла. Мануфактуры разные строят, заводы. Казна все больше с нас спрашивает. Нас жмут, жмем и мы. Сами изволили сказать: еле концы с концами сводим. Мужик ленив, да себе на уме. Попробуй отпусти чуть веревочку, все прахом пойдет. Вовсе обнищаем. Вам легко, сударь, в столицах комедии сочинять. А нам, кто на земле своей сидит, каково?
Молчавший до сих пор Ерменев заметил:
— В просвещенных европейских государствах давно уже не существует рабства, однако не слышно, чтобы дворяне тамошние по миру ходили…
— Гм! — произнес гость, кинув на художника колючий взгляд. — Вижу, господин живописец из вольнодумцев. Должно, почитывает сочинения Жан-Жака
[14] да мерзости Вольтеровы.
— Приходилось! — ответил Ерменев иронически. — Но и повидал тоже всякое. Здесь, в нашем отечестве…
— Погодите, господа! — вмешался Сумароков. — Вольтер и Руссо ни при чем, Николай Кириллович. Однако и ты, Иван, не прав! Иноземные государства нам не пример. Что русскому здорово, то немцу смерть…
— Глядите! — вскричал вдруг Нащокин поднявшись. — Что это?
Сквозь оконное стекло вдали виднелся отблеск пламени.
— Пожар где-то, — сказал Сумароков.
— Дозвольте выйти на крыльцо, соседушка! — почему-то встревожился гость.
— Что ж, пожалуйста! — сказал Сумароков недоумевая.
Все прошли в переднюю. Сумароков отодвинул засов, распахнул дверь. За дальним лесом плыли клубы багрового дыма.
— Батюшки! — ахнул Нащокин. — Да ведь это у меня!.. Подожгли, злодеи… Ох, господи!.. Совсем разорили, разбойники!
Старик заплакал навзрыд тонким бабьим голосом.
* * *
Наутро Нащокины уехали в Серпухов искать защиты и правосудия.
А два дня спустя в усадьбу явились сивцовские крестьяне. Сумароков вышел к ним.
Когда бородач изложил жалобу, Сумароков Сказал строго:
— Слыханное ли дело барину перечить? Раз приказано, рассуждать не приходится.
— А ежели невмочь? — ответил бородач. — Хоть выпороть прикажи, хоть смертью казнить — ни полушки за душой!
Толпа загудела, заволновалась.
— Так вы бунтовать? — сердито крикнул Сумароков.
— Упаси господь! — перекрестился бородач. — Зачем бунтовать? Это в Калинове мужики пошаливают. А мы смирно… по-хорошему…
«Проведали уже о калиновских делах», — подумал Сумароков.
— Не слушайте его, сударь! — вмешался Сушков. Ишь, какой ходатай выискался! Не все мужики так рассуждают. Вон Дударев Кузьма пусть скажет!
Кузьма вышел вперед, снял шапку, низко поклонился.
— Эвот я, батюшка! Что ж, коли хочешь правду знать, так и впрямь мужикам худо! Ну я, скажем, могу уплатить, у меня хозяйство получше. А много ли таких в Сивцове? Раз, два — и обчелся!.. Все в долгу, как в шелку. Оттого и пришли к твоей милости челом бить. Пожалей, барин, людей за убожество ихнее. И тебя господь за то пожалеет!
Послышались одобрительные восклицания.
«Ну и хитер же!» — подумал Ерменев, стоявший в сторонке.
Сумароков вопросительно посмотрел на управителя, тот смущенно понурил голову.
— Вот что, братцы! — обратился барин к крестьянам. — Людям моим я не мучитель. Подумаю, как мне с вами быть, а Николай Матвеич после объявит вам мою волю. Теперь же ступайте по домам с миром…
Кланяясь и благодаря, мужики пошли прочь. Сумароков вернулся в дом.
Павел, отстав от толпы, подошел к Сушкову.
— Тебе чего? — спросил тот с досадой.
Парень оглянулся по сторонам.
— Ваше благородие! — сказал он тихо. — Это гость баринов виноват. Он мужиков подговорил.
— Ерменев? — удивился управитель. — Не врешь ли?
— Сам слышал! — Павел перекрестился. — Ступайте, говорит, в усадьбу да требуйте барина. И ежели рассердится, все равно стойте на своем. И, говорит, на управителя жалуйтесь!
Сушков вынул из кошеля несколько медных монеток.
— Вот тебе! Ты и впредь, ежели услышишь на деревне что-нибудь… эдакое… ко мне приходи! Понял?
Павел покачал головой:
— Я, ваше благородие, тут жить не желаю. В солдаты пойду. Рекрута от нас требуют, вот меня и бери!
Управитель оторопел:
— Зачем? Ты у Федора Фильцова один сын, таких мы в солдаты не отдаем.
— А я по своей воле, — сказал Павел, глядя в сторону.
— Да ты соображаешь ли? — еще больше удивился Сушков. — Кто ж по своей воле солдатскую лямку наденет? Ведь это почти что навек с родным домом проститься!
— А что мне дом! — возразил Павел. — Сами знаете: с хлеба на воду перебиваемся. Чай, в солдатах не хуже будет. Знамо дело — служба не дружба, а все же веселей, чем в земле ковыряться да скотину чужую в поле гонять.
— Пожалуй, верно, — согласился Сушков. — Солдатская жизнь повеселей мужицкой: походы, города разные! Свет повидаешь! И от тягла крестьянского освободишься: кончил службу — вольный человек… Только отец-то как?
Парень пожал плечами:
— Пущай сам управляется как знает. Вовсе опостылело мне тут, барин!
— Ну ладно, коли решил, сбирайся в путь! — сказал Сушков. — В понедельник поедем с тобой в город.
6
Моросит дождик. По небу несутся тяжелые тучи, гонимые ветром. Пегая лошаденка хлюпает копытами. Кузьма Дударев, сидящий на передке, подстегивает ее. На дне телеги, устланном соломой, пристроился Ерменев.
Проселок вьется между оврагами и перелесками, то взбираясь на холм, то падая в низину. Время от времени по сторонам появляются деревеньки, убогие и однообразные. Ерменев провожает взглядом мокрые соломенные кровли, тощих коровенок, пощипывающих на выгоне остатки травы, и думает о своем. Хотелось пожить здесь еще, да нежданное происшествие заставило его внезапно покинуть сумароковскую усадьбу.
А произошло вот что.
Вскоре после того как мужики ушли с господского двора, к Ерменеву ворвался Александр Петрович. Он был бледен, руки его дрожали, лицо подергивалось.
— Ты что же, Иван, вздумал людей моих к мятежу подстрекать? — спросил он прерывающимся голосом.
— Бог с вами! — с удивлением воскликнул художник. — Какой вздор!
— Не прикидывайся казанской сиротой! — крикнул Сумароков. — Скажи прямо: ты мужиков подучил всем скопом в усадьбу идти?
— Я! — ответил Ерменев спокойно. — Да где ж тут бунт? Они шли к вам милости просить.
— «Милости просить»! — передразнил Сумароков. — А зачем суешь нос в чужие дела?
— Затем, — сказал Ерменев, — чтобы помочь людям в беде. И еще… чтоб вас оборонить.
— Меня? От чего?
— От дурного поступка, в котором вы потом сами бы раскаялись.
Сумароков топнул ногой, брови его запрыгали.
— Змея! — загремел он. — Змею отогрел я на сердце моем!
Ерменев нахмурился.
— Милостивый государь! — произнес он сухо. — Кажется, вы позабыли, что я гость ваш.
— Змея! — продолжал кричать Сумароков. — Холоп!.. Заговорила холопская кровь!
Теперь побледнел художник. Сжав кулаки так, что ногти впились в кожу, он стоял неподвижно с опущенной головой.
Сумароков схватил стоявший на столике хрустальный бокал, швырнул его на пол и выбежал, оглушительно хлопнув дверью. Ерменев прошелся в раздумье по комнате, потом прилег, не раздеваясь, на диван. Едва стало светать, он поспешно собрал в баул скудные свои пожитки, альбомы и карандаши и ушел из усадьбы в деревню.
У деревенского колодца Ерменев остановился: навстречу ему шла Дуня с коромыслом на плечах.
— Попрощаемся, Дуняшка, — сказал Ерменев. — Нынче уезжаю.
Девушка поставила ведра на землю.
— А я как же? — спросила она тихо.
— Ты? — удивился художник.
— Мне-то как быть? — повторила Дуняша, и глаза ее наполнились слезами.
— Так вот оно что! — Художник взял ее руку. — Я не подозревал… Жаль! Ох, как жаль!.. Но ничего не поделаешь, я должен уехать. Ты не горюй, милая, скоро все это позабудется.
Дуня медленно покачала головой.
— Право же, позабудется! Ведь у тебя жених!
Дуня опять покачала головой.
— Разве ты с Павлушей не сговорена?
— Не нужен он мне! — воскликнула девушка, отирая слезы рукавом. — Никто мне не нужен! — И шепотом добавила: — Возьми меня с собой!
— Что ты! — сказал Ерменев растерявшись.
— Возьми! Я служить тебе буду, что захочешь, стану делать!
— Да нельзя мне! Никак нельзя! Я и сам бы рад… Ты и не знаешь, Дунюшка, как ты мне мила! Но я не могу, поверь!
— Увези меня! — тихо повторила девушка. Она обвила руками его шею.
Ерменев осторожно снял ее руки.
— Не нужно, милая… Люди увидят!
— Пусть смотрят! — воскликнула девушка в отчаянии. — Никого я не страшусь. А коли не хочешь с собой взять, так я и сама!.. Намедни барин сказывал, что в Москву меня повезет. В театр…
Ерменев задумчиво поглядел на нее:
— Коли так, значит, встретимся… Уж там-то я тебя разыщу!
Дуняша улыбнулась сквозь слезы:
— Правда?
Ерменев серьезно повторил:
— Правда! — Он снял шапку и перекрестился.
— Ну хорошо! — сказала девушка. — Тогда поезжай… Поезжай с богом!
Она порывисто поцеловала его руку и, подняв ведра, пошла к колодцу. Ерменев направился к дударевской избе.
— Не отвезешь ли в Серпухов, Кузьма Григорьевич? — спросил он. — Мне нынче же надо.
— Можно, — согласился Кузьма. — Как раз собираюсь по торговому делу. Отчего же не в барской коляске?
— Есть причина! — сказал Ерменев уклончиво.
На повороте художник обернулся и в распахнутом окошке увидел Дуняшу. Он помахал девушке рукой. Дуня ответила и захлопнула окно.
…Вот уже добрых два часа они плетутся по грязному проселку, изредка перекидываясь словом. Художник слушает рассеянно, отвечает невпопад. Все ему представляются серые глаза, полные слез… Вспоминается эта встреча, такая нежданная и мимолетная, что, кажется, будто она привиделась во сне…
— А Дуняшку мою барин желает в Москву забрать, — вдруг обернулся Кузьма.
— Неужели? — встрепенулся тот. — Да ведь не отпустишь?
— Мы люди подневольные, — вздохнул Кузьма.
— Ну, придешь к барину, поклонишься. У него нет такого обычая, чтобы отца с детьми разлучать.
— А может, ей в Москве лучше будет? — молвил Кузьма.
Ерменев был удивлен. Обычно крестьяне относились к городу недоверчиво и враждебно.
— Ты тоже из мужиков, — продолжал Дударев. — А в царский дом попал, премудростям разным выучился. Картинки малюешь. Оно, конечно, дело пустое, ребячество… Однако же господа за это деньги платят, почет оказывают. Скажем, взять тебя…
— Меня не бери, — усмехнулся художник. — Как видишь, не очень-то разбогател.
— Значит, удачи не было. Удача, сударь, великое дело, без нее не обойдешься. А все же и тебе небось получше, чем мужикам. Я Дуняшке добра хочу. Одна она у меня. Сирота… Мать-то давно померла.
— Стало быть, Марья, хозяйка твоя, ей мачеха?
— Нет, — ответил Кузьма. — Я в другой раз не женился… Сестра мне Марья. Вековушка. Она тихая, душевная, Дуньку жалеет. А все не родная матушка… Мне, Иван Лексеич, дочка всего на свете дороже, вот и соображаю, как бы так сделать, чтобы жилось ей полегче.
— Разве угадаешь, где искать счастья? — сказал Ерменев задумчиво. — Если бы человек знал наперед, что ему лучше, что хуже, куда как просто было б жить… Ты верно говоришь: мне легче, чем мужикам. Крестьянская доля горька. Но и таким, как я, солоно приходится. Не потрафишь начальству — со свету сживут. Видал я таких, что вовсе погибают, хоть мастера изрядные. А другие — куда хуже — в милость входят. Им и деньги, и чины, и награды…
— Это уж так заведено: коли горд да норовист, радости не жди, — глубокомысленно изрек Кузьма.
— Я не жалуюсь, — продолжал художник. — Мне многого не нужно… Другое мучает: не могу так делать мое дело, как хочется.
— Это как же?
— Ну, пожил я в деревне, нарисовал много… вот тут, в альбомах моих. Мужиков, баб, детей, стариков, странников с поводырями… Как на поле работают, как праздники справляют… Привезу я рисунки эти в Питер или Москву, только посмеются: экая причуда — мужицкую жизнь изображать!
— И правильно! — заметил Кузьма. — Чего в ней хорошего? Ты бы генералов малевал… Графов, архиереев!
— Охоты нет, — сказал Ерменев.
— Себя и вини! Вот, скажем, Сушков господин зовет меня и приказывает: добудь мне, Кузьма, лисичку на ворот к шубе, — я те рубль дам. А я вдруг медведя приволоку! Оно, может, и труднее, а ни к чему. Нешто он мне уплатит?
— Нет, — сказал художник. — Медведя ему ненадобно.
— То-то!.. А ежели Дуняшка в Москву поедет, я и сам туда подамся. В деревне мне несподручно, Иван Лексеич. Тяжко в деревне! С одного боку управитель прижимает, с другого мужики злобствуют. Завидущие! В городу легше. Смекалка у меня быстрая, на руки тоже проворен.
— Да ведь ты крепостной! — возразил Ерменев.
— Это ничего! Помещики многих мужиков отпускают в город, на оброк. Должон буду платить оброку поболе, и все… Барину от этого только выгода. Да и мне тоже: уплатил, что положено, и живи. Вроде вольного!
Некоторое время ехали в молчании. Потом Кузьма опять заговорил:
— Павлушка Фильцов в рекруты идет. По своей охоте…
— Что это вдруг? — удивился Ерменев.
— Кто его знает! Шалый он парень, упрямый… Ну и пускай, я рад. Вокруг Дуняшки все вился. Еще бы: невеста хоть куда! У отца его хозяйство худое. Впроголодь живут.
— А дочь твоя, верно, горюет?
— Что-то незаметно! А погорюет, тоже не беда. Девичьи слезы, что роса; взойдет солнышко — мигом высохнет…
Проселок кончился, телега выехала на большак. Навстречу, со стороны Серпухова, на рысях шел конный отряд. Кузьма съехал с дороги, остановился у обочины. Отряд приближался. Впереди офицер на гнедом жеребце, за ним солдаты: человек пятьдесят. Комья грязи взлетали из-под копыт. Вслед за всадниками показались дрожки, в них ехали Нащокин с дочерью. Ерменев сразу узнал его. Нащокин скользнул взглядом по сидящим в телеге и отвернулся.
— В Калиново поехали! — вздохнул Кузьма. — Худо придется мужикам. Дурачье! Бунтовать вздумали!
— Вот горе! — сказал Ерменев. — Уж так людей жалко!
— Как не жалко! — согласился Кузьма и, сняв шапку, перекрестился. — Ведь крещеный народ, соседи! Зря себя погубили. Сила-то соломку ломит!
* * *
В воскресенье с утра в Сивцове дым пошел коромыслом.
Павел Фильцов, окруженный ватагой парней, шатался по деревне, горланил песни и похвалялся удалью. Парни стучались то в одну, то в другую избу, требуя угощения.
— Принимай гостей, хозяин! — объявлял Павел. — На царскую службу иду. Турчина бить, православную землю защищать! Ставь вина зеленого, капустки квашеной, моченых яблочек!
Иная баба в сердцах пробовала осадить расходившихся молодцов, но муж строго выговаривал:
— Лекрута ублажать надо… Подавай все, что есть в доме!
Скоро парни вовсе захмелели и стали бесчинствовать. Задирали прохожих, затевали драки, бранились непристойно, кое-где побили посуду.
— Собирайся все на луг! — предложил Павел Фильцов. — Плясать будем!.. Пошли по дворам — созывать девок.
Мужики запирались, наказав дочерям за ворота не выходить и даже в окошко не выглядывать.
— Дуньку дударевскую возьмем! — крикнул Павел.
— Верно! — одобрил кто-то. — Пошли к Дударевым!
— У Кузьмы хмельного полным-полно, пусть угощает! — поддержал другой.
Парни хлынули к дударевскому двору, застучали в ворота.
Марья испуганно шепнула:
— Явились!.. Павлушка с огольцами своими… А Кузьмы-то, как на грех, нет. Одни мы!
— Не открывай, тетя Маша! — сказала Дуня.
Сердце ее часто забилось, со щек схлынул румянец, но это был не страх.
Парни во всю мочь колотили по воротам; кулаками, ногами, дубинами.
— Беда! — сказала Марья. — Надо открыть, не то высадят. Ты, Дунюшка, ступай в овин, схоронись, а я пойду… Авось старуху не обидят. — Она пошла к воротам, открыла фортку: — Чего вам? Хорошие ребята, а буяните! Ай, срам!
— Ты не срами, тетка! — заговорил кто-то заплетающимся языком. — Вина нам неси!
— Да откуда я его возьму? — развела руками Марья. — Нету ни капельки, вот те крест! Кузьма завтра вернется, привезет.
— А нам нынче надобно! — настаивал парень.
— Погоди! — остановил его Павел. — Коли нет вина, так пусть Дунька к нам выходит.
— И ее тоже нетути! — сказала Марья. — С подружкой по грибы пошла.
— А ну-ка пусти! — крикнул Павел, оттолкнув женщину плечом. И, обратившись к спутникам, сказал: — Вы здесь постойте, а я мигом приведу…
Он вошел во двор и остановился. Дуня стояла на крылечке, в руке у нее был железный ухват.
— Зачем пришел? — спросила она.
Парень замялся.
— Проститься! — сказал он тихо. — Завтра уезжаю.
— Проститься!.. Окна бить да ворота ломать. Вишь, шайку целую привел. Ступай себе, скатертью дорога!
— А я желаю, чтобы ты с нами плясать пошла, — снова запетушился Павел. — Мне отказа ни в чем нет! Иду солдатскую лямку тянуть, царице-матушке служить!
— Вот там и воюй! — сказала девушка насмешливо. — А я с тобой никуда не пойду, так и знай!
— По мазилке убиваешься? Не видать тебе его, как ушей своих. Поминай, как звали!.. Говорю добром: иди с нами, не то силой поволоку.
Он двинулся к крылечку, глаза его налились кровью. Девушка выпрямилась, подняла ухват.
— Слушай, Павел! — сказала она тихо. — Если сделаешь хоть шаг, я голову тебе проломлю… А дружков своих кликнешь, и с ними то же будет… Пока меня жизни не решите, близко не подпущу!
Павел шагнул вперед, Дуня взмахнула ухватом… Уклоняясь от удара, он отступил.
— Ну и черт с тобой! — молвил он хрипло и, резко повернувшись, пошел к калитке.
* * *
После отъезда Ерменева Сумароков приуныл. Целый день просидел, запершись в кабинете, даже во флигель не заглянул. На другое утро велел Антипу привести Егорушку. Мальчик вошел робко.
— Поди-ка поближе! — сказал Александр Петрович. — Что голову повесил?
Егорушка подошел, остановился у кресла.
— Скучно небось без дяди Вани? — спросил Сумароков.
Егорушка кивнул головой.
— Ну да! — согласился Александр Петрович. — Погулять не с кем… Да какое теперь гулянье — непогода на дворе. Ты в доме побегай!
— Нельзя! — сказал мальчик серьезно. — Дедушка Антип заругает.
— Ничего. Бегай! Вот игрушек нет у нас.
— А это что? — Егорушка указал на серебряную шкатулку.
— В самом деле, я и позабыл… Это, дружок, штука преинтересная!..
Сумароков завел механизм ключиком, нажал рычажок. Крышка отскочила, послышалась мелодичная музыка, со дна шкатулки появились две фарфоровые фигурки: мужская, в голубеньком кафтанчике, и женская, в розовом платье с кружевцами. Фигурки задвигались в танце, церемонно раскланиваясь и приседая.
Мальчик глядел, разинув рот.
Музыка умолкла, фигурки исчезли, крышка захлопнулась.
— Забавно? — улыбнулся Сумароков. — Хитрая штука, иноземная!
Егорушка не отрывал глаз от волшебного ящика.
— Приходи сюда по утрам, я заводить ее буду. Самому тебе нельзя, еще мал… Приходи, не бойся! Еще книжки буду тебе читать. Грамоты ведь не знаешь?
— Дядя Ваня показывал, — сказал Егорушка. — Аз, буки, веди, глаголь, добро, есте… — Он остановился.
— Изрядно! — похвалил Сумароков. — Теперь дальше будем учиться.
— А дядя Ваня не приедет больше?
— Пожалуй, что нет. Обиделся на нас с тобой дядя Ваня.
Мальчик с удивлением взглянул на барина…
С тех пор Егорушка каждое утро являлся в кабинет. Сперва был урок грамоты, потом Александр Петрович читал вслух басни и притчи — собственные или переведенные с французского. Покончив с просвещением, Егорушка принимался за игру: то забавлялся со шкатулкой, то, усевшись на пол, возился со всевозможными безделушками.
Сумароков сидел тут же, за столом. Из кабинета слышались веселые восклицания и смех. Дворовые умиленно улыбались.
Однажды утром Сушков рассказал об усмирении бунта в имении Нащокина.
— Молодцы солдатики! — с удовольствием говорил он. — Всыпали по пятьдесят горячих каждому, а пятерых главных злодеев с собой увезли… Надо полагать, в каторгу сошлют. Теперь во всей округе тихо будет. Присмиреют, сукины дети! Так что, сударь, можете не сомневаться. Уплатят наши сивцовские все, что с них спрашивается.
Сумароков задумался… Вошел Антип, доложил, что в сенях дожидается Кузьма Дударев, просит допустить его к барину.
— Пусть войдет! — разрешил Сумароков.
Кузьма переступил порог, низко поклонился, подал барину сложенный лист бумаги.
— Иван Лексеич велел вашей милости передать… Довез я их до Серпухова, а там просил знакомого купца далее доставить.
Сумароков развернул бумагу.
«Милостивый государь Александр Петрович! — говорилось в письме. — Невозможно мне было после услышанного оставаться под кровом вашим. Решил я отправиться в Москву, тем паче, что надобно мне к делу моему спешить. Однако злобы против вас не таю, ибо знаю, что сердцем вы добры, а ежели в гневе иной раз сотворите несправедливое, после терзаетесь. Только тем огорчен, что, не раз порицая спесь барскую, сами от нее еще не избавились. На кого же уповать, коли даже просвещенные и великодушные люди из благородного сословия одержимы сим пороком? Впрочем, верьте: почитаю вас по-прежнему, как писателя отличного и отменной честности человека. Ежели приведет бог свидеться, найдете во мне преданного друга, каким был всегда. И театру вашему готов помочь по мере сил моих. А сироту Егора, знаю, вы не обидите. Остаюсь покорный вашего благородия слуга Иван Ерменев».
Сумароков сложил письмо, спрятал его в ящик стола и, отвернувшись, украдкой вытер глаза.
— Ступай себе, Николай Матвеич! — обратился он к управителю. — А мужикам объяви, что челобитную их я уважил. Ничего с них до будущего года не причитается.
Сушков попытался что-то возразить, но Сумароков сердито махнул рукой. Управитель, пожав плечами, удалился.
— А ты чего дожидаешься? — спросил он у Кузьмы, по-прежнему стоявшего поодаль.
— Вот какое дело! — заговорил Кузьма. — Знаю, нужда у тебя в деньгах. А мужики наши платить боле не в силах. Да ты вот и сам верно рассудил — снял с них недоимку… Коли желаешь, батюшка-барин, возьми у меня деньжонок. Тыщи две! Вернешь через два года. Ну и, конечно, прикинешь малость, сколько будет твоя воля… Вот и весь сказ!
Александр Петрович помолчал.
— Затея недурна! Изволь, возьму у тебя деньги, через два года обернусь да верну с прибылью. Рубликов сто барыша получишь… Сейчас расписку напишу.
Кузьма замахал руками:
— Господи Иисусе! Что ты, барин? Разве мне слова господского мало?
— Стало быть, поладили… Спасибо тебе, Дударев, ступай с богом!
Поклонившись в пол, Кузьма вышел.
— Ну, Егор! — весело воскликнул Сумароков. — Скоро покатим с тобой в Москву, с дядей Ваней мириться.

 ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1
Тяжко было в Москве в сентябре 1771 года. Моровое поветрие бушевало по-прежнему, жители мерли сотнями ежедневно. Лавки, мастерские, рынки опустели, к чуме присоединился голод. Домовладельцы выселяли жильцов, опасаясь заразы. Найти другое жилье было почти невозможно: никто не хотел пускать в дом посторонних. Толпы бездомных наводнили московские улицы. Пробавляясь случайной и скудной милостыней, они ночевали под открытым небом: кто на охапке сена, кто прямо на земле. Тут же и помирали — не от чумы, а от истощения или простуды, и фурманщики увозили их вместе с зачумленными.
В народе росли злоба и отчаяние. На бойких местах постоянно толпился простой люд, раздавались гневные речи. На чем свет стоит бранили приказных, стражников, попов, лекарей. Доставалось и самой государыне.
Вдруг пошел по Москве слух: какой-то фабричный рассказал, будто явилась к нему во сне боголюбская богородица и, слезами плача, жаловалась, что перед образом ее, что у Варварских ворот, уже много лет обедни не служат, свечей не ставят… И за то, дескать, хотел господь Москву всю уничтожить каменным градом. Но царица небесная умилостивила сына своего, и он взамен града наслал на грешный город моровую язву сроком на полгода.
Народ повалил к Варварским воротам. Люди часами ждали очереди, чтобы приложиться к чудотворной иконе, поставить свечку. Кидали последние медные гроши в стоявшие у ворот денежные сундуки. Многие тут же располагались на ночлег.
О происходящем доложили московскому архиерею, преосвященному Амвросию. Тот распорядился выслать монахов увещевать народ разойтись, а денежные сундуки, во избежание грабежа, опечатать и перевезти на хранение в Воспитательный дом.
— Невозможно сие, владыка! — возразил архимандрит Епифаний.
— Что? — переспросил архиерей нахмурившись. — Уж не ослышался ли я?
Амвросий был нравом крут, подчиненные побаивались его.
Епифаний пояснил, что в народе заметно сильное волнение, чернь винит во всех бедах не только светское начальство, но и священнослужителей, а потому посылать на такое дело монахов опасно.
Преосвященный поехал на Остоженку, к генералу Петру Дмитриевичу Еропкину, который после бегства главнокомандующего и губернатора оказался единственным представителем власти в Москве.
— Да, негоже! — согласился тот, выслушав сообщение Амвросия. — От такого скопления людей еще пуще распространится зараза, да и до мятежа недалеко. Дам я вашему преосвященству команду из солдат Великолуцкого полка. Пошлите ее с подьячими. Только накажите, чтобы не задирались с чернью и соблюдали осторожность!
На другой день архиерей послал к Варварским воротам двенадцать солдат во главе с подпрапорщиком; за солдатами на подводе следовали двое подьячих.
Было это в четверг, 15 сентября…
Отряд явился к месту в восьмом часу вечера, когда уже совсем стемнело. Масляные плошки и смоляные факелы освещали площадь, заполненную людьми. По высоким лестницам, приставленным к воротам, то и дело взбирались люди: поставить свечку перед образом. Гнусавое пение молитв смешивалось с причитаниями, проклятиями, пьяным хохотом.
Подпрапорщик, взобравшись на подводу, закричал:
— Эй, народ! Архиерей московский преосвященный Амвросий велит вам разойтись, дабы уберечь вас самих от заразы. А ящики денежные мы казенной печатью запечатаем и повезем на сохранение.
Толпа замерла. Подьячие пошли к ящикам.
— Братцы! — раздался вдруг пронзительный крик. — Пресвятую богородицу грабят!
Очнувшись от оцепенения, толпа забурлила:
— Не пускайте их!
— Не давайте, братцы, даяния наши похитить!..
— Прочь гоните грабителей!..
— Амвросия подавай сюда, мы с ним поговорим…
— Поганый он, Амвросий. Антихрист!.. И монахи его нечестивые… От них и пошло поветрие!
Чернобородый мужик, Василий Андреев, завопил изо всей мочи:
— Бей приказных, крапивное семя! Не пускай к сундукам!..
Солдаты взяли ружья наперевес. Но толпа вмиг смяла их, отделила друг от друга. Мужики, бабы, мальчишки вырывали у солдат ружья, колотили прикладами, палками, кулаками, валили наземь, топтали. Только четверым удалось убежать, остальные, вместе с подпрапорщиком, были растерзаны.
Андреев, вскочив на опустевшую телегу, кричал:
— Православные! Слуг антихристовых мы истребили, а сам-то архиерей целехонек, в Чудовом монастыре схоронился. Пирует, блуд творит. Казну церковную расточает… Доколе нам муку терпеть, братцы?..
Кто-то поддержал:
— Айда в Кремль!
— В Кремль!.. — подхватила толпа.
Спрыгнув с телеги, Василий шепнул кузнецу Степану Аникину:
— В набат надо ударить… Пущай со всей Москвы народ сбирается!
— И то правда! — согласился Степан. — Послать кого-нибудь в Кремль, к звоннице.
— Дозволь, батя, я побегу! — взмолился аникинский Васька.
— Не осилишь, — покачал головой Степан. — Колокол велик да тяжел…
— Осилю! Не раз на колокольнях званивал. Еще ребят кликну…
— Ну беги! Только не разминуться бы нам!
— Ничего! В Кремле разыщу тебя, а коли нет, у кабака стану дожидаться, в Зарядье…
Васька кивнул двоим подросткам, стоявшим неподалеку, и все трое пустились бежать, сверкая черными пятками.
— Люди православные! — послышался возглас. — Глядите, глядите! Чудо!
Все подняли головы.
На верхней ступеньке лестницы стоял странник в лохмотьях, с котомкой за плечами. Высоко подняв факел, он осветил икону.
— Чудо! — кричал странник неистово, захлебываясь от сладостного восторга. — Ликует матушка, веселится царица небесная!.. Нас на подвиг благословляет…
В багровых отблесках мечущегося на ветру пламени казалось, будто по темному лику богородицы блуждает загадочная улыбка.
Ропот пронесся в толпе.
Люди благоговейно снимали шапки, осеняя себя крестным знамением.
Странник запел высоким, надрывным голосом:
— «Достойно есть, яко воистину блажити тя богородицу…»
Несколько мужских и женских голосов подхватило:
— «Присноблаженную и пренепорочную и матерь бога нашего…»
И тут же вдали загудели частые удары колокола.
— Набат! — воскликнул кто-то.
— Пошли, братцы! — крикнул Василий Андреев. — В гости к Амвросию!
Толпа устремилась вверх по Варварке, к Кремлевской стене.
* * *
Верстах в двадцати от Москвы Ерменева задержали на карантинном посту. На этот раз не помогла и бумага из Петербургской академии…
— Какие нынче в Москве художества! — пожал плечами офицер. — Придется вам, сударь, воротиться…
Пока Ерменев препирался с неумолимым стражем, к заставе подкатила забрызганная грязью карета. Из кареты вышел мужчина в дорожном плаще и направился в помещение гауптвахты.
Постояв некоторое время в стороне и прислушиваясь к спору, он спросил:
— Уж не господина ли Ерменева вижу я перед собой?
— Да! — откликнулся изумленный живописец. — Я точно Ерменев… А вы?
— Дайте срок, объясню. — Незнакомец протянул офицеру какой-то документ и сказал: — Господин Ерменев поедет со мной в Москву по служебной надобности.
Офицер замялся.
— Можете не опасаться! — заверил незнакомец. — Мы вместе отправимся к его превосходительству генералу Еропкину. Ежели угодно, могу подтвердить письменно.
— Было бы желательно, — сказал офицер.
Незнакомец присел к столу и набросал несколько строк на листе бумаги.
Офицер прочитал, спрятал бумагу в ящик и крикнул в окно караульному:
— Пропусти двоих с кучером!
— Долгонько же заставили вы себя дожидаться, сударь! — шутливо сказал незнакомец, когда карета тронулась.
Ерменев с удивлением поглядел на него.
— Предупрежден был письмом о вашем приезде месяца три назад, — пояснил тот. — А вас все нет да нет, словно в воду канули…
— Кто же предупредил? — еще больше удивился художник.
— Господин Баженов.
— Так он знаком вам? Позвольте же узнать, с кем имею удовольствие беседовать.
— Каржавин Федор, Васильев сын. Служу в кремлевской экспедиции архитекторским помощником второго класса.
— Вот как! — обрадовался Ерменев. — Стало быть, мы с вами собратья?
— Слишком много чести, — вздохнул Каржавин. — Художества люблю, иногда балуюсь карандашом и даже красками, для удовольствия… Однако мастерству этому не обучался. А в кремлевской экспедиции исполняю другие обязанности. Сами знаете: для зодчества необходимо многое, что художнику не под силу. К примеру, наем рабочих людей, доставка камня, леса, извести и прочих материалов. Этим и распоряжаюсь. А прежде подвизался на ином поприще…
Не дожидаясь расспросов, Каржавин стал рассказывать о себе. Отец его, Василий Никитич, богатый петербургский купец, был человек образованный. Когда сыну минуло семь лет, Василий Никитич взял его с собой в заграничное путешествие. Побывали они в Данциге и Пруссии, потом отправились в Лондон. Оттуда Василий Никитич возвратился в Россию, сына же отправил в Париж, на попечение своего брата, Ерофея.
О дяде Каржавин говорил с благоговением:
— Великого ума человек Ерофей Никитич… Поистине кладезь знаний! Уехав из России по торговым делам, сперва жил в Польше, но потерпел жестокую неудачу и почти вовсе разорился. Тогда он переселился в Париж и посвятил себя науке. Труды его по древней истории российской, а главное — по особенностям нашего языка в сравнении с языком греческим и славянскими наречиями получили похвальные отзывы знаменитых французских ученых… Мечтаю я, — добавил Каржавин, — завершить то, чего не успел закончить дядюшка: выпустить в свет большое сочинение. Только времени не хватает и денег.
— Странно! — заметил Ерменев. — Неужели, имея состоятельного родителя, вы испытываете нужду в деньгах?
— Произошла у меня с батюшкой размолвка… Способствуя моему образованию, он стремился подготовить себе достойного наследника. По его мысли, российское купечество лишь тогда сможет успешно состязаться с европейским, когда вооружит себя познаниями в географии, навигации, математике и иноземных языках… Ну, а я не намерен оставаться простым купцом. Мечтаю о большем… Отсюда начались наши несогласия. Пришлось расстаться с отеческим кровом и кормиться собственными трудами.
Каржавин рассказал, что в Париже он учился сперва в коллеже Ликсие, потом в университете, а возвратился на родину шесть лет назад.
— Позвольте, — прервал его Ерменев. — Каков же ваш возраст?
— Рожден в лето тысяча семьсот сорок пятое, учение закончил на двадцать первом году.
— Значит, мы почти ровесники, — заметил Ерменев. — Только годом вы меня старше.
— По возвращении я поселился под Москвой, в Троице-Сергиевой лавре. Приняли меня в тамошнюю семинарию учителем французского языка.
— Отчего же вы променяли педагогическую деятельность на чиновничье прозябание? — воскликнул Ерменев.
Каржавин развел руками:
— Как вам сказать… Во-первых, прискучило. Изо дня в день долбить в классах французскую грамоту.
«Непоседлив!» — подумал Ерменев.
— …К тому же и содержание учительское скудно. Ни награждений, ни повышений в чине…
«И, кажется, небескорыстен, — добавил про себя художник. — Но человек прелюбопытный!»
— Возвращаясь из Европы, — продолжал Каржавин, — свел я знакомство с Василием Иванычем Баженовым… Вместе путешествовали. Он-то и пригласил меня на нынешнюю мою должность. Что ж, подумал я, для любознательного человека в каждом деле найдется польза… Принялся прилежно изучать зодческое искусство, прочитал много трактатов по архитектуре на латинском и французском языках. Явились у меня по этому предмету и некоторые собственные мысли… — Вдруг Каржавин спохватился: — Да что же это я все о собственной персоне распространяюсь. Расскажите-ка лучше, господин Ерменев, что такое с вами приключилось и где изволили скрываться.
Художник коротко рассказал.
— Заразы опасались? — спросил Каржавин.
— Нет, не то! — покачал головой Ерменев. — О поветрии московском у нас в Питере знали. Василий Иванович остерегал меня, советовал обождать. А я все-таки решил ехать: уж очень баженовский проект меня увлек… Но, когда
очутился в Москве, увидел все своими главами, у меня пыл пропал. Смерть повсюду, запустение, где ж тут роскошные дворцы возводить?
— С одной стороны, оно так, — сказал Каржавин. — Однако подобные бедствия преходящи, а великие произведения художества остаются навеки.
— Чудно́ вы рассуждаете! — возразил художник с досадой. — Уж вам-то должно быть известно, каких расходов потребует такая постройка. Так не лучше ли деньги эти истратить на помощь нищим, бездомным, вдовам и сиротам?
Каржавин с любопытством взглянул на собеседника.
— А знаете ли, государь мой, — сказал он, — трудновато вам придется на государственной службе…
— Да провались она совсем! — воскликнул Ерменев. — Ни лгать, ни скрывать своих мнений из-за казенного жалованья не намерен!..
Разговор смолк. Затем Ерменев сказал:
— Однако я еще не успел выразить вам признательность за помощь. И как только вы распознали меня?
— Ну, это было нетрудно, — ответил Каржавин добродушно. — Вижу, незнакомый путник добивается проезда в Москву — таких нынче немного. Называет себя архитектором из Академии художеств — этих еще меньше. Как не догадаться?
— Полагаю, что о генерале Еропкине вы упомянули только так, для пущей важности?
— Нет, отчего же… Еропкин, Петр Дмитриевич, теперь остался единственным над Москвой начальством. Помощников у него не хватает, он и меня к делу приставил: то одно поручение, то другое… Сейчас, по его приказу, разъезжал по деревням подмосковным, проверял меры, принятые против распространения заразы.
— А вы-то сами не боитесь чумы?
— Я, сударь, фаталист. Знаете ли это слово? Фатум — сиречь рок, судьба… От этого не убережешься! Жить можно, лишь не думая о смерти, иначе жизнь была бы сплошной мукой.
— Это как ребятишки малые, — усмехнулся Ерменев. — Играют, забавляются и не вспоминают о том, что когда-нибудь забава окончится и придется идти спать.
— Совершенно верно! — сказал Каржавин серьезно. — Дети порой мудрее взрослых.
— Что ж, поветрие на убыль идет? — спросил Ерменев.
— Пока незаметно… Уповаем на осень. С наступлением холодов должна ослабеть зараза. Да и меры карантинные свое сделают… А к генералу Еропкину вам, сударь, действительно следует представиться. Пусть сам решит: производить вам работы или обратно в Петербург отправляться. Не так ли?
— Пожалуй! — согласился художник.
Хмурый осенний день сменился сумерками. Скоро и вовсе стемнело. Лошади плелись шажком. Ямщик то и дело спрыгивал с облучка, осматривал дорогу, Оба седока дремали. Наконец вдали показалась тусклая полоса света.
— Никак подъезжаем, — сказал Каржавин проснувшись.
Ямщик хлестнул вожжами, лошади пошли веселей. Свет становился все ярче. Каржавин опустил оконное стекло, пристально глядя вдаль.
— Эге! — сказал он вдруг. — Это, кажется, не фонари на заставе, а что-то другое… Глядите-ка!
Ерменев выглянул в окно. Впереди отчетливо маячило зарево. Порыв встречного ветра донес далекие частые удары колоколов.
2
Когда у Варварских ворот началась свалка, архиерей Амвросий уже почивал. Сон у преосвященного был крепок: он не слышал ни набата, ни настойчивого стука в дверь кельи. Только почувствовав чью-то руку на своем плече, архиерей открыл глаза. У постели стоял его племянник, Бантыш-Каменский, ученый-историограф и архивариус, живший тут же, в Кремле, неподалеку от Чудова монастыря.
— Николай? — удивился Амвросий.
— Беда, владыко! — торопливо заговорил тот. — У Варварских ворот чернь взбунтовалась… Вставайте!
— У Варварских ворот? — переспросил архиерей спросонок. — Туда воинская команда послана.
— Перебили вашу команду, — в сердцах сказал Бантыш. — Прибежал человек, сказывал — на Кремль идут… В набат ударили. Надо поскорее выбираться отсюда!
Амвросий поднялся с постели, надел подрясник, натянул сапоги.
— Бежать не стану! — сказал он. — Коли явятся, я с крестом на крыльцо выйду, в полном облачении, с иконами моими…
Он распахнул дверь. В узеньком сводчатом коридоре теснились перепуганные монахи.
— Ужели, братие, убоимся неистовства черни? — воскликнул Амвросий. — Пусть только посмеют осквернить богохульники обитель нашу, воинство Христово одним явлением своим повергнет их в прах.
Монахи молчали. Преосвященный с тревогой обвел их взором.
— Владыко! — сказал архимандрит Епифаний. — Народ озверел и в исступлении своем не внемлет даже гласу пастырей. Смутьяны внушили народу, что архиерей Амвросий наслал мор на Москву. Толпа только и вопит: «Смерть Амвросию!..» Торопитесь же! Они совсем близко!
Снаружи доносился еще отдаленный, но уже явственный многоголосый рев.
Амвросий прислонился к стене, закрыл глаза.
— Пусть будет так! — сказал он. — Поеду в Донской монастырь…
Схватив архиерея за руку, Бантыш-Каменский побежал к черной лестнице. Монахи во главе с Епифанием устремились в монастырскую церковь.
А толпа, ворвавшаяся через Спасские ворота, уже неслась по Кремлю. Пламя факелов металось на ветру, освещая исступленные лица, топоры, ломы, колья, дубины.
Ворота монастыря были заперты.
— Отворяй! — заорал Василий Андреев.
— Отворя-а-ай!.. — поддержали сотни голосов.
Степан Аникин изо всей мочи ударил по воротам кузнечным молотом. За ним стали колотить другие чем попало. Не прошло и десяти минут, как тяжелые ворота затрещали и рухнули. Людской поток хлынул в пролом, разлился по церквам, дворикам, лесенкам, коридорам, залам древней обители…
Между тем Бантыш-Каменский, успевший укрыть Амвросия в своем доме, переодел его в простенький серый кафтан и приказал слуге побыстрее заложить ветхую кибитку. Толпа уже ломилась в монастырские ворота, когда кибитка незаметно выехала через Боровицкие ворота на Волхонку.
— В Донской монастырь! — приказал Бантыш вознице.
— Погоди! — остановил Амвросий. — Опасно, пожалуй… Давеча я при монахах про Донской упомянул, а ну как выдадут?.. Жадны они, себялюбивы, на них положиться нельзя.
— Тогда к Еропкину, на Остоженку!
— Что ты! — замотал головой преосвященный. — Уж туда-то перво-наперво ринутся. Ведь он ныне главный! Поедем-ка лучше к Собакину, сенатору. Там надежнее.
В сенаторском особняке окна были наглухо закрыты деревянными ставнями. Пришлось долго стучаться. Наконец дверь приоткрылась.
— Кто такие? — окликнул невидимый страж.
Бантыш-Каменский ответил:
— Доложи барину, что пожаловал сам владыка Амвросий.
— Никого не велено пускать!
— Зови сюда барина! — крикнул Бантыш.
— Нетути их, в деревню выехали.
— Врешь, скотина! — загремел архиерей. — Дома он, я знаю… Зови тотчас же, а коли спит, буди! Беги, говорю, не то завтра всыплют тебе полсотни горячих, осел!
Перепуганный швейцар впустил непрошеных гостей и побежал наверх. Несколько минут спустя на лестнице появился хозяин дома, в шлафроке и ночном колпаке. За ним следовали слуги с зажженными канделябрами. Амвросий пошел навстречу, подняв руку для привычного благословения.
— Что случилось, владыко? — спросил Собакин, торопливо приложившись к архиереевой руке.
Амвросий коротко рассказал.
— Поспешил под гостеприимный кров ваш, — добавил он. — Надеюсь, укроете на время. Ведь бесноваться злодеям недолго…
Собакин развел руками.
— Ваше преосвященство! — сказал он жалобно. — Подумайте сами: вдруг узнают, что вы здесь? Тогда мне несдобровать… Я бы рад, верьте слову, ваше преосвященство, да права не имею подвергать опасности семейство мое. Простите, владыко, но… Не могу!
Амвросий поглядел на него с презрением.
— Будь ты проклят, окаянный! — воскликнул он. — Анафема тебе!
И, круто повернувшись, вышел из дома. Бантыш-Каменский последовал за ним. Дверь подъезда захлопнулась, послышался стук задвигаемого засова.
— Ничего не поделаешь, — вздохнул архиерей. — Придется ехать в Донской.
…Толпа бушевала в Кремле. Первым делом ворвались в архиерейские покои. Там не было ни души. Обшарили все шкафы, клети, искали под кроватями, за киотом… Несколько человек кинулось в церковь, откуда доносилось пение. Монахи распростерлись на каменных плитах, перед алтарем горели свечи. Архимандрит Епифаний с дьяконом служили всенощную.
Вбежавшие остановились, сняли шапки. Монахи в испуге поднимались, теснились к алтарю. Пение на клиросе оборвалось.
Архимандрит обернулся.
— Чего вам надобно? — спросил он.
— Амвросий где? — крикнул Василий Андреев.
— Нет здесь владыки, — ответил Епифаний. — Уехал из обители еще после обеда, а куда — нам неведомо.
— Спрятали вы его! Лучше сами выдайте, не то худо будет!
— Нет здесь владыки, вот крест святой! — Архимандрит осенил себя широким крестным знамением. — Идите с миром, не мешайте службе господней.
Степан Аникин потянул Андреева за рукав.
— Пойдем, Василий, — шепнул он. — Чего тут!
Они вышли.
— Ладно! — сказал Андреев. — Поставим на паперти караул, пусть никого из церкви не выпускают. Не век же будут они поклоны бить. К утру авось выйдут, мы и дознаемся, куда злодея укрыли…
Народ все прибывал и прибывал.
Из Замоскворечья, с Таганки, Сретенки, Пресни, Тверской, из окраинных слобод валили к кремлевским воротам фабричные, дворовые, отставные солдаты, ямщики, разносчики, странники, целовальники, безместные дьячки.
На Ивановской площади пылали костры. Из разбитых окон Чудова монастыря швыряли наружу одежду, меха, посуду, перины, дорогую мебель.
Кто-то вспомнил, что в монастырских подвалах купцы хранят свои вина. Толпа хлынула в погреба, стала выкатывать тяжелые бочки, выбивать втулки и днища…
Степан Аникин с Василием Андреевым присели у костра.
К ним подошло еще несколько человек: целовальник Иван Дмитриев, дворовые люди Алексей Леонтьев и Федор Деянов.
— Неладно! — покачал головой Аникин. — Грабеж пошел… Разгул… Вишь, вон винище хлещут!.. Разве для того сюда явились?
— А для чего же? — усмехнулся целовальник.
— Да ведь нам что надобно? — возразил Аникин. — Амвросия захватить и прочих. И до тех пор не выдавать, покуда царица народу московскому облегчение не даст.
— «Облегчение»! — передразнил Дмитриев. — Как же, дожидайся! Облегчат тебя батогами по хребту… Нет уж, пусть потешатся людишки за муки свои. Пусть вина доброго попробуют, порадуются. А поутру пойдем Амвросия искать!
Аникин покачал головой:
— Перепьются, а потом Еропкин нас, как лисица кур, передушит.
— Не так-то легко, — возразил Василий Андреев. — У него и войска-то нет. Но все же надобно повсюду дозоры выставить.
Он направился к толпе, бурлившей у стен монастыря. Аникин, Леонтьев, Дмитриев пошли следом. Эти люди уже успели стать главарями. Произошло это незаметно, само собой. Никто не выбирал их, немногие знали их по именам… Так бывает почти всегда в подобных случаях. Когда возмущение вспыхивает вдруг, никем не руководимое, тотчас же появляются люди, способные лучше и яснее других выразить словами то, что смутно ощущает толпа, и направить ее действия к определенной цели…
Не прошло и получаса, как у всех ворот стояли караулы. Было приказано: никого из господ в Кремль не впускать, а при появлении солдат немедля поднимать тревогу.
…Каржавинская карета миновала Серпуховскую заставу. У шлагбаума не было стражи, окраинные улицы опустели. Набат смолк, но зарево вдали ширилось.
— Уж не бунт ли? — сказал Каржавин. — И, кажется, не на шутку… Ну, да утро вечера мудренее. Поедемте, сударь, ко мне на Арбат, там заночуем, а завтра увидим, что и как. Живу одиноко, бобылем, но, полагаю, неудобств не испытаете.
— Извольте! — согласился Ерменев.
Карета покатилась вниз по Полянке. Подъехав к Москве-реке, они увидели Кремль, озаренный заревом костров. Густая черная людская масса копошилась на его площадях.
— Не хотите ли поглядеть, что там происходит? — спросил Каржавин.
— О да! — откликнулся Ерменев.
Каржавин приказал кучеру:
— От Ленивки свернешь вправо, к кремлевским воротам.
— Что ты, барин! — испугался кучер. — Нешто не видишь?
— Поезжай, поезжай! — повторил Каржавин и шепнул художнику: — Может, и не стоит соваться к черту в пасть, но уж очень любопытно. Хуже всего однообразие. Нынче, завтра — все те же обязанности, лица, разговоры, улицы, мелкие делишки. Словно не живешь, а повинность отбываешь! А случится что-нибудь необычное, сразу веселеешь… Волнение такое дух захватывает!.. Знакомо вам это?
На лице его появилось какое-то новое выражение — лукавое, задорное, почти детское.
— Знакомо, — ответил художник, глядя на него с улыбкой. — Разумеется, знакомо!..
Близ Боровицких ворот путь им преградили какие-то люди.
— Куда? — Один из дозорных осветил лучиной окно кареты.
Каржавин открыл дверцу.
— Мы московские жители, — объяснил он. — Воротились из деревни… Видим, огни в Кремле, народ собрался, вот и заехали по дороге, узнать, в чем тут дело.
— В Кремль нет проезда. Поворачивай! — распорядился дозорный.
— Погоди! — остановил его другой. — Давай-ка доставим их к нашим: пусть разберутся.
— И то верно! — одобрил первый.
— Зачем же, братцы! — воскликнул Каржавин. — Мы в дела ваши не думаем вступаться. Коли нельзя, так нельзя!
— Нечего тут! — крикнул дозорный.
Взобравшись на козлы, он уселся рядом с кучером, выхватил у него вожжи. Карета въехала в ворота, отовсюду к ней навстречу бежали люди, свистя и улюлюкая.
У костра, вокруг которого сидели главари, дозорный осадил лошадей.
— Вишь, гости незваные пожаловали! — сообщил он. — Я их до места и проводил. А как с ними обойтись, дело ваше.
Спрыгнув на землю, он спросил:
— Нет ли горяченького? Больно зябко под воротами караулить…
Аникин подал ковш, наполненный вином. Тот выпил залпом, крякнул, отер бороду.
Андреев скомандовал:
— А ну-ка выходи!
Каржавин с Ерменевым повиновались, кучер тоже слез с облучка.
— Из деревни едем. Домой, — повторил Каржавин. — Ненароком сюда попали.
— Ненароком? — недоверчиво переспросил Андреев. — Помещики будете?
— Нет! Служим по письменной части.
Андреев оборотился к своим:
— Вот что… Выпрягайте лошадей! А энтих в карете запрем да к ним двух молодцов приставим сторожить.
— Нехорошо! — с укоризной сказал Каржавин. — Мы люди мирные, простые. Я — купецкий сын, товарищ мой — из мастеровых.
— Полезайте-ка в карету оба! — распорядился Василий и обернулся к кучеру: — А ты, братец, ступай на все четыре стороны.
— Это как же? — развел руками кучер. — Мне кони и карета доверены, с меня и спрос будет.
— Сказано: ступай отсюда! — сказал Аникин. — А коли остаться охота, к нам пристань, примем тебя в обчество. Так ведь, братцы?
— Отчего не принять! — усмехнулся Леонтьев.
Кучер постоял в недоумении, потом сплюнул с досадой и побрел к воротам. Каржавин и Ерменев опять уселись в карету. Мужики распрягли лошадей.
— А может, отпустим? — тихонько предложил Аникин. — Кажется, и впрямь люди сторонние. Чего с ними возиться!
— Э, нет! — возразил Андреев. — По письменной части служат, в каретах ездят. Да и не всякого в Москву карантины пропускают. Стало быть, приказные. И не мелкая сошка, а начальство! Таких бы еще набрать, куда легче будет с генералом разговор вести. Сам же ты, Степан, насчет Амвросия говорил.
— Верно! — согласился Аникин.
Они откатили карету в укромный уголок, рядом привязали лошадей и, сыскав в толпе двух молоденьких пареньков, приставили их сторожить.
— Экая незадача! — молвил Каржавин. — Вот уж не думал, что очутимся в плену… И все-таки любопытно, не так ли?
— Еще бы! — отозвался художник. — А поспать можно и в карете. Я к удобствам равнодушен.
— Но бог знает, что нас ожидает! Взбунтовавшаяся чернь — самая страшная из стихий. Сейчас они бесчинствуют в кремлевских соборах, завтра ринутся грабить, жечь, убивать по всей Москве.
— Прискорбно! — ответил Ерменев. — Но виновны не они. Всему причина то зло, которое довело их до исступления.
— Вы правы! — сказал Каржавин. — Давно я предвидел, что этим кончится. Ужаснейший мор… Трусость и бездействие властей!
 Мужики откатили карету.
Мужики откатили карету.
— Ах, я не о том! — прервал художник. — Под злом я подразумеваю не чуму и не слабость власти, а нечто большее. Три месяца пришлось мне провести в деревне, за Серпуховом, куда моровое поветрие, слава богу, не проникло. А ведь и там зреет возмущение…
Помолчав, Каржавин сказал:
— Невежды российские — вот в чем беда. В европейских странах подобное безобразие невозможно.
— Так ли? — спросил Ерменев.
— Уверяю вас! У нас же все иное. Здесь надобно постепенно, не торопясь, осторожно изменять быт народа и перво-наперво насаждать образование. А уж потом думать о вольности.
— Слыхал я не раз подобные рассуждения! — с горечью сказал Ерменев. — И от господина Сумарокова и от других… Да вы поймите, некогда мужику дожидаться, уж больно ошейник рабий затылок натирает…
— Сказать по правде, — продолжал Каржавин, — я не слишком много задумывался над этими вопросами. Меня, видите ли, занимают преимущественно материи научные, а также всякие художества…
— Ах, господин Каржавин! — воскликнул художник. — Ужели вам никогда не приходило в голову, что мыслители и ученые, поэты да артисты могут творить только благодаря тому, что мужик в поте лица добывает хлеб насущный? И мы с вами, сударь, в его глазах почти то же, что помещик, подьячий, офицер… Какой ему прок от наших академий, дворцов, картин, статуй, театров. Только лишние подати да поборы!
— Может быть, может быть… — уклончиво сказал Каржавин.
Видимо, он устал, и продолжать спор ему не хотелось. Вскоре пленники задремали.
Васька Аникин долго искал отца то в Зарядье, то на Красной площади и в Кремле… Наконец он набрел на него. Васька был голоден, утомлен, стучал зубами от пронизывающей ночной сырости. Угостив сына яствами, добытыми из монастырских кладовых, Степан уложил его на мягкой подстилке у костра, заботливо прикрыв зипуном.
Толпа ревела, шум стихал. Захмелевшие бунтовщики спали на папертях церквей, на крылечках, просто на голой земле. Главари, однако, бодрствовали. Нужно было вовремя сменить дозоры у ворот, обсудить план действий.
Ночь шла к концу. Холодный порывистый ветер взметал ворохи щебня, золы и пепла. На краю неба изредка мелькали розовые полосы восхода и тотчас же исчезали под наплывавшими свинцовыми тучами.
Кто-то из караульных доложил, что монахи просят дозволить им вернуться в кельи.
Василий Андреев отправился в церковь.
— Говорите! — приказал он. — Куда Амвросий сбежал? Будете упорствовать, запрем вас без еды и питья!
Монахи зашептались, боязливо озираясь на Епифания.
Андреев, заметив это, объявил:
— Буду спрашивать поодиночке каждого. Кто скажет правду, тот в обитель вернется. А с упрямцами иначе поступим.
Он вышел из церкви и, усевшись на ступеньках, велел приводить монахов.
— Где архиерей? — спросил он долговязого, тощего инока с реденькой белокурой бородкой.
— Не выдашь Епифанию? — шепотом спросил монах.
— Не выдам, говори!
— В Донской монастырь поехал.
— Не врешь ли?
Монах трижды перекрестился.
— Ладно, ступай в келью! — распорядился Андреев.
Привели следующего.
— Где Амвросий? — последовал вопрос.
— А вдруг Епифанию расскажешь? — откликнулся монах.
— Нужен мне твой Епифаний!.. Не опасайся!
— В Донском Амвросий!..
Длинной чередой подходили монахи и, отвечая все то же, расходились по кельям. Наконец появился архимандрит.
— Ну, отец, где Амвросий?
Епифаний молчал.
— Долго ли дожидаться? — с усмешкой спросил Василий.
— Как говорил прежде, что убежище владыки мне неведомо, так и ныне повторяю, — твердо сказал архимандрит. — А казнить прикажешь — твоя сила!..
— Смел ты! — сказал Василий. — Нет, казнить тебя не станем. Известно и так, что Амвросий в Донском монастыре схоронился. Монахи твои рассказали. Понадобится, они и тебя выдадут самому черту. Возвращайся в обитель, да не взыщи, ежели не досчитаешься одежонки да съестного. Чернецам блага эти ни к чему, вы постом да молитвой живы, а мирянам как раз пригодятся… Ступай!
Василий вернулся к товарищам.
— Амвросий в Донском монастыре, — сообщил он. — Уж это точно!
— Чего ж мешкать? — сказал Дмитриев. — Кликнем народ, и айда в Донской!
— Правильно! — согласился Андреев. — Только идти не всем. Сотен трех хватит, остальные пускай в Кремле стерегут. И нам тоже разделиться надобно: я с Ивашкой Дмитриевым да Алексеем пойдем в Донской, а здесь за главных оставим Степана Аникина с Федором…
Каржавин открыл окошко кареты. В сером сумраке раннего утра виднелась опустевшая Ивановская площадь. Подле кареты стоял мальчуган лет двенадцати.
— Ты кто? — осведомился Каржавин.
Мальчик молчал. Каржавин приоткрыл дверцу.
— Нельзя! — крикнул мальчуган и захлопнул дверь.
— Ага! Караулишь? — догадался Каржавин.
Парнишка не ответил.
— А ежели мы тебя не послушаемся да выйдем?
Мальчик вынул из-за пазухи большой нож, какие обычно носят мясники.
— Видал? — пригрозил он.
— Подумаешь, нож! — продолжал поддразнивать пленник. — Нас двое взрослых, а ты один, от горшка три вершка!..
— А я народ кликну! — спокойно ответил страж.
— Ну тогда другое дело! — засмеялся Каржавин.
— Как тебя звать? — спросил Ерменев, тоже глядя в окошко.
— Васькой! — неохотно ответил парнишка.
— А дальше как?
— Никак! — с досадой буркнул Васька и отвернулся.
Каржавин закрыл окно.
— От такого сторожа удрать не трудно, — заметил он. — Да, видимо, недалеко есть народ повзрослее, Одного бы не оставили караулить.
— Думаю, что скоро нас отпустят. Зачем мы им? — сказал Ерменев.
— Зачем?.. Может быть, как заложники, — возразил Каржавин. — Или еще для чего-нибудь… Нет, надеяться надо на другое. Рано или поздно придут войска, бунт будет усмирен. А пока лучше всего сидеть тихо в карете. Надобно набраться терпения. Кстати, не угодно ли закусить? У меня кое-что найдется.
Он раскрыл большой погребец, извлек оттуда аккуратно завернутые кушанья: жареных тетерок, пироги с грибами, яблоки, вино в серебряной фляге.
— Однако вы запасливы! — удивился художник.
— Привычка! — сказал Каржавин, раскладывая провизию. — В Европе выучился. Там люди путешествуют с приятностью, не то что у нас.
— «Придут войска, усмирят бунт…» — повторил задумчиво Ерменев. — Жестокая же будет расправа!
— Ничего не поделаешь! — вздохнул Каржавин. — Так было всегда, так будет и впредь!..
3
Генерал-поручик Петр Дмитриевич Еропкин не блистал ни образованностью, ни острым умом, но был решителен и храбр. Не занимая в ту пору никакого официального поста, он жил на покое в своем скромном особняке на Остоженке. Однако, когда все московское начальство разбежалось, Еропкин счел себя обязанным взять управление беспризорным городом в свои руки.
Императрица отправила из Петербурга ему в помощь нескольких гвардейских офицеров.
Положение нового московского градоправителя было весьма незавидным. Еще прежде, во избежание заразы, почти все здешние воинские части были выведены в дальние подмосковные деревни. В городе оставались лишь мелкие команды, распыленные по разным кварталам, да немного сенатской и камер-коллежской стражи. Не хватало пушек, пороха, пуль…
О бунте Еропкин узнал от четверых солдат, которым посчастливилось спастись от побоища у Варварских ворот.
Он немедленно послал за капитаном Саблуковым, недавно прибывшим из Петербурга и состоявшим в то время смотрителем соседней, четырнадцатой части.
— Сколько у тебя людей? — спросил Еропкин.
— Двадцать два человека, ваше превосходительство, — доложил Саблуков.
— Немного! — буркнул генерал, расхаживая по кабинету. — А в других частях и того меньше. Разошли-ка, братец, гонцов на Тверскую, к Покровским воротам, к Сухаревой и в прочие места. Пусть ведут смотрители солдат своих сюда! Да из Бутырок пушки надобно перетащить! Возможно, нынешней ночью бунтовщики к нам пожалуют.
Вскоре явился посланец из Донского монастыря с письмом от архиерея Амвросия. Преосвященный сообщал о том, что толпа захватила Кремль. «По милости божьей пока удалось мне укрыться в Донской обители, — писал Амвросий, — но убежище сие весьма ненадежно, ибо злодеи могут проведать. А потому прошу ваше превосходительство прислать охрану, а также пропускной билет для выезда за город. Получив оный, смогу я выбраться из Москвы в коляске, которую предоставит мне отец игумен. Уповая на вашего превосходительства помощь, умоляю не медлить, ныне каждая минута дорога…»
Еропкин ответил архиерею, что с часу на час ожидает прибытия войск и тогда пошлет в Донской монастырь отряд. Сейчас же, глубокой ночью, выезжать из города опасно.
Посланец ушел с запиской.
В третьем часу Саблуков постучал в кабинет генерала и доложил, что приказ повсюду передан. Воинские команды собираются, к утру прибудут.
— Черепахи! — вздохнул Еропкин. — Ничего не поделаешь, подождем… Да и мятежники не лучше! Были бы проворны, нас с тобой голыми руками бы схватили. А завтра уже поздно будет! Мы сами к ним навстречу отправимся. Не так ли?
— Так точно, ваше превосходительство! — поддержал капитан. — Сотня солдат сто́ит тысячи этого сброда.
— План мой таков, — объяснил генерал: — Рано утром отправим кого-нибудь в Кремль. Предложим им немедля выйти оттуда и мирно вернуться домой. Можно обещать, что, ежели исполнят сие, никому наказания не будет.
— Как? — воскликнул офицер. — Оставить безнаказанными столь мерзкие бесчинства?
Еропкин усмехнулся:
— Горяч ты больно, Саблуков! Нынче на Москве не такое время, чтобы суд и расправу творить. Сперва нужно утихомирить страсти, навести порядок, укрепить власть.
— А если бунтовщики не согласятся?
— Ну, тогда придется генеральное сражение дать… Давеча отправил я гонца вызвать сюда Великолуцкий полк. Расквартирован он далеко, верст за тридцать. Значит, нужно покуда на свои силы надеяться…
Поутру Еропкин отрядил в Кремль парламентеров.
Мятежники готовы были повести переговоры, но, когда услышали, что речь идет не о переговорах, а о добровольной сдаче, пришли в такую ярость, что посланцы Еропкина под градом камней еле успели ноги унести.
В полдень прибежал к Еропкину переодетый монах с ужасным сообщением. Огромная толпа вломилась в Донской монастырь в тот самый момент, когда архиерей уже готовился сесть в запряженную коляску, чтобы ехать за город. Монахи спрятали преосвященного на хорах церкви, племянника его, Бантыш-Каменского, — в монастырской бане. Бунтовщики разыскали обоих.
— То ли сами догадались, то ли выдал кто-то, — говорил монах. — Племянника крепко побили, но откупился он золотыми часами да табакеркой. А владыке суждена была мученическая кончина. Разломали злодеи южные алтарные двери, набрели на лестницу за иконостасом и наверху нашли архиерея. Потащили его за волосья на паперть… Там некий буйный мужик ударил в висок владыку, а прочие, сквернословя и богохульствуя, поволокли по грязи за ворота… Били его ногами и кольями, пока дух не испустил… И тако, — торжественно произнес монах, подняв очи к небу, — священно-мученик Амвросий, архиепископ московский, жизнь свою страдальчески окончил…
Еропкин помолчал.
— Ответят разбойники за это злодеяние! — молвил он наконец. — Кто главные убийцы?
Монах развел руками:
— Народ разный, незнакомый. Разве распознаешь… Да меня-то, ваше превосходительство, не было при том. Одержимый ужасом и унынием, заперся я в келье, погрузившись в молитву…
— Молодец! — с презрением сказал генерал. — Все вы таковы! Пастыря вашего убивают, а вы по кельям хоронитесь да хнычете… Ну да без тебя дознаемся. Ступай!
…Часам к пяти вечера команды с разных концов города наконец собрались на Остоженке. Всего оказалось человек около ста тридцати да две пушки… Еропкин решил больше не откладывать.
* * *
Покинув Донской монастырь, толпа разделилась. Часть бунтовщиков во главе с Василием Андреевым направилась обратно в Кремль, разбив по дороге два карантина и выпустив оттуда заключенных. Другие разошлись по домам, условясь, что по набатному колоколу тотчас же явятся.
Степан Аникин, выслушав рассказ товарищей о гибели Амвросия, покачал головой:
— Зачем убивать-то? Ведь думали иначе…
— «Думали, думали»! — в сердцах прервал Андреев. — Я ведь не хотел до смерти… Стукнул эдак слегка по темени, он и свалился. А Ивашка Дмитриев колом его ткнул… Ну, тут народ накинулся!
— Грех какой! — тихо сказал Степан. — Священная особа, архиерей!
— Не молол бы ты вздора, Степка! — рассердился Василий. — Что убивать грех, это верно. А что архиерей или другой кто — все едино… И, по правде сказать, жалеть его нечего. Разве он нашего брата жалел? Не божий он служитель, а дьяволов! Сколько эти попы да баре православных людей извели — кого батогами, кого на каторге сибирской!.. Ты бы тех пожалел!
Степан хотел напомнить Андрееву о запертых в карете пленниках, но в этот момент прибежал один из дозорных.
— Братцы! — заговорил он задыхаясь. — Люди сказывают: Еропкин с войском в поход собирается. Сами видели! Даже, говорят, пушки везет!
Аникин с Андреевым переглянулись.
— Так! — сказал Василий. — Что ж, назвался груздем, полезай в кузов… Главное — смелость да напор. Разок бы их поколотить, сразу хвост подожмут. Давай-ка обмозгуем, как генерала встретить.
Посоветовавшись, Андреев, Аникин, Деянов решили не медля сзывать на подмогу народ.
Степан Аникин кликнул сына, по-прежнему сторожившего пленников.
— Полезай-ка наверх, сынок! — приказал он. — Бей в колокол!
— А как же с теми? — кивнул тот на карету.
Степан махнул рукой:
— Не до них… Беги, Вася! Там, на звоннице, и оставайся, никуда не уходи! Я сам за тобой явлюсь.
Мальчик быстро побежал по лестнице. Вскоре опять загудел набат.
Первыми на призыв откликнулись замоскворецкие. Видно было, как за рекой сбегались на набережную люди.
— Я вот как думаю, — предложил Степан. — Пошлем кого-нибудь туда, к ним. Пусть на мосту соберутся и ожидают, пока солдаты придут. Тогда они им в хвост ударят, а мы отсюда по голове… С обеих, значит, сторон!
— Верно! — одобрил Андреев. — Ступай-ка ты, Федор! — обратился он к Деянову. — Только живо!.. Одним духом!
Деянов кинулся опрометью к воротам. Он успел проскочить Ленивку и добрался до моста, когда у Пречистенских ворот показалась голова еропкинского отряда.
Впереди шла небольшая конная команда во главе с самим генералом, ехавшим верхом на гнедом жеребце. Далее следовал батальон пехоты с офицерами, а в арьергарде, громыхая колесами, тащились две пушки.

Дойдя до угла Знаменки, войско остановилось. Отсюда две роты отправились дальше, в сторону Тверской. Одной из них было приказано сосредоточиться близ Иверской часовни, против Воскресенских ворот, другой — атаковать Спасские ворота.
Еропкин с ротой пехоты и конной командой остался на месте.
— Сперва попробуем еще раз миром! — сказал генерал и направил коня к мосту, перекинутому через крепостной ров.
Там скопилось человек около ста бунтовщиков.
— Остерегитесь, ваше превосходительство! — шепнул капитан Саблуков.
Еропкин продолжал шажком подвигаться вперед.
Подъехав поближе к мосту, он крикнул:
— Давайте сюда главных! Надо потолковать!
— Слышь, главных кличет? — послышалось в толпе.
— Василия бы сюда!
— Здесь я! — откликнулся подошедший сзади Андреев.
— Погоди, Василий, — сказал кто-то. — Не нужно тебе показываться… Заприметит генерал.
— И то верно! — одобрили в толпе.
— Нету у нас главных! — закричали мужики генералу. — Каждый сам себе начальник… Говори свое дело, барин, а мы ответ дадим.
— Слушайте же! — обратился Еропкин к бунтовщикам. — Забыв долг перед богом и государыней, учинили вы смуту и воровство. За такие поступки заслужили вы казнь самую лютую. Однако обещаю испросить вам у государыни прошение, ежели одумаетесь и разойдетесь по жилищам своим.
— Где они, жилища наши? — закричал Аникин. — Карантины чумные да ямы на погостах? Схоронились баре в поместьях, сладко едят да мягко спят. А наш брат дохнет хуже скотины!
— Чужим поступкам я не судья! — воскликнул генерал. — А моя совесть чиста. В битвах пулям не кланялся, здесь заразы не страшился. Не испугаюсь и ярости вашей. Потерпите, скоро будет полегче. Пришлет царица-матушка и денег и людей. Построим новые дома, госпитали откроем…
— Славны бубны за горами! — крикнули из толпы. — Ты карантины проклятые распусти, мортусов-душегубов прогони прочь да лекарей басурманских…
— Не просите от меня, чего исполнить не могу, — ответил Еропкин. — В последний раз предлагаю по-хорошему: выходите отсюда! Одолеть вас — дело пустое, да жаль кровь русскую проливать.
Бунтовщики притихли. Видимо, каждый про себя прикидывал: как поступить? Еще недавно они не задумывались о предстоящем. Буйная удаль туманила головы, легкая удача придавала смелости. Терять было нечего: час — да наш, а там, что бог пошлет!..
Но вот пришло время принимать решение: принять неравный бой или смиренно поклониться в ноги и возвратиться к прежней жизни?
Василий Андреев протиснулся вперед.
— Вот что, барин! — крикнул он, обращаясь к Еропкину. — Ты нас не стращай, мы не робкого десятка! Много нас, а еще на подмогу со всей Москвы соберутся. Драться будем крепко, так и знай! А кому суждено голову сложить, значит, так на роду написано. Смерть нам не страшна, она у нас и денно и нощно гостит. Погляди на нас, господин генерал! Не воры мы, не злодеи. Православные люди — смирные, работящие. А коли решились на такие дела, значит, терпежу не стало. Жить, как прежде, боле не хотим, лучше вовсе погибнуть… Желаешь, чтобы на Москве опять тихо стало, исполни, что народ просит!
— Ну, глядите! — сказал Еропкин. — Пеняйте на себя!
Пришпорив коня, он поскакал к своему отряду.
Затрещали барабаны, войско двинулось на приступ. Навстречу солдатам полетели кирпичи, палки, булыжники. Один угодил генералу в ногу, повыше колена. Он пошатнулся, но удержался в седле. Солдаты вскинули ружья. Клуб дыма взметнулся над площадью, человек десять из толпы упало. Конная команда, размахивая палашами, понеслась вперед, за ней с ружьями наперевес пошла пехотная рота. Бунтовщики отступали по мосту, отбиваясь дубинами, рогатинами, топорами.
На углу Волхонки появились наконец замоскворецкие. Наткнувшись на огонь сторожевого охранения, поставленного Еропкиным на перекрестке Знаменки и Моховой, они дрогнули и бросились врассыпную.
Солдаты уже проникли в Боровицкие ворота. В это время две другие команды с Красной площади атаковали Никольские и Спасские ворота. Бунтовщикам пришлось разбиться на три группы.
Войска ворвались в Кремль с трех сторон, отрезав бунтовщикам путь к отступлению. Солдаты кололи их штыками, рубили палашами, били прикладами.
Кремль был захвачен. Однако из города на Красную площадь сбегался народ, чтобы выручить своих. Толпа напирала на кремлевские ворота, в тыл солдатам. Еропкин приказал пустить в дело пушки. Загремел залп. Толпа отхлынула на Варварку, Ильинку, Никольскую…
Наступила ночь. Мертвая тишина воцарилась над городом.
* * *
Васька Аникин притаился на колокольне. Сквозь решетку ему было видно все, что происходило внизу. Валились на землю люди, сраженные пулей или штыком, солдаты ловили прятавшихся и, скрутив их веревками, тащили в монастырские подвалы. Васька искал отца, но так и не нашел.
Наконец все стихло. Солдаты собрались на подступах ко всем воротам, оставив внутри Кремля только часовых на башнях.
Стемнело… Ветер свистел на колокольне. Васька присел на пол. Он не ощущал ни холода, ни голода и только думал: «Придет ли отец, как обещал?.. Нет, видно, не придет! Может, лежит в кровавой луже, среди мертвецов. А может, связанный по рукам и ногам томится в подземелье».
Тоска, гнев, лютая ненависть переполняли Васькино сердце… Послышался шорох. Мальчик прислушался. Скрипнула деревянная ступень внизу. Кто-то осторожно поднимался по лестнице. Васька вынул нож, перегнулся через перила. Глаза его уже привыкли к темноте, и он разглядел солдатскую треуголку.
— Вася!
Мальчику почудился отцовский голос. Он хотел откликнуться, но сдержался.
— Вася! Сынок!
Перед Васькой стоял высокий солдат в камзоле, треуголке, ботфортах, только без ружья. Мальчик шарахнулся и крепко сжал рукоятку ножа.
— Не пужайся! — сказал Степан. — Я это!.. А мундир с солдата убитого снял. Темно, пусто, никто и не заметил… Так-то легче будет!
Васька прижался к отцу, прильнул щекой к его руке.
— Не убили тебя, батя, — шепнул он.
— Пока живой! — сказал Степан. — Только зашибли ногу. Охромел чуточку. Да это ничего, пройдет!.. Давай-ка попробуем выбраться отсюда. А там — ищи ветра в поле!
Они спустились по лестнице.
— Куда же? — спросил Васька.
— Прямо к воротам и пойдем! — ответил отец.
Он поднял мальчика на руки.
— Я с караульным разговор буду вести, а ты притаись, будто спишь…
— Ладно! — смекнул Васька.
У Троицких ворот вокруг костра сидели солдаты и пожилой унтер. Подальше стояли двое часовых с ружьями.
— Куда? — осведомился унтер, когда Аникин подошел поближе.
— В гошпиталь! Ногу крепко зашибли, и в плече рана. Гляди вот!
Солдаты посмотрели на кровавое пятно, расплывшееся на борту мундира.
— Чем же это тебя? — поинтересовался один из них.
— Дубиной! А тут, — он показал на пятно, — ножом или секачом, не приметил… Крови-то сколько, страх!.. Я тряпкой перевязал, а она все текет.
— А это кто? — спросил унтер, указав на Ваську, уткнувшего голову в отцовское плечо.
— Нашел в монастыре. Должно, из прислужников… Больной, весь жаром пышет! Отнесу и его в гошпиталь заодно.
— Уж не чумной ли?
— Кто его знает, — сказал Степан. — Может, и чумной… Не оставлять же мальчонку, как щенка, подыхать…
— Эх, глупая башка! — с досадой крякнул унтер. — Разве можно эдак? Сколько раз говорено! Ну, ступай отсюда поживее.
Солдаты пугливо отстранились, унтер отвернулся, зажал нос. Степан миновал ворота, заковылял по мосту через Неглинку. Очутившись за кремлевской стеной, он опустил Ваську на землю.
— Ну, кажись, выбрались, — облегченно вздохнул Аникин. — Пойдем-ка подале отсюда!
* * *
Ерменев открыл дверцу, прислушался.
— Никого! — сказал он. — Пожалуй, теперь можно уходить.
— Рано! — возразил Каржавин. — Неизвестно, кто сейчас хозяйничает. Вдруг на бунтовщиков наткнемся? Потерпим, пока рассветет.
Ранним утром снаружи послышалась возня, конское ржание. Подле запряженных в карету лошадей хлопотал кучер, подвязывая торбы с овсом.
— Ты откуда? — удивился Каржавин.
— Целехоньки! — радостно воскликнул кучер. — Живы-здоровы! Только животы от голода подвело…
— Не тревожься, — успокоил его Каржавин. — Сыты! Поели на славу!
— Да кто ж их кормил! — с недоверием откликнулся кучер. — Прибежал, гляжу: еле дышат… Ну, я мигом в монастырскую конюшню… Сыскал все-таки корму.
— Так ты о лошадях? — сказал Каржавин с некоторым разочарованием.
— А как же! Ведь мне доверены! И лошади и карета. Я и в ответе… Ну, слава богу, все в сохранности. Сейчас поедем, барин.
— А бунтовщики?
— Выгнали злодеев! — Кучер перекрестился. — Побили окаянных. Задал им жару генерал!
Накормив лошадей, кучер взобрался на козлы, дернул вожжами. Лошади весело побежали по булыжной мостовой. Вокруг валялись неубранные трупы. Лужицы крови быстро высыхали на ветру.
…К полудню Великолуцкий полк, вызванный Еропкиным из подмосковных сел, вступил в город и расположился лагерем на Красной площади.
Бунт был усмирен.
4
Граф Григорий Орлов с многочисленной свитой прибыл в Москву. Первопрестольная столица походила на осажденную крепость. На площадях и перекрестках стояли караулы, по улицам разъезжали конные патрули. Жителей почти не было видно, только из окон и щелей в заборах глядели любопытные на блестящий кортеж, двигавшийся от заставы вниз по Тверской.
В Кремле графа встретил генерал Еропкин. Отдав рапорт о событиях минувшей недели, он заключил:
— Ныне, с прибытием вашего сиятельства, прошу сложить с меня обязанности…
— Любезный Петр Дмитриевич! — ответил Орлов, обнимая генерала. — О заслугах ваших не премину доложить государыне. Просите, чего душе угодно!
— Э, граф! — сказал Еропкин уже не официальным, а обычным тоном. — Какие там награды! Люди мы простые, в небеса не заносимся. Позвольте полежать в постели. Дважды ранен в бою со смутьянами. Да и немолод…
Орлов поселился за Яузой, в головинском дворце, и сразу же рьяно принялся за дело.
Следственная комиссия приступила к допросу пленных.
Мало-помалу выяснились личности главных вожаков. Все они уже были пойманы, не хватало только Степана Аникина. Комиссия приказала учинить розыск.
Орлов ежедневно разъезжал и даже ходил пешком по городу. Он осматривал казенные здания, купеческие лавки, частные дома. Не страшась заразы, посещал больницы и карантины, выслушивал доклады смотрителей и лекарей, отдавал распоряжения, смещал нерадивых чиновников, назначал на их должности других. Граф любил вступать в беседы с простыми людьми: расспрашивал, утешал, ободрял, сыпал прибаутками, щедро раздавал пожертвования и милостыню…
Попрошайки, бродяги и прочие темные людишки не скупились на льстивые похвалы графу. Но большей частью московские жители принимали графские милости сдержанно.
Как-то под вечер Орлов в сопровождении адъютанта проходил по замоскворецким улицам. На скамье у ворот какого-то двора сидел солдат с мальчишкой лет двенадцати.
Увидев графа, солдат хотел было скрыться в подворотню, но было уже поздно. Поднявшись, он вытянулся в струнку, отдал честь.
— Какого полка? — спросил Орлов.
— Московской команды. Отчислен в гошпиталь.
— Зачем разгуливаешь?
— Отпущен родичей проведать, ваше превосходительство.
— А что за хворь у тебя?
— Ранен, ваше превосходительство! В сражении под Кремлем.
— А-а! — Граф вынул из
кошелька золотую монету. — Ну вот тебе! Спасибо за службу, молодец!
— Рад стараться, ваше превосходительство!
— Сынишка? — спросил Орлов, кивнув в сторону подростка.
— Никак нет, ваше превосходительство! Сирота… Приютил я его.
— Нельзя! — сказал граф. — Надобно отдать в Воспитательный дом.
— Ваше превосходительство! — встревожился солдат. — Дозвольте: пусть при мне кормится… Привык!
— Нельзя! — повторил Орлов строго и приказал адъютанту: — Веди его!
Молодой офицер брезгливо потянул мальчика за рукав. Они зашагали дальше. Вдруг мальчишка с силой рванул руку. Адъютант поскользнулся, шлепнулся в жидкую грязь. Мальчик пустился стрелой. Солдата уже не было видно.
Орлов расхохотался:
— Вот тебе, братец, и крещение боевое! Ну ничего, с турками труднее воевать… А бездомных ребятишек надобно переловить — и в Воспитательный!.. Поутру не забудь передать распоряжение полицмейстеру! Строго-настрого!
…Солдат выглянул из подворотни. Убедившись, что начальство скрылось из виду, он окликнул:
— Вася!
Мальчик вышел из-за выступа ветхой церквушки.
Разжав ладонь, в которой лежал золотой, солдат усмехнулся:
— Пригодится!.. Знает граф, кого награждать!
Уже две недели отец и сын Аникины жили у старого их соседа, псаломщика Страхова. Выйдя в ту памятную ночь из Кремля, они долго блуждали по глухим улицам и переулкам, а на заре постучали в страховский дом.
— Так ты ныне в солдатах? — удивился хозяин.
— Не приютишь ли, Иван Петрович, на несколько дён? — уклончиво осведомился Аникин.
Страхов прищурил глаз, погладил бороду.
— Понятно! — молвил он. — Ладно, оставайтесь!..
Степан поселился в сарае. Выходил он только по вечерам, да и то не за ворота. Ваське же было разрешено разгуливать свободно.
Однажды вечером Степан рискнул посидеть с сыном на лавочке за воротами. И, как назло, они напоролись на самого графа…
— На рожон вздумал переть? — с досадой упрекнул кузнеца Страхов. — Ведь ищут тебя. Давеча стражник заходил, допытывался. Верно, кто-нибудь из дружков твоих показал.
— Может статься, — согласился Аникин.
— То-то! И к чему было в эту кашу лезть? Такой тихий мужик!
— Мочи не стало, — тихо сказал Степан.
— Да толк-то какой? Ужели надеялись эдакую силищу одолеть?
Степан молчал.
— Дело твое, — махнул рукой Страхов. — Только помни уговор: со двора ни на шаг и на дворе показывайся пореже. Сведают, худо придется и тебе и мне.
— Ладно, Иван Петрович! — сказал Аникин. — Не опасайся! Думаю, лучше мне вовсе из Москвы убираться. Где-нибудь в деревне схоронюсь.
— Легко сказать! — возразил Страхов. — Повсюду заставы. Кошку и ту не пропустят.
— Как-нибудь проберусь. Авось одёжа солдатская поможет. А Ваську у тебя пока оставлю, если позволишь.
— Отчего же, пускай живет, — согласился хозяин. — Направлю тебя к деверю моему, под Рязань… Он примет. Только не торопись, дело опасное! Я ведь тебя не гоню…
* * *
В ту же ночь в Головинском дворце вспыхнул пожар. Разбуженный камердинером, Орлов выбежал из спальни в плаще, накинутом прямо на белье. Из галереи, примыкавшей к покоям графа, валил густой дым; в окно были видны языки пламени, полыхавшего в противоположном крыле здания.
Утром Орлову доложили, что возле дворцовых подвалов найден обгорелый шест, обернутый просмоленной паклей. Граф нахмурился, ничего не сказал. В полдень он явился в зал, где заседала следственная комиссия.
— Милостивые государи! — обратился к ним Орлов. — Медлить более нельзя. Надобно поскорее закончить разбирательство и примерно покарать преступников сообразно их вине. Тогда сразу остынет пыл черни, воцарится успокоение. А без оного мы бессильны прекратить бедствия на Москве.
Распоряжение было принято к руководству.
Вскоре герольды под звуки труб огласили приговор по всей Москве: Андреева, Дмитриева, Деянова и Леонтьева повесить, двенадцати другим заправилам бунта вырвать ноздри и отправить их на галеры; еще шестьдесят человек подвергнуть телесной экзекуции и сослать в отдаленные места; подростков, участвовавших в беспорядках, публично выпороть.
А Степана Аникина уже не было в Москве.
Однажды, ранним октябрьским утром, он явился к Страхову, низко поклонился и сказал:
— Прощай, Иван Петрович! Спасибо тебе! Ухожу!
— Ну что ж… Ступай с богом! — Страхов обнял кузнеца. — Держи путь на Рязань, там неподалеку деревня Никольская. Спросишь дьячка, Якова Коробкова. Человек он хороший!..
Васька проводил отца до ворот.
— Слыхал, сынок, где меня искать? — спросил Степан, глядя в сторону. — Как только карантины снимут, туда и пробирайся. А после увидим. Может, уйдем на новые места… На Волгу! А то и дале…
— Хорошо бы! — прошептал мальчик.
Помолчали минутку. Степан торопливо перекрестил сына, провел ладонью по его волосам и пошел прочь от двора не оглянувшись.
Исполнение приговора над участниками мятежа было назначено на одиннадцатое ноября. Легкий снежок порхал в воздухе. Караульные посты в этот день были усилены: куда ни глянь — солдатские кивера, холодное сверкание штыков и обнаженных сабель.
Ерменев шел в толпе, двигавшейся по Моховой, к Воскресенским воротам.
Он все еще жил у Каржавина, томясь вынужденным бездельем. Начальству было не до него, а выезд из Москвы стал вовсе невозможен.
Вдруг ему вздумалось пойти на место казни. Словно какая-то таинственная сила влекла его туда. Он предложил Каржавину отправиться вместе.
Тот даже руками развел:
— Ей-богу, не пойму я вас! То возмущались, негодовали. А теперь!.. Нет, благодарю покорно! Дикость, азиатчина!
Ерменев не стал возражать, но все-таки пошел.
Людской поток вынес его на Красную площадь. Вокруг Лобного места уже были приготовлены виселицы, пучки свежих розог, ведра с водой. Ерменев пристроился в уголке паперти Василия Блаженного, раскрыл альбом и принялся делать наброски. Толпа не обращала на него внимания. Все глазели туда, куда под конвоем уже вели осужденных.
Только двое мальчиков следили за художником. Ерменев поднял голову. Перед ним был подросток в малиновом кафтанчике с голубыми отворотами и треугольной шляпе; за ним стоял другой — по виду из простонародья.
Вглядевшись, художник кивнул гимназисту:
— Никак, знакомый? Петруша Страхов, кажется?
— Верно, — ответил гимназист. — А вы кто?
— Господина Сумарокова приятель. Помнишь, однажды ты нам по дороге встретился?
— А-а! — Петруша, очевидно, не узнал Ерменева, но сказал вежливо. — Как же… Очень хорошо помню… А вы рисуете? Взглянуть нельзя ли?
Ерменев протянул альбом. На листах громоздились косматые мужицкие головы, всклокоченные бороды, раскрытые от любопытства рты, зипуны, армяки, лапти, бабьи платки, виселицы, фигуры палачей…
Петруша с интересом рассматривал рисунки. Васька Аникин тоже глядел из-за его плеча. Внезапно Васька выхватил альбом из Петрушиных рук и швырнул его на землю.
— Ты что! — крикнул ошарашенный художник и вдруг узнал в парнишке маленького часового, который караулил их с Каржавиным в карете.
Васькины глаза горели ненавистью. Он с яростью ударил босой ногой по альбому, валявшемуся в грязи, и кинулся прочь.
— Держи его, держи! — закричали рядом.
Мальчик, отбиваясь кулаками и ногами, упал на землю, но десятки рук уже держали его.
Высокий старик в добротном кафтане воскликнул:
— Ишь, воровское отродье! А ну, взять его!
— Не трогайте! — закричал Ерменев. — Отпустите парнишку!
Возглас его потонул в общем гомоне. Ваську скрутили и потащили на панель, где стоял конный дозор во главе с прапорщиком.
* * *
Запуганная казнями и экзекуциями, охраняемая многочисленным войском, Москва притихла. Да и мор пошел на убыль. Все реже громыхали чумные колымаги, пустели карантины и больницы.
Одни объясняли это долгожданным наступлением холодов, другие полагали, что просто время пришло кончиться поветрию. Но при петербургском дворе спасение Москвы было приписано Орлову: ведь граф был посланцем и избранником государыни. Шталмейстер Ребиндер привез Орлову «высочайший рескрипт», призывавший его возвратиться в столицу. Навстречу графу были посланы царские экипажи. В Петербурге его встретили, как полководца, вернувшегося после победоносной войны.
Екатерина ожидала триумфатора в тронном зале, окруженная придворными. Опустившись на колени, Орлов благоговейно приложился к руке государыни.
— Граф Григорий Григорьевич! — сказала Екатерина. — Вы возвратили мне первопрестольную столицу, а народу русскому — его самые драгоценные святыни.
Указав на стоявший на столике поднос, на котором столбиками были сложены новенькие золотые кружочки, она продолжала:
— Эти медали я приказала отчеканить в вашу честь. Раздайте их тем, кто помогал вам в тяжкие дни…
Императрица взяла одну из медалей, протянула ее графу. На одной стороне медали было изображение Орлова, на обратной — фигура римлянина Курция
[15], готового броситься в пропасть. «И такого сына Россия имеет», — гласила надпись.
Граф низко наклонил голову, потом, поднявшись с колен, сказал:
— Государыня! Не знаю, как и благодарить за высокую милость. Но об одном прошу: надпись сия мне лестна не в меру, для других же верных сынов отечества — обидна. Неужели среди слуг твоих, матушка, не нашлись бы многие, кои совершили бы то же, если бы на них пал твой выбор?
— Истинные герои всегда скромны! — улыбнулась императрица. — Пусть будет по-вашему, Григорий Григорьевич! Я велю перечеканить медали. Надпись слегка изменим: не «сына», но «сынов»… «И таковых сынов Россия имеет!» Так, кажется, будет справедливо.
— Опять играет в простачка, — шепнул главный недоброжелатель Орлова, граф Никита Иванович Панин, молодому князю Куракину.
— Какой триумф! — сказал на ухо Ивану Ивановичу Бецкому старичок с андреевской лентой. — Апогей славы!..
— Это и худо! — тихонько ответил Бецкий. — Когда высшая точка пройдена, начинается падение.
Предсказание старого царедворца сбылось. Вскоре у Екатерины сыскался новый сердечный друг. Орлов был навсегда удален от двора и государственных дел.
5
Наступила весна. Почти все московские баре уже возвратились домой. Засияли огнями особняки на Басманной и Покровке, на Воздвиженке и Поварской. Опять покатили по Москве роскошные кареты, запряженные шестерками и четвернями, с важными кучерами на козлах, с ливрейными лакеями на запятках.
Загремела бальная музыка, возобновились гулянья на Девичьем поле, в Сокольниках.
Но раны Москвы не зажили. В мрачном безмолвии стояли дома с выломанными дверьми, выбитыми окнами. Дворы и сады заросли бурьяном Простой народ угрюмо взирал на господское веселье. Но помалкивал…
Императрица так наставляла нового московского главнокомандующего, князя Михаила Никитича Волконского:
«Здесь слышно, что на Москве опять разные враки есть. Пожалуйста, не пропустите оных мимо ушей, но прикажите по исследовании от человека до человека — кто от кого слышал — добраться до выдумщика, и того по мере его вины наказать публично. Заставьте себя уважать и бояться, по делам давайте заплату, уймите буянство!»
Князь старательно выполнял предписание. Его ближайший помощник, Архаров, назначенный московским обер-полицмейстером, наводнил город стражниками и тайными соглядатаями. Они шныряли по рынкам и торговым рядам, пробирались в толпу молящихся в церквах, сидели в кабаках, прислушиваясь к чужим беседам. Заслышав вольное словцо, архаровцы — так прозвали этих молодчиков — хватали неосторожного и волокли его в Рязанское подворье на Лубянской площади. А на дознании у Архарова даже самые упорные и стойкие выдавали единомышленников и часто, чтобы избавиться от мучений, возводили поклепы на знакомых и родственников.
…Майским вечером Ерменев шел вверх по Никитской, направляясь в сторону Кудринской. Липы и клены за заборами оделись молодой листвой. Было тепло и тихо. Пахло нагретой за день землей, свежей травой, немного дымом от разведенных к ужину очагов.
Пройдя Кудринскую площадь, Ерменев свернул на Пресню и подошел к знакомому дому. Сумароков вернулся только на днях. Слуги чистили мебель, скребли паркет, распаковывали и расставляли утварь. Однако в кабинете уже сидели гости: двое актеров из казенного театра и старинный приятель Александра Петровича, писатель Аблесимов, в потрепанном платье, в стоптанных башмаках.
— А, Иван! Явился. Не заставил ждать! — воскликнул хозяин, завидя входящего Ерменева.
Он пошел навстречу художнику и крепко его обнял.
— Ну вот и хорошо! Кто старое помянет, тому глаз вон! Ведь не сердишься?
— Как видите! — улыбнулся Ерменев. — Только узнал о вашем возвращении, тут же поспешил…
— Спасибо, дружок! — Сумароков приложил платок к глазам. — От кого же сведал?
— От Петруши Страхова, вашего ученика.
— Так, так… Я рад. Наконец мы опять в Москве. Несчастная столица! Мало было ей мора, так еще мятеж ужаснейший! Должно быть, тебе, Иван, здесь не сладко пришлось.
— Как же! В плену побывал. Да ничего, уцелел.
— Слава богу! Хвала доблестным нашим военачальникам! — Приоткрыв дверь, Сумароков крикнул: — Приведите малыша!
Через несколько минут старик Антип ввел Егорушку. Он был умыт, причесан, одет в скромный, но приличный кафтанчик.
— О, старый приятель! — с искренней радостью воскликнул Ерменев. — Небось не признал?
— Дядя Ваня! — тихо сказал мальчик.
Художник поднял его на руки, Егорушка радостно засмеялся.
— Вот что, Егор! — сказал Сумароков. — Прочитай-ка нам стихи. Опусти его на пол, Иван!
Мальчик одернул кафтанчик, выставил вперед правую ногу, поднял вверх руку и начал сперва робко:
К тебе, Москва, к тебе взову!
Взведи глаза во край днесь дальний,
Возвысь унывшую главу
И ободри свой дух печальный!..
Понемногу оправляясь от смущения, Егорушка произносил стихи все более уверенно:
Императрица, слыша стон
Врученна ей народа богом,
Слезами окропляет трон
И зрит Москву во бедстве многом.
Перейдя к описанию бунта, мальчик повысил голос и, подражая своему учителю, нараспев, с легким завыванием прочитал:
Весь Кремль наполнен тварью сей,
Оставши силы града слабят
И дом Москвы почтенной всей
Перед народом явно грабят.
Еще громче, как бы ликуя, Егорушка воскликнул:
Избавилися мы рукой
Всещедрыя императрицы,
Войди с веселием покой,
Войди в российские границы!..
— Ну, каково? — спросил Сумароков.
— Прекрасно! — сказал Аблесимов. — Это чья же ода?
— Моя! — ответил Сумароков с гордостью. — В деревне сочинил, как дошел слух о московских происшествиях.
— Высокая поэзия! — молвил Аблесимов, зажмурившись от удовольствия. — Сколько благородства, какая торжественность!
— Чудо! — с восторгом воскликнул один из актеров. — Даже в бедствии, в глуши деревенской не умолкает сумароковская муза.
— А ты, Иван, что скажешь? — спросил автор.
— Стихи хорошие, — отозвался Ерменев сдержанно.
Сумароков пытливо поглядел на него:
— Кажется, чего-то недоговариваешь?.. Так вот, знай! Я долгом своим почел прославить подвиги избавителей наших. Кабы не великая государыня и ее славные сподвижники, конец был бы Москве!.. Да и не одной Москве! Грешили мы вольнодумством, а ныне настали иные времена…
Воцарилось молчание. Потом актер сказал:
— А мальчонка изрядно декламирует. Чем не артист?
— Может, когда-нибудь и станет артистом, — ответил Александр Петрович. — Но еще рано. Пусть подрастет, поучится уму-разуму.
Вошел Петруша Страхов. Учтиво поклонившись, он скромно остановился у порога.
— Пожалуй сюда, господин гимназист! — пригласил хозяин.
Петруша приблизился и, увидев малыша, воскликнул:
— Да ведь это Егорка!
— А ты его откуда знаешь? — удивился Ерменев.
— Соседи! В прошлом году пропал он, ни слуху ни духу…
— Петруша! — сказал тихо Егорушка. — Где мой батя? Где брат Вася?
Петруша замялся.
— Живы, — сказал он. — В деревню ушли. Обещали вернуться…
— Видишь, Егор, — сказал Ерменев. — Стало быть, ты не сирота.
Сумароков нахмурился:
— Ему и у меня неплохо. Не так ли?
— Мне здесь хорошо!
— А теперь простись с гостями и ступай к себе! Спать пора!
Пристукнув каблучками, мальчик пошел к дверям.
Сумароков, как бы заглаживая недавнюю вспышку, обратился к Ерменеву:
— А ты, сударь, верно о театре нашем позабыл?
— Помню! — ответил художник. — И от слов моих тогдашних не отрекаюсь.
— Вот это славно! — Сумароков дружески потрепал его по плечу. — Я уже с этими господами потолковал. Они согласны к нам перейти, скучно им в казенном театре.
— Истинно так! — откликнулся один из актеров.
— Только позовите — на крыльях прилетим, — поддержал другой.
— Знаю! — сказал Александр Петрович. — Труппу соберем отменную. Я еще одну артистку привез… Скоро вам покажу — не нахвалитесь! Истинный талант и собой хороша!
— Дуняша? — спросил Ерменев, слегка побледнев.
— Она! Я особую горницу ей отвел, словно барышне. И отцу ее, Кузьме, дозволил в Москву переселиться, на оброк. Мужик честный, почтительный, не чета разбойникам да смутьянам. Отчего ж такому не оказать милость? Пускай близ дочери живет, пускай торгует — мне не жаль!
Сумароков снова заговорил о своей театральной затее:
— Денег немного уже добыл, хватит для начала. Потом можно еще взять взаймы. Есть у меня на примете один барин. Богач, благотворитель! Деньгами так и сорит.
— Это кто же, позвольте осведомиться? — поинтересовался Аблесимов.
— Демидов Прокопий. Неужто не знаешь? Воспитательный дом создал. Приюты всякие… Университету кучу денег отвалил…
— Как не знать Прокопия Акинфиевича, — сказал Аблесимов. — Он точно, благотворитель. Однако человек непостоянный, взбалмошный. Чудит! И порой весьма зло.
— С Сумароковым не почудишь, братец! — горделиво произнес Александр Петрович. — Никому не советую!
Побеседовав с часок, гости стали прощаться.
— А ты куда? — спросил Сумароков Ерменева. — Разве не останешься у меня?
— Благодарствуйте, Александр Петрович! Поселился я у одного моего знакомца. Пожалуй, обидится, ежели я его покину.
— Кто таков?
— Господин Каржавин. Служит в кремлевской экспедиции.
— Приказный? — Сумароков брезгливо поморщился.
— Нет, по архитектурной части. А прежде был учителем французского языка в семинарии. Путешествовал за границей, в парижском лицее обучался. Человек умный, просвещенный, собеседник приятный.
— Не слыхал! — холодно сказал Сумароков. — Что ж, не смею задерживать, покойной ночи!.. Да, вот что: на будущей неделе хочу театральным ценителям показать Дуняшино уменье. Так ты, коли не скучно, приходи! Только без твоего приятеля… Я, сударь, новых знакомств не ищу…
Ерменев пошел вдвоем с Петрушей Страховым.
— Значит, ты Егорушку давно знаешь? — расспрашивал художник. — Вот не предполагал.
Он рассказал, как они нашли малыша, сбитого лошадьми, как провели лето в Сивцове.
— Это правда, что родные Егорушки живы? — спросил Ерменев. — Или ты просто утешить хотел?
— Правда… Мать померла, а отец с братом живы. Они… — Петруша оглянулся. Улица была пустынна. — Обещайте, что никому не скажете!
— Обещаю!
— Отец его — бунтовщик! У нас прятался, потом ушел совсем. А братца его, Ваську, вы однажды видели.
— Я?..
— Ну да! Помните, на Красной площади?
— Вон оно что!..
Ерменев вдруг ясно представил себе драный, с чужого плеча зипун на маленькой фигурке, засохшую грязь на босых пятках, злой огонек в глазах.
— Высекли его тогда и отпустили, — продолжал Петруша. — Пришел к нам, переночевал — и след простыл… Верно, отправился отца искать.
— Жестоко иной раз судьба над людьми шутит! — задумчиво сказал Ерменев. — Брата батогами потчуют, отцу приготовлена то ли каторга, то ли виселица, а малыш произносит хвалебную оду Орлову с Еропкиным. «Войди с веселием покой, войди в российские границы!..» — повторил он запомнившийся стих. — Такого ни в одной трагедии еще не придумано…
* * *
Качель взлетала все выше. Дуняша крепко уцепилась за веревки. Щеки ее пылали, прядь волос выбилась из-под цветастого платка.
— Ой, дух захватило! — крикнула она наконец.
Ерменев, смеясь, понемногу замедлял полет качели.
— Напугалась? — Он помог девушке спрыгнуть на землю.
— Нисколечко! Только голова чуточку вскружилась.
— Ну пойдем погуляем!
День стоял ясный, теплый. Солнце уже близилось к закату. Это было первое после долгого перерыва гулянье под Новинским.
Посреди поля высился шатер, похожий на огромный колокол; на его вершине развевался пестрый флажок. У шатра толпился народ. Сидельцы, зачерпывая из бочонков длинными ложками — крючками — водку, подавали ее посетителям. По сторонам шатра раскинулись палатки поменьше, крытые рогожей и лубком. На прилавках стояли жбаны с брагой, подносы с пряниками, яблоками, орехами.
— А ну, кому сбитенька имбирного! — выкрикивали зазывалы. — Подходи, народ православный!
— Барин хороший! — обратился один к Ерменеву. — Угости свою красавицу!
Художник выбрал несколько печатных пряников, наливных яблочек и сластей и, уплатив, подал Дуняше. Девушка зарделась от удовольствия.
— Вина не хочешь ли? — предложил Ерменев.
Дуняша отрицательно покачала головой.
— А я, пожалуй, хлебну немного.
— Не нужно! — попросила девушка.
— Не беспокойся, от одной чарочки не захмелею.
Ерменев осушил поднесенный сидельцем «крючок», закусил пряником.
На лужайке расположились музыканты с гуслями, гудками, сопелями. Посреди широкого круга зрителей, помахивая платочками, плыли девушки в праздничных накидках, наброшенных поверх сарафанов. Навстречу им важно выступали парни, заложив руки за пояс.
Дуняша смотрела на пляску, плечи ее слегка задвигались.
— Эх, досада! — сказал художник. — Не мастер я плясать, а тебе, вижу, охота.
— Вот уж ничуть! — Дуняша потянула его в сторону.
…На помосте возвышалась странная фигура: мужчина в сажень ростом с широченными плечами и выпяченной, как железный панцирь, грудью; длинные космы черных волос падали на плечи.
— Чудо природы! — объяснил стоявший на помосте приземистый толстяк. — Господин Рауль с далекого острова Мартиника. Имеет росту три аршина два вершка, весу — девять пудов шесть фунтов. Папаша его — французский купец, матушка — арапская принцесса. До десяти лет был парнишка Обыкновенный, потом почал расти и все растет, хоть ему ныне уже двадцать годов. А до каких пор вырастет — неизвестно! Жрет сырое мясо по десять фунтов на день, вина выпивает три штофа и нисколечко не хмелеет… Подайте, люди православные, малютке на пропитание!
Толпа, глазевшая на чудо природы, захохотала. Оборванный мальчишка с деревянной миской в руках пошел собирать монетки. Зрители давали охотно… Ерменев тоже бросил в миску несколько грошей.
— Сейчас будет кормление господина Рауля! — объявил человечек с помоста и вынул из корзины огромный кусок кровавого мяса.
— Экое страшилище! — шепотом проговорила Дуняша. — Отродясь не видывала. Неужто еще будет расти?
— Право, не знаю, что тут забавного? — пожал плечами художник. — Урод, убогий человек — только и всего… Вот ежели бы балаган поглядеть или кукольную комедию, — это дело другое. Да разбежались из Москвы все скоморохи.
У одной из палаток на корточках сидела старая цыганка. Перед ней на земле были рассыпаны бобы, разложены кости с непонятными знаками, на жаровне тлели уголья.
— Подари пятачок, боярин! — крикнула старуха. — Судьбу расскажу.
Дуняшины глаза заблестели. Ерменев кинул монету в подол цыганки.
— Мне не надо, я и сам колдун, — сказал он. — А ей погадай!
Старуха долго разглядывала руку девушки. Потом, притянув Дуняшу к себе, зашептала на ухо…
— Что ж тебе на роду написано? — спросил художник, когда гадание было окончено.
Дуняша молчала.
— Что-нибудь дурное?
Девушка задумчиво поглядела на него и опустила голову. Они пошли дальше, миновали шумное поле и свернули на узкую улицу. За плетнями стояли бревенчатые избы, по пыли бродили козы, пощипывая молодую траву. У колодца, с ведрами и бадьями, толпились бабы. Из-за заборов доносился нежный запах распускавшейся черемухи. Улица вышла на косогор, внизу извивалась Москва-река, позолоченная отблеском только что закатившегося солнца.
Ведя девушку за руку, Ерменев стал спускаться по крутой тропинке. На берегу не было ни души, пахло сыростью и смолой. Они присели на днище опрокинутой лодки. Отблески на реке погасли, с противоположного берега — от Дорогомиловской слободы — поднимался полосой туман.
— Я знаю, что тебе старуха напророчила, — шепнул Ерменев.
— Что?
— Она сказала: «Это твой суженый».
— Как ты узнал?
— Разве не говорил я тебе, что и сам колдун, пошутил Ерменев.
— Да, так она сказала!
— Ну, значит, верно гадает! — сказал художник.
Он осторожно обнял ее плечи, повернул лицом к себе. Губы ее были полураскрыты и холодны.
— Душенька моя! — тихо сказал Ерменев. — Хочу, чтобы мы с тобой были вместе до самой смерти… Пойдешь за меня?
— Да ведь я крепостная! — вздохнула девушка.
— Это пустое! — ответил художник. — Попрошу Александра Петровича, он тебе вольную даст… Мне не откажет! Вот только съезжу в Питер, ворочусь и обвенчаемся!
— Так ты уезжаешь! — воскликнула Дуняша.
— Совсем ненадолго… По службе дело есть. И семье помочь… Матушка у меня хворая, бедствует. Братишка — недоросль, грамоты не знает. Надобно о них позаботиться. Недели на две отлучусь, не более. Ты не тревожься!
Девушка вдруг порывисто обвила руками его шею, поцеловала в губы. Они долго сидели молча, тесно прижавшись друг к другу… На другом берегу светились дрожащие огоньки, лаяли собаки, С реки доносился всплеск весел…
— А еще цыганка так ворожила, — сказала Дуняша: — «Получишь от него немногую радость и великую печаль»… Вот как она сказала…
— Что ж, может, она права, — молвил Ерменев задумчиво. — Так чаще всего и бывает: много печали и мимолетные радости… Но кто знает: не этим ли и прекрасна жизнь?

 ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
1
Летом 1774 года в Москве стали готовиться к празднованию победы над турками. Со дня на день ожидали начала мирных переговоров.
Но в это время в самой Российской империи произошли важные события. На Яике вспыхнуло народное возмущение. Предводителем его был донской казак Емельян Пугачев, объявивший себя императором Петром III.
Грозное повстанческое войско овладело несколькими яицкими крепостями, отбило атаки царских генералов и теперь двигалось к Волге.
В Москве опять стало тревожно.
На дверях храмов, на стенах присутственных мест были расклеены указы государыни. Люди собирались кучками и какой-нибудь добровольно выискавшийся грамотей читал вслух:
— «Божьей милостью мы, Екатерина Вторая, императрица и самодержица всероссийская, объявляем…»
— Слыхали? — заметил разносчик с лотком, торговавший пирогами у церкви Федора Студита, близ Никитских ворот.
— Скоро злодею погибель!
— Уж этого ему не миновать! — засмеялся приказный, читавший указ. — Вздумалось, вишь, сиволапому царем стать! Мало пороли его, Емельку. Бывали и встарь на Руси такие разбойники, да конец всем один: плаха и анафема.
— Так-то оно так. А верно ли, что генералы обошли его? — усомнился пирожник.
— Слову царскому не веришь? — возмущенно воскликнул приказный. — Гляди, как бы сам в каталажку не угодил!
Расталкивая народ, приказный величественно удалился.
— А ведь ты верно догадался! — обратился к разносчику плечистый молодец с длинной русой бородой. — В указе сказано одно, а на деле — иное… Пугачевское войско на Казань идет. Оттуда уже все начальство сбежало.
— Ты почем знаешь? — недоверчиво спросил кто-то.
— Тамошний я… Только недавно в Москву прибыл, к сродственникам.
Русобородого обступили, стали расспрашивать: верно ли, что у Пугачева в войске одни воры да каторжные? Больно ли лют Емелька? Правда ли, что он с мужиков недоимки складывает?..
— Есть, конечно, и беглые каторжники, — отвечал приезжий. — Однако не всякий, кто в острог попал, вор и злодей. Нешто не знаете? И не столь их много, а больше казаки, крестьяне и мастеровые. А Пугачев не самозванец, истинно и есть он государь Петр Федорович! К простому люду милостлив, а с воеводами да помещиками, верно, крут и суров…
— Ну, коли так, спаси его Христос! — сказал пирожник.
Его поддержали одобрительными возгласами.
— На-ка вот! Возьми, сам прочитай! — Русобородый вытащил из-за пазухи несколько печатных листков. — Это его, государя, письма.
— Я грамоте не обучен, — развел руками пирожник.
— А ты грамотного сыщи, пусть прочитает! — посоветовал кто-то.
Люди потянулись за листками, русобородый охотно раздавал письма по рукам.
Вдруг угрюмый мужик в кучерском кафтане сказал:
— Вот ты каков! Сказывал, будто в гости прибыл к родичам… А зачем людей баламутишь?..
— Господь с тобой! — воскликнул русобородый. — И в мыслях этого нет. Человек я сторонний. Оттого сюда и подался, что в кашу лезть неохота. Говорю то, что от людей слыхал. Бумажки эти мне по дороге попались. Я их и не читал, сам грамоты не разумею.
Он поспешно нырнул в толпу и пошел прочь не оглядываясь.
— Зачем ты его эдак? — укоризненно сказал пирожник.
— Затем, что не дозволено воровские письма раздавать. Или не слыхал, что государыня в указе своем объявила? И вовсе он не пришлый! Обличье его мне будто знакомо. Таких ловить надобно!
…Русобородый шагал быстро, не глядя по сторонам.
«Где я его видел, этого аспида?» — вспоминал он.
— Па-ади! — раздалось над самым ухом.
Русобородый шарахнулся. Карета пролетела, обдав его комками грязи.
— Опять чуть человека не задавил! — проворчал ехавший в карете Сумароков.
Рядом с ним сидел Егорушка. Мальчик оглянулся, но карета свернула за угол. Прохожего уже не было видно.
Пройдя Арбат, русобородый спустился к реке. У скобяной лавчонки его поджидал подросток.
— Вот что, Вася! — сказал русобородый. — Возьми это и носи при себе! — Он передал подростку пачку листков. — А от меня держись подале. Встречаться будем здесь. Только попозже, как стемнеет.
— Ладно, батя!
— Надо быть поосторожнее! — предупредил отец. — Пристал ко мне один: как, мол, смеешь народ мутить? Кажись, знаком он мне, а кто таков — не припомню…
2
Когда жизнь в Москве несколько наладилась, Сумароков обратился к новому московскому главнокомандующему, князю Михаилу Никитичу Волконскому, за разрешением открыть собственный театр. Князь обещал снестись с Петербургом. Время шло, а ответа все не было.
Беспокоили Александра Петровича и денежные дела. Он приискал подходящее для театра помещение: на Знаменке, у Арбатских ворот. Но владелец просил дорого. Кроме того, перестройка дома требовала немалых затрат. Две тысячи рублей Сумароков взял взаймы у своего крепостного, Кузьмы Дударева. Однако это составляло меньше половины нужной суммы.
Александр Петрович поехал к известному московскому богачу Прокопию Демидову.
Демидов жил в особняке, окруженном роскошным садом. Сумарокову пришлось прождать около часа. Наконец его провели к хозяину. Тот полулежал на диване, в халате и шлепанцах. Голова его была повязана пестрым фуляром на манер магометанской чалмы. По дивану прыгала обезьянка, в двух клетках сидели, нахохлившись, желто-зеленые попугаи.
«Экой паша турецкий!» — с досадой подумал гость.
Он и так уже был раздражен долгим ожиданием, а небрежный наряд хозяина еще пуще возмутил его.
— Милости прошу, господин бригадир, ваше высокоблагородие! — сказал Демидов, не поднимаясь с дивана. — Чем обязан высокой чести?
Приветствие звучало явно иронически.
— Явился просить о некоторой помощи, — ответил Сумароков, подавляя накипавшее раздражение.
— Чудно́! — молвил Демидов зевнув. — Царедворец, славный пиит ищет помощи у невежды-мужика…
— Самоуничижение не хуже ли гордости? — сказал Сумароков. — Мне Прокопий Акинфиевич Демидов известен, как внук славного сподвижника великого Петра
[16]… Как великодушный покровитель просвещения!
Обезьянка, спрыгнув с дивана, подбежала к гостю, вскарабкалась на его плечо.
Поэт брезгливо стряхнул ее на пол и дрожащим от возмущения голосом сказал:
— Нельзя ли, сударь, избавить меня от непристойных шуток?
— Ну, ну, уж и обиделся! — добродушно сказал Демидов. — Какая тут непристойность! Чай, приласкаться хотела. Она ведь создание немудреное, вроде хозяина своего… Поди сюда, — поманил он обезьянку. — Не обижай гостя! — И, внезапно переменив тон, сухо спросил: — В чем же ваше дело? Извольте изложить!
Сумароков коротко рассказал. Демидов снова зевнул.
— Так я и полагал, что речь пойдет о деньгах. Зачем же еще мог явиться к Прокопию Демидову господин сочинитель? Уж не о парнасах и пегасах толковать!.. Что ж, так и быть! Денег я вам дам, господин бригадир. Ничего с вами не поделаешь!
— Признателен от всей души! — поклонился Сумароков. — Надо, однако, побеседовать об условиях: срок и тому подобное.
Демидов махнул рукой.
— Об этом толкуйте с моим поверенным. Звать его Пригожин. Я его к вам пришлю…
Через два дня демидовский поверенный сообщил Александру Петровичу условия займа. Процент был высок, за просрочку платежей назначалась значительная пеня. Самым же тяжким и унизительным было требование заклада каких-либо ценностей в обеспечение уплаты.
Сумароков вспыхнул:
— Разве хозяин твой не верит слову российского дворянина?
— Таков у нас порядок, — спокойно ответил Пригожин.
— Я готов дать письменное обязательство, — сказал Александр Петрович. — Чего ж больше?
— Это само собой. Да мало ли что может случиться! Человек смертен…
Сумароков смерил приказчика гневным взглядом. Пригожин развел руками: дескать, вина не моя, мы люди подневольные.
— Какое ж обеспечение? Драгоценности, что ли, фамильные? — осведомился Александр Петрович.
— Лучше бы недвижимое имущество. Скажем — домишко…
— Дом сей — родовое гнездо мое, — с достоинством сказал Сумароков. — И стоимость его намного превышает заимствованную сумму.
— Ох, сударь! — вздохнул поверенный. — Это вы по неведению. Нынче деньги дорогие. А дом совсем ветхий и участок запущенный… Впрочем, это только так, для большей верности. Ведь ваша милость долг уплатит, не так ли? Стало быть, и дом останется во владении вашем. Чего ж опасаться?
Поразмыслив, Сумароков подписал обязательство.
Июнь в Москве стоял прохладный, а с первых дней июля наступила жара. На немощеных улицах толстым слоем лежала пыль. Порывы горячего, сухого ветра вздымали пыльные смерчи.
Сумароков сидел у письменного стола, сбросив камзол и распахнув ворот сорочки. Окна были закрыты: Александр Петрович не выносил мух. В кабинете стояла духота, пахло запыленной кожей книг, табаком, винным перегаром. Сумароков поскрипывал пером, отпивая время от времени из глиняного жбана глоток холодного — только что из погреба — кваса.
В последнее время писалось далеко не так легко и быстро, как прежде. Еще лет пять назад удавалось ему за одну ночь сочинить целую пьесу в стихах, и, гордясь таким редким даром, он отмечал внизу: «Начато в таком-то часу, окончено в таком-то». Теперь же над одой в десять строф бьешься по нескольку часов… А нужно бы трагедию сочинить! Для будущего театра. Небось забыли зрители Сумарокова. Да, театр!.. Когда-то еще он будет, да и будет ли вообще?
Александр Петрович отшвырнул перо, отдернул занавески, распахнул окно. Рой мух с жужжанием ворвался в комнату. Он снова захлопнул окошко, раскрыл двери, схватил с дивана свой камзол и с ожесточением принялся размахивать им, выгоняя мух.
За этим занятием застал его старик Антип, доложивший о приезде гостя, господина Баженова.
— Василий Иванович? — обрадовался Сумароков. — Проси, проси! Веди его на веранду, а я тотчас. Только переоденусь.
На веранде было прохладно. Из сада доносился грустный аромат жасмина. Гонимый ветерком, взлетал пух зацветающих лип. На столике стояло блюдо со свежей земляникой, две бутылки вина.
Баженов, только что возвратившийся из Петербурга, рассказывал о тамошних новостях.
— Состояние духа повсюду прескверное. Курмыш то ли осажден Пугачевым, то ли взят уже. А оттуда и до Нижнего недалеко. Гадают: куда теперь пойдет злодей? Уж не на Москву ли?
— Едва ли осмелится! — покачал головой Сумароков.
— Как знать! Войско его растет. А наши силы малочисленны; главные-то еще с турецкой войны не воротились. Не хватает и оружия.
— И в Москве нехорошо, — сказал Александр Петрович. — Совсем, как три года назад, во время морового поветрия.
— Да это и есть продолжение! — заметил архитектор. — Чума была лишь поводом. А теперь нашелся новый повод — самозванец. Дух бунтовской все ширится.
— Я предвидел сие! — воскликнул Сумароков. — А кто повинен, скажи на милость? Мы! Мы сами! Одни из нас, увлекшись французскими идеями, стали болтать об отмене крепостного права, не понимая, что идеи те не про нас писаны. Мужики обнаглели, вышли из повиновения. А с другой стороны, среди дворянства развелись изверги и душегубы, вроде Салтычихи или соседа моего, Нащокина… Отсюда опять же ожесточение в народе.
— Пожалуй, ты прав! — согласился Баженов. — Но поздно теперь вины разбирать.
— Да, — подтвердил Сумароков. — Ежели мятежники подойдут к Москве поближе, солоно придется. Чернь здешняя только того и ждет. Ныне благородному сословию — от мала до велика — надобно сплотиться воедино. Слышно, будто подмосковные дворяне сбирают ополчение против самозванца. Почин положили можайские помещики, их примеру последовали и прочие. Дай бог удачи!
Он налил гостю и себе вина в серебряные чарки.
— Отличное вино! — смакуя, сказал архитектор. — Давно такого не пробовал.
— Бургундское! — с гордостью отозвался хозяин. Припасено для торжественных случаев.
Баженов приложил руку к сердцу.
— Однако, любезный друг, каково поживаешь? — спросил он. — В добром ли здоровье? Каковы успехи твои?
— Ничего, здоров! А успехами хвалиться не стану…
Александр Петрович рассказал о хлопотах насчет театра, о займе у Демидова.
— Первые платежи по векселю я внес вовремя. А вот последний просрочил изрядно. Денежные обстоятельства мои весьма затруднительны. От имения доходы и прежде были невелики, а теперь и вовсе иссякли. С осени не поступило ни гроша. Управитель мой пишет: мужики оброка не платят. Что с ними поделаешь в такое смутное время! А расходов — уйма!.. Вот и получилась заминка. Я надеялся, что Демидов не станет меня прижимать. Ведь богат несметно, что ему эдакая малость? Так представь: намедни является ко мне каналья-поверенный, требует платить положенный взнос с процентом и пенями, угрожает судом… Разумеется, я выгнал вон мошенника. Но теперь опасаюсь: вдруг исполнит угрозу? Ведь это грабеж!
Он налил вина, руки его дрожали.
— Грабеж среди бела дня! — повторил он, осушив чарку залпом. — Под стать самому Емельке Пугачеву. Забрать дом за бесценок, выгнать человека из родного гнезда!.. Крова лишить!..
Сумароков снова взялся за бутылку. Баженов тихонько отодвинул свою чарку, накрыл ее ладонью. Хозяин налил себе и жадно выпил.
— Успокойся, любезный друг! — мягко сказал Баженов. — С Прокопием Акинфиевичем Демидовым мы приятели, и, кажется, у него есть сейчас во мне нужда. Завтра же отправлюсь к нему.
Александр Петрович поднялся и крепко обнял гостя.
— Спасибо, Василий Иванович, за участие!
— А что касается театра, — заметил Баженов, — так время теперь в самом деле неподходящее. Так же, как и с моим дворцом кремлевским. Заложили мы его, речи произнесли, а дело ни с места: денег не отпускают… Но хватит нам на судьбу сетовать! Поговорим о другом! Видал я в Питере зятя твоего, Княжнина.
— А! Ну как он? — Сумароков оживился.
Поэт и драматический сочинитель, Княжнин был женат на младшей дочери Сумарокова. Расставшись со своей семьей, Александр Петрович сохранил близость только с Княжниными.
— Отлично успевает, — сказал Баженов.
— Я рад! Из нынешних Княжнин, пожалуй, лучший. Пишет благородно, в высоком стиле. Не соблазняется дрянной модой. Некогда презентовал он мне свою трагедию «Дидона» с надписью: «Отцу российского театра». Не то, что щелкоперы, вроде Лукина и Баркова, кои позорят мое имя пашквилями.
— Дмитриевский тоже благоденствует, — продолжал Баженов. — Славен, знаменит, важен!.. Первый артист империи — так его именуют.
Сумароков снова налил чарку. Баженов покачал головой:
— Не много ли, мой друг?
— Ничего… От доброго вина на сердце легче.
В саду на дорожке показались Дуняша с Егорушкой.
— А что Иван Ерменев? — спросил Сумароков. — Ни слуху ни духу!
Дуняша остановилась, прислушиваясь к разговору на веранде. Собеседники не замечали ее.
— Ерменев за границу уехал, — сказал Баженов. — Вместе с Федором Каржавиным, моим помощником. В Париж! Туго ему пришлось в Питере. Неудачлив!.. А ведь даровитый мастер, весьма даровитый! Показывал он нам свои деревенские рисунки. Чудесно! Так никто еще у нас не рисовал. Видел ты их?
— Еще бы! Это он в Сивцове делал… Но мне не понравились. По-моему, художник должен изображать лишь прекрасное и возвышенное. Мужичья жизнь может ли вдохновить живописца?
— Э, брат! — возразил архитектор. — Здесь мы с тобой не согласимся. Итальянские, французские, голландские мастера прошлых веков изображали не только святых, королей и вельмож, но запечатлели и быт народный. И у нас начинают к этому приходить. Вот, к примеру, Шибанов написал отличные деревенские картины. Но у него крестьяне сытые, достаточные, веселые. А у Ерменева скудость, горе, слепцы, побирушки! Государыня своим заграничным Друзьям пишет о всеобщем
российском благополучии, гордится своим просвещенным правлением. А тут мрак, угрюмость!
— Упрям! — сказал Сумароков. — Часто мы с ним бранились, а я все равно люблю его. Есть в Ерменеве искра божья.
— То-то! — подтвердил Баженов. — Оттого я ему и помогаю… Когда проект кремлевского дворца отложили, Ерменев лишился жалованья. Куда, думаю, девать его? Средств никаких, мать с братишкой на руках. Как раз собрался Каржавин во Францию, по торговым делам. Я и сообразил… Обратился к самому цесаревичу, Павлу Петровичу. Он ко мне милостив, и Ерменев ему знаком: вместе детьми игрывали. Цесаревич согласился отправить Ивана в Париж, назначил ему из своих средств стипендию. А я написал рекомендательные письма к знакомым французским живописцам и зодчим. В прошлом месяце отправился в путь наш Ерменев.
— Дуняша! — звонко крикнул Егорушка. — Гляди: черепаха! Ишь, какая огромная!
Сумароков поглядел вниз.
— Дуня! — крикнул он. — Нынче гость у меня, заниматься не будем.
— Слушаю, барин! — откликнулась девушка. — Тогда я домой пойду. Позвольте Егорушку взять? Пусть у нас переночует. Поутру в реке искупается, с ребятишками поиграет…
— Бери! — разрешил Александр Петрович. — Только завтра к обеду приведи сюда. И одному не купаться! Пусть кто-нибудь присматривает!
— Не тревожьтесь, сударь! Пойдем, Егор!
Дуняша поклонилась и пошла к калитке, мальчик вприпрыжку побежал впереди.
— Красавица! — Баженов проводил девушку взглядом. — Чудо, как хороша!
— Обидел ее Иван! — молвил Сумароков сердито. — Посулил, должно быть, златые горы, она и уши развесила. А теперь и след простыл.
— Шалый человек, артистическая натура! — усмехнулся архитектор. — Кто из нас этим не грешен? И правду сказать, обстоятельства так сложились. Где ему теперь о женитьбе думать!
…Дуняша жила вместе с отцом и теткой Марьей, но ежедневно ходила к Сумарокову учиться театральному мастерству. Кузьма Дударев купил домик на берегу Москвы-реки, у Дорогомиловского моста. Передняя часть домика была отведена под лавку, где Кузьма торговал скобяным товаром, в двух горенках жили они втроем.
По странной случайности домик этот находился поблизости от того места, где два года назад на опрокинутой лодке сидели Дуняша с Ерменевым.
«Париж! — думала Дуня, идя с Егорушкой по Новинскому полю. — Далеко это… За тридевять земель!»
Ерменев не раз говорил об этом городе, полном чудес. Слышала она о Париже и от барина. Потом и сама кое-что прочитала. Отец нанял Дуне учителя — отставного приказного. Дуня училась прилежно, пристрастилась к чтению книг. Тетка Марья неодобрительно покачивала головой, жалея племянницу, которую заставляли заниматься ненужным для девки делом.
— Пускай учится! — говорил Кузьма. — Мы, Марья, свое отжили, а ей суждена иная доля.
…С того дня они так и не виделись. Только как-то раз — это было прошлым летом — барин позвал Дуню в кабинет, где у него сидел тот же самый гость, что и сегодня.
— Господин Баженов письмо привез от Ивана Ерменева, — объявил Сумароков. — Просил он тебе передать, что сейчас прибыть в Москву никак не может, а будущим летом надеется.
— И еще просил не забывать! — добавил гость с улыбкой. — Ну как, не забыла?
Дуняша молчала, потупив взгляд.
— Вижу, запала ты ему в душу, — заметил Александр Петрович.
Дуня вспыхнула и по-деревенски закрыла лицо рукавом.
— А мне и невдомек! — усмехнулся Сумароков. — Когда же вы успели? Ну ладно, ступай себе!
С тех пор прошел год. Наступило долгожданное лето. А дожидаться уже нечего!
…Баженов рассказывал о поэте Михаиле Михайловиче Хераскове, старинном друге Сумарокова. Одно время Херасков состоял директором Московского университета. Под его руководством студенты и профессора издавали литературные журналы «Полезное увеселение» и «Доброе намерение», представляли на сцене трагедии и комические оперы, Нелады с некоторыми сослуживцами заставили Хераскова перебраться в Петербург. Там он занял пост вице-президента берг-коллегии
[17], получил чин статского советника.
— Тяжело ему на службе, — говорил Баженов.
— Еще бы! — воскликнул Сумароков. — Стихотворец — и вдруг в канцелярию угодил.
— Сочинительства, однако, не оставил, — заметил Баженов. — Прочел ты его новую поэму?
— Слыхал только, — сказал Александр Петрович.
— Петербургская публика в восторг пришла. Сама государыня очень расхваливала. Говорит: наконец объявился российский Гомер!
Сумароков поморщился:
— Ну уж и Гомер! У нас всегда так: либо до небес вознесут, либо в грязь втопчут… Однако Херасков — сочинитель отменный. Я слыхал, будто он в Питере с масонами сдружился. Верно ли?
— Возможно, — сказал Баженов уклончиво.
— Вздор это! — махнул рукой Сумароков.
— Отчего ж? Помнится, и ты в петербургской ложе состоял.
— Поэтому и говорю, что сам испытал. Высокие слова, таинства мистические, в которых никто ни черта не смыслит. А на деле только предлог для пиров да карточных игр.
Баженов помолчал.
— Может, прежде так оно и было, — возразил он затем. — А теперь не то. У масонов благородные цели: нравственное совершенствование, любовь к ближнему, постижение тайн бытия…
— Посредством заклинаний и колдовских зелий, — насмешливо подхватил Александр Петрович. — Все это, братец, наносное! Такая же мода, как на прически, ленты, жабо, кафтаны, слезные драмы и тому подобное… Французы с немцами придумают, а мы тут же подхватим… Как обезьяны! Молодец Новиков! Читал я недавно его журнал «Кошелек». Отлично он высмеял наших шутов гороховых, перенимающих все иноземное, не разбирая, что полезно, а что глупо.
— Согласен! — сказал Баженов. — Но, увы, истощился его «Кошелек». Пришел ему конец!
— Вот те и на! — воскликнул Александр Петрович. — Что же случилось?
— После «Трутня» и «Живописца» Новиков потерпел убытки. Средств на новый журнал не хватило. Тут подоспел Козицкий, предложил помощь. Сам понимаешь: ведь Козицкий не от себя.
— Знаю! Государыня!..
— Разумеется… Маневр хитрый! Дескать, денег дадим, если согласен выпускать журнал благонамеренный, без дерзостей, без насмешек над властью!
— Что ж Новиков?
— Согласился, но обещания не сдержал. Нет-нет, да и уколет, и пребольно! Конечно, в верхах снова неудовольствие, досада…
Сумароков понурил голову.
— Вот она, участь российского сочинителя! — сказал он мрачно. — Вздумаешь честен быть, в порошок сотрут, пойдешь на сделку с совестью, тоже путного не выйдет… Легче бы вовсе без совести, да куда ее денешь, треклятую!
Он заметно охмелел. Руки и голова его тряслись, язык заплетался. Баженов встал:
— Пожалуй, мне пора! Надобно еще главнокомандующего посетить. Прощай, любезный Александр Петрович. Долго ли в Москве пробуду — не знаю, но с тобой мы еще повидаемся.
— Что ж, поезжай с богом! — Сумароков с трудом поднялся с кресла.
— А к Демидову отправлюсь завтра же, — сказал архитектор. — Ты не сомневайся: все уладится.
* * *
У Дударевых ужинали. Ели теперь уж не по-деревенски. Однажды Кузьма принес в дом тарелки, блюда, вилки, ножи и приказал Марье накрыть стол скатертью и каждому ставить отдельный прибор.
— Мы хотя и не благородные и не купцы, однако лучше вверх глядеть, нежели вниз! — объяснил он.
— Крепостные мы! — робко молвила Марья.
— Покуда крепостные. А что после будет, то одному господу видно. Дуняшке же надо привыкать по-благородному.
Сегодня хозяин был в приятном расположении духа. Подсчет прихода и расхода за прошлый месяц показал значительную прибыль. Торговля шла бойко: в дударевской лавке покупали скобяной товар владельцы баржей и баркасов, ремесленники, мелкие домовладельцы. Кроме того, Кузьма давал деньги в рост. Процент взимал умеренный, за горло не хватал, редко отказывал в отсрочке, если человек внушал доверие. Тем не менее ссуды приносили немалый барыш.
— Ну, сударь, каково живется? — обратился Кузьма к мальчику.
Он всегда разговаривал с Егорушкой шутливо, но с некоторым оттенком почтительности: как-никак, малыш был барским воспитанником.
— Живется хорошо! — ответил Егор, жуя пирог и болтая ногами под столом.
— Еще бы! Дом большой, сад красивый. Не то, что у нас.
— У вас тоже ладно! — сказал Егорушка. — Река, лодки… Рыбу можно удить.
— Это так! — согласился хозяин. — Однако тесно. Все же лучше, чем в деревне… Помнишь, как ты к нам в гости приходил?
— Помню, — ответил мальчик и добавил: — А дядя Ваня в чужие края уехал.
— Вон как! — удивился Дударев. — Куда же?
Мальчик пожал плечами и поглядел на Дуняшу.
— В Париж! — сказала девушка, не глядя на отца.
— Это у немцев, что ли?
— Во Франции, — сказала Дуняша.
Дударев усмехнулся. Ого! Француз простого мужика к себе не пустит. Вот она, наука, что делает…
После ужина Егорушку уложили спать. Марья принялась мыть посуду. Кузьма отправился потолковать к соседу, хозяину мучной лавки.
Дуняша вышла из дому. Солнце село недавно, облака за рекой еще розовели, а на другом краю неба, над кровлями, уже стояла огромная медная луна. Девушка дошла до того места, где когда-то лежала опрокинутая лодка, и присела на камешек. Опять доносились всплески весел с реки, и на другом берегу мелькали огоньки.
«Господин Рауль! — вспомнилось ей. — Папаша — французский купец, матушка — арапская принцесса… Неужто во Франции живут такие? Да нет, чепуха, глупости!»
Ей хотелось представить себе Париж и французов. В воображении возникали замки с башнями, острые шпили соборов, аллеи парков, кавалеры и дамы, плывущие в танце, — все, что ей приходилось видеть на картинках в сумароковских книгах. Но это были неясные, разорванные видения, целой же картины не получалось…
Возвращаясь домой, Дуняша увидела у скобяной лавки двоих: мужчину с русой бородой и подростка. Они сидели на скамеечке, тихо разговаривая. Увидев девушку, оба замолкли.
Когда она вошла в дом, русобородый сказал:
— Пойдем, Вася! Что-то хозяева косятся.
— Ну и пускай! — сердито шепнул мальчик. — Лавка закрыта, каждый может посидеть.
— Каждый, да не мы с тобой! — возразил отец.
…Кузьма уже вернулся и собирался ложиться спать.
— Батюшка, — сказала Дуня, войдя в горницу, — там какие-то двое сидят. Бродяги, что ли?
— Да, да! — озабоченно откликнулся отец. — Я уже который раз примечаю… Не ровен час — ограбят! Надобно будочнику сказать.
3
Русобородый стоял у стены, руки и ноги его были закованы в кандалы.
— Как звать?
— Хлебников, Иван Петров.
Прапорщик Городчаков строго переспросил:
— Так ли?
Арестант угрюмо сказал:
— Хлебниковы мы!
— Здешний?
— Никак нет. Казанский… Деревня Мурино…
— В Москву зачем пожаловал?
— А затем, что в наших краях смутно и голодно.
— Где в Москве проживал?
— У разных… Кто за плату приютит, кто по доброте.
— Семейный?
— Была баба, да померла, ваше благородие. Детей бог не послал.
— А мальчонка, что с тобой разгуливал? Куда девался?
— Это какой же?
— Ты дурачком не прикидывайся! Люди видели!
— А! Верно!.. Пристал ко мне сиротка.
— Послушай! — гаркнул прапорщик. — Я из тебя правду выколочу!
— Воля ваша! — тихо сказал арестант.
— Кто тебя в Москву послал?
— Никто, ваше благородие.
— Врешь, сукин сын! — загремел офицер. — А письма воровские кто подбрасывал? Кто Емельку злодея расхваливал? Мне все известно.
— Ежели известно, то и допытываться незачем! — сказал арестант.
Прапорщик поднялся из-за стола, не спеша подошел к нему и, размахнувшись, ткнул его кулаком в переносицу. Городчаков был мал ростом, кривоног, но кулачищи у него были огромные. Арестант пошатнулся, звеня цепями, из носу потекла струйка крови.
— Это для начала! — сказал офицер.
Арестант молчал.
Прапорщик пошел обратно к столу, тряхнул колокольчик.
— Зови людей! — приказал он вошедшему солдату. — По одному.
Ввели Дударева. Он снял шапку, поклонился в пояс. Прапорщик спросил об имени, месте жительства, занятиях.
— Дударев Кузьма! — ответил тот. — Бригадира Сумарокова крепостной человек. Проживаю в Москве на оброке, с его, барского, дозволения.
— Знаешь его? — указал офицер на арестанта.
— Видал! — ответил Дударев. — Летом, что ни вечер, повадился он с каким-то мальчонкой у нашей лавки сколачиваться.
— А прежде был он тебе знаком?
— И видом не видывал! Вот крест!
— Какие он тебе листки давал? Что насчет вора Емельки сказывал?
— Господь с тобой, ваше благородие! — воскликнул Кузьма, бросив испуганный взгляд на арестанта. — Ничего такого не было… Вижу — чужой человек бродит вокруг дома. Думаю: а ну, как ночью вломится да ограбит. Я стражнику и сказал. А про письма ведать не ведаю… И дел от него худых не видал.
— Ладно, Дударев! — сказал прапорщик. — Ступай пока! Там видно будет. Ну, а ежели врешь, на себя пеняй!
Кузьма поспешно удалился. Вошел человек с кругленьким брюшком, редкой бородкой.
— Мухин Терентий, московский целовальник! — ответил он на вопрос прапорщика. Затем рассказал, что арестованного встречал дважды: один раз в Коломне, потом в Москве, у Разгуляя. Называл он себя Седухиным, о самозванце говорил, будто его, Емельку, многие генералы и архиереи признали царем Петром Третьим.
— Должно быть, из раскольников он, добавил целовальник. — Они, поганцы, за злодея Пугача богу молятся.
После Мухина ввели третьего свидетеля. Арестант, взглянув на него, побледнел.
— Прохоров Тимофей, — отрапортовал он. — Из государственных крестьян. Кучером служу при экспедиции кремлевской. Молодца этого встрел весной, кажись, на вербной… Подле церкви мутил он народ да бунтовские письма по рукам раздавал… Пригляделся я к нему, кажется — личность его знакомая. Все думаю: где я его прежде видел? Вспомнил-таки! В семьдесят первом году, когда чума была, он меж главных разбойников находился.
— Погоди-ка! — сказал прапорщик. — Не ошибаешься ли?
— Никак нет, ваше благородие. Он самый.
— А ты что скажешь? — обратился офицер к арестанту.
— Напраслину говорит, — ответил тот глухо.
— Ах ты, бесстыжий! — возмутился кучер. — Неужто позабыл, как ваши разбойники притащили карету к Чудову монастырю, а вы — атаманы — у костра грелись? Лошадей выпрягли, а один мне приказывает: «Ступай подале!» Я говорю: так, мол, и так, карета казенная, мне доверена! А этот, — он указал на русобородого, — почал гоготать и приглашает: «Оставайся с нами, мы тебя в обчество примем!» Верьте мне, ваше благородие! Как на духу рассказываю. И как вспомнил я про это, такая меня обида взяла… Что же это, думаю? Всех злодеев переловили, а этот целехонек и опять по Москве без стыда шатается… Потом встрел я его еще раз и стражникам указал: ловите, говорю, грабителя! Слава те господи, поймали наконец!
Прапорщик отпустил кучера.
— Ну, каналья! — обратился он к арестанту. — Теперь признаешься? Кем послан? Кто твои сообщники?
— Что раньше говорил, на том и теперь стою.
Городчаков кликнул караульного.
— В застенок его! — приказал он. — И на дыбу! Авось образумится…
Через несколько дней дознание было закончено. Было установлено, что русобородый являлся одним из вожаков тогдашнего возмущения, что имена Хлебников, Седухин и прочие, которыми называл он себя в разное время и в разных местах, — вымышленные, а в действительности он является московским жителем, занимался до чумы кузнечным ремеслом и зовется Степаном Аникиным.
* * *
В конце сентября 1774 года в Москву пришли вести об усмирении пугачевского восстания.
Войска генерала Михельсона наголову разбили главные силы Пугачева в низовьях Волги. Изменники из зажиточной казачьей верхушки и башкирских старшин составили заговор, схватили Емельяна Пугачева и передали его властям.
Утром четвертого ноября конвой доставил в Москву Пугачева. Повозка, окруженная казаками и драгунами, промчалась по московским улицам в Охотный ряд. На Монетном дворе была приготовлена тюрьма. Среди конвоиров скакал и драгун Павел Фильцов. Он участвовал в поимке Пугачева и за этот подвиг был представлен к награждению.
 Конвой доставил Пугачева в Москву.
Конвой доставил Пугачева в Москву.
Пугачева заперли в каземат и приковали толстой цепью к стене, чтобы он не мог подойти к окошку и показаться толпе, запрудившей площадь у Воскресенских ворот. Прибывший из Петербурга начальник Тайной экспедиции Степан Иванович Шешковский вместе с князем Волконским приступил к розыску. Через два месяца дело было закончено. Пугачев и его ближайший сподвижник Перфильев были приговорены к четвертованию, несколько других вожаков — к повешению. Было объявлено, что казнь состоится всенародно 16 января 1775 года на Болоте, за Каменным мостом.
Еще с ночи народ стал собираться на Болотной площади. Дворянство приезжало целыми семьями в каретах и дормезах, Некоторые заранее сняли в соседних домах горницы, выходившие окнами на площадь.
Занялось бледное студеное утро. Мороз был так жесток, что офицерам в строю дозволено было надеть шубы.
…Кружево изморози на ветвях деревьев, заиндевевшие усы и бороды, снежная равнина плаца, клубы пара от дыхания людей и лошадей… Черная, колеблющаяся масса тулупов, зипунов, шуб, шинелей, шапок. В низком сером небе вороньи и галочьи стаи.
В центре площади, оцепленной войсками, помост. У его подножия гвардейский караул.
Среди множества экипажей, скопившихся на плацу, была и облупленная сумароковская карета. Александр Петрович приехал с Дуняшей, Егорушкой и студентом Петром Страховым. На козлах, рядом с кучером, примостился Кузьма Дударев. Кузьма спрыгнул с облучка, постучал в дверцу кареты.
— Погляди-ка, барин! — указал он в сторону Лобного места. — Вон Павлуха наш стоит!
— Какой? Где? — рассеянно спросил Сумароков.
— Да Павел же! Наш, сивцовский! Федьки Фильцова сынок!
Сумароков приложил к глазам лорнет:
— Не вижу!
— А я вижу! — воскликнул Егорушка. — Вон там! С ружьем, в мундире! Ишь, какой ладный! Погляди-ка, Дуняша!
— Чего мне глядеть! — резко ответила Дуняша.
— Видно, отличиться успел, — заметил Сумароков. — В такие караулы отборных солдат назначают.
— Отличился? — недоверчиво повторил Кузьма. — Чем же? Кажется, на войну не ходил.
— Всякие бывают отличия, — сказал Сумароков. — Исправный, должно быть, служака.
Толпа задвигалась, зашумела.
— Везут! — крикнул Дударев и взобрался на козлы.
От моста, в окружении конницы, двигались большие сани. В санях сидел чернобородый мужик в белом бараньем тулупе, без шапки. Лицо у него было худое, резко выдавались скулы. В обеих руках он держал по толстой зажженной свече. День стоял тихий, огоньки свечей трепыхались, но не гасли. Воск оплывал и струями стекал на пальцы. Напротив осужденного сидел поп в праздничной ризе, с крестом в поднятой руке, рядом с попом — чиновник из Тайной экспедиции. Пугачев кланялся народу — направо и налево, черные глубокие глаза глядели внимательно, как бы с любопытством, Перфильева везли в других санях, следом.
— Кланяется! — насмешливо сказал кто-то в толпе. — Будто и впрямь император.
— Так и есть! — поддержал другой. — Вон и трон ему приготовлен…
Некоторые засмеялись, другие хмуро молчали.
Страхов с Дуняшей и Егорушкой вышли из кареты. Осужденный в сопровождении чиновников и священника поднялся по ступенькам. Один из чиновников развернул сложенную трубкой бумагу и стал читать приговор.
Когда чиновник произнес имя осужденного, полицмейстер Архаров поднял руку. Чтец остановился.
Архаров зычным голосом спросил:
— Ты ли донской казак Емелька Пугачев?
Осужденный молчал: то ли не слышал вопроса, то ли не понял его смысла.
— Отвечай! — шепотом приказал стоявший рядом чиновник. — Ты ли Пугачев?
— Так, государь! — ответил осужденный. — Я самый и есть Емельян Пугачев.
Полицмейстер опять взмахнул рукой, чиновник продолжал читать. Пугачев обводил взглядом генералов и Чиновников, стоявших под самым эшафотом, густую толпу вдали. Время от времени, беззвучно двигая губами, он крестился на купола кремлевских церквей.
Васька Аникин пробрался на верхнюю ступеньку какого-то крыльца. Ноги его одеревенели, на плечах болтался ветхий зипунишко.
Но, несмотря на стужу, Васька не уходил.
Вспомнились ему отцовские думы… Как, одолев врагов, государь Петр Федорович пожалует в Белокаменную под трезвон колоколов. Народ поклонится ему, и попы с архиереем выйдут навстречу с хоругвями и образами. И, воссев на своем престоле, призовет царь-государь всех, кто помогал ему и верил в него, чтобы наградить их по заслугам. Посыплются дождем щедроты царские: деревенских отпустят на волю, с городского люда подушную сложат. Станут о бедняках заботиться, больных — лечить, детвору — грамоте обучать. И не будет больше на Руси ни господ, ни холопов, а только единый народ православный…
Вот и дождались! Въехал государь в Москву: вместо царской кареты — сани позорные, взамен трона — плаха… А отец Васькин сгинул неведомо куда. Однажды условились они встретиться у Разгуляя. Васька явился в назначенное время, но отца так и не дождался. Больше двух месяцев прошло с тех пор, а о нем ни слуху ни духу…
Васька огляделся вокруг. Вишь, сколько их собралось на потеху! У одной из карет он увидел Петрушу Страхова вместе с какой-то барышней и мальчиком, одетым в теплую шубку. Больше трех лет не видел он прежнего приятеля, но сразу узнал его.
«Тоже поглазеть явился! — подумал Васька со злобой. — В каретах ездит, с барскими детками якшается!»
Чтение указа окончилось.
— На кра-ул! — скомандовал Архаров.
Солдаты вскинули перед собой ружья. Павел Фильцов проделал ружейный прием особенно ловко и застыл, красивый и статный, как изваяние.
Пугачев перегнулся через перила эшафота и закричал:
— Прощай, народ православный!..
И в этот миг затрещали барабаны, зашумела толпа. Осужденный что-то говорил, но слова его тонули в барабанном грохоте. Палачи кинулись к нему, сорвали тулуп, разодрали шелк малинового полукафтанья. Егорушка охнул и вцепился в рукав Петруши Страхова. Один из палачей сильно толкнул осужденного, Пугачев взмахнул руками, опрокинулся… Еще несколько минут, и палач, подняв за волосы окровавленную чернобородую голову, показал ее народу. Над площадью раздался протяжный стон…
Егорушка, упав на снег, рыдал навзрыд. Страхов поднял его и посадил в карету.
— Ты что? — встревожился Сумароков.
Мальчик прильнул к нему, зубы стучали, тело содрогалось в конвульсиях.
— Ну, ну, успокойся, дружок! — ласково утешал Александр Петрович, гладя Егорушку по голове. — Не следовало нам ехать! Покарали-то самозванца по заслугам. А все же глядеть на такое зрелище тяжко и противно…
За Пугачевым отрубили голову Перфильеву. Потом палачи четвертовали их мертвые тела…
Толпа стала расходиться. Некоторые бесчестили злодея, гоготали. Но большей частью люди угрюмо молчали.
Васька еле переступал замерзшими ногами.
«Куда теперь? — размышлял он. — Опять к кабатчику на ночлег проситься?»
Кто-то тронул его за плечо. Обернувшись, он узнал разносчика пирогов, с которым как-то познакомил его отец.
— Кажись, Ивана Хлебникова сынок? — осторожно спросил пирожник.
Мальчик отрицательно покачал головой, но вдруг вспомнил, что отец в последнее время ходил под именем Хлебникова, и сказал:
— Это я! А бати нет…
— Знаю! — сказал разносчик. — При мне его и схватили… А ты, я вижу, вовсе озяб. На-ка, скушай пирожка! Горяченький!..
Он снял лоток с головы, подал мальчику пирог. Тот жадно принялся есть.
— У кого живешь-то? — спросил разносчик.
— Где придется.
— Худо! — сказал пирожник. — Мороз-то, мороз!.. Вот что, сынок, пойдем-ка со мной. Местечко сыщется. Печку затопим!..
4
В начале февраля императрица прибыла в Москву — праздновать победу. Приезд этот имел и еще одну цель. В Москве жили многие вельможи, не поладившие с царицыными фаворитами. Они не одобряли политики двора, баловались вольнодумными идеями. Московская знать, среди которой находились такие магнаты, как Панины, Шереметьевы, Трубецкие, представляла силу, с которой приходилось считаться. Екатерина не скрывала досады. Уже совсем недавно в широком кругу гостей она жаловалась, что даже чума не смогла истребить мятежный дух Москвы.
Но в грозную пору пугачевского восстания московское барство пришло на помощь правительству. И теперь, явившись в первопрестольную столицу, Екатерина как бы протягивала оливковую ветвь мира здешним фрондерам.
…В кабинете пречистенского дворца Екатерина беседовала с архитектором Баженовым.
— Видите ли, мой друг, — говорила она. — Представлено немало проектов, но ни один из них мне не по вкусу. Опять греческие храмы Бахусу, Янусу, Афине-Палладе, преглупые аллегории и тому подобное. Все это прискучило ужасно. Не так ли?
— Верно, государыня! — согласился Баженов. — Я и сам не любитель шаблонов.
— А победу над турками надобно отметить достойно, — продолжала императрица. — Ведь это великое торжество России: празднество должно быть грандиозным. Явилась у меня такая идея. Пусть Ходынское поле изображает море, а две дороги, ведущие туда из города, — Дон и Днепр… При устье одной реки устроим обеденный зал, под названием Азов, при устье другой — театр в виде крепости Кинбурн. Изобразим Крымский полуостров с городами Керчью, Еникале и другими; там расположим всевозможные игрища. На земле, представляющей море, поставим корабли и баркасы…
— Понимаю! — подхватил архитектор. — Хорошо бы украсить речные берега живописными ландшафтами: дома, освещенные изнутри, ветряные мельницы, сады!..
— Отлично! — одобрила императрица. — За Дунаем дадим фейерверк! На море, как раз против Крыма, зажжем иллюминацию в знак радости обеих империй, заключивших между собой мир.
— Можно ярмарку устроить, — продолжал фантазировать Баженов. — Красивое будет зрелище.
— Верно! Расположим ее у донского устья и назовем Таганрогом…
Они советовались еще с полчаса, потом Екатерина сказала:
— Замысел ясен! Остальное зависит исключительно от вас, сударь. Приступайте поскорее к делу!
Она милостиво наклонила голову — аудиенция была окончена. Баженов поднялся, но медлил уходить. Императрица вопросительно поглядела на него.
— Позвольте, государыня, обратиться с покорнейшей просьбой, — сказал архитектор.
— Говорите!
— Дело касается господина Сумарокова. Ходатайствует о разрешении открыть в Москве свой театр…
— Знаю! — прервала императрица. — Он одолел меня письмами. Только, кажется, ничего не выйдет. Александр Сумароков на прожекты скор, а в практических материях смыслит мало. К тому же вздорен, сварлив! Прежде с графом Салтыковым распрю затеял, ныне Волконский на него жалуется… Самомнения непомерного, себя превыше всех почитает. Он и меня было наставлять вздумал. На мой «Наказ» критику написал. Вся Европа этим «Наказом» восхищена, а господину Сумарокову, вишь, не понравился.
— Государыня! — сказал Баженов. — Сумароков предан вашему величеству всей душой.
— Да в чем его преданность? — воскликнула Екатерина с досадой. — В заговор он не вступит, я знаю. Но злословить, осуждать меня и друзей моих — это сколько угодно! Нет, господин Баженов, подобная верность не больно меня радует… С родней своей рассорился, супругу с дочерьми покинул. С матерью родной в тяжбу вступил! Отовсюду только и слышу жалобы.
— Ваше величество, — возразил архитектор. — Умоляю вас не доверять наветам! Слабости Сумарокова и мне хорошо известны. Но в семейных раздорах повинен не он, а сестры его, вернее — их мужья, стремящиеся лишить Александра Петровича законной доли отцовского наследства.
— Допустим! — сказала Екатерина. — Я не намерена вмешиваться в их семейные дела. Но требую, чтобы российский дворянин дорожил своей честью и не становился притчей во языцех.
— Когда-то, государыня, вы ценили поэтический дар Сумарокова, — заметил Баженов.
— Не отрекаюсь! — пожала плечами Екатерина. — И за это наградила его щедро. Однако, сударь, в моей империи никто не избавлен от обязанности повиноваться властям и вести себя в обществе пристойно. Да и талант Сумарокова уже отошел в прошлое. Впрочем, ему ведь не отказано. Рассмотрю!.. Есть еще претенденты на театральную привилегию. Надо избрать достойнейшего.
Она поднялась с кресла. Баженов, поклонившись, вышел из кабинета.
* * *
Если бы Сумарокову и удалось добиться привилегии, то едва ли он мог бы ею воспользоваться. Недавно Прокопий Демидов представил его вексель к принудительному взысканию. Сумма, включавшая проценты и пеню за просрочку, была значительной.
К Сумарокову явился приказный для описи имущества. Дом с участком и дворовыми постройками был оценен втрое дешевле действительной стоимости.
— Да ты что, рехнулся, братец? — ахнул Александр Петрович, когда приказный назвал сумму.
— Подсчитано точно! — сказал приказный. — По инструкции!
Как ни презирал Сумароков «крапивное семя», он старался не давать волю гневу, чтобы не обозлить плюгавого человека, в чьих руках теперь была его судьба.
— Погоди, любезный! — сказал он. — Дома ты не касайся! У меня найдутся другие ценности…
Он повел чиновника в библиотеку.
— Погляди-ка! — показал он на книжные шкафы, стоявшие вдоль стен.
Приказный равнодушно скользнул взглядом по полкам.
— Здесь издания редчайшие, — терпеливо объяснял Сумароков. — Не во всяком дворце такие сыщутся. Я бы не лишился их ни за какие блага, но коли дело дошло до того, что из дому гонят, то бог с ними.
Чиновник покачал головой:
— Нет, ваше высокоблагородие! Маловато будет…
Сумароков раскрыл один из шкафов и вынул несколько толстых папок.
— Вот драгоценнейшие эстампы и гравюры! Произведения великих мастеров — французских, итальянских, немецких… Забирай! Теперь, надеюсь, хватит?
Он в изнеможении опустился в кресло.
— Сударь! — сказал приказный, слегка усмехнувшись. — К чему нам это? Вы говорите: драгоценность… А мне-то их цена неизвестна. Нет, уж коли сами дом заложили, на себя и пеняйте!
— Молчать! — крикнул хозяин не стерпев. — С кем разговариваешь, чернильная душа!
— Гневаться вам не приходится, сударь, — спокойно возразил чиновник. — Я не от себя явился, а по должности. Отдыхайте лучше в креслице. Хоть оно уже не ваше, я не запрещаю! Отдыхайте на здоровье…
— Прочь с глаз моих, мерзавец! — заревел Сумароков и, схватив со стола запыленный фолиант, метнул его в чиновника.
Тот едва успел отскочить в сторону и опрометью выскочил за дверь.
Александр Петрович поехал к Баженову, но не застал его дома. Архитектор с утра до вечера был занят работами на Ходынском поле. В оставленной записке Сумароков просил друга опять потолковать с Демидовым.
«Не могу понять, — писал он. — Отчего такая перемена? Ведь господин Демидов обещал не представлять ко взысканию!..»
Несколько дней спустя Баженов ответил письмом, извинившись, что по чрезвычайной занятости не может приехать лично. Поручение он выполнил, но, к сожалению, успеха не добился.
«На мою просьбу сказал Демидов, что, дескать, Сумароков моего поверенного выбранил, выгнал и тем мне самому оскорбление учинил, — говорилось в баженовском письме. — И еще тем он обижен, что ты сам к нему не явился на поклон. Был бы я при деньгах, с радостью бы выручил. Однако сейчас нахожусь весьма стеснен, ибо многие расходы по ходынским сооружениям оплачиваю, а расчет будет лишь по окончании. Тебе же советую дружески: обратись к Григорию Александровичу Потемкину. Слышно, он многим оказывает милости…»
Сумароков налил вина, выпил залпом. Видно, дома не спасти!.. Что же делать? Неужто навсегда поселиться в Сивцове? Жить в глуши круглый год… Нет, ни за что!
Походив в раздумье по комнате, он присел к столу, взялся за перо.
«Милостивый государь Григорий Александрович!..»
Письмо адресовалось Потемкину, фавориту императрицы, который теперь пользовался еще большей властью, чем некогда Григорий Орлов.
Изложив историю тяжбы с Демидовым, Александр Петрович писал:
«Сии судьи, которые меня разорить хотят, суть рабы отечества, а я сын отечества: и потому, что я дворянин, и потому, что отличный чин и орден имею, и потому, что потрудился довольно во красноречии российского языка. У меня один только на сей земле дом, так мне и приютиться будет некуда и должен буду на старости лет таскаться по миру».
Прося Потемкина о помощи, Сумароков обещал отблагодарить отечество новыми достойными произведениями…
В дверь постучались, это была Дуняша.
— Нынче не до занятий, голубушка, — сказал Александр Петрович грустно. — Тяжко у меня на сердце. Тяжко и скверно!
— Никак, беда случилась? — спросила девушка испуганно.
Сумароков махнул рукой:
— А то случилось, что выгоняют меня из дому…
Он стал рассказывать о Демидове, о денежных затруднениях, об описи имущества.
— К чему это я вдруг? — спохватился он и поглядел на Дуню.
Та слушала внимательно, брови ее были сдвинуты, в глазах стояли слезы.
— Невесело, как видишь! — сказал Сумароков.
Дуняша опустилась на колени и прикоснулась губами к его руке.
На другое утро явился Кузьма Дударев. Приходил он к барину редко, и Александр Петрович несколько удивился.
«Торопится свое получить, — подумалось ему. — Проболталась, видно, Дуня!»
— Входи! — сказал хозяин. — Чего тебе?
Кузьма сделал шаг вперед и остановился.
— За долгом, что ли? Знаю, вышел срок! Я отдам, отдам! Повремени немного!
— Долг — дело пустое, барин! — сказал Кузьма. — К тому же с меня оброк причитается. Коли подсчитать, так и долгу-то с половину осталось.
— Да ну? — обрадовался Сумароков.
— Ей-богу! — подтвердил Дударев. — Ты об этом не тревожься, батюшка! Нет!.. Я за другим делом. Слыхал, будто опять у тебя нужда. Дуняшка сказывала: дом забрать хотят. Так я вот принес…
Он извлек из-за пазухи узелок, осторожно развязал и положил на стол пачку ассигнаций.
— Это что? Зачем же? — растерянно спросил хозяин.
— Тут пять сотен… Знаю — мало, а боле покуда не накопил. Ты уж не обижайся!
Сумароков молча глядел на Дударева.
— Вон ты какой, — молвил он тихо. — Видно, благородство душевное в самом деле не зависит от происхождения… Ну что ж! Еще раз спасибо тебе, Кузьма! Дай-ка руку!
— Да что ты, барин! — испуганно воскликнул Дударев. — Разве можно?
— Не можно, а должно, — сказал Сумароков. — Пожать руку твою за честь почитаю. А многим из тех, что титулами кичатся, в звездах, эполетах щеголяют, не подам руку, дабы не осквернить себя прикосновением к подлецу!
Он крепко пожал грубую, в мозолях и трещинах руку Кузьмы.
— И еще вот что, — добавил Сумароков: — даю тебе вольную! И всему твоему семейству!..
— Батюшка! — Дударев ахнул и повалился барину в ноги.
— Встань, Кузьма! — сказал Александр Петрович, отирая слезы. — Отныне ты не раб, а свободный россиянин. На этой же неделе выправлю бумаги по всей форме…
Дударев шагал по улицам, словно крылья его несли. Мысли его путались, в ушах стоял звон…
— Марья! — крикнул он, перешагнув порог дома. — Марья!.. Дунюшка! Где же вы?
Женщины выбежали из внутренней горницы с вязальными спицами в руках.
— Барин вольную нам дал! — говорил Кузьма задыхаясь. — Всем! Вольные мы! Понимаете, вольные!.. Помолимся! Возблагодарим господа!
Все трое опустились на колени перед образами.
— Расскажите же, батюшка! Все!.. Как это случилось? — попросила Дуняша.
Они уселись на лавку… Кузьма передал подробно весь разговор.
— Пятьсот целковых! — вздохнула Марья, подперев щеку рукой. — Деньги-то какие!
Дударев усмехнулся.
— Сметлива ты, Марьюшка, я погляжу!.. За такое пять тыщ уплатить и то мало… А мне, слава богу, пять сотен отдать дело пустое. Люди мы еще не богатые, но уже и не бедные.
— А разве вы, батюшка, наперед знали, что барин за это вольную даст? — спросила Дуняша.
— Знать-то, конечно, не знал, но… надеялся. Мне его нрав известен. Оно, конечно, могло бы и не получиться… Да ведь, если только наверняка дела делать, большого проку не будет. — Он лукаво подмигнул дочери. — Поднеси-ка кваску, барышня!
* * *
Нескончаемый людской поток двигался на Ходынское поле по двум дорогам, украшенным флагами, зеленью и вензелями императрицы. Дойдя до поля, люди останавливались в изумлении — столько здесь было чудес!..
Посредине — деревянный потешный дворец. Вокруг него — роскошный сад с цветниками, подстриженными газонами на версальский манер, прямыми, как стрела, аллеями, усыпанными гравием, с беседками, павильонами, скамьями. За садом — здания в турецком стиле: плоские кровли, башенки, похожие на минареты мечетей, дворики с фонтанами…
На площади раскинулся восточный базар. В лавках — всевозможные азиатские товары: ковры; цветастые тонкие шали; пестрые шелковые ткани; парчовые халаты, расшитые золотом и серебром; сафьяновые сапожки и туфли; запястья, украшенные жемчугами и бирюзой; посуда — золотая, серебряная и глиняная; кривые сабли — ятаганы, кинжалы из дамасской стали, пистолеты с рукоятками из слоновой кости; изысканные восточные благовония.
В кофейнях посетителям подносили всяческие сласти и аравийский кофе в маленьких чашечках. В других зданиях, носивших названия знаменитых крепостей: Азов, Кинбурн, Фанагория, Керчь, Таганрог, расположились обеденные залы. На длинных столах стояли подносы и блюда с жареными телятами, барашками, рыбой.
В театрах — для благородной публики — давались оперные, балетные и драматические представления; простолюдинов развлекали кукольные комедианты, гусляры, фокусники, силачи, скоморохи.
В полдень появилась государыня с многочисленной свитой. Белели рейтузы гвардейских офицеров, развевались плюмажи треуголок и конские хвосты киверов, сверкали на солнце аксельбанты, эполеты, орденские звезды, брильянтовые диадемы и ожерелья дам. Царица и придворные поднялись на галерею. Белые с золотом кресла, канапе, козетки, пуфы, крытые тигровым бархатом и французским атласом. Гардины из брюссельских кружев, голубые портьеры, вазы севрского и саксонского фарфора с букетами лилий и алых роз…
Екатерина подошла к балюстраде. Оркестр грянул Преображенский марш. Громовое «ура» разнеслось по огромному полю. Ударила пушка Празднество началось…
В этот день Васька Аникин уходил из Москвы. Решение он принял после того, как приютивший его пирожник рассказал, что глашатаи читали в Кремле указ о казни пособников самозванца. Среди них было имя Степана Аникина.
Несколько дней Вася не прикасался к еде и, свернувшись в комок, лежал на подстилке в углу. Но однажды утром встал, умылся холодной водой и сказал радушному своему хозяину:
— Уйду я отсюда!
— Зачем? — удивился пирожник. — Оставайся! Будем вместе вразнос торговать.
— Нет! — ответил мальчик твердо.
— А где лучше? Везде одно и то же.
— Почем знать! Может, не везде. В Сибири, говорят, земли много, а людей мало. Думали мы вместе с батей туда податься… Теперь один пойду, только тепла дождусь.
Пирожник снарядил Ваську в дорогу, дал ему пирогов, пряников, кое-какую одежонку. Они вышли вместе. У заставы простились. Мальчик пошел один по Владимирке. Он шагал быстро, будто спешил поскорее уйти подальше от города. Иногда он располагался на привал. Поест, запьет ключевой водицей и растянется под старой елью, глядя ввысь, на легкие облачка, плывущие в просветах ветвей…
К вечеру Васька был уже верстах в десяти от заставы. Вдруг небо над Москвой озарилось ярким светом…
«Никак, пожар? — подумал Васька почти радостно. — Ну и пускай бы! Пускай вся сгорит, треклятая!..»
Вдали взлетали в небо шары и звезды: малиновые, розовые, зеленые, желтые. Взлетали и рассыпались сияющей пылью. Это был фейерверк на Ходынском поле в честь торжества русского оружия и почетного мира с Оттоманской империей.
5
Первым уроком была латынь. Учитель — близорукий молодой человек — велел письменно перевести с латинского.
Егорушка положил перед собой плотный лист и свежеочиненным гусиным пером старательно вывел вверху, с левой стороны: «Аникин Егор, гимназист II класса»; справа дату: «сентября 17-го дня, лета 1777-го»… Почерк у него был ровный, ясный, красивый. Затем он принялся переводить.
— Убери локоть! — шепнул сосед. — Ни черта не видно!
Егорушка, покосившись на учителя, снял с пюпитра руку и слегка подвинул лист соседу.
— Сверчков! — окликнул учитель.
Гимназист встал.
— Что, сударь? — спросил он с невинным видом.
— Опять списываешь, asinus
[18]! Аникин!..
Егорушка тоже встал.
— Сколько раз замечено!
Егорушка молчал.
— Обоим после уроков — березовой каши! — объявил учитель.
Когда учитель ушел, Сверчков сказал:
— Не везет тебе, Егорка! Опять выпорют.
— Ведь и тебя тоже.
— Ну, это иное дело! — усмехнулся Сверчков. — Я для своей же пользы, а ты за зря… Ну, не обижайся, я тебе пряников принесу.
— Не нужно мне твоих пряников! — сказал Егорушка обиженно.
Следующим уроком была священная история.
Архимандрит Адриан уселся за стол, раскрыл толстую библию и принялся читать нараспев:
— Жил человек в стране Уц. Имя его было Иов, и был этот человек непорочен, справедлив и богобоязнен…
Егорушка слушал с интересом, дивясь терпению, с которым многострадальный Иов переносил нескончаемые удары судьбы.
Разбойники истребили его многочисленные стада, буря разрушила дом, погубив всех его сыновей, дочерей и слуг. Сам он был поражен проказой, изгнан из города и стал подобен шелудивому псу… Друзья отвернулись от Иова, даже жена осуждала его, а он, хоть и знал, что нет за ним вины, безропотно сносил все.
«Странно! — размышлял Егорушка. — За что же пали на него такие бедствия?»
— Господь испытывал неколебимость его веры! — объяснял священник, как бы услышав Егорушкину мысль.
— Зачем испытывать веру так жестоко? — спросил мальчик вслух. — Не лучше ли покарать злых, а праведника наградить?
— Пути господни неисповедимы! — ответил священник. — Человек рождается в мир не для наслаждений, но для испытаний и горестей. За праведность свою Иов впоследствии был вознагражден и снова обрел богатство,
семью и почет от людей…
Дверь открылась, на пороге появился классный надзиратель.
— Аникина Егора к инспектору! — сказал он.
— Ступай, чадо! — разрешил архимандрит.
Егор побежал по коридорам. Должно быть, розог всыплют! Но почему вызвали из класса? Обычно порют после занятий…
— Аникин! — сказал инспектор неожиданно мягко, почти ласково. — Нынче от классов ты свободен. Благодетель твой, господин Сумароков, в ночь преставился. Ступай в подъезд, там тебя ждут.
* * *
Тяжко приходилось Сумарокову в последнее время. Обращение к Потемкину оказалось напрасным. Тяжба была проиграна. Лишившись собственного дома, Александр Петрович переехал в небольшую квартиру, взяв с собой только старика Антипа, кучера, кухарку и сенную девушку. Егорушку он определил в гимназию при Московском университете. Мальчик переселился в гимназический пансион на казенный кошт. Позаботился Сумароков и о судьбе Дуняши Дударевой. Театр на Знаменке, которого тщетно добивался он когда-то, перешел во владение московского прокурора, князя Урусова. Сперва Урусов держал его в компании с итальянцем Гроти, потом, уплатив отступное, остался единственным антрепренером. Скрепя сердце Сумароков отправился к удачливому конкуренту с просьбой. Тот принял его с учтивой холодностью, но просьбу удовлетворил. Авдотья Дударева была принята в труппу на выходные роли с самым малым жалованьем.
Александр Петрович с этих пор зажил совсем одиноко. Дуняша появлялась редко, Егорушка — только по воскресным дням, когда за ним присылали сумароковскую карету: последний остаток былого барства. Заезжали иногда Баженов, Аблесимов, Петруша Страхов, кое-кто из артистов. Но посещения эти не приносили радости ни хозяину, ни гостям. Сумароков слушал рассеянно и хмуро, всякий раз обращал беседу к жалобам на несправедливость судьбы и незаслуженные унижения.
Давно уже не сочинял он ни пьес, ни поэм. Иной раз, ночью, пытался сесть к столу и воскресить угасшее вдохновение, но оно не являлось, и, отбросив в гневе непослушное перо, поэт глушил тоску и отчаяние вином.
Егорушке было уже двенадцать лет. Родню свою он помнил смутно, об участи отца и брата ничего не знал и считал их погибшими. Сумароков был для него самым близким человеком на свете, и мальчик с ужасом от встречи к встрече замечал в нем зловещую перемену.
Прежде Александр Петрович встречал Егорушку радостно, с интересом расспрашивал об учении, в последнее же время стал безучастен и угрюм.
Однажды, в воскресное утро, за Егорушкой не приехали. Встревожившись, он спросился у надзирателя и отправился один по хорошо знакомому пути. Дойдя до Кудринской, мальчик остановился. По пыльной улице, меж лавчонок и кабаков брел Александр Петрович в грязном шлафроке, ночном колпаке и шлепанцах. Он слегка пошатывался, опираясь на палку, и невнятно бормотал. Ребятишки с хохотом бежали следом, дергали его за полы. Мужики и бабы укоризненно покачивали головой.
Егорушка бросился к нему, взял за руку.
— Батюшка, — сказал он, — пойдемте поскорее домой.
— Кто такой? — крикнул Сумароков заплетающимся языком. — Кто осмелился?
— Да я же! Егор! — воскликнул мальчик в отчаянии. — Пойдемте!
Сумароков окинул его мутным взглядом, голова его тряслась, челюсть отвисла.
— Ступай себе! — пробормотал он. — Явишься, когда позову!
Егорушка не отходил.
— Сказано, ступай! — крикнул старик и вырвал руку.
Мальчик пошел назад не оглядываясь. Прошло еще два воскресенья: за Егорушкой все не присылали, а сам он идти не решался. Наконец, через три недели, явился старик Антип. Егорушка был счастлив.
— А где же лошади? — спросил он, когда они вышли в подъезд.
Антип махнул рукой:
— Все прахом идет! Продали и коней… Пойдем пешком!
…Сумароков сидел в глубоком вольтеровском кресле, голова была повязана мокрым полотенцем. Лицо у него было желтое, сморщенное, дыханье — натужное, прерывистое. Он дремал. Егорушка тихонько присел на стул рядом.
Сумароков открыл глаза.
— А вот и ты, братец! — сказал он почти шепотом и улыбнулся. — Давненько не виделись.
Он снова, как когда-то, расспросил мальчика о его жизни и учении. Тот с увлечением рассказывал. Вскоре больной утомился и уснул. Егорушка поговорил с дворовыми и отправился назад, в гимназию.
Это произошло в прошлое воскресенье, а нынче была пятница…
Гроб стоял в небольшом зале. На стульях, вдоль стен, сидело человек десять актеров. Некоторых Егорушка знал раньше, других видел впервые. Кроме них, были Дуняша и Петр Страхов. Дуняша со вспухшими от слез глазами ходила то в кухню, то в людскую, хлопоча по всяким делам. Егорушка подошел к гробу, взглянул и зажмурил глаза.
— Хоронить будем завтра, — сказала Дуняша. — Ты уж, Егорушка, в классы не ходи, побудь с нами до понедельника!
— Надо у инспектора спроситься, — прошептал мальчик сквозь слезы.
— Ничего! Я сам ему скажу, — успокоил его Страхов.
Он был уже на последнем курсе университета и недавно начал преподавать в младших классах гимназии.
Егорушка присел в углу на табурет. Отсюда был виден только затылок покойного, в белом парике с косичкой и завитыми буклями. Слезы катились по щекам мальчика.
— Полно! — сказал Страхов, потрепав его по плечу. — Пожалуй, так-то лучше. Сам знаешь, какая у него была жизнь в последнее время… Сам на себя не стал похож.
— Все равно жалко! — прошептал Егорушка.
— Как же! — сказал Петруша. — И мне ведь он не чужой!
— Один я теперь на всей земле, — тихо сказал Егорушка.
— Ну это уж чепуха! — возразил Страхов. — А я? А Дуняша? Неужели мы тебя покинем!
Подошла Дуняша.
— В доме хоть шаром покати! — сказала она озабоченно. — Обыскали все шкафы, ящики… ни полушки! Хоронить не на что.
— Добудем денег! — успокоил Страхов. — Кое-что у меня найдется, да твой отец тоже даст, не так ли?
— Еще бы! — сказала девушка.
Актеры зашептались.
Один из них, известный под псевдонимом «Каллиграф», объявил:
— Авдотья Кузьминишна! Мы, московские актеры, принимаем погребение отца российского театра на свой счет. Сие есть почетный долг наш!
Дуняша оглянулась на Страхова.
— Справедливо! — поддержал тот. — Но и мы с тобой, Дуня, внесем нашу долю.
На другое утро собрались снова в сумароковском доме. Никто из ближайшей родни Александра Петровича не явился, не было также никого из московских бар, хорошо знавших покойного. Актеры вынесли гроб. Впереди шли священник с дьяконом, за гробом следовали Страхов, Кузьма Дударев с Дуней и Егорушкой, дворовые люди.
Процессия двигалась медленно по уличной грязи. Наконец добрались до Донского монастыря. У свежевырытой могилы началась заупокойная служба.
Священник молился, чтобы господь упокоил усопшего раба своего в «месте злачном, месте покойном, где нет ни болезней, ни печалей, а только радость бесконечная…»
Егорушка пытался вникнуть в смысл этих молитвенных слов. Отчего господь не вознаградил Александра Петровича здесь, на земле, как некогда многострадального Иова? Почему только после смерти может человек ждать покоя и блаженства? Где будет он вкушать это блаженство? Не в этой же узкой, грязной могиле! Говорят, души усопших возносятся на небеса. Егорушка поднял голову. Небо опустилось совсем низко, летели серые, ватные тучи, поливая землю колючим, холодным дождем.
Как все непонятно!
…После похорон Кузьма Дударев пригласил всех к себе: на поминки. Дударевы уже переехали на Якиманку, в Замоскворечье. Прежний домишко вместе со скобяной лавкой Кузьма продал и теперь занимался скупкой льна и пеньки. Новый дом был куда просторнее и богаче прежнего: у каждого по отдельной спальне, столовая и зал. Во дворе помещался большой склад.
Стол был уставлен угощениями. Иззябшие от уличной сырости, проголодавшиеся гости весело рассаживались. Актер Каллиграф предложил выпить за упокоение души усопшего. Все залпом осушили стаканы. Актеры, обрадованные нежданным даровым пиршеством, жадно накинулись на еду. Хозяин радушно подкладывал угощение, подливал то домашних настоек, то вина. Скоро все захмелели, беседа становилась все более шумной и бессвязной.
— Эх, господа! — говорил Кузьма Григорьевич. — Вы люди образованные, ума пребольшого. А мы лапотники, сермяжники! Однако покойного господина Сумарокова почитаем не менее вашего. Потому как по его доброте и милости мы в люди вышли…
— Верно, хозяин! — кричали актеры. — Фора
[19], Дударев!
— Оно, конечно, в стишках и представлениях что я смыслю? Ничегошеньки! Я и читать-то умею через пень в колоду. Да по моей надобности и этой науки хватает. Зато дочь у меня всякому училась. Тоже актерка!
— Не ахти какая! — шепнул кто-то из артистов.
— Придержи язык, балда! — тоже шепотом ответил ему Каллиграф. — Гляди, выгонят.
— Так вы, государи мои, Дуняшку не обижайте! — продолжал хозяин.
— Не надо, папаша! — Дуня украдкой потянула отца за рукав.
— Не обижайте! — упрямо повторил Кузьма Григорьевич отмахнувшись. — Помогайте девке! А я завсегда благодарен буду. Ешьте, пейте, сколько душа желает. Хоть каждый день приходите! Мне не жаль. А ежели у кого нужда явится, и деньжонок могу одолжить.
— Будьте уверены, Кузьма Григорьевич, — сказал Каллиграф с апломбом. — Уж я девицу вашу не оставлю, окажу протекцию.
— Вот спасибо, друг! — крикнул Дударев и потянулся через стол обниматься с артистом. — Она мне дороже богатства. Выпьем, государи мои, за Дунино здравие!
— Выпьем! — нестройно закричали актеры. — Желаем всяческого благополучия, Авдотья Кузьминична!..
Дуня встала, низко поклонилась гостям. Егорушка сидел рядом с ней. Он почти ничего не ел.
— Чего пригорюнился? — вдруг обратился к нему хозяин. — Ты, братец, не опасайся! Знай, учи свои науки. Уж я тебя к делу пристрою. Мне грамотеи надобны. Намедни один приезжал, немец али француз — не разобрался! С ним можно большие дела делать. Вот ты и учи! Языки разные… и прочее! Возьму тебя помощником. Пойдешь?
— Право, не знаю, — сказал Егорушка. — Я тоже хотел бы в артисты.
— Ишь ты! — заметил кто-то из актеров. — В артисты! Для этого талант требуется… Дар божий!
— А у тебя-то самого он есть, талант? — оборвал его Каллиграф.
— У меня? — возмутился актер. — Ты не очень-то зазнавайся!
Он вскочил, сжав кулаки. Каллиграф тоже поднялся. Аблесимов и Петруша Страхов стали мирить подвыпивших служителей Мельпомены.
…Гости разошлись поздним вечером. Кузьма Григорьевич, осоловев от обильной еды и вина, отправился спать. Тетка Марья принялась убирать со стола. Егорушка с Дуней остались вдвоем.
— Как странно, — сказал мальчик. — Неужто мы никогда больше не увидим Александра Петровича?
— Быть может, на небе все свидимся, — сказала девушка задумчиво.
— Так в священном писании сказано, — кивнул Егорушка. — Только я этого не понимаю. Сколько умерло людей за тысячи лет, неужто все они живут на небе?
— Не тела их, а души, — сказала Дуняша.
— А какое обличье у человеческой души? — размышлял вслух Егорушка. — И, когда я сам помру, как мне узнать на небесах матушку, отца, Александра Петровича?.. Непонятно!
— А мне и подавно, — сказала Дуняша. — Учись! Когда-нибудь поймешь.
— Я учусь… Иное, правда, скучно, а иное любопытно! А что потом стану делать, сам не знаю. Все хотел в артисты. А может, этот правду сказал: нет у меня дара?
— Глупости! — возразила Дуняша. — Откуда ему это знать?
— Еще хотелось бы сочинять. Стихи, трагедии. Как Александр Петрович! Или картины рисовать!.. Ты дядю Ваню помнишь?
— Бог с ним совсем! — сказала девушка с досадой.
— Знаю, обидел тебя! Но он все-таки добрый. И любит тебя, это я тоже знаю… Мало ли что могло случиться. Ежели вернется, ты ведь простишь его, Дуняша?
— Нет! — Девушка смахнула слезу краем передника. — Никогда! Перегорело все во мне… Мал ты еще, Егор! — Она резко поднялась. — Я тебе постелю… Пора спать, завтра опять в классы пойдешь!

 ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
1
В воскресенье на петровском театре давали комедию французского автора Мариво «Игра любви и случая».
Публики было много: московские зрители успели полюбить этот театр, недавно открытый приезжим антрепренером, англичанином Медоксом, близ церкви Спаса на Копьях.
Петровский театр был более роскошный, нежели прежние. Зрительный зал, освещенный огнями хрустальных люстр, вмещал около ста изящно отделанных лож, несколько рядов кресел и многоместный партер. Вокруг зрительного зала помещались гостиные; в самой большой из них — зеркальной ротонде — по определенным дням устраивались маскарады, посещаемые множеством московских франтов и щеголих.
…Спектакль окончился рано. Лакеи в разноцветных ливреях с позументами толпились на ступенях подъезда, выкликая кареты своих господ. Театральные служители гасили люстры. Актеры разошлись по уборным снимать грим, переодеваться. Полчаса спустя они собрались в вестибюле, у выхода. Комик Ожогин, заменивший недавно умершего Каллиграфа, рассказывал одну из своих бесчисленных историй, представляя в лицах старую барыню и ее дворецкого. Актеры покатывались со смеху.
— Где же, однако, наш рыдван? — спросил мягким, напевным голосом знаменитый трагик Померанцев, любимец московской публики.
У Медокса было заведено развозить актеров после спектакля.
— Не будет нынче экипажа, Василий Петрович. Придется пешочком! — сказал Ожогин.
— Это почему же? — нахмурился Померанцев.
— Кучер Прохор напился.
— Ну и черт с ним!.. Неужто другого нельзя сыскать?
— А он, прохвост, и лошадей напоил, — ответил Ожогин серьезно. — Улеглись в стойлах своих и храпят.
Померанцев с недоумением посмотрел на комика. Актеры расхохотались.
— Ну, ну! — молвил Померанцев высокомерно. — Ты, кажется, братец, забываешься…
— Да я так только, Василий Петрович, — виновато пробормотал комик.
Из внутреннего коридора вышла молодая актриса в бархатном салопе и высоком шелковом капоре.
— Ты с нами, Дуняша? — спросил Ожогин.
Актриса не успела ответить, как дверь с улицы отворилась. Появился молодой человек. Одетый по моде, но без излишнего щегольства, он застенчиво поклонился артистам и подошел к Дуняше.
— Я вас дожидаюсь, Авдотья Кузьминична, — сказал он вполголоса. — Не дозволите ли отвезти?
Дуняша подумала минуту и, улыбнувшись, наклонила голову. Они вышли вместе.
— Никак, новый вздыхатель? — усмехнулась Ульяна Синявская, одна из премьерш медоксовой труппы.
— Кажется, так! — подтвердил Ожогин.
— Очего же «новый»? — укоризненно заметил Померанцев. — Как будто до сих пор никого у нее не было. Девица скромная.
— Видали мы этих скромниц! — сказала молоденькая Яковлева, игравшая роли субреток.
— Не знаешь ли, кто он? — обратилась Синявская к Ожогину.
— Как не знать! — ответил комик с апломбом. — Купецкий сын… Звать Тимофеем, а фамилия Полежаев. Богат, как Зевс!
— Не Зевс, а Крез! — поправил Померанцев. — Уму непостижимо невежество твое, Ожогин!
— Что ж, коли сумеет окрутить молодца, счастье ее! — сказала Синявская. — Таланта ни на грош, на театре ей делать нечего… Только едва ли он женится. Поволочится — и след простыл!
— Справедливо! — воскликнул Ожогин. — Нынче богатые купчишки чванятся не меньше бар… Ну, да и без венца сладятся!
— Эх, сороки, только бы вам языки чесать! — с досадой сказал Померанцев. — И чего вам от нее надобно? Сплетен не заводит, поперек дороги никому не становится. Актриса не бог весть какая, это верно! Не то, чтобы вовсе без дарования, а школа старая, сумароковская… Теперь уж не поправишь! Так тебе же, Ульяна, только выгода!
— А я и не опасаюсь! — пожала плечами Синявская. — Спесива, всех сторонится: дескать, я вам не чета! Папаша ее из мужиков в купцы вышел, разбогател. Вот и задирает нос.
Вошедший в подъезд кучер объявил, что экипаж подан. Актеры гурьбой повалили к выходу…
Дуняша со своим спутником ехали молча в щегольской двухместной карете. На улице было холодно, туманно, окна кареты запотели. В церквах уже звонили к вечерне.
— Ох, забыла, Тимофей Степаныч! — вдруг спохватилась Дуняша. — Я ведь не домой: мне в гости надобно…
— Вот как! — Полежаев заметно опечалился. — Куда же прикажете везти?
— На Покровку, в дом князя Трубецкого.
— Вон с какими высокими особами вы знакомство водите! — заметил Полежаев. — Скоро, пожалуй, с нами, простецами, и знаться не пожелаете.
— Как не стыдно! — укоризненно сказала актриса. — Да я не к князьям приглашена. К господину Хераскову, сочинителю! Он у Трубецких в доме живет.
— Поворачивай на Покровку! — крикнул Полежаев кучеру. Помолчав, он сказал: — Скоро уезжаю, Авдотья Кузьминична. В Сибирь!.. Отец рудник купил за Красноярской крепостью. А мне наказал осмотреть и дело наладить. Вот только снег выпадет, по первопутку и отправлюсь… Я уж там бывал однажды.
— Даль-то какая! — вздохнула Дуняша.
— Да, не близко! Почитай, месяца два ехать… Да это ничего! Люди и подальше забираются: к самой китайской земле, в Охотск, на Камчатку.
— Я и представить не могу, какова она, Сибирь. Сказывают — совсем дикая… Холод лютый!
— Зимы, верно, суровые, — согласился Полежаев. — Но, ежели в доме тепло да оденешься поплотнее, мороз не страшен. Зато лето — благодать: ясно, сухо… Места — красоты удивительной: леса густые, непроходимые, реки могучие. Едешь, едешь — тишина, только птицы щебечут… Впрочем, ежели кто к городу привязан, скучно, конечно.
— Я люблю природу, — сказала Дуня. — В деревне родилась.
— Там и скучать не приходится, — продолжал Полежаев. — Наладим прииски, выстроим дома! Сокровищ там множество, деньги можно лопатами загребать.
— Как же вы говорите: прииски, города? А работников откуда взять? Ведь пусто, безлюдно.
— Многие уходят в те края: мужики бегут от господ, других за всякие вины в сибирские остроги ссылают. Помещиков там нет, а императрица позволила государственных крестьян и ссыльных к заводам приписывать. Народ крепкий, на все руки умелый, с ними горы своротишь… Вот увидите, когда-нибудь прославится сибирская земля на весь мир!
— Занятно рассказываете, — улыбнулась Дуняша. — Даже мне взглянуть захотелось…
— Авдотья Кузьминична! — сказал Полежаев, и голос его дрогнул от волнения. — Стоит вам пожелать, вы там царицей будете.
— Это как же? — удивленно спросила девушка.
— Неужто не понимаете?
Кучер осадил лошадей, карета остановилась.
— Кажется, приехали, — сказала Дуняша.
— Эх, жаль!.. Что ж, коли торопитесь, ничего не поделаешь.
Дуняша внимательно поглядела на спутника.
— Меня ждут, Тимофей Степаныч, — сказала она мягко. — Впрочем, минут десять еще можно…
— Спасибо! — шепотом сказал Полежаев и крикнул кучеру: — Гони дальше, к Яузе, а оттуда обратно, сюда!..
2
Особняк на Покровке сиял огнями. У парадного подъезда, украшенного колоннами, выстроилась вереница экипажей. Сверкали лаком и позолотой модные «купе» и «берлины»; застенчиво уступали им дорогу ветхие неуклюжие кареты, помнящие еще Елизаветино царствование. Швейцар в Ливрее, опираясь на массивную булаву, встречал гостей у подъезда.
Дом этот, принадлежавший братьям — Николаю и Юрию — Трубецким, славился радушием, светским образом жизни. На балы, домашние спектакли, музыкальные вечера к Трубецким ездило избранное московское общество.
С некоторых пор здесь поселился также знаменитый стихотворец Михаил Матвеевич Херасков. Херасков приходился князьям Трубецким сводным братом: его мать была во втором замужестве за их отцом, покойным фельдмаршалом Никитой Юрьевичем.
По выходе в отставку Михаил Матвеевич переехал из Петербурга в Москву и опять стал руководить Московским университетом.
Трубецкие предложили Михаилу Матвеевичу поселиться у них. Уже несколько лет жили они вместе, хотя скромный достаток стихотворца не мог идти в сравнение с богатством хозяев дома.
…В этот осенний вечер 1782 года к Трубецким съехалось особенно много гостей. Были среди них вельможи, некогда вершившие судьбы империи, а ныне удалившиеся на покой в свои московские дворцы и подмосковные усадьбы; были литераторы, университетские профессора и студенты; артисты, происходившие из мелких дворян, купцов и даже разночинцев.
Пройдя по анфиладе великолепных покоев, дворецкий пригласил гостей пожаловать в большой зал, где обычно давались домашние театральные представления.
На возвышении, отделенном от зала несколькими ступеньками, сидело несколько человек, в том числе Херасков и хозяин дома, князь Николай Никитич Трубецкой.
Херасков встал.
— Милостивые государи и милостивые государыни! — обратился он к гостям. — Минуло пять лет с того дня, когда отошел в вечность Александр Петрович Сумароков. В нем Россия потеряла знаменитейшего своего писателя, а некоторые из присутствующих — любимого друга. В последние годы его жизни позабыли мы о нем. И кончина его произошла не в славе и почете, но в бедности и одиночестве. Грех сей очевиден. Разве не повелевает нам долг воскресить Сумарокова для наших детей и внуков?.. Для этого мы и собрались здесь.
Он умолк и остался стоять, опустив голову. Главнокомандующий Москвы, граф Захар Григорьевич Чернышев, сидевший в середине первого ряда, медленно поднялся с места, осенил себя крестом. Примеру его последовали и остальные Минуты две все собравшиеся стояли неподвижно, в благоговейном молчании.
Когда публика снова уселась, поднялся сидевший подле Хераскова высокий мужчина. На нем был синий фрак с золотыми петлицами, но без звезд и орденских лент. Длинные ненапудренные волосы были откинуты назад, высокий лоб прорезан глубокими морщинами. Он выглядел молодо, но в волосах виднелись серебряные нити.
— Почтенный хозяин разъяснил предмет нашего собрания, — начал он. — К сему позволю прибавить, что начатое любителями российского слова издание всех сочинений Александра Петровича Сумарокова окончено и вышло в свет полностью, в десяти частях. Все отпечатанные экземпляры оного уже разошлись по рукам. Достойно примечания то, что среди подписчиков, наряду с именами многих знатных особ, находим мы имена людей малоизвестных, скромного состояния: провинциальных дворян, священнослужителей и купцов. О чем свидетельствует сие? О том, милостивые государи, что просвещение российское ширится и проникает туда, где доселе царил мрак невежества…
— Кто таков? — тихо спросила миловидная дама соседа в щегольском шелковом камзоле.
— Новиков! — ответил тот, делая ударение на последнем слоге. — Издатель книг и журналов. Разве не слыхали? Года два назад переехал из Петербурга. Арендует университетскую типографию.
— Так это он! — Дама разглядывала оратора в лорнет. — Как не слыхать! Он ныне в моде! Недурен, право! Голос приятный и в глазах что-то особенное. Il a l’air vraiment enygmatique
[20]. А правда ли, будто он?.. — Дама таинственно зашептала на ухо соседу.
— Совершенная правда! — подтвердил тот многозначительно. — У них тайные сборища, там бог знает что творится!
— Да, да!.. — шептала дама с восторгом. — Мне сказывали! Чародейства всякие, магические заклинания… Духи являются! И страшно и любопытно! Ах, если бы хоть разок взглянуть!
— Прекрасный пол к масонам не допускается, сударыня, — объяснил собеседник. — И слава богу! Кощунство, дебош! Что хорошего для добродетельной женщины?
— А все же до ужаса любопытно! — вздохнула дама.
Кто-то из сидевших впереди обернулся, укоризненно поглядел на шепчущихся. Они умолкли.
После краткой речи Новикова вышел Померанцев и стал декламировать монолог Синава из сумароковской трагедии «Синав и Трувор». Померанцев был превосходный артист, полный огня и вдохновения; на этот раз, однако, он читал холодновато, монолог звучал напыщенно и скучно.
После Померанцева Херасков объявил сцену Димитрия и Ксении из пятого действия трагедии «Димитрий Самозванец».
— Исполняют эту сцену, — сказал он, — артистка медоксовой труппы Авдотья Дударева и Петр Страхов, учитель в университете и мой секретарь. Обоих исполнителей обучал сам покойный автор. В последние годы своей жизни Сумароков мечтал открыть свой собственный театр в Москве. Затея не сбылась, но артистов он успел подобрать и выучить.
Из-за кулис вышли исполнители. Петруша Страхов вел за руку Дуняшу Дудареву. Он был в голубом шелковом кафтане, она — в синем бархатном платье с высокой прической. Грациозно раскланявшись со зрителями, оба стали в позы.
В публике зашептались:
— Как мила!
— Красавица!
— Et lui aussi!
[21]
— Оба прелестны!
…Внимая бунта шум, ты в радости не мни,
Что нежности твоей не кончилися дни!..
Страхов читал протяжно, низким, глуховатым голосом. Всю сцену он вел в одной позе: немного отставленная назад левая нога, гордо поднятая голова, правая рука округло выдвинута перед грудью, левая — на эфесе шпаги. Дойдя до фразы: «Ты тех народов дева, которы моего достойны царска гнева», он перешел от рокочущего речитатива к зловещему шепоту.
Подхватив реплику, вступила Дуняша:
Не страшен более несчастный мне конец,
Когда спасены мой любовник и отец…
Она декламировала напевно, с легким придыханием, как французская актриса. Публика слушала, больше любуясь внешностью исполнителей, чем вникая в смысл тяжеловесных стихов. Когда артисты, окончив сцену, поклонились, в зале раздались одобрительные возгласы.
— А теперь, — обратился к публике Херасков, — представится вам, милостивые государи, еще один сумароковский питомец. В раннем детстве, оставшись сиротой, он был призрен и воспитан покойным Александром Петровичем, затем отдан им в университетскую гимназию, которую недавно с успехом закончил.
— Ступай, Егор! — тихо сказал стоявший у правой кулисы Петруша Страхов.
Тот не двигался.
— Да ты что? — сердито шепнул Страхов. — Пора, говорят тебе!..
Он потянул юношу за руку и слегка подтолкнул вперед. Егор показался на подмостках. Он сделал несколько неуверенных шагов, но так и не дошел до середины сцены, остановившись неподалеку от кулисы. В зале послышался легкий смех. Херасков укоризненно покачал головой.
— Смелее, Егорушка, не бойся! — негромко сказала Дуняша, глядевшая из-за кулисы.
Егор обернулся, на лице его мелькнула смущенная улыбка. Подняв голову, он заговорил, слегка запинаясь:
— Прочтена будет ода, сочиненная господином Сумароковым на спасение Москвы от моровой язвы и усмирение злодейского бунта…
Егор был высок и худощав. Мундир сидел на нем мешковато, букли развились, с прически сыпалась на плечи пудра. Большие голубые глаза глядели растерянно. Произнеся заглавие, он опять замялся… Наконец, собравшись с духом, начал:
К тебе, Москва, к тебе взову,
Взведи глаза во край днесь дальний!..
— Громче! — сказал шепотом Петруша Страхов из-за кулисы.
Егорушка одернул мундир, подтянулся и повысил голос:
Императрица, слыша стон
Врученна ей народа богом…
Преодолев смущение, он читал все более отчетливо. Зрители снисходительно улыбались: в нескладном, долговязом юноше было что-то приятное. Последние строфы прозвучали совсем уверенно, даже торжественно. Егор по-ученически поклонился, шаркнув ногой и пристукнув каблуками. В зале послышались негромкие восклицания:
— Отлично!.. Молодцом! Фора!
Егорушка поспешно удалился.
— Дорогие гости! — произнес Херасков. — События, вдохновившие Сумарокова на это сочинение, произошли одиннадцать лет назад. Но и поныне они не изгладились из нашей памяти. Мы счастливы, что главный тогдашний герой и наш избавитель почтил нас своим присутствием. Возблагодарим же его снова!..
Выйдя из-за стола, он приблизился к самому краю подмостков и низко поклонился одному из зрителей, сидевшему в первом ряду, рядом с главнокомандующим, графом Чернышевым. Вся публика поднялась с мест.
По залу пронесся шепот:
— Кто, кто?
— Неужто не узнаете? — отвечали другие. — Да ведь это Орлов!.. Ну да, князь Григорий Григорьевич…
Орлов сидел в кресле, опустив голову. Глаза его были полузакрыты. Когда Херасков произнес свое приветствие, Чернышев осторожно коснулся руки князя, прошептал что-то на ухо. Орлов открыл глаза, оглянулся. На его обрюзгшем, вялом лице появилось слабое подобие улыбки. Он медленно привстал, кивнул головой и тяжело опустился в кресло. Улыбка исчезла, глаза потухли.
— Совсем плох! — шептались в зале. — Узнать нельзя…
— Да, видно — не жилец!
— И говорят, в рассудке повредился…
Князь Орлов недавно возвратился из-за границы. В московских салонах оживленно судачили о постигших его несчастьях. Лишившись царицыной милости, Орлов пытался найти утешение в тихом семейном счастье. Он страстно полюбил совсем юную девушку, Екатерину Зиновьеву, и, несмотря на большую разницу в летах, добился взаимности. Через несколько лет Орловы уехали за границу. Путешествовали по Германии, Нидерландам, Швейцарии, наслаждались безоблачным счастьем, как вдруг молодая княгиня захворала. Болезнь оказалась неизлечимой, течение ее было стремительным. Похоронив на чужбине жену, Григорий Орлов возвратился в Россию, сломленный душевно и телесно. Долго он никуда не показывался, ходили слухи, будто он помешался.
Это было первое его появление в свете.
— Грустное зрелище! — сказал Херасков Новикову. — А каков был молодец!
— Удивляться нечему, мой друг! — пожал плечами Новиков. — Такова участь тех, кто видит смысл жизни в славе и наслаждениях. Когда к старости лишаешься того и другого, заменить их нечем…
На подмостках появился небольшой домашний оркестр, состоявший из скрипок, альтов, флейт. Зазвучала музыка Баха и Гайдна. Затем публика разошлась по залам и гостиным.
3
— Поздравляю, — сказала Дуняше хозяйка дома, Елизавета Васильевна Хераскова. — Сцена была сыграна отменно.
Они сидели вдвоем в небольшом, скромном будуаре на херасковской половине.
Елизавета Васильевна была женщина незаурядная. Постоянно помогая мужу в литературной и общественной деятельности, она и сама занималась сочинительством. Еще в шестидесятых годах ее стихи печатались в университетских журналах. Покойный Сумароков высоко ценил поэтический дар «московской стихотворицы». Гостеприимная хозяйка, любезная и доброжелательная ко всем, она была душой литературно-артистического кружка, составившегося вокруг Херасковых.
Дуняша вздохнула:
— Спасибо, сударыня, за доброе слово… В театре мне такого не говорят.
— Разве? — удивилась Елизавета Васильевна. — У вас там неприятели? Соперницы?
Дуняша покачала головой:
— Кажется, никому не мешаю. А уж который год ни одной порядочной роли не дают; самые мелкие, а то и вовсе без слов…
— Странно! — сказала Хераскова. — Вы хороши собой, голос приятный! Пожалуй, только… Вы уж не обижайтесь… манера несколько устарелая. Теперь на театре стало проще, натуральнее. Пьесы новые пошли. Тут от актеров требуется нечто иное.
— Разве я виновата? — На глазах у Дуняши выступили слезы. — Учили меня так!
— Знаю! — кивнула головой Елизавета Васильевна. — В этом Сумароков был непреклонен. Однако годы идут, и вкусы меняются. Артист обязан усваивать дух времени. Знаю, трудно! Но лишь через тернии можно подняться к звездам. А ежели не хватает терпения, воли, настойчивости, лучше вовсе покинуть это поприще.
— Должно быть, вы правы, сударыня, — сказала актриса. — Лучше вовсе покинуть… И поскорее! Я ведь уже немолода.
Хераскова пристально поглядела на Дуняшу и слегка улыбнулась.
— Не кажется ли вам, дитя мое, — спросила она, — что женщина не может быть вполне счастлива вне супружества?
— Право, не знаю, — ответила Дуняша задумчиво. — Ежели по любви…
— Не могу сказать, — продолжала Елизавета Васильевна, — была ли я влюблена в Михаила Матвеевича, когда выходила замуж. Но мы прожили вместе уже двадцать два года, и оба счастливы.
— Вы, сударыня, совсем особенная! — заметила Дуняша. — И супруга избрали себе под стать…
На пороге появился пожилой господин. Дуняша, увидев его, побледнела, сердце ее часто забилось…
Вошедший раскланялся, очевидно не узнав Дуняшу.
— Боюсь, что помешал, — сказал он.
— Нисколько! — ответила хозяйка любезно. — Но, кажется, господин Баженов, вы искали не нас, а моего супруга… Вероятно, вы найдете его в диванной.
Егорушка бродил по залам, прислушиваясь к беседам. Подойдя к диванной, он увидел многолюдное сборище. Одни сидели на узких диванах, вдоль стены, другие — в креслах. Некоторые слушали стоя. Говорил Новиков, сидевший в центре, у круглого столика.
— Человек умирает, прах его предают земле… Минует время, и память о нем исчезает… Только те, кто творят благо и приносят пользу человечеству, никогда не забываются. Вот Сумароков! Он и нынче с нами, как живой. И еще протекут десятки лет, а он все будет жить в творениях своих. Вот, что я называю истинным бессмертием!
Егорушка на цыпочках вошел в комнату и остановился поодаль.
Сидевший рядом с Новиковым господин, также одетый в светло-синий фрак с золотыми петлицами, возразил:
— Сие вовсе не согласуется с религиозным учением!
Он говорил с сильным немецким акцентом. Это был профессор Шварц — педагог и философ, глава московских масонов.
— Отчего же? — спросил Новиков.
— Оттого, что вера в бога непременно предполагает веру в бессмертие всякой души.
— Не оспариваю, — сказал Новиков осторожно. — Но бессмертие души можно понимать, как бессмертие человеческих дел и мыслей.
Шварц покачал головой:
— А как же с теми, кто не совершил ничего значительного? Разве их души не живут за гробом?
Новиков подумал.
— Вероятно, тоже живут… — ответил он. — Однако что такое загробная жизнь?
Егорушка, сам того не замечая, оказался на середине комнаты.
— В самом деле, — продолжал Новиков. — Как представить себе жизнь души, отлетевшей от тела? Где она обитает? В какой форме?.. Признаюсь, не понимаю!
— Один лишь творец, — ответил Шварц, — в состоянии открыть сию тайну. И не всем, но избранным.
— Ах, любезный Иван Григорьевич! — воскликнул Новиков с жаром. — Никак не могу примириться с таким принижением нашей способности к познанию… Вспомните, сколько тайн уже объяснено наукой в течение веков! А сколько еще будет разгадано нашими внуками и правнуками! Ведь человек — это высшее проявление премудрости. Для него звезды блистают, растения зеленеют, цветут и приносят плоды… Ему и звери служат!
Егорушка глубоко вздохнул. Все взгляды обратились к долговязому, худенькому гимназисту. Некоторые засмеялись. Сконфузившись, Егорушка попятился к двери.
— Спор наш сложен, — сказал Шварц примирительно. — Разрешить его нелегко… Продолжим как-нибудь, в другой раз! — И, склонившись к Новикову, шепнул ему на ухо: — Здесь посторонние. Не место и не время!..
На площадке мраморной лестницы, соединяющей анфиладу покоев второго этажа с большим залом, расположенным внизу, беседовали двое. Одного из них Егорушка хорошо знал: это был Александр Михайлович Кутузов, друг Хераскова и Новикова. Другой был ему незнаком.
— Нет, братец, с вами мне не по пути, — говорил незнакомец. — Типографии, книжные лавки, благотворительность — похвально. Но этого мало!.. Бродите вокруг да около, а о главном заговорить не решаетесь.
— Что же, по-твоему, главное? — спросил Кутузов с оттенком иронии.
— Ужели сам не понимаешь? — горячо ответил его собеседник. — Уничтожение рабства, произвола, беззакония.
— Ведь и мы стремимся к тому же, — сказал Кутузов. — Для сего вернейшее средство — просвещение духа человеческого. Разве ты сам не соглашался с этим? Вспомни Лейпциг, наши тогдашние беседы!
— Много с тех пор утекло воды! — возразил другой. — Когда-то и я тешил себя надеждами на милости сильных мира сего. Но пожил на святой Руси, поглядел вокруг и понял, что упования эти несбыточны… Никогда дворянское сословие добровольно не откажется от крепостного права. Никогда высшая власть не пожертвует хотя бы частицей присвоенных ею привилегий… А в самовластии корень всего зла. Это строй, противный самой природе человека.
— Боже мой! — воскликнул Кутузов с испугом. — Вон как далеко ты зашел…
— То, чего невозможно достигнуть убеждением, приходится брать принуждением, — продолжал незнакомец не слушая. — И ежели мы, образованные русские люди, уклонимся от нашего долга, то народ сделает это без нас! А тогда… пеняйте на себя, милостивые государи!..
— Новая пугачевщина, стало быть? — насмешливо заметил Кутузов.
Собеседник его пожал плечами:
— Пугачевщина, друг мой, не с неба свалилась. Ее породило народное отчаяние. Какая пагубная слепота!.. Ведь это же непременно повторится. Не нынче, так позже — через десять, двадцать, может быть, сто лет!.. Как часто мерещится мне грозный призрак грядущего! Я вижу его так ясно, словно перед моим взглядом расступается непроницаемая завеса времен!
— Да ты какой-то одержимый! — с удивлением молвил Кутузов. — Что с тобой приключилось? Видно, в самом деле пути наши разошлись.
…Кто-то сзади потянул Егорушку за рукав. Он обернулся, словно пробудившись ото сна, и увидел Страхова.
— Нашелся наконец! — сердито сказал Петруша. — Тебя Николай Иваныч зовет…
— Новиков? — испугался гимназист.
— Побеседовать хочет… Я ему о тебе рассказал. Да идем же поскорее! И, бога ради, не покажись таким разиней, как давеча на сцене… Сколько раз репетировали с тобой, а все зря!
— Петруша! — спросил Егор на ходу. — Кто это с господином Кутузовым беседует?
— Давнишний его приятель, когда-то вместе учились в Германии. Фамилия Радищев, а имя-отчество позабыл.
— Он сочинитель? Или по ученой части?
— Ни то, ни другое… Кажется, на казенной службе. А живет в Петербурге… Да зачем он тебе понадобился?
— Ни за чем, — ответил Егорушка задумчиво. — Просто так…
— Садись, дружок, — пригласил Новиков, когда Страхов привел Егорушку обратно в диванную.
Гости отсюда уже разошлись. За столом сидел Новиков, а рядом с ним — Шварц и Херасков. Егорушка присел на край кресла.
— Стало быть, гимназию ты окончил, — сказал Новиков. — Чем же теперь займешься?
— Купец Дударев берет меня в контору. Писцом!
Новиков внимательно поглядел на него:
— А учиться дальше не желаешь? Пресытился науками?
— Что вы, сударь! — воскликнул Егорушка. — Уж так хотелось бы!..
— Похвально! — улыбнулся Новиков. — Господин Страхов тебя аттестует весьма лестно. А ему верить можно: хоть молод еще, а в науках преуспел всем на удивление.
Петруша скромно опустил голову.
— Значит, желание у тебя есть, — продолжал Новиков. — И способности тоже имеются. Отчего же сворачиваешь с начатого пути? Ведь это все равно, как… Ну, представь: сидит человек в темной комнате. Томится! Ему приносят свечу, а он вдруг уходит куда-то, опять во мрак… Где же здесь смысл?
— Сирота я! — сказал Егорушка, слегка покраснев. — Живу у Дударевых из милости. Надобно уже на свои ноги становиться.
— Послушай, голубчик! — сказал Новиков. — Недавно создалось в Москве «Дружеское общество». Основали мы при университете учительскую семинарию, теперь создаем еще одну — для обучения древним и новым языкам. Господин Херасков согласен принять тебя в студенты, а общество возьмет на свое иждивение. Жить будешь в общей студенческой квартире. Ну как? Согласен?
— Конечно! — сказал Егор, задыхаясь от волнения. — Не знаю, как благодарить вас, сударь!
— Благодарить не нужно, — ответил Новиков серьезно. — Это делается не по прихоти твоей, но для общественного блага.
— Завтра поутру явишься в университет, прямо ко мне! — добавил Херасков. — А теперь ступай себе с богом!
Егорушка, неловко поклонившись, вышел. Навстречу ему шел Баженов.
— Пожалуйте, Василий Иванович! — пригласил Херасков. — Давно ли из Питера?
— Только поутру! — сказал архитектор, здороваясь со всеми. — И тотчас поспешил сюда.
— Какие вести? — спросил Новиков.
— Добрые! Удалось побывать у персоны (он сделал ударение на этом слове) и вручить наши издания. Дар был принят весьма благосклонно.
— Отлично! — сказал Шварц. — Надобно поскорее созвать капитул…
Он покосился в сторону Петруши Страхова. Тот, поняв, что беседа пошла о вещах секретных, тихо удалился. Только немногие знали, что «персоной» именовался цесаревич Павел Петрович, покровительства которого искали русские масоны.
…Егорушка с Дуняшей возвращались вместе в коляске. Он подробно рассказывал о своем разговоре с Новиковым.
— Слава богу! — сказала Дуняша, ласково погладив его руку. — Я всегда ожидала, что ты станешь ученым. Еще когда-нибудь прославишься на всю Россию. Ты умный, Егорушка! — Потом она спросила: — Знаешь ты что-нибудь о Сибири?
— Кое-что, — ответил Егор. — Есть сочинения господина Миллера. Еще Крашенинникова, Гмелина… Они побывали там.
— Ты бы принес мне эти книги, — попросила Дуняша. — Или, лучше, прочитай сам хорошенько, а потом расскажешь!
— Ладно! — согласился Егор. — А для чего тебе?
— Нужно! — ответила Дуняша. — Люди говорят — преинтересная сторона Сибирь…
— Это верно! — подтвердил Егорушка.
Стояла непроглядная темень, даже звезд не было видно.
«Как славно! — думал Егорушка. — Спасибо Николаю Иванычу! Какой он добрый! А Радищев? — Ему вдруг представилось мертвенно бледное лицо, выражение гнева и тоски в небольших, глубоко сидящих глазах. — «Мне не по пути с вами», — сказал он… С кем? С Новиковым, Херасковым, Кутузовым? Отчего? Ведь они прекрасные, умные, удивительные люди!.. Ах, учиться надо. Очень долго учиться, тогда все станет понятным. Томится человек один, запертый в темной горнице… А ему вдруг подали зажженную свечу…»

 ЧАСТЬ ПЯТАЯ
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
1
На улицах — ни души. Порывистый ветер свистит над крышами, гремит железными вывесками запертых
лавок. С беззвездного черного неба валит снег. Тяжелые, мокрые хлопья летят в тусклом свете фонарей.
На перекрестке расхаживает ночной сторож. Издали показался прохожий. Он шагает по лужам, то и дело оглядываясь по сторонам…
— Заблудился? — окликнул его сторож.
— Помнится, где-то здесь должен быть королевский зверинец.
— Так и есть. На Почтовой улице… Однако звери уже спят. Да и порядочные люди тоже.
— Порядочным людям иногда приходится путешествовать, — возразил прохожий. — И расписание мальпостов зависит не от них.
— Приезжий?.. Ну, это другое дело! А то ведь всякие здесь бродят по ночам.
— Приятно видеть, что в Париже стали заботиться о безопасности жителей, — сказал путник. — Прежде этого не замечалось.
— Долго отсутствовали?
— Очень.
— Должно быть, моряк?
— Хотите проверить мои бумаги?
— Нет, зачем же! А Почтовая улица в двух шагах: за угол и прямо!
— Благодарю!
— Погодите! — остановил его сторож. — Не пойму я: зачем вам понадобился зверинец, на ночь глядя?
— Не зверинец, а дом по соседству, — с досадой ответил тот. — Там живет мой друг. Понятно? Надеюсь, больше вопросов не последует? Я устал и хочу спать.
— Обижаться нечего! — заметил сторож с достоинством. — Это моя обязанность.
— Прощайте! — сказал прохожий и быстро зашагал дальше.
Он остановился у ветхого трехэтажного дома неподалеку от зверинца. На двери висела дощечка, освещенная фонариком. Путник прочитал: «Пансион госпожи Бенар для лиц, страдающих различными недугами, а также для здоровых. Изысканная кухня, отличный сад. Цены умеренные».
Он потянул шнурок сонетки. За дверью задребезжал медный колокольчик. После долгих расспросов его впустили.
— Кажется, хозяйка уже в постели, — сказал старик привратник. — Схожу посмотрю…
Приезжий опустился на деревянный табурет у камина, протянул озябшие руки к еще не остывшим углям и сразу задремал.
— К вашим услугам, сударь!
Приезжий открыл глаза. Перед ним стояла дама лет сорока, в потертой бархатной накидке поверх ночного пеньюара и в пышном чепце.
— Добрый вечер, сударыня! — Гость поднялся. — Не узнаете?
Госпожа Бенар окинула его быстрым взглядом. Простой матросский плащ, вылинявшая треугольная шляпа, грубые ботфорты.
— Нет, сударь, не узнаю!
— Что ж, не мудрено! Двенадцать лет не виделись… Мое имя Лами.
— Право, не припомню… Что же вам угодно, мосье Лами?
— Я друг Ерменева, русского художника. Надеюсь, он еще живет у вас.
— К сожалению! — ответила дама, горько усмехнувшись. — Но вот уже около месяца, как я его в глаза не видела.
— Где же он?
Госпожа Бенар возмущенно вздернула плечами:
— Почем я знаю! Ваш друг имеет обыкновение внезапно исчезать. При этом он и не думает оплачивать свою комнату… Однако, сударь, не кажется ли вам, что можно было избрать для вашего визита более подходящее время? — Она взглянула на часы.
— К сожалению, нет, сударыня, — ответил гость. — Дилижанс из Нанта только что прибыл. Грязь на дорогах — непролазная… Итак, моего приятеля нет дома? Экая досада!.. В таком случае прошу приютить меня хотя бы на одну ночь.
— У меня не заезжий двор! — холодно ответила хозяйка. — Все комнаты заняты.
— Любую, самую плохонькую! Не выгоните же вы меня на улицу в эдакую погоду?
Госпожа Бенар опять внимательно поглядела на него.
— Лами?.. — повторила она. — Нет!.. Решительно не помню.
— А я вас сразу узнал. Увы!.. Очевидно, я изрядно постарел! Зато вы, сударыня, нисколько не изменились.
Дама слегка улыбнулась.
— На вашего приятеля вдруг появился спрос, — заметила она насмешливо. — Недавно его разыскивал некий молодой человек, приехавший из России. Он поселился у меня…
— Вот видите!
— …заплатив вперед за целый месяц, — продолжала хозяйка. — Это вполне приличный постоялец. Мне пришло в голову, что вы могли бы переночевать у него…
— Чудесно! — воскликнул приезжий.
— Разумеется, если он разрешит.
— Надеюсь! — сказал Лами.
— Подождите здесь!
Хозяйка поднялась по деревянной лестнице на второй этаж. Вскоре она появилась на верхней площадке и объявила:
— Пожалуйте, мосье!
…Молодой человек читал, лежа в постели под тощей перинкой. У его изголовья горела свеча. В комнате было холодно, пахло плесенью и свечным нагаром.
При появлении гостя молодой человек приподнялся на подушках и сказал:
— Располагайтесь, прошу вас! Я охотно уступлю вам мою кровать…
Он говорил по-французски медленно, запинаясь, с резким иностранным акцентом.
— Не беспокойтесь! — сказал приезжий. — Отлично высплюсь и на полу. Двенадцать лет странствий сделали меня неприхотливым. Здесь есть кров над головой… Стены… Чего больше?
В дверь постучали. Привратник принес большой узел, положил его на пол и удалился.
— А вот еще дары провидения! — воскликнул гость, развернув узел. — Тюфяк, подушка, одеяло… Право, эта мадам Бенар сущий ангел!
— Все же мне неловко, — сказал молодой человек. — Вы старше меня и только что с дороги…
— Прошу вас, не тревожьтесь! — повторил гость. — Кстати! — вдруг сказал он по-русски. — К чему изъясняться на чужом языке, когда мы можем пользоваться родной речью!
— Как! — воскликнул молодой человек. — Неужто вы русский? Мне назвали имя Лами…
— Русский, русский… Без малейшей примеси! — Гость расстелил на полу постель и, присев, стал стягивать сапоги. — Каржавин, Федор, Васильев сын, санкт-петербургский уроженец, купеческого звания. А под фамилией Лами некогда проживал в Париже… — Помолчав, он добавил: — L’ami, то есть друг. Это придумала одна женщина четырнадцать лет назад…
— И вы прибыли прямо из Петербурга?
— О нет! Как раз с противоположного конца света. Слыхали когда-нибудь об острове Мартиника?
— Разумеется.
— Ну вот, оттуда. А прежде скитался по Северной Америке — от канадских озер до Нового Орлеана. Побывал еще кое-где.
— Ах как любопытно! — воскликнул молодой человек.
— Да, кое-что повидал и впечатлениями даже несколько пресытился. Странствовал, суетился… Предпринимал всякие затеи, пытал счастья в различных занятиях. Но не извлек ничего, кроме убытков и разочарований. Времена европейских Колумбов миновали, а российских, видно, еще не наступили. К тому же я никогда не принадлежал к баловням фортуны.
— Стало быть, возвращаетесь на родину?
— Намерен… Впрочем, это зависит… На днях все решится.
— Мне почему-то жаль вас, — неожиданно сказал молодой человек.
— Это почему же? Из-за неудач моих?
— Нет! — ответил тот задумчиво. — Неудачи не беда… Пожалуй, оттого, что… Мне кажется, вы места себе найти не можете. Так много увидеть, узнать! Разве это само по себе не вознаграждает за все труды и лишения?
— Да вы, оказывается, философ! — с некоторым удивлением произнес Каржавин. — Что ж, тем приятнее побеседовать… Только не сейчас, конечно…
— Да, да! — спохватился юноша. — Что ж это я мешаю вам отдыхать!..
— Доброй ночи! — Каржавин завернулся в одеяло.
— Доброй ночи!
Молодой человек снова взял книгу.
— Да, вот что! — вдруг заговорил Каржавин. — Я ведь не спросил о самом важном. Кажется, Ерменев знаком вам?
— Еще со времен моего детства!
— Вы успели повидать его в Париже?
— К несчастью, нет… Явившись по этому адресу, я не застал Ивана Алексеевича. Никто не знает, куда он девался. Вот я и поселился тут в надежде, что рано или поздно он возвратится.
— Возможно, — согласился Каржавин. — Впрочем, пути Ивана Ерменева неисповедимы.
Он снова умолк. Молодой человек продолжал читать.
— Что вы читаете? — послышался голос Каржавина.
— Вам мешает свет?
— Нисколько!
— Это «Мысли» Паскаля, — ответил юноша.
— Паскаль? И он вам по душе?
— О да!.. А вам?
— Гм… Я предпочитаю более трезвых мыслителей… Но, кажется, мы снова погружаемся в пучину философии.
— Извините, сударь! — сказал молодой человек.
— Как вас зовут? — спросил гость.
— Аникин… Егор Аникин.
— А по батюшке?
— Ну зачем же по батюшке!
— Доброй ночи, Егор!
— Спите спокойно, сударь…
Каржавин повернулся на бок, уткнулся лицом в жесткую подушку. Молодой человек перевернул еще страницу-другую, отложил книгу и задул свечу.
Гость проснулся на рассвете. Егор еще спал. Каржавин поспешно привел себя в порядок и на цыпочках вышел, осторожно прикрыв за собой дверь.
— Ого! — заметила толстуха, подметавшая лестницу. — Раньше восьми здесь за стол не садятся.
— Я позавтракаю в городе.
На улице было серо. Снег уже не падал, но ветер не унимался. Каржавин пошел по мостовой, утопавшей в грязи, лавируя между рытвинами, наполненными до краев водой. В домах открывались ставни, лавочники снимали с дверей висячие замки, отодвигали засовы.
Предместье Сен-Марсель было одной из самых глухих окраин Парижа. Тут обитали ремесленники, тряпичники, чернорабочие, бедняки, не имевшие определенных занятий и промышлявшие случайным заработком. Старинные дома совсем обветшали. Выступающие верхние этажи закрывали небо, не давая доступа свету и воздуху. В убогих лачугах, среди сырости, мрака и грязи, ютилось по нескольку семей. Люди спали вповалку под грудами тряпья, растили тощих, хилых детей, мерли от истощения, оспы и чахотки. На чердаках и в подвалах собирались воры и скупщики краденого.
Погруженный в свои мысли, Каржавин торопливо пробирался по закоулкам, обходя многочисленные тупики, перепрыгивая через канавы. Предместье осталось позади. Он вышел на набережную. Сена, мутная, вздувшаяся от дождей, походила на Москву-реку во время осеннего половодья. Внизу, у причалов, раздавались голоса рабочих, слышался стук молотков.
Он долго шел вдоль реки. Одна набережная сменялась другой, и вот уже показалась знакомая статуя Генриха IV на Пон-Нефе
[22]. Добрый король сидел на коне, улыбаясь легкомысленной и хитрой улыбкой гасконца; на плечах его за ночь появились снежные эполеты.
Каржавин перешел по мосту на правый берег, обогнул серую громаду Лувра, миновал решетку Тюильри и вышел к Пале-Роялю. Рабочие, орудуя лопатами и метлами, очищали площадь от талого снега.
Каржавин свернул на улицу де-ла-Траверсьер, застроенную рядами роскошных особняков, обсаженную каштанами. Вскоре он отыскал нужный ему дом, где помешалась гостиница, носившая странное название «Три милорда». Это был комфортабельный, богатый, тихий отель, представлявший резкий контраст с жалким пансиончиком госпожи Бенар.
Здесь жили высокопоставленные иностранцы или отпрыски французской провинциальной знати, приезжавшие в столицу по делам и не искавшие легкомысленных забав и шумных развлечений. У дверей стоял величественный швейцар в ливрее с серебряным позументом. Столь же величественного вида метрдотель восседал в глубине небольшого вестибюля за высокой конторкой. Не обращая внимания на изумленные взгляды того и другого, Каржавин с независимым видом направился к конторке и осведомился, здесь ли проживает господин Хотинский, советник российского императорского посольства.
— Да! — ответил метрдотель. — Однако…
— Он еще спит? — прервал Каржавин.
— Его превосходительство просыпается очень рано. Но у себя дома он не принимает никого… Кроме своих близких друзей.
— Превосходно! — воскликнул Каржавин. — Я один из них…
Он извлек из внутреннего кармана заранее написанный листок, сложил его вчетверо и вручил метрдотелю. Тот передал записку стоявшему рядом лакею. Вскоре лакей возвратился и пригласил посетителя следовать за ним.
Хотинский сидел в глубоком кресле с книгой в руках. Завидев Каржавина, он поднялся и пошел к нему навстречу. Это был худощавый, невысокий старичок с приветливым лицом и веселыми лучистыми глазами.
— Прибыл наконец, Одиссей! — сказал он, обняв гостя. — Жив, здоров, слава богу!.. Располагайся, дружок, как раз поспел к моему pétit dejeuner
[23]. Чего хочешь: кофею или шоколада?
— Все равно, любезный Николай Константинович, — сказал Каржавин.
— Ну тогда шоколада! — Хотинский сделал знак лакею.
— Не знаю, как вас благодарить, — сказал Каржавин. — Когда бы не ваша помощь, не знаю, как бы выбрался из этой проклятой дыры.
— Что здесь особенного! — пожал плечами Хотинский. — Русский человек на чужбине… Попал в беду… Как не помочь? Тем более, я тебя малым мальчонкой знал. Помнишь коллеж Ликсе?
— Еще бы! — вздохнул Каржавин. — Хорошо помню утро, когда дядюшка, Ерофей Никитич, привел меня к вашей милости и просил взять на попечение… Тридцать лет с тех пор прошло!
— Нет, братец, поболе!.. Было это в пятьдесят шестом году, я только что прибыл тогда в Париж на службу. …А ныне у нас тысяча семьсот восемьдесят восьмой! Стало быть, тридцать два годика. Летит время, не остановишь… Должно быть, я вовсе одряхлел?
— Вот уж нет, Николай Константинович… Глаза-то прежние!..
— Знаю, старик! — махнул рукой Хотинский. — Седьмой десяток пошел… Ну, оставим эту невеселую материю! Прочитав послание твое, сразу понял, что дело плохо. Не медля отписал зятю твоему, Козлову, чтобы взял деньги у матери.
— Слава богу, что согласилась мамаша! — улыбнулся Каржавин.
— Как же иначе! Ведь тебе из отцова наследства немало причитается.
— Не всегда легко получить то, что причитается. В семье у нас неладно. Отец, покойник, хоть и крут был, да умен. А мать скаредна, черства, и сестры не лучше.
— Надобно поскорее отправляться в Петербург, устраивать дела.
— Надобно, конечно… — Каржавин, помолчав, спросил: — Давно вы видели Шарлотту?
— Должно быть, с год. А больше не появлялась. Я послал ей письмо, но ответа не получил… Разве ты еще не был у нее?
Каржавин покачал головой:
— Приехал вчера поздно, остановился в дрянном трактире, а поутру прямо к вам.
— Странно! — Хотинский поглядел ему в глаза.
— После двенадцати лет разлуки не хотелось являться к ней в таком виде, — сказал Каржавин, опустив голову. — Деньги же все вышли, еле хватило добраться.
— Так ведь она тебе жена…
— Это верно…
— Денег дам, — сказал Хотинский. — Я выслал тебе только половину из присланных, остальные у меня хранятся.
— После все вам объясню. Но теперь мне надобно разыскать ее. Уж не приключилось ли чего дурного?
— Да нет! — успокоил его Хотинский. — Ежели бы она нуждалась в помощи, дала бы знать. Я так ей наказал… Скорее всего переменила место жительства.
Вошел слуга с подносом.
— Ну, садись, угощайся, — пригласил Хотинский. — И рассказывай про свои авантюры.
— Николай Константинович, благодетель мой! Вы уж не взыщите, я тотчас же отправлюсь на розыски… Завтра снова явлюсь, и уж тогда наговоримся всласть… Осмелюсь ли попросить немного денег?
— Хоть все!.. Ты бы сперва поел!
— Успеется!
— Ну как знаешь! — Хотинский открыл дверцу шкафа и отсчитал несколько золотых монет. — Возьми, да не очень транжирь, больше не пришлют!
Каржавин крепко обнял старика.
— Кстати, не знаете ли, куда девался Ерменев? — спросил он.
Хотинский развел руками:
— Натерпелся я с ним! То счета поставщиков нужно оплатить: за холсты, краски и прочее. То стипендию из Петербурга не шлют. То ссору затеет. Беда с господами художниками! А теперь вовсе исчез из виду. Впрочем, случалось такое и прежде. Сыщется, не иголка.
2
Четырнадцать лет назад Каржавин встретил девицу Шарлотту Рамбур. Это случилось вскоре после его приезда в Париж. Они жили тогда вместе с Ерменевым в двух меблированных комнатах близ Сен-Жерменского монастыря. Знакомых у них было мало, денег — еще меньше. Стипендии, которую получал Ерменев от цесаревича Павла Петровича, и небольших сбережений Каржавина едва хватало на самую скромную жизнь. Большую часть дня они проводили в занятиях: Каржавин исправно посещал читавшиеся в Сорбонне курсы медицинских и естественных наук, Ерменев работал у известного рисовальщика Дюплесси. В свободные часы они бродили по городу, иногда позволяя себе посидеть часок-другой в дешевой кофейне.
Однажды весной они отправились на традиционное гулянье, происходившее на лугу Лоншан. К молоденькой девушке пристали трое подвыпивших парней. Оба приятеля поспешили ей на помощь. Завязалась драка. Обидчики были обращены в бегство, девушка, улыбаясь сквозь слезы, поблагодарила своих избавителей. Они проводили ее домой. Шарлотта служила модисткой в мастерской дамских шляп. Она была сирота. Сперва они встречались втроем, потом Ерменеву это наскучило. А Каржавин влюбился, кажется, впервые в жизни. Полгода спустя Шарлотта стала его женой. Ерменев уступил им свою комнату и переехал в убогий пансион госпожи Бенар. Новобрачные жили под фамилией Лами: так называла Каржавина Шарлотта.
Но супружество не принесло Каржавину счастья: Шарлотта была явно холодна к мужу.
— Должно быть, причина в нашей нищете, — рассуждал он. — Бедняжке хочется свободы, развлечений, которых она никогда не знала. А ей по-прежнему приходится по целым дням сгибаться над шитьем. Ведь она совсем еще девочка…
Экая обида! Быть сыном богатого купца, наследником большого состояния и не иметь возможности устроить любимой женщине сколько-нибудь приличную жизнь!.. Иной раз возникал соблазн: написать домой, рассказать обо всем, просить благословения. Но это было безнадежно. Он покинул Россию против воли отца, а нрав старика был ему хорошо знаком. Того не растрогаешь сентиментальными излияниями, разве что вернешься с повинной и, подобно блудному сыну, повалишься в ноги… Нет, этого им не дождаться!
Каржавин все реже ходил на лекции, искал заработков. Наконец он обратился за помощью к Хотинскому.
Николай Константинович широко покровительствовал всем соотечественникам, приезжавшим в Париж изучать науки и искусства. А Каржавина он знал с детских лет.
Через некоторое время Хотинский пригласил его к себе.
— Ну, сударь, — сказал он. — Кое-что нашлось. Намедни говорил с неким французским коммерсантом. Ведет дела с вест-индскими колониями. Он готов дать тебе рекомендательное письмо к тамошнему своему агенту… Говорят, приезжают туда люди ни с чем, а через года два возвращаются богачами. Попытай счастья, ежели охота! Ты, помнится, любитель приключений!
— Куда же ехать? — спросил Каржавин.
— На остров Мартинику.
Каржавин задумался.
— Понимаю! — кивнул Хотинский. — А отчего бы не отправиться вместе? И ей будет занятно.
— Что вы! — воскликнул Каржавин.
— Думаешь, не согласится?
— Я и сам не дозволил бы… Нет уж, если ехать, то одному…
Решиться было нелегко, но иного выхода он не находил. Впрочем, может, так будет лучше? Нередко разлука сглаживает несогласия между близкими людьми. Что, если само провидение посылает им это испытание?
Узнав о замысле мужа, Шарлотта пришла в отчаяние.
— Нет, нет! Не делай этого, не покидай меня! — говорила она, заливаясь слезами.
Каржавин был удивлен и растроган.
— Ты не будешь одинока, — утешал он жену. — О тебе позаботятся наши друзья.
— Друзья? — Она горько усмехнулась. — Кто они?
— Хотя бы Жанно (так она называла Ерменева).
— Благодарю! — заметила она презрительно.
— В таком случае господин Хотинский… Уж на него-то можно положиться!
Каржавин уговорил жену покинуть мастерскую и принять место гувернантки в семье судейского чиновника.
На Мартинике дела сперва шли успешно. Каржавин привез из Парижа картины, редкие книги, художественные изделия. Все это ему удалось выгодно распродать колониальным чиновникам и негоциантам, которые старались придать себе великосветский лоск и щеголяли друг перед другом изысканным убранством своих домов. Выручив приличную сумму, Каржавин вступил в компанию с креолом Лассером, которому и было адресовано его рекомендательное письмо. Они решили отправить большую партию сахара и какао в Северную Америку. Лассер предоставил свое грузовое судно, а Каржавин закупил товар и сам отправился в плавание.
Тут и начались неудачи.
В Америке вспыхнула война. Восставшие колонисты под командованием Джорджа Вашингтона мужественно сражались за независимость, против англичан. Время для мирной торговли оказалось самое неподходящее.
Английский сторожевой фрегат перехватил каржавинское судно, но благодаря сгустившемуся туману им удалось ускользнуть и добраться до Виргинии.
Около двух лет провели здесь Каржавин и его спутники. Сбыв с немалой прибылью свой груз, они закупили американские товары и пустились в обратный путь. На этот раз дело обернулось хуже. Англичане снова задержали судно. Груз был конфискован, а экипаж высажен на пустынной отмели.
Потеряв все, что было приобретено за три года, Каржавин отправился в Бостон, надеясь там отыскать знакомого по Мартинике купца. Он шел пешком, с сумой за плечами, не имея никаких припасов, кроме черствого хлеба. Дважды он натыкался то на английские, то на американские патрули. Те и другие принимали странного путника за вражеского шпиона. Только чудом он спасся от расстрела.
Было это зимой. Стояли морозные, ясные дни. Снег на равнине ослепительно сверкал. У Каржавина началась острая боль в глазах. Закоченевший, изнуренный, полуслепой, он все-таки добрался до Бостона. Купец, по имени Венель, нанял его к себе приказчиком. Каржавин поселился при лавке. Время от времени он разъезжал по лесным поселкам с товарами. За несколько месяцев удалось заработать приличную сумму. Но американские бумажные деньги вскоре оказались совершенно обесцененными. Каржавин снова был разорен.
Он вернулся на Мартинику и поступил помощником к аптекарю, французу Дюпра. Аптекарь оценил по достоинству нового служащего, неутомимого в работе, отлично знавшего химию и латынь, что среди местных обитателей было редкостью. Они подружились. Дюпра был слаб здоровьем, жестоко страдал от тропического климата и мечтал уехать на родину. Он предложил Каржавину купить у него аптеку по скромной цене.
Каржавин принялся копить деньги.
Внезапно в октябрьскую ночь налетел тропический ураган. Море вышло из берегов, обрушилось на остров, смыло дома и плантации. Погибла и маленькая аптека вместе с каржавинскими грезами.
Каржавин нашел новое занятие — в табачной мастерской. Едкая пыль табака чуть не свела его в могилу. Пришлось оставить и эту работу. Он снова нанялся приказчиком на торговое судно.
Остров Антигуа… Сан-Доминго… Куба… Нью-Йорк… Филадельфия… И всюду неудача. Кажется, уже оправился, стал на ноги, но вдруг все идет прахом… Так муравей, напрягая все свои силенки, взбирается на холмик с былинкой на спине и, сброшенный щелчком шалуна мальчишки, катится вниз, чтобы тотчас же возобновить прерванное восхождение…
Идет большая война! Заставы, сторожевые посты, морские патрули, пограничные таможни… Большая война больших наций!.. И никому нет дела до одинокого странника, никого не трогают его трудолюбие и предприимчивость, таланты и знания, проекты и мечты…
От жены Каржавин получал немного писем. Одно из них ждало его на Мартинике, после возвращения из Америки. Письмо было странным. Нежные слова перемешивались с укорами и жалобами на одиночество и нужду. Она звала его к себе, убеждала возвратиться в Париж, чтобы жить вместе в согласии и любви.
В ответном письме Каржавин не мог скрыть горечи. «Вы совершенно незаслуженно упрекаете меня, — писал он. — Не в укор вам говорю, что стоило вам захотеть, и я никогда бы не расстался с вами и не подвергал бы себя опасностям. Благодарю вас, мой друг, за те чувства, которые вы мне высказываете, но ведь они проявились только теперь, когда я живу на расстоянии 1800 лье от вас. Не забудьте, что мне уже не восемнадцать лет, а тридцать шесть. Путешествие в Париж обойдется в тысячу франков, чем же мы тогда будем жить с вами? Конечно, находиться подле вас — это огромное счастье, но оно не должно быть отравлено нуждой…»
В последние годы переписка прекратилась. Тоска стала нестерпимой. Надежды рухнули.
Каржавин решил возвратиться. С капитаном корабля, отплывавшего во Францию, он послал письмо Хотинскому с просьбой выхлопотать у петербургской родни сколько-нибудь денег. Несколько месяцев спустя деньги были получены. Вскоре Каржавин покинул Мартинику, а в середине января был уже в Париже.
И вот новый удар: Шарлотта исчезла!..
3
— Наконец-то вы явились! — воскликнул Егор. — Я уж начал было тревожиться.
Он отложил перо и исписанный лист бумаги.
— Да, пришлось побродить по городу, — сказал Каржавин. — Он чертовски вырос за двенадцать лет.
— Прошу вас: ложитесь и отдыхайте. Только не на полу! Кровать мне, право, не нужна…
— Спасибо! — улыбнулся Каржавин. — Я нынче разбогател. Видите — платье новое. И уже обзавелся отдельной комнатой. Получив плату за месяц вперед, матушка Бенар смягчилась и причислила меня к сонму своих солидных постояльцев… А зашел только, чтобы побеседовать.
— Очень рад, сударь. Уж так хотелось бы послушать рассказ о ваших путешествиях!
— Немного погодя! — сказал Каржавин. — Прежде позвольте мне расспросить вас. Почти пятнадцать лет я вдали от отечества.
— С великим удовольствием!
Егор стал рассказывать об университете, о московском «дружеском обществе», о Новикове.
— Когда-то я был усердным читателем новиковских журналов, — сказал Каржавин. — Стало быть, Николай Иванович переехал в Москву?
— Да, лет десять назад. Сперва арендовал университетскую типографию. Печатал там новые журналы: «Утренний свет», «Московское Ежемесячное издание», «Вечернюю зарю» и другие. А теперь уже есть новая типография, собственная! Книг издано за эти годы немало: поэтические сочинения, учебники, трактаты по математике, географии, истории, грамматике.
— Неужто находится на Руси достаточно писателей по всем этим материям? — недоверчиво спросил Каржавин.
— Есть, сударь, есть! — с жаром воскликнул юноша. — Ну, конечно, еще не так много, но с каждым годом становится все больше… О, не улыбайтесь! Уверяю вас! Воротитесь домой, сами увидите, как далеко шагнуло наше просвещение. Много издается иностранных сочинений в переводе на русский язык. Недавно «Дружеское общество» отправило нескольких своих питомцев за границу для совершенствования в науках и европейских языках. Некоторые находятся в Лейдене, другие в Геттингенском университете. Я, как видите, попал в Париж…
Каржавин слушал внимательно, слегка сдвинув брови.
— Какие же науки изучаете? — спросил он.
Егор развел руками.
— Как вам сказать… Господин Новиков советовал заняться химией и ботаникой. Но как-то… не чувствую к этому влечения. Больше всего имею склонность к языкам — древним и современным… И еще к философии.
— Это я уже успел заметить, — сказал Каржавин.
— Я кажусь вам смешным, не так ли? — сказал Егор с легким укором. — Знаю, образование мое скудно, разум недостаточно развит.
— Вы меня плохо поняли! — объяснил Каржавин мягко. — И в мыслях не имел смеяться! Русский юноша, который, приехав в Париж, читает по ночам в холодной каморке Паскаля, встречается не каждый день.
— Увы! — грустно сказал Егор. — Читаю я прилежно, но далеко не все мне понятно. Иной раз мысли путаются… Прочтешь одно сочинение, кажется — все верно, со всем согласен. Потом возьмешься за другое, а там противоположные мнения, и опять нельзя не согласиться… Вот беда! А как хотелось бы проникнуть в тайну бытия, понять смысл и цель нашей жизни!
— Верите вы в бога? — неожиданно спросил Каржавин.
Егор пристально посмотрел ему в глаза и, поднявшись, заходил по комнате.
— Жестокий вопрос, сударь! — сказал он с волнением.
— Отчего — жестокий?
— Оттого, что не могу на него твердо ответить… Я верю в великого архитектора, сотворившего величественное здание Вселенной! Но мне мало слепой веры, мне нужно познать сокровенное…
— Уж не масон ли вы? — неожиданно прервал его Каржавин.
— Почему вы решили?
— По манере вашей выражаться. Все это из масонского лексикона. Ведь франкмасон по-русски означает — вольный каменщик… Каменщик, созидающий храм божественной премудрости. Отсюда и эмблемы масонские: молоток, циркуль, лопатка, фартук. А господа бога они именуют великим архитектором.
— По-вашему, это учение дурно? — спросил Егор.
Каржавин пожал плечами.
— В последнее время масонские ложи распространились не только в Европе, но и в американских землях. В них участвуют многие просвещенные деятели. Говорят, масоны ополчились против деспотизма — церковного и светского, проповедуют вольность и права человека, содействуют просвещению. Коли так, что здесь дурного? Однако их мистические таинства, нелепые церемонии не внушают мне симпатии. Я человек земной, практический. Тайн, непостижимых разуму, для меня не существует.
— То, что кажется непостижимым сегодня, со временем будет постигнуто, — возразил Егор.
— Но только с помощью разума! Жаль, что вам не по душе естественные пауки. Займитесь ими, и ручаюсь — взгляды ваши изменятся. А утешаться играми в чудеса предоставим невеждам… Но довольно об этом. Итак, вы говорите, российское просвещение шагает вперед? Трудно представить, но не верить вам не смею. А ведь и я, кажется, мог бы внести в это дело свою лепту! Языками европейскими владею в совершенстве, хорошо знаю и латынь. Изучал медицину, химию, архитектуру.
— Конечно, сударь. Такие люди, как вы, истинное сокровище! — воскликнул юноша. — Отправляйтесь в Москву, Новиков примет вас с распростертыми объятиями… Поскорее поезжайте!
— Это не так легко! — сказал Каржавин задумчиво. — Обстоятельства мои сложны. Я женат, жена — француженка. Мы не виделись около двенадцати лет. В Париже ее не оказалось. Нынче целый день занимался поисками, но ничего не узнал.
— Какая жалость! — сказал Егор с неподдельным огорчением. — Все же не следует унывать, вы ее найдете. Если позволите, я помогу вам…
— У вас и своих дел достаточно, — улыбнулся Каржавин. — Небось посещаете Сорбонну, библиотеки…
— Еще нет, — сказал Егор, как бы оправдываясь. — Признаюсь, к занятиям не приступал. Ведь я в Париже только с неделю. Хотелось походить по городу, приглядеться к уличной толпе, прислушаться к французской речи.
Каржавин одобрительно кивнул.
— Так что располагайте мной! — продолжал юноша. — Будем вместе искать вашу супругу! А не уехала ли она на время в провинцию? К родственникам или друзьям?
— Кажется, нет у нее ни тех, ни других, — ответил Каржавин. — Впрочем, может быть, и уехала. Мне присоветовали дать публикацию в газете: авось откликнется.
— Отличная мысль! — одобрил Егор. — Непременно откликнется. Только не унывайте, пожалуйста!
Каржавин подошел к юноше, взял его за плечи.
— Россия! — сказал он, и голос его слегка дрогнул. — За время моих скитаний я часто получал от людей помощь. Но душевной теплоты почти не встречал.
Каржавин пошел к себе. Комната оказалась такой же сырой и убогой, как та, в которой жил Егор. Быстро раздевшись, он улегся в жесткую постель, натянул жиденькую перинку и тотчас же уснул мертвым сном. Но среди ночи вдруг проснулся. В окне стояла луна, по углам залегли густые тени…
В памяти всплывали несвязные картины… Гамак под кисейным пологом. Духота, бессонница. По веранде стелется такая же лунная дорожка. Тоскливо звенят москиты, шумят пальмы под горячим ночным ветром…
Река, облитая лунным сиянием. Ночлег у вытащенной на берег лодки… Воют койоты, издалека слышен треск перестрелки.
…Луна над острым шпилем Адмиралтейства.
Славный малый этот Егор! Немного восторженный, но это не беда. Пожалуй, он прав: пора на родину! А как же Шарлотта? Сперва разыскать ее, тогда все решится само собой… Ах, если бы Ерменев был здесь, он наверняка что-нибудь знает… Как странно, что оба исчезли.
Вдруг он ощутил какую-то смутную тревогу.
— А что, если?..
Он сел на постели, сердце его часто забилось.
— Да нет, вздор! — сказал он вслух сердито. — Глупости, чепуха!..
4
Однажды на придворном балу шевалье де Сансак, дворянин из свиты графа д’Артуа
[24], обратился к своему патрону:
— Осмелюсь ли просить ваше высочество об одной милости?
— Извольте! — ответил тот. — Если только речь идет не о деньгах.
— О нет, монсеньер! Я хотел бы получить lettre de cachet
[25].
— Черт возьми, еще трудней! Повсюду шумят об этих lettres de cachet. Парижский парламент потребовал их отмены… А зачем вам?
— Меня оскорбили, монсеньер.
— Опять любовная история? Кстати, эта госпожа Виже-Лебрэн действительно недурна. Картины ее мне не по вкусу, например портрет королевы. Какой-то нелепый наряд!.. Злые языки болтают, что государыня позировала в ночной сорочке. Но сама художница мила, хотя и не первой свежести. Не так ли?
— Надеюсь, что ваше высочество разрешит мне не отвечать на этот вопрос, — молвил шевалье с достоинством.
— Ну, ну, извините, Сансак! Итак, вас оскорбили? А почему бы вам не вызвать обидчика на поединок? Вы отлично владеете шпагой. Правда, дуэли запрещены, но тут уж я вас выручу.
— Я могу драться только с дворянином, монсеньер.
— Так это простолюдин! Тогда прикажите вашим слугам отколотить его палками. Чего проще!
— К сожалению, не совсем обычный простолюдин.
— Да кто же он?
— Русский художник.
— Гм!.. — Граф д’Артуа нахмурился. — Уж не собираетесь ли вы поссорить нас с императрицей Екатериной?
— Ручаюсь, что все будет сохранено в строжайшей тайне. Никто, даже он сам, не будет знать причины ареста. Во всяком случае, имя вашего высочества никогда не будет упомянуто.
— Король теперь очень неохотно дарит эти бланки, — сказал граф д’Артуа.
— Может быть, королева?.. — спросил шевалье многозначительно.
Принц бросил на придворного быстрый взгляд.
— Вы не раз оказывали мне любезности, де Сансак, — сказал он, слегка улыбнувшись. — И ее величеству также… Постараюсь помочь.
Через несколько дней шевалье получил то, о чем просил. Это была бумага с королевскими лилиями в верхнем углу, скрепленная государственной печатью. Текст ее гласил:
«Господин маркиз де Лонэ!
Направляю вам настоящее письмо с приказом принять в мой бастильский замок нижепоименованного…………………….. и содержать его там до моего нового распоряжения.
Пребываю неизменно благосклонным к вам
Подписано: Людовик.
Дано в Версале…………… месяца………………… года».
Оставалось только вписать в бланк имя и дату.
У заставы, отделяющей предместье Сент-Антуан от городской улицы того же наименования, высится четырехугольная серая громада, окруженная широким рвом и массивной стеной. Ее восемь башен, возвышающихся над кровлями домов, видны издалека.
Это Бастилия…
Выстроенная в XIV веке, она сперва была обычной крепостью. Во времена феодальных смут и народных возмущений за ее массивными стенами укрывались короли со своим двором. При Людовике XI в Бастилии появились первые заключенные: участники политического заговора.
С этих пор она стала тюрьмой для важных государственных преступников, самой страшной из тюрем Франции.
Здесь томились люди всех сословий и рангов: простые буржуа и чиновники, дворяне и священники, писатели и ученые, министры и принцы крови. Одних обвиняли в государственной измене, других — в ереси и вольнодумстве, третьи жестоко расплачивались за неосторожную эпиграмму.
Восемнадцатый век был особенно урожайным для бастильских тюремщиков. Казематы никогда не пустовали. В них побывали многие знаменитые деятели французского просвещения. Вольтер удостоился этой чести дважды. Покойному королю Людовику XV пришла в голову блестящая идея: сажать в тюрьму не только вольнодумных авторов, но и сочиненные ими книги. И вот однажды в Бастилию торжественно привезли под конвоем конфискованные тома знаменитой «Энциклопедии»
[26] и заперли в подземелье, предназначенное для самых опасных и секретных арестантов.
Далеко за пределы французского королевства проникла мрачная слава этой темницы. По всей Европе ходят рассказы о ее ужасах, о таинственных узниках, заживо погребенных в каменных мешках.
* * *
Черная карета со спущенными занавесками прогремела по подъемному мосту, перекинутому через ров. Часовые распахнули тяжелые ворота. Карета въехала во двор и остановилась у подъезда комендантского помещения. Трое мужчин выволокли из кареты человека со связанными за спиной руками и кляпом во рту. Поднявшись по винтовой лестнице, они ввели пленника в полукруглую комнату, вымощенную каменными плитами, с двумя узкими стрельчатыми окнами.
За барьером, у камина, дремал дежурный смотритель. В камине трещали поленья, но в комнате было холодно.
Один из вошедших подал смотрителю пакет, двое других стояли в отдалении, крепко держа пленника под руки.
Смотритель стал читать бумагу.
— Господин маркиз отсутствует, — сказал он. — Но принять можно. Развяжите его!
Конвойные выполнили приказ.
— По какому праву меня схватили? — гневно крикнул пленник, как только конвойные вынули у него кляп изо рта. — Кто вы такие?
— Потише! — спокойно ответил смотритель. — Здесь кричать не принято. Подтверждаете ли вы, что вас действительно зовут Жан… — Он взглянул на бумагу и с трудом произнес: — Жан… Эр-ме-нэфф?
— Да, я Ерменев! Но что из этого?
— То, что мной получен приказ о вашем аресте.
— Аресте? Я не знаю за собой никакой вины!
— Меня это не касается, приказ есть приказ!
— С каких это пор в Париже стали похищать на улицах ни в чем не повинных людей? — воскликнул Ерменев с негодованием. — Я иностранец, мирный художник. Возвращался домой, и вдруг на меня нападают из-за угла, связывают, бросают в карету!.. Я думал, что попал в руки бандитов, оказывается — это блюстители порядка! Я требую, чтобы о моем аресте немедленно сообщили российскому посольству!
— Требуете? — переспросил смотритель. — Поживете немного в нашем отеле, пыл ваш остынет.
— Где же я нахожусь? — спросил Ерменев.
— В Бастилии, — ответил смотритель добродушно.
5
Госпожа Виже-Лебрэн, о которой упоминал граф д’Артуа, была в расцвете славы. Ее картины, главным образом портреты, имели шумный успех. Мужчины на этих полотнах выглядели изящными, благородными, нежными и задумчивыми, дамы и девицы были воплощением наивной женственности и небесной чистоты.
Это нравилось…
После смерти Людовика XV вызывающая роскошь уступила место букилической простоте. Королевский двор переселился из пышного Версальского дворца в уютный замок Трианон. Там среди парка были разбросаны швейцарские шале, пастушеские фермы. Король Людовик XVI слыл образцовым семьянином и на досуге развлекался слесарным ремеслом. Королева Мария-Антуанетта собственноручно доила коров, угощая придворных свежим молоком в изготовленных на севрском заводе чашках из ажурного розоватого фарфора. Любимым развлечением стали сельские празднества. Дамы и кавалеры в пастушеских костюмах из великолепных тканей пасли на подстриженных лужайках чистеньких, причесанных овечек, разукрашенных шелковыми лентами.
По глади озера плыли золоченые рыбачьи лодки; маркизы, графы и виконты, одетые рыбаками, напевали арии Гретри. Королева любила интимные завтраки в маленькой белой столовой, с потолком, расписанным под птичий двор, и фонариками, обвитыми гирляндами из золотых колосьев и маргариток. Пышные и неудобные туалеты сменились легкими платьями и античными туниками, затейливые напудренные прически — распущенными волосами естественного цвета. Дамские шляпы изображали цветочные клумбы и пчелиные ульи.
Светское общество восхищалось «Новой Элоизой»
[27], зачитывалось слезливыми романами мадам де Жанлис. Девицы играли на арфах и клавесинах чувствительные романсы, юные щеголи писали им в альбомы трогательные стишки, полные вздохов и жалоб.
Чувствительность, простота жизни, слияние с природой — таковы были новые прихоти французской аристократии, самой изысканной и расточительной на свете.
Стиль госпожи Лебрэн как нельзя более подходил к новым вкусам. Она не только писала портреты, но и придумывала платья, прически, головные уборы.
Елизавета-Луиза Виже была дочерью небогатого, малоизвестного живописца. С детских лет ее учили рисовать и писать красками — сперва отец, потом художник Бриар и наконец, очень недолго, знаменитый Грез.
В очень юном возрасте мадемуазель Виже выдали замуж за некого господина Лебрэна, посредственного художника, который занимался не столько искусством, сколько скупкой и продажей картин и гравюр. Он слыл богачом, но репутация эта, приобретенная благодаря широкому образу жизни и хвастовству, оказалась дутой. Вместо состояния у него была куча долгов.
Однако в делах Лебрэн кое-что смыслил. Присмотревшись к картинам невесты, он разглядел под покровом неуверенности и еще слабого мастерства ценные достоинства, изящество, изобретательность, ощущение цвета и линии. К тому же девушка была трудолюбива. Все это сулило немалые выгоды в будущем.
С помощью своих многочисленных связей и умелой рекламы Лебрэн создал жене некоторую известность. Остального она добилась сама. Между супругами было заключено полюбовное соглашение. Госпожа Виже-Лебрэн согласилась отдавать мужу большую часть своего заработка, получив взамен полную свободу, Она жила на отдельной половине дома, состоявшей из двух небольших комнат. По вечерам сюда съезжались артисты, художники, поэты, придворная знать.
Здесь было так тесно, что иной раз не хватало кресел, и мужчины усаживались на ковре.
— У меня даже маршалы Франции не брезгуют посидеть на полу! — с шутливой гордостью говорила художница.
И действительно, иные обладатели громких титулов, роскошных особняков и поместий предпочитали веселую артистическую богему скучному однообразию великосветских салонов. К тому же хозяйка была умна, хороша собой и, несмотря на свое отнюдь не знатное происхождение, имела могущественные связи. Ей покровительствовала сама королева…
Однажды художник Жозеф Дюплесси показал госпоже Виже-Лебрэн странные рисунки. На них были изображены бородатые люди в диковинных одеждах, старухи шпионки, слепцы с поводырями, убогие деревянные хижины.
Сделанные тушью или углем, рисунки были подчеркнуто просты, резки, грубы. Но Виже-Лебрэн сразу почувствовала, что
дело здесь не в слабой технике, а в чем-то другом. Это была своя манера, особый стиль, совершенно отличный от того, который господствовал в современном искусстве.
— Что-то азиатское? — заметила художница, разглядывая рисунки. — Татары? Или Персия?
— Это Россия, — объяснил Дюплесси.
— Россия?.. Мне случалось встречать русских. Помню князя Орлова, а с графа Шувалова я даже делала портрет… Но тут совсем другое.
— Очевидно, существуют две России, мадам, — улыбнулся Дюплесси. — Об этой стране мы знаем, кажется, еще меньше, чем о татарах и Персии.
— Кто же автор?
— Русский художник. Живет в Париже уже довольно давно, работает у меня в мастерской. Имя у него чертовски трудное, мы зовем его просто Жанно.
— Представьте его мне! — предложила художница.
Так Иван Ерменев появился в салоне Виже-Лебрэн.
Хозяйка приняла гостя с обычной любезностью. Похвалила его рисунки.
— В самом деле? Они нравятся вам? — спросил Ерменев недоверчиво.
— А почему бы и нет? — пожала плечами Виже-Лебрэн. — Сюжеты мне непонятны, манера необычная, но руку мастера я всегда могу узнать.
— Приятно слышать, мадам!
Этот вечер был особенно оживленным. Знаменитый виртуоз Виотти исполнил на скрипке несколько пьес Рамо и Керубини. Не менее знаменитый композитор Гретри сыграл на клавесине отрывки из своей новой оперы. Тенор Тара чудесно спел арии из глюковских опер «Орфея» и «Армиды». Завязался спор на модную тему: о двух соперничавших музыкальных школах. Одни восхваляли Глюка — создателя новой оперы, в которой музыка сливается с действием и выражает истинные чувства людей. Другие защищали противника Глюка — неаполитанца Пиччини, придерживавшегося привычных оперных канонов. Новое музыкальное направление, говорили они, приведет к гибели виртуозного пения.
— Не довольно ли, господа? — взмолилась Виже-Лебрэн. — Повсюду только и слышишь пререкания между глюкистами и пиччинистами. Недавно в саду Пале-Рояля страсти до того разгорелись, что закипела рукопашная схватка. Право, не стоит обсуждать тему, ставшую достоянием толпы.
От музыки перешли к театру. Шевалье де Сансак рассыпался в похвалах по адресу мадемуазель Рокур, блестяще сыгравшей главную роль в вольтеровской трагедии «Меропа». Граф де Буффле стал расхваливать молоденькую мадемуазель Конта, прославившуюся исполнением роли Сюзанны в «Женитьбе Фигаро». Поэт Делиль напомнил о превосходной игре сидевшего рядом с ним Дюгазона в той же комедии.
Хозяйка дома вздохнула. Пьеса Бомарше была столь же избитой темой, как и борьба двух музыкальных школ… Вдруг взгляд ее упал на Ерменева. Он сидел молча, на лице у него была откровенная скука.
Виже-Лебрэн обратилась к нему:
— А вы, сударь, смотрели «Женитьбу Фигаро»?
Ерменев ответил утвердительно.
— И что вам больше всего понравилось?
— Публика!
Послышался смех, возгласы удивления.
— Чудесный комплимент нашим артистам! — усмехнулся шевалье де Сансак.
— Боюсь, что меня неверно поняли, — заговорил Ерменев спокойно. — Господин Бомарше сочинил превосходную комедию. Актеры… — Он почтительно поклонился мадемуазель Конта и Дюгазону… — разыграли ее мастерски. В этом сходятся все. Но обратите внимание на зрительный зал, господа! Комедия была представлена сто тридцать раз и продолжает идти с таким же успехом. Публика неистовствует. После закрытия занавеса раздаются крики: «До завтра!..» В чем же причина?
— Вполне понятно, — сказал граф де Буффле. — Много комических положений, отличные роли, живое действие, изящный язык…
— Публику всегда забавляют проделки плута, — добавил шевалье де Сансак.
— Извините, господа! — возразил Ерменев. — Немало повидали французы отличных комедий. И плутовские похождения тоже не редкость. Однако подобного триумфа еще не бывало… Я объясняю это иначе. Слуга водит за нос своего господина, отвоевывает у него возлюбленную… Ведь Фигаро не простой плут. Да он и не плут даже! Это плебей, умный, полный жизненных сил. Таким его сделала жизнь. А графа Альмавиву та же жизнь лишила воли, ума, изворотливости. И вот публика хохочет над незадачливым аристократом и рукоплещет ловкому простолюдину… Ведь большинство зрителей принадлежит к третьему сословию!
Все молчали.
Затем граф де Буффле сказал:
— Вы слишком мудрите, сударь. Едва ли старик Бомарше имел в виду что-либо подобное. А если бы и так, то зрителям до этого никак не додуматься.
— Не согласен, господин граф! — возразил художник. — Третье сословие с каждым днем становится умнее и хорошо сознает свою силу.
— О, какие грозные пророчества! — иронически воскликнул де Сансак. — Если бы в «Женитьбе Фигаро» было нечто подобное, едва ли ее стали бы представлять на придворной сцене, в присутствии их величеств!
Ерменев слегка улыбнулся.
— Этого объяснить я не могу… При дворе не бываю.
— Не сомневаюсь! — язвительно заметил шевалье.
Хозяйка, как опытный рулевой, почуявший близость подводного рифа, быстро перевела беседу в другое русло. Заговорили о недавней выставке картин.
Актер Дюгазон, подойдя к Ерменеву, шепнул украдкой:
— Вы молодчина! Зайдите как-нибудь ко мне за кулисы!..
Часам к одиннадцати гости стали разъезжаться.
Провожая Ерменева в переднюю, хозяйка сказала:
— Нужно все-таки, чтобы вы разъяснили мне смысл ваших рисунков.
— Охотно! — сказал он. — Но только без посторонних.
— Вот как? — Она поглядела ему в глаза.
— Да, мадам! — повторил он, не отводя взгляда. — Только наедине, если вам угодно… Я не терплю великосветского общества.
— Завтра утром я буду у себя, — сказала Виже-Лебрэн.
После ухода гостей шевалье де Сансак, по обыкновению, задержался. Эта близость длилась уже более года, о ней знал весь Париж, скрывать ее не имело смысла.
— У вас бывают странные причуды, Луиза, — хмуро сказал шевалье, когда хозяйка возвратилась. — Вы принимаете у себя бог знает кого!
— Например?
— Хотя бы этого доморощенного философа… Кто он?
— Мой собрат по профессии, русский художник. Не понимаю вашего негодования. Он талантлив и далеко не глуп.
— Мне нет дела до его талантов. Это человек дурного общества. Надеюсь, его первый визит останется последним.
— О Гастон! — ответила она, слегка сдвинув брови. — Я добилась от моего супруга свободы не для того, чтобы подарить ее кому-нибудь другому. Мои знакомства и привязанности зависят только от меня самой. Вам это должно быть известно…
— Извините, Луиза! — спохватился шевалье. — Я ведь только хотел…
— Охотно извиняю, — улыбнулась Виже-Лебрэн. — И желаю вам доброй ночи… Я очень устала…
Луизе было тогда уже около тридцати трех лет, хотя выглядела она моложе. У нее было немало легких увлечений, но настоящей любви она еще не испытала. Единственным ее любимым существом была пятилетняя Жюли — дочь от несчастливого супружества с господином Лебрэном.
Ерменев резко отличался от людей, которые ее окружали. У него было простое лицо с чертами грубоватыми и резкими, как у людей, изображенных на его рисунках. Он не обладал утонченной галантностью, присущей парижанину избранного круга, носил скромную, несколько потертую одежду. Речь его вовсе не походила на изящную салонную беседу: в ней не было отточенных, безукоризненных по форме фраз, блестящих острот. Он говорил, как бы размышляя вслух. И тем не менее в нем было какое-то загадочное обаяние.
Шевалье де Сансак по сравнению с Ерменевым казался ничтожным, скучным, женственным. Его светский лоск и поверхностное остроумие потеряли для Луизы былую прелесть, а самодовольство и ограниченность, к которым она раньше относилась снисходительно, теперь раздражали ее.
Под разными предлогами Луиза уклонялась от встреч с ним наедине. Да и ее званые вечера становились все более редкими.
С Жанно они виделись ежедневно. Он проводил у Виже-Лебрэн по нескольку часов, в хорошую погоду они отправлялись на прогулки. Гуляли не в парке Пале-Рояля, на бульваре Тампль или Елисейских полях, где бывал весь элегантный Париж, а за городом — в уединенных местах. Луиза отказалась от прежних развлечений не потому, что опасалась появляться в свете со спутником, так бедно одетым и безвестным. Репутация у нее была достаточно прочная и нисколько от этого не пострадала бы. Просто ей хотелось сделать приятное своему новому другу.
Только одно обстоятельство беспокоило ее: Жанно никогда не упоминал о ее картинах. Это было странно. После лестного отзыва о его рисунках она могла бы рассчитывать на ответную похвалу. Но он не обмолвился ни словом. Наконец она решилась спросить сама.
Ерменев, помолчав, ответил:
— Это очень красиво, Луиза. Вы искусный живописец. Впрочем, вы это отлично знаете и сами…
Она была слегка разочарована. Красиво! Он мог бы сказать иначе: прекрасно, чудесно или еще что-нибудь в этом роде. Он избрал именно это слово и произнес его с какой-то странной интонацией. Она не стала больше расспрашивать, смутно угадывая, что может услышать нечто такое, что породит разлад… Как бы заключив безмолвное соглашение, они почти не беседовали о живописи. Впрочем, это не было таким уж большим лишением.
Шевалье де Сансак не примирился со своим поражением. Роль покинутого любовника была непереносимым позором для светского льва. К тому же он был привязан к Луизе и не хотел потерять ее.
Однажды, явившись к Виже-Лебрэн, Ерменев рассказал о происшедшей стычке. Шевалье прогуливался по улице Сен-Клер, невдалеке от ее дома, явно поджидая соперника. Произошло объяснение. Де Сансак потребовал, чтобы художник прекратил свои посещения, которые компрометируют госпожу Лебрэн. Ерменев решительно отклонил нелепое требование. Шевалье осыпал его бранью. Художник не стерпел и закатил ему здоровенную оплеуху. Было дьявольски скользко, шевалье шлепнулся в лужу…
— Боже мой! — испуганно воскликнула Луиза. — Что вы наделали, Жанно! Это опасный человек!..
Ерменев пожал плечами:
— Он получил по заслугам, дорогая! Это послужит ему уроком на будущее. А ежели угодно, пусть пришлет мне вызов. Дуэли я считаю дурачеством, но, если придется, сумею постоять за себя.
— Я опасаюсь другого, — сказала художница: — как бы он не подослал наемных убийц. Умоляю вас, будьте осторожны!..
Однажды в назначенный час Ерменев не пришел. Не было его и на следующий день. Луиза поспешила к Жозефу Дюплесси. Тот также не видел своего ученика уже в течение нескольких дней. Жанно исчез, никто не мог дать о нем никаких сведений… Виже-Лебрэн была в отчаянии.
Как-то утром служанка подала ей письмо:
 Художник не стерпел и закатил ему здоровенную оплеуху.
Художник не стерпел и закатил ему здоровенную оплеуху.
— Это принес какой-то старичок. Должно быть, слуга или посыльный.
Луиза вскрыла конверт. На смятом клочке бумаги неразборчивым почерком было написано: «Один из ваших друзей был вынужден переменить адрес. Он находится теперь в предместье Сент-Антуан».
6
При солнечном свете комната выглядела особенно убогой. Дешевенькие розовые обои выцвели, покрылись сальными пятнами. Потолок совсем почернел, по углам висели кружевные гнезда пауков. Хромоногий столик, обшарпанное кресло, жестяной умывальный таз с глиняным кувшином…
Каржавин подошел к окну. Сад, которым прельщала постояльцев вывеска госпожи Бенар, тоже не блистал великолепием. Маленький клочок пыльной земли с несколькими чахлыми деревцами, ветхой беседкой и дорожками, усеянными мусором. И все-таки, освещенный утренним солнцем, даже этот жалкий садик казался привлекательным. На лужайках уже поднялась молодая трава, почки на деревьях набухли, на земле лежали солнечные пятна…
Вот и весна наступила!.. Чего же, собственно, еще дожидаться?
Вошел Егор Аникин.
— Ишь, как весел! — сказал Каржавин.
Егор улыбнулся:
— Солнышко! На дворе — благодать! А главное — письмо пришло…
— Для меня? — быстро спросил Каржавин.
— Ах нет, Федор Васильевич!.. — Юноша смутился. — К сожалению, не для вас… Из Москвы, от моего друга. Но там и о вас есть кое-что. Если угодно, прочитаю…
— Да вы читайте все. Конечно, если не секрет.
— Какие же секреты! — Егор развернул письмо. — Извольте, прочитаю все. «Любезный друг и брат». — Он пояснил: — Это пишет Страхов, Петр Иванович. Мы вместе росли, он шестью годами меня старше, а ученостью во много раз превзошел. Ныне — профессор университетский. Тоже в Париже побывал, года два назад.
— Читайте! — попросил Каржавин.
— «Послания твои, — начал Егор, — прочитаны мною и Николаем Ивановичем с большим вниманием. Весьма огорчены исчезновением Ивана Алексеевича Ерменева. Впрочем, ежели бы приключился с ним несчастный случай, то, верно, узнали бы о том в российском посольстве. Льстим себя надеждой, что скоро он сам объявится. Господина же Каржавина, о коем ты пишешь, однажды видел я в Москве, вместе с Ерменевым. Было это, помнится, в 1772 году, вскоре после чумного возмущения…»
— Постойте-ка! — прервал Каржавин. — Кажется, припоминаю… Гимназист Петруша?
— Он самый, — подтвердил Егорушка. — «Познания Каржавина, а равно и редкие сведения, приобретенные им во время длительных странствий, для нас весьма полезны. Передай, что приглашаем его к нам в Москву, где он сможет обрести достойное поприще для приложения своего опыта и талантов». Видите, сударь, — заметил Егор, отрываясь от письма. — Я вам говорил!
— Приятно слышать!
— «Господин Новиков, — продолжал читать юноша, — к сожалению, не может тотчас ответить на твое письмо, ибо одолеваем он чрезвычайными заботами. Прошлогодний недород причинил здесь ужасный голод. Во многих губерниях толпы нищих бродят по дорогам и городам. Немало людей погибло от голодного мора. От властей же помощь невелика. Задумал господин Новиков помочь народу в нужде. А у него от слова до дела недалеко. Роздал мужикам все зерно бесплатно и вдобавок истратил на покупку хлеба около трех тысяч рублей. Засим выделил из своей земли участки, дабы все оттуда собранное отдать голодающим…»
Егор поднял голову, в глазах его блестели слезы.
— Каков человек! — сказал он шепотом. — Ничего ему для себя не надобно, все для других…
— Продолжайте! — сказал Каржавин.
— «Ты, может быть, возразишь: не будет ли все сделанное лишь каплей в море? Отвечу: пример одного способен вдохновить многих. «Дружеское общество» призвало наших великодушных соотечественников к оказанию помощи страждущим. Почин положила старинная наша приятельница Авдотья Кузьминична Полежаева, а попросту — Дуняша, которая побудила своего супруга внести пять тысяч. Она же привела к нам некоего Григория Максимовича Походяшина, владеющего богатыми рудниками. И сей купеческий сын, имеющий отличное образование, так сильно воспылал сочувствием к нашим целям, что пожертвовал целых пятьдесят тысяч…»
— Любопытно! — воскликнул Каржавин. — Стало быть, и купечество российское зашевелилось!..
— О да! — радостно откликнулся Егорушка. — Но слушайте далее! «Обе вольные типографии действуют без перерыва. В свет пущены новые книги, как-то: «Детское чтение для сердца и разума», «Магазин натуральной истории, химии и физики» и прочие… Но увы! В последнее время замечается среди власть имущих озлобление против нашего общества. Кажется, должны бы понять, что лишь просвещением и помощью обездоленным можно отвратить новые ужасы, подобные пугачевскому бунту. Да нет, куда там!.. Напротив, измышляют всякую клевету, разглашая повсюду, что, дескать, мартинисты
[28] хотят взбунтовать чернь против законной власти, готовят государственный переворот. Сама государыня склонна верить злобным наветам. Еще до твоего отъезда заметны были гонения против нас; можно ожидать, что в скором времени они еще более усилятся. Да и в нашем кругу также происходят раздоры. Некогда профессор Шварц корил Николая Ивановича за то, что якобы чересчур увлекается он практическими делами, пренебрегая поисками сокровенных тайн. После его смерти то же повторяют Лопухин, Тургенев, Гамалея…»
— Так я и предполагал! — усмехнулся Каржавин. — Масонам практические дела не по вкусу. Им бы только магией забавляться да беседовать с духами. Дивлюсь Новикову! Он иного поля ягода, к чему с ними соединился?..
Дверь распахнулась. На пороге стоял странный человек в запыленном, измятом, драном плаще. Тощее желтое лицо обросло густой темной бородой с легкой проседью; нечесаные грязные волосы космами падали на плечи.
— Что вам угодно? — с удивлением осведомился Каржавин по-французски.
— Кажется, он и есть, Федор Каржавин! — сказал вошедший по-русски. — Всесветный мореплаватель, неунывающий россиянин!..
Он улыбнулся, улыбка на этом диковатом лице походила на гримасу.
— Господи боже мой! — воскликнул Каржавин, вглядевшись в незнакомца. — Неужели Ерменев?
— Узнал? — сказал гость. — Привелось все-таки свидеться… Обниматься не будем, больно я грязен.
— Где же пропадал?
— Поблизости, — усмехнулся Ерменев. — Пришлось погостить в замке его величества короля Франции… Замок сей именуется Бастилией!
— Неужели? — воскликнул Каржавин в ужасе. — За что же?
Ерменев пожал плечами:
— Покойный Дидерот
[29] как-то пошутил: «Если вас заподозрят в том, что вы собираетесь похитить здание Большой оперы, не оправдывайтесь, а бегите немедленно из Парижа…» Впрочем, кажется, я догадываюсь кое о чем… Но погоди! Кто этот молодой человек? Хозяйка, проводив меня к тебе, сказала, что здесь живет еще один наш соотечественник… Не он ли?
Егор, оправившись от изумления, сказал:
— Иван Алексеевич, это я, Егор! Помните Сивцово, сумароковскую деревню? Я тогда мальцом был…
Ерменев внимательно глядел на юношу.
— Как не помнить, — сказал он. — Егорушка!.. Вон ты какой стал, совсем мужчина… Рад тебя видеть, дружок. Право, очень рад! Ну, братцы, побеседуем всласть. Кажется, есть о чем! Только дайте срок. Сперва надобно привести себя в приличное состояние. Я велел хозяйке приготовить горячей воды и мыла. К счастью, госпожа Бенар сохранила мне комнату и все вещи. Гардероб мой несложен, а все-таки кое-какая одежонка имеется.
— Ступай, ступай! — сказал Каржавин. — Как закончишь туалет, тотчас же приходи сюда.
— Нет, сразу не могу. Надобно еще кой-где побывать… К вечеру вернусь.
Вскоре Ерменев, вымытый, причесанный, в скромном, но вполне пристойном сером фраке, шел по улице Клер.
Войдя в подъезд хорошо знакомого дома, он с волнением осведомился у привратника, по имени Мейяр:
— Можно ли видеть госпожу Виже-Лебрэн?
— Давненько вас не было видно, сударь, — сказал Мейяр.
— Путешествовал, мой друг.
— О!.. И далеко?
— Гм!.. Не очень! Но пришлось задержаться… Итак, мадам у себя?
— Да, сударь, пожалуйте!
Луиза только что встала. Она была в утреннем пеньюаре из тонкого индийского муслина, с распущенными волосами.
— Боже мой! — прошептала она.
Ерменев притянул ее к себе.
— Ну вот, ты опять со мной! — сказала она, переводя дыхание. — Какое счастье!
— Ты даже не спрашиваешь, где я был?
— Я все знаю. — Она рассказала о полученной записке.
— Понимаю! — кивнул Ерменев. — Я находился в одной камере со старичком книгопродавцем, у него в лавке был обнаружен памфлет против королевского двора… Однажды его забрали из камеры. Должно быть, выпустили на свободу. Он говорил, что брат его — богатый ювелир и имеет влиятельных знакомых. Очевидно, он и добился его освобождения. На всякий случай я дал ему твой адрес, дорогая, и просил известить тебя… Но чего я все же не понимаю, это причин моего нежданного ареста и столь же неожиданного освобождения…
— Кажется, я могу объяснить то и другое, — сказала художница с улыбкой. — Виновник твоего заключения…
— Шевалье де Сансак?
— Разумеется…
— А мой освободитель — ты? Не так ли?
Луиза кивнула:
— Слава богу, что он ограничился такой местью. Было бы куда хуже, если бы тебя швырнули в Сену. Случается в Париже и такое… Я решила отправиться к самой королеве. Она милостива ко мне, я бываю у нее запросто. Я рассказала все, без утайки. Она была растрогана, я видела слезы у нее на глазах… Да благословит господь ее величество!
— Удивительно! — сказал Ерменев задумавшись. — Ведь этот шевалье — приближенный графа д’Артуа, а королева…
— Тем великодушнее ее поступок. Во всяком случае, сомнений нет: не прошло и недели, и ты свободен.
— Конечно, — подтвердил Ерменев. — Мы снова вместе, и это главное. Благодарю! — Он нежно поцеловал ее руку.
— Глупенький! — шепнула Луиза, прижавшись к нему и закрыв глаза. — Могло ли быть иначе? Ведь я люблю тебя!..
7
Вечером Ерменев, Каржавин и Егор встретились в гостинице.
— Ну, друзья! — сказал Ерменев. — Пусть каждый расскажет о своей жизни за эти годы. Начнем с тебя, Каржавин!
— Погоди, — сказал Каржавин. — Прежде мне вот что нужно… Не знаешь ли, куда девалась Шарлотта?
Ерменев ответил не сразу.
— Так ты еще не забыл ее? — спросил он.
— Как можно! — воскликнул Каржавин. — Ведь она жена мне!
— Жена-то жена… Однако редкое супружество способно выдержать столь долгую разлуку.
— Я люблю ее по-прежнему, — сказал Каржавин.
— А она?
Каржавин пристально посмотрел ему в глаза:
— Что ты хочешь сказать?
— Ничего особенного, просто спрашиваю.
— Не знаю, — сказал Каржавин. — Мы давно не переписывались. Да ты объясни! К чему таиться?
— По-моему, не стоит повторять прежние ошибки, — пожал плечами Ерменев. — Ты ведь не был счастлив с ней. И…
— Я тебя только о том спрашиваю, — холодно прервал Каржавин, — знаешь ли, где она находится.
— Изволь! — сказал Ерменев, немного помедлив. — Около года назад супруга твоя выехала к своему дальнему родственнику… Живут они в Лионе. Он, кажется, чиновник судейский… А фамилии его не помню.
— Это ничего! — сказал Каржавин радостно. — Уж теперь-то я ее найду… Завтра же отправлюсь в Лион! Послушай, Ерменев, я на тебя не в обиде. Понимаю, что ты из дружеских чувств. Но…
— Тебе виднее! — пожал плечами Ерменев. — Итак, начинай свое повествование!
Когда Каржавин рассказал о своих скитаниях, Ерменев покачал головой:
— Хлебнул же ты горя, бедняга! Вспомни: я советовал не ездить.
— Ни в чем я не раскаиваюсь! — возразил Каржавин. — Правда, под конец измаялся, затосковал. А теперь, отошел и, кажется, готов начать все сызнова…
— Кто что любит! — сказал Ерменев. — Мне, например, не надобно ни дальних странствий, ни приключений. Отсюда, из моего окна, видна каменная стена, увитая плющом, и крона старого дуба. Осенью на закате стена пламенеет, листья становятся багровыми. Ничуть не хуже пальмовых рощ и океанского прибоя… Ну, Егорушка, теперь твоя очередь!
Егор стал рассказывать о смерти Сумарокова. Ерменев прервал его:
— В запрошлом году побывал здесь Страхов, от него я узнал об этом. И о ваших обществах также. Лучше о себе расскажи!
— О себе что же? — развел руками юноша. — Жизнь моя проста, ничего в ней нет особенного. День в день. Собирался стать артистом, не вышло… Учился, читал…
— Скромен ты вырос! — сказал Ерменев ласково. — Пожалуй, чересчур. Трудно тебе жить на белом свете.
— Я на жизнь не жалуюсь, — возразил Егор. — Столько занятного вокруг! Книги, люди, города…
— Тебе сколько лет?
— Двадцать третий.
— Не влюбился еще?
— Нет… Впрочем, однажды… Не знаю, как это объяснить! Приезжала к господам Херасковым племянница. Молода, Петруше Страхову ровесница, а уж давно замужем. Ее тринадцати лет от роду выдали… Супруг человек ученый, большого ума, но груб, тиранит ее несносно. А она — истинный ангел! Кроткая, ласковая…
— Ну конечно, влюбился, уж я вижу, — сказал Ерменев.
— Не нужно шутить, Иван Алексеевич, — возразил Егор. — Мы с ней беседовали, гуляли в саду… Потом она уехала далеко… Разве это любовь? Да и как можно?
— Трудно тебе придется, — повторил Ерменев.
— А вы Дуняшу забыли? — спросил Егор.
— Память у меня отличная! — сказал Ерменев немного резко. — Иной раз человек хочет одного, а поступает по-другому… Впрочем, кажется, жалеть ей не приходится. Страхов сказывал: купчихой стала. Богата, супруг души не чает… Чего лучше!
— Богата, это верно, но счастлива ли? — заметил Егор.
— Прочитайте-ка, Егор, еще раз письмо страховское! Пусть Ерменев послушает! — сказал Каржавин.
Егор достал письмо.
Прослушав до конца, Ерменев сказал:
— Конечно, Дуняша — женщина незаурядная. Живи она в Париже, пожалуй, прославилась бы. Салон свой завела бы, дружила бы с артистами, художниками, философами. А на Руси таким простора нет… Да и вам всем, господа, также! Типографии, журналы, собрания масонские!.. Кому все это надобно? Сотне столичных бар. А для русского народа все это — баловство, господские забавы, не более. Так говорил мне когда-то Кузьма Дударев, папаша нынешней госпожи Полежаевой.
— Кузьма Григорьевич, недавно умерший, считался именитым московским купцом, — сказал Егор. — Помимо других дел, имел он и книжные лавки, через которые Новиков сбывал свои книги. Он, Новиков, покойного Дударева весьма уважал.
— Что из этого? — усмехнулся Ерменев. — Кузьма был сметлив, оборотист. Не все ли равно, чем торговать: мукой, сукном или книгами? Лишь бы барыш!
Каржавин возразил:
— Не каждый русский купец займется книжной торговлей. Уж я-то их хорошо знаю: темны, упрямы. Получит от отца скорняжное дело или лабаз мучной — к просидит в нем до самой смерти и сыновьям своим передаст. А Дударев, видно, вперед глядел…
— Не о Дудареве сейчас речь, — прервал его Ерменев.
— Неужели же вы не одобряете просвещения, Иван Алексеевич? — с изумлением спросил Егор.
— Да кого просвещаете вы? — воскликнул Ерменев с досадой. — Мужик, что ли, станет читать ваши журналы и трактаты?
— О господи! — вздохнул Каржавин. — Не спорьте с ним, Егор! Это безнадежно!
— Я наперед знаю все, что вы мне возразите! — продолжал Ерменев, пропустив мимо ушей это замечание. — Во Франции науки и художества поистине чудесные. Но и тут они остаются достоянием избранного круга. Приглядитесь к этому жалкому парижскому предместью, к его нищете, убожеству, грязи! Право, московские окраины выглядят привлекательнее, по крайней мере, там воздух чище и на улицах травка растет… А в расстоянии двух верст отсюда — роскошь, какой нет нигде на свете. Побеседуйте с любым рыночным торговцем, с башмачником, столяром, они расскажут вам о нестерпимых податях, о вымогательствах приказных, о том, как из месяца в месяц дорожают пища и жилье. А о мыслях Вольтера, о научных открытиях Бюффона, о картинах господина Бушэ им ничего не известно… Ей-богу, в королевстве Французском однажды может начаться такое, перед чем померкнет наш пугачевский бунт…
— Иван Алексеевич! — вдруг прервал его Аникин. — Приходилось ли вам встречать в Петербурге господина Радищева?
— Радищева? — Ерменев подумал. — Нет… Не припомню. А что?
— Однажды я слышал беседу… Рассуждения его совершенно такие же, как ваши. Итак, освобождение может прийти только через человеческую кровь?
— А разве когда-нибудь дело обходилось иначе? — ответил художник.
— Не знаю, сударь! Но если так было прежде, то не должно быть впредь! Не могу поверить, что блага и справедливости можно достигнуть кровопролитием.
— Полно, друзья! — примирительно сказал Каржавин. — Сама жизнь покажет, кто был прав, кто заблуждался… Но мы еще ничего не слышали о тебе, Ерменев.
Ерменев в раздумье прошелся по комнате.
— О, Иван Алексеевич! Как часто я вас вспоминал! — воскликнул Егорушка. — Воображению моему вы всегда представлялись существом необыкновенным…
— Ох уж это воображение! — усмехнулся художник. — Нет, ничего особенного из меня не получилось… А жил всяко… Случалось и так, что карандашей, холста, бумаги не на что было купить, на пропитание едва хватало. Спасибо Хотинскому, не раз помогал. Картин моих никто не покупал, только в прошлом году удалось продать две.
— А что здесь нового сделали? — спросил Егор.
— Разное… Большей частью та же Россия, по памяти… Есть и Париж. Однако манера моя не по вкусу здесь, так же как и в России. Нынче любят либо пышность, либо слезливую чувствительность…
— Зачем же так долго зажились на чужбине, Иван Алексеевич? — задал вопрос Егор.
— Что мне делать на родине? Здесь я хотя бы стипендию получаю от цесаревича, там мне ее не дадут. Без покровителя в России вовсе пропадешь. У меня только и есть Баженов, но, увы, в зодчестве я неискусен… Да и вольнее здесь как-то!
— Хороша вольность! — покачал головой Каржавин. — Давно ли за решеткой сидел?
— Это правда! — рассмеялся Ерменев. — Кроме того, признаюсь, есть еще магнит, который притягивает меня к Парижу…
Они разошлись почти на рассвете. Ерменев не успел поспать и двух часов, как его разбудили. Явился курьер с приглашением Ерменеву незамедлительно прибыть на дом к господину Хотинскому…
Хотинский встретил его сухо.
— Где изволили пропадать? — спросил он.
— Ездил в деревню, — сказал Ерменев: ему было неловко рассказывать обо всей этой истории.
— Деревня сия находится в предместье Сент-Антуан, — сказал Хотинский хмуро. — Мне все известно.
Ерменев пожал плечами.
— Смею заверить вас честным словом, что преступления я не совершил.
— Дыма без огня не бывает.
— В таком случае прошу выслушать меня…
Советник явно смягчился:
— Не совестно ли тебе, Ерменев, постоянно причинять мне неприятности?
— Как поступили бы вы на моем месте? — спросил Ерменев.
— Во всяком случае, был бы более сдержан… Дело твое худо, сударь!
— Чем же? Как видите, я снова на свободе.
— Так-то так! Однако предписано мне властями здешними отправить тебя на родину. Не позже, чем через две недели!
— Вот как! — Художник был поражен. — Ничего не пойму! Ведь сама королева… Что же могло приключиться?
— Этого мы с тобой знать не можем. Придворные дела — тонкая штука! Так или иначе, собирайся в путь. А вскоре и я отправлюсь… Хлопочу об отставке.
— А ежели ослушаюсь? — спросил Ерменев.
— Не советую, — покачал головой Хотинский. — Покуда об истории этой знаю только я, а ежели узнает посланник, господин Симолин, хуже будет! Отсюда тебя все равно вышлют, а в России тоже по головке не погладят.
Ерменев поспешил к Луизе… У Пале-Рояля, несмотря на ранний час, было оживленно. Под знаменитыми аркадами витрины лавок сверкали драгоценностями, пленяли роскошными тканями, кружевами, лентами, флаконами изысканных эссенций. На террасах кафе почти все столики были заняты; мимо них двигались гуляющие.
Ерменев шел, не глядя на публику, погруженный в размышления. Вдруг его окликнули. У столика на террасе он увидел Каржавина, с ним была какая-то дама.
— Так ты не уехал в Лион? — сказал Ерменев, подойдя к столику. Он поглядел на даму: — Ах, Шарлотта!.. Какими судьбами?
Дама ответила небрежным кивком.
— Неправда ли, как повезло! — весело воскликнул Каржавин. — Утром отправился на станцию, чтобы получить место в почтовой карете, и вдруг навстречу она! Я глазам своим не поверил… Прочла мою публикацию в газете и прикатила… — Он нежно взял руку жены и поднес ее к губам.
— Поздравляю! — сказал художник. — Очень рад…
— Присаживайся! — пригласил Каржавин. — Разопьем по этому случаю бутылочку Анжу…
— Кажется, мосье Жанно торопится, — заметила Шарлотта. — Не следует задерживать его.
— Совершенно верно, — подтвердил художник с легкой усмешкой. — Я действительно спешу.
Он учтиво раскланялся и пошел своей дорогой.
— Ей-богу, не могу понять, почему вы так суровы к нему, дорогая, — спросил Каржавин несколько укоризненно. — Он не сделал ничего дурного!
— У меня есть основания, — резко сказала Шарлотта.
— Какие? — Каржавин рассмеялся. — А знаете ли, что мне недавно взбрело в голову? Как-то бессонной ночью я как всегда думал о вас… И вот мне представилось, будто во время моего отсутствия вы и Жанно… Какой вздор!
— Вы были недалеки от истины, — сказала Шарлотта спокойно.
— Что?.. — Каржавин побледнел.
— Да, мой друг! Это могло бы случиться, если бы… Если бы я оказалась менее стойкой! Прошу вас не объясняться с ним по этому поводу, для меня это было бы тяжко и оскорбительно. Но нужно, чтобы вы наконец знали ему цену.
На этот раз хлопоты госпожи Виже-Лебрэн не увенчались успехом.
— Мне от души жаль вас, — сказала королева, — но я бессильна! Бывают обстоятельства, когда даже королева Франции вынуждена склонить голову перед высшими интересами государства. По моему настоянию вашего друга выпустили из Бастилии, но при непременном условии: он должен немедленно покинуть Францию…
— О государыня! — сказала Виже-Лебрэн. — Здесь какое-то недоразумение!..
— Этот господин замешан в преступной политической интриге, — объяснила Мария-Антуанетта.
— Не может быть! — воскликнула художница. — Жанно никогда не занимался политикой. Вас обманывают, государыня!
Королева грустно покачала головой:
— Ах, Луиза! Что можем мы знать даже о самых близких людях! Ваше горе глубоко трогает меня. Но, мне кажется, что так будет лучше. Этот человек недостоин вас… Мгновенная прихоть — у кого из нас их не бывало!.. Пройдет немного времени, и вы утешитесь… Все же кое-чего я добилась: ему позволено остаться здесь еще на две недели. Это мой подарок вам!..
…Итак, Ерменев должен был собираться в путь. Каржавин также готовился к отъезду. У него с женой было решено, что он отправится в Петербург, уладит там дела с наследством, а затем выпишет ее к себе. Шарлотта тотчас же возвратилась в Лион.
Пятнадцатого июля 1788 года Ерменев с Каржавиным покинули Париж.

 ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
1
«Париж, июня 20 дня 1789 года.
Пишу тебе второпях, любезный друг мой, ибо Багрянский нынче отбывает, а я хочу с ним передать мое послание.
О событиях здешних распространяться не буду. Багрянский изложит их подробно. Одно только скажу, что происшествия эти представляются мне весьма важными. Три дня назад депутаты третьего сословия в Генеральных штатах осмелились объявить себя Собранием национальным, иными словами — представителями всего французского народа. И еще объявили, что отныне налоги будут собираться не иначе как с одобрения сего собрания. Дворянское сословие такого решения не одобрило, духовенство же разделилось… И сих великих перемен мне привелось быть очевидцем. Поистине счастливый жребий! Багрянский полагает, что это приведет к ужасному беспорядку. Оттого и решил он уехать. Правда, простонародье парижское находится в сильнейшем возбуждении, но худого тут я не усматриваю. Понятно, что французы, терпевшие столь сильные притеснения от аристократии, ожидают ныне вольности и справедливости! Не законно ли стремление их превратиться в свободных и равноправных граждан своего отечества?
За полтора года я успел узнать сию нацию. При всей живости и пылкости характера француз обладает благоразумием и здравым смыслом. Он любит и уважает короля своего и не покушается на его державную власть. Посему кажется мне, что опасения Багрянского неосновательны. Во всяком случае, не вижу для себя необходимости покидать Париж в такие знаменательные дни. А тем паче, что занятия мои в Сорбоннском университете идут успешно. Усердно изучаю я науки натуральные и медицинские. Вместе с Багрянским посещал лекции и практические занятия по химии у господина Фурируа, по естественной истории — у графа Дебантона и многих других. С Багрянского сего достаточно, ибо он уже прежде наукам этим обучался почти два года в Лейдене. Я же нахожусь в самом начале пути. За это время весьма укрепился в знании французского языка и не испытываю затруднений, слушая лекции и читая научные книги.
Шлю братский поклон с пожеланиями здравия и всяческой удачи. Николая Ивановича не осмеливаюсь отвлекать от трудов и забот. Поклонись ему, благодетелю нашему, и сообщи содержание сего письма. А прочее Багрянский при свидании расскажет».
Поставив внизу письма подпись, Егор ниже надписал адрес: «Его благородию господину профессору Петру Ивановичу Страхову, смотрителю Университетской гимназии, в Москву».
Он запечатал письмо и передал Багрянскому, укладывавшему вещи.
— Спрячь хорошенько, — сказал он, — гляди не потеряй!
Багрянский положил пакет в дорожный сундук.
— Авось довезу! Но не ручаюсь, что скоро. Я еще задержусь на некоторое время в Берлине. Хочу там на лекциях побывать, гошпитали посетить.
— Ежели надолго задержишься, перешли с кем-нибудь в Россию, — попросил Егор. — Однако нам пора! Дилижанс страсбургский отойдет через час.
Багрянский запер сундук.
— Пожалуй! А все-таки глупо, что не едем вместе. Помянешь еще мои слова! Здесь заварилась изрядная каша.
— Тем любопытнее! — сказал Егор.
— Тебе-то что! — возразил Багрянский. — Мы люди науки, к тому же иностранцы. Наше дело сторона… Уверен. Новиков и Страхов рассуждали бы точно так же.
— Может быть! — сказал Егор. — Но мне занятно все. Ежели представился случай наблюдать, как свершается история, можно ли упустить его?
— Как знаешь! — пожал плечами Багрянский. — Что ж, будем прощаться.
— Я провожу тебя до почтовой станции, — сказал Егор.
Егору было грустно. Они славно пожили вдвоем.
После отъезда Каржавина и Ерменева Егор чувствовал себя одиноким. И вдруг приехал старый знакомый, хотя лет на пять старше его, но из той же среды, почти тех же взглядов.
Михаил Иванович Багрянский учился в Московском университете, писал научные статьи для новиковских журналов, переводил книги с древних и современных языков. В 1786 году Багрянский на средства «Дружеского общества» был отправлен за границу. Он побывал в Берлине и Амстердаме, два года занимался в Лейденской академии и, удостоившись там докторской степени, отправился в Париж: совершенствоваться в медицине.
Егор Аникин покинул гостиницу госпожи Бенар и переселился к Багрянскому в мансарду на улице Сен-Жак, невдалеке от университета. Здесь было не менее убого и грязно, но зато куда веселее.
Приятели вместе ходили в университет, беседовали о вещах, которые занимали обоих, иногда коротали вечера в студенческих кабачках… И вот теперь надо разлучаться!
…Кучер взмахнул длинным бичом, шестерка коней медленно тронулась, окованные железом колеса загромыхали по камням. Багрянский выглянул из окошка. Егор помахал ему вслед шляпой. Экипаж свернул за угол. Егор пошел обратно.
Утро было душное. Тусклое солнце едва просвечивало сквозь громоздившиеся тучи. Издалека доносились глухие раскаты грома. Город походил на растревоженный муравейник. На площадях и перекрестках парижане пылко обсуждали последние события.
Начался дождик — сперва мелкий, потом все сильней и сильней. Егор изрядно промок, пока добрался до дому. Мансарда показалась ему нежилой и тоскливой.
Егор просматривал конспекты лекций. Потом, отложив записи, улегся на кровать.
«Прав ли Багрянский?» — думал Егор, глядя в оконце, залитое слезами дождя…
Франция переживала критические времена. Все казалось прочным, незыблемым, благополучным… Трианонские праздники, великосветские гулянья в Пале-Рояле, Булонском лесу и Лоншане, сверкающие витрины модных лавок… Но чуткое ухо уже улавливало глухие подземные толчки. Народ все громче роптал на непосильное бремя налогов и поборов, на беззаконие и произвол, на расточительность двора, опустошавшего государственную казну. Королеву Марию-Антуанетту бранили на всех перекрестках.
Ропот проник даже в среду мелкого дворянства и низшего духовенства. Повсюду раздавались требования: снова созвать Генеральные штаты, не собиравшиеся почти сто семьдесят пять лет.
Пятого мая 1789 года в Версале состоялось открытие этого представительства трех сословий Франции. Толпы народа текли в Версаль, чтобы поглядеть на торжество. Егор с волнением глядел на величественную процессию, во главе с королем и его семейством направлявшуюся в церковь Святого Людовика на молебствие. Видел, как восторженно приветствовал народ своего государя.
Людовик XVI выглядел простым и добродушным, он милостиво кланялся во все стороны, на лице его светилась радостная улыбка.
«Должно быть, он и сам счастлив, что наконец освободился от злого влияния своих недостойных советников, — думал Егор. — Прежде он был повелителем французов, теперь стал их отцом. Насколько же это благороднее!..»
Скоро ощущение счастливой гармонии было нарушено тревожными происшествиями. В Генеральных штатах начались разногласия между третьим сословием и двумя высшими.
Когда, на днях, третье сословие самочинно провозгласило себя Национальным собранием, Егор пришел в восторг от этого смелого шага. Но что же дальше? Что предпримет правительство? Неужели король будет по-прежнему отстаивать отжившие привилегии аристократии, неужели упустит случай завоевать себе бессмертную славу освободителя нации?
…Часам к семи дождь прекратился. Егор спустился со своего чердака и пошел в Пале-Рояль. Здесь было особенно многолюдно: с недавних пор этот самый элегантный уголок Парижа превратился в излюбленное место народных собраний.
Егор проталкивался сквозь толпу, прислушиваясь к спорам. В галерее под аркадами ему повстречался Рени, студент и литератор, с которым они иногда встречались на лекциях в Сорбонне.
— Что слышно? — спросил Егор.
— Вести неутешительные! — ответил студент. — Говорят, Собрание разогнано.
— Быть не может! Никогда не поверю, чтобы король…
Рени пожал плечами:
— Король!.. Им вертит австриячка
[30] с графом д’Артуа. Да и сам он, должно быть, испугался, что дело зашло так далеко.
— Вздор! — вмешался старичок, стоявший рядом. — Не стыдно ли, молодой человек, болтать о том, чего не знаете! Его величество — сущий ангел!
— Ступайте своей дорогой! — ответил студент. — Здесь не нуждаются в ваших поучениях.
— Грубиян! — крикнул старичок удаляясь.
— Должно быть, из судейских крючков! — презрительно заметил Рени.
— А по-моему, он прав! — сказал мужчина средних лет, по-видимому, простолюдин, прислушивавшийся к перепалке. — Король — добрый малый. Больше всего на свете он любит
слесарное мастерство. Такие, говорят, штучки мастерит, просто на удивление! Шкатулки всевозможные, замки с секретом… Я ведь сам слесарь…
— Рассказывали, — прервал его другой, — что маленький дофин… У него, знаете ли, есть обезьянка для забав… Так вот, когда она напроказит, дофин бранит ее: «Ах негодник! Ах аристократ!..»
Вокруг захохотали:
— Молодец!.. Малыш, а понимает!..
— Неужели мамаша его за это не выпорола? — откликнулся кто-то.
В толпе опять засмеялись.
— Пойдем-ка! — вдруг сказал Рени. — Вон человек, от которого можно узнать кое-что интересное.
Он потащил Егора за рукав навстречу молодому человеку, быстро шагавшему по направлению к галерее.
— Есть новости? — спросил Рени.
— И весьма важные! — кивнул тот.
Мгновенно вокруг них образовалось плотное кольцо людей. Молодой человек поднялся на ступеньки галереи.
— Я только что из Версаля! — начал он. — Вот что там произошло… Сегодня утром Бальи, председатель Собрания, явился открывать заседание. Двери главного входа оказались запертыми, их охранял караул швейцарцев, Председателя отказались впустить…
— Какая подлость! — крикнули в толпе.
— Депутаты также собрались там. Вызвали начальника стражи. Тот объявил, что получил приказ не впускать в зал никого.
— Что же Бальи? — спросил Рени.
— Он предупредил офицера о серьезных последствиях такого произвола. Тот был невозмутим. Дворцовые лакеи и гвардейцы, выглядывая из окон, гоготали и отпускали непристойные шутки. Депутаты пришли в негодование. «Мы избранники нации! — говорили они. — Никто не смеет помешать нам выполнять наш долг…»
Незнакомец не блистал красноречием. Голос у него был глуховатый, он слегка заикался. Но было что-то привлекательное в его манере говорить, в выражении лица, в изящной без щегольства одежде.
— Итак, решено было собраться во что бы то ни стало… Но где?.. Начался дождь. Депутаты толпились у подъезда, промокшие до нитки. Некоторые предлагали отправиться в Марли, где король изволит охотиться…
Но тут кто-то вспомнил о помещении для игры в мяч. Это тут же, в Версале, в двух шагах… И вот все депутаты во главе с председателем направились туда, К счастью, зал был открыт. Депутат Мунье предложил присягнуть, что Собрание не разойдется ни при каких обстоятельствах и будет заседать всюду, где возможно, пока не будет утверждена конституция Франции…
— И они поклялись? — спросил кто-то.
— Шестьсот человек подписали эту великую присягу, — сказал незнакомец. — Шестьсот без одного… Некий Мартен д’Ош отказался поставить свою подпись.
— Кто этот негодяй? — закричали из толпы.
— Депутат от Лангедока, прихвостень аристократов… Запомним это имя, граждане, чтобы предать его вечному позору… Итак, друзья, присяга принята! Она обязательна не только для членов Собрания, но и для всех истинных патриотов… Слушайте! Двор готовит новое преступление. Послезавтра, двадцать второго июня, назначено заседание всех трех сословий. Король явится к ним объявить свою волю… Это будет воля аристократии, воля тиранов, ненавидящих нацию! Если Собрание откажется повиноваться, оно будет распущено, а затем лучшие сыновья Франции попадут в Бастилию… Граждане Парижа! Вы должны явиться в этот день в Версаль, чтобы поддержать своих избранников. Пусть слуги деспотизма увидят, что народ един в своем стремлении к свободе!
Гул одобрения пронесся в толпе.
— Итак, послезавтра в Версале! — воскликнул оратор и, спрыгнув с балюстрады, быстро удалился.
— О, наш добрый, великодушный государь! — сказал Рени, насмешливо подмигнув Егору.
— Погоди еще! — возразил Егор. — Может быть, этого и не случится.
— Поживем — увидим! Ты ведь отправишься послезавтра в Версаль?
— Непременно! — сказал Егор. — А кто этот молодой человек?
— Адвокат. Его зовут Камилл Демулен!..
2
Уже накануне стало известно, что «королевское заседание» Генеральных штатов, назначенное на понедельник 22 июня, отложено на один день.
На рассвете 23 июня дорога из Парижа в Версаль представляла невиданное зрелище. Непрерывным потоком двигались извозчичьи кареты, коляски, кабриолеты, телеги, всадники, пешеходы. Версаль был битком набит войсками. У Парижской аллеи стоял отряд швейцарской гвардии. Глазные улицы были загорожены рогатками. Помещение, а котором должно было состояться заседание, оцеплено пехотой…
Толпа парижан опрокинула загородки, хлынула на площадь. Опять, как третьего дня, пошел дождь. Двери отворились. Главный церемониймейстер, господин де Брезе, ввел в здание только депутатов от дворянства и духовенства. Третье сословие осталось ожидать под дождем. Это было новое, намеренное унижение. Среди депутатов начался ропот, некоторые предлагали уйти и собраться отдельно. Другие, более осторожные, советовали повременить.
Егору удалось протиснуться в первые ряды толпы, сдерживаемой цепью гвардейцев. Рядом с ним стояли стройный юноша, почти подросток, и уродливый сухощавый человечек лет около сорока. Старший походил на провинциального нотариуса или врача, а юноша, несмотря на строгое черное платье, выглядел как истый аристократ.
«Отец с сыном?» — подумал Егор, глядя на них.
Снова появился церемониймейстер и пригласил депутатов третьего сословия следовать за ним. Толпа ринулась вперед. Гвардейцы сдерживали ее, но в нескольких местах их цепь была прорвана. Парижане отталкивали солдат, осыпали их бранью и проклятиями. Вскоре порядок был восстановлен, толпа оттеснена. Нескольким посторонним все же удалось просочиться сквозь цепь, смешаться с последними рядами депутатов и проникнуть в здание. Среди них был Егор. Он не отличался проворством и находчивостью, просто мощный людской поток вынес его с собой, как волна выносит на отмель щепку.
Депутаты проходили в зал по трое. Среди них шли пожилой господин с юношей, которых Егор заметил еще на площади. Преодолев застенчивость, он примкнул к ним. Юноша приветливо улыбнулся, его спутник слегка нахмурился, но промолчал. Очевидно, этот хмурый господин был здесь известен. Егор видел, как он обменялся поклонами с некоторыми депутатами.
Пройдя по галерее, они наконец очутились в зале заседаний.
В глубине зала, на помосте, возвышался трон, внизу — кресла для министров. Министры уже заняли места, трон еще пустовал. По правую сторону от трона расположилось дворянство, по левую — духовенство, третьему сословию были отведены места от середины зала до входных дверей, прямо против трона.
Егор отыскал местечко в задних рядах. Юноша стоял у стены, его отец уже успел присесть. Егор помахал рукой, приглашая юношу разделить с ним стул. Тот с радостью поспешил на зов.
Около одиннадцати часов королевский кортеж выехал из дворца. Впереди скакали две роты конной гвардии, за ними следовали, тоже верхами, королевские сокольничьи егеря, пажи и шталмейстеры; далее восьмерка белых лошадей везла белую, легкую, как облако, королевскую карету; шествие замыкали еще две конные гвардейские роты. Толпа, стоявшая перед цепью солдат, встретила блестящую процессию гробовым молчанием. Это нисколько не походило на тот восторженный прием, который оказал народ своему государю полтора месяца назад, в памятный день открытия Генеральных штатов.
Король вышел из кареты и направился в зал, сопровождаемый принцами крови и пэрами Франции. Депутаты почтительно встали, но приветственных возгласов не было слышно. Людовик поклонился — величественно и небрежно, — уселся на трон. Депутаты опустились на стулья. Эта привилегия была предоставлена только дворянству и духовенству; депутатам третьего сословия полагалось стоять в присутствии монарха. Но они сели наравне с другими, еще раз утверждая этим свое равноправие. Со стороны помоста, где сгруппировались светская и церковная знать, послышался негодующий ропот; король сделал вид, что ничего не заметил.
Людовик принялся читать заранее заготовленную речь. Егор с трудом разбирал слова, король говорил невнятно, голос его заметно дрожал.
— Уже почти два месяца прошло со дня открытия Генеральных штатов, — говорил он. — А между тем депутаты все еще не смогли сговориться о порядке своих работ. Мы ожидали, что любовь к отечеству приведет к всеобщему согласию, в действительности же начались пагубные раздоры, вызывающие беспокойство всей страны…
Понемногу голос короля окреп, в нем появились повелительные нотки.
— Основой государственного устройства французской монархии является раздельность трех сословий. С незапамятных времен служители церкви и дворянство обладали особыми привилегиями. Принцип этот разумен и основан на заслугах и государственном значении двух высших сословий. Не может быть и речи о его изменении.
Король перечислил основные реформы, которые надлежит принять Генеральным штатам.
— Что ж это? — шепнул Егор соседу. — Тот же деспотизм?
Юноша кивнул в знак согласия.
— А заметили вы, — тоже прошептал он, — что Неккера здесь нет? Все министры в сборе, он один отсутствует.
— Видно, не одобряет поведения короля, — предположил Егор.
— Или умывает руки, как Понтий Пилат, — заметил юноша.
Егор взглянул на него с некоторым удивлением.
«Кажется, не глуп, — подумал он, — а с виду совсем мальчишка».
— …Итак, господа! — продолжал король. — Подача голосов будет производиться, как издавна, по сословиям. Если же… — Он повысил голос, и лицо его приняло суровое выражение: — если вы не сможете достигнуть единства, я обойдусь без вас. И сам позабочусь о благе моего народа!
Шепот пронесся по скамьям третьего сословия.
— А теперь, — сказал Людовик, — прошу вас разойтись и ожидать моего повеления.
Он опять небрежно кивнул головой и удалился. За ним последовала свита и министры.
— Господа! — обратился церемониймейстер де Брезе к депутатам. — Прощу покинуть зал.
Представители дворянства и духовенства направились к выходу. Кресла по правую и левую стороны трона опустели. Некоторые депутаты третьего сословия тоже встали с мест, другие продолжали сидеть в нерешительности. Вдруг послышался мощный голос.
— Господа! — воскликнул поднявшийся в переднем ряду плотный человек с рябым смуглым лицом. — Господа! Что здесь происходит?
— Мирабо! — толкнул Егор своего соседа.
— Против вас выводят войска, — продолжал оратор. — Нарушают святость национального храма. И все это якобы совершается для блага народа… Что за возмутительный произвол! Кто вам приказывает? Ваш уполномоченный! Тот, кто должен получать законы от вас, господа! Ибо вы, и только вы, выражаете волю двадцати пяти миллионов французов… А вам отказывают в свободе прений, вас чуть ли не разгоняют военной силой. Вспомните священную присягу, данную вами на днях. Она не позволяет вам разойтись до тех пор, пока вы не дадите Франции конституцию!..
Раздались шумные рукоплескания. В зале снова появился де Брезе.
— Господа! — обратился он к депутатам. — Вы слышали повеление его величества? Прошу немедленно разойтись!
Мирабо сделал несколько шагов навстречу церемониймейстеру. Глаза его горели, лицо было мертвенно бледно.
— Да, сударь! — сказал он громовым голосом. — Мы слышали! И не вам напоминать нам об этом. Ступайте и скажите вашему господину, что мы здесь по воле народа! И ничто, кроме штыков, не заставит нас уйти!
Восторженные возгласы покрыли последние слова оратора. Де Брезе пытался что-то возразить, но голос его потонул в общем шуме. Он поспешно скрылся.
— Вот это так! — воскликнул Егор.
Сосед его вздрогнул и в изумлении пристально посмотрел ему в лицо. Егор и не заметил этого, так он был увлечен происходившим.
Поднялся небольшого роста человек в сутане католического священника. Это был аббат Сиэйс.
— Господа! — сказал он спокойно. — Вы — депутаты могущественного третьего сословия, истинные представители французской нации. Не смущайтесь! Ничего не случилось. Вы и сегодня то же, чем были вчера. Приступим к прениям!..
Выслушав несколько кратких речей, депутаты постановили: подтвердить свои прежние решения и провозгласить всех членов Национального собрания неприкосновенными. Бальи объявил заседание закрытым.
Депутаты вышли на площадь. Они были встречены бурей приветствий.
— Какой великий день! — сказал Егор.
— О да! — подтвердил неизвестный юноша и вдруг спросил: — Неужели вы русский?
— Да, — сказал Егор недоумевая. — Я русский… Но откуда вы это узнали?
— Вы и сами не заметили, как заговорили по-русски. Когда Мирабо дал отповедь этому придворному, вы сказали, как бы про себя: «Вот это так!»
Последние слова юноша повторил тоже по-русски.
— Так вы знаете русский язык? — еще больше удивился Егор.
Юноша кивнул:
— Мы соотечественники… Хотя по-русски я говорю хуже, чем по-французски.
— А как ваше имя?
Юноша замялся:
— Павел Очер. Но прошу вас… Есть причины, по которым…
— О, пожалуйста, не беспокойтесь! — сказал Егор. — А этот пожилой господин — ваш отец?
— Это мой воспитатель, — сказал Очер. — Француз…
В этот миг человек, о котором они только что говорили, нагнал их.
— Опять! — укоризненно обратился он к своему воспитаннику. — Я же предупреждал тебя…
— Этот молодой человек из России, — оправдывался юноша. — Мы случайно разговорились.
— Извините, мосье, — вмешался Егор. — Если угодно, я тотчас же уйду. Вы, кажется, меня опасаетесь? Я студент, учусь в Париже. Живу в Латинском квартале, улица Сен-Жак, восемь… Обрадовался, повстречав земляка. Поверьте, я не причиню вам худого.
На другой день юноша, назвавший себя Павлом Очером, разыскал Егора в его мансарде.
— Как славно, что вы пришли, — обрадовался Егорушка. — Я и не надеялся… Но что скажет ваш гувернер? Верно, вы сбежали от него тайком?
— Вот и не угадали! — сказал гость весело. — Я пришел с его ведома и согласия… Он добрый, хотя выглядит суровым. Всего опасается, и не напрасно. Здесь немало шпионов. Но к вам я тотчас же почувствовал доверие.
— Спасибо! — сказал Егор сконфуженно. — Тогда позвольте поведать о себе, чтобы доверие ваше было основательным…
Он рассказал о своей московской жизни, о времени, проведенном в Париже.
— Знаешь что! — воскликнул вдруг гость. — Будем на «ты»! Хочешь? Я моложе тебя на целых шесть лет, но ведь это ничего, правда?
— Разумеется, ничего. Я рад! — засмеялся Егор.
Юноша оказался сыном графа Александра Сергеевича Строганова, одного из первых вельмож екатерининского двора и едва ли не самого богатого человека в России. Строганов принадлежал к цвету русского просвещенного дворянства и отличался либеральным образом мыслей.
С первой женой жизнь у Строганова не сладилась. После смерти первой жены Александр Сергеевич женился на юной красавице Екатерине Трубецкой. Новобрачные отправились в заграничное путешествие. В 1772 году, во время их пребывания в Париже, у них родился сын, которого нарекли Павлом…
— Это я и есть, — объяснил юноша. — Так что Париж моя родина. Здесь и протекли мои детские годы… Почти семь лет. Затем родители собрались домой. Перед отъездом отец подыскал мне воспитателя, которого ты знаешь. Его зовут Жильбер Ромм. Это весьма ученый человек, а брат его знаменитый французский геометр. Я полюбил господина Ромма, как родного батюшку, и навсегда сохраню благодарность за те знания, которые от него приобрел…
Он рассказал, как они вдвоем с учителем путешествовали по России, потом снова отправились за границу, прожили около года в Швейцарии, а когда в Париже начались знаменательные события, поспешили сюда… Юный Строганов живет здесь инкогнито, под вымышленным именем Павла Очера, чтобы избегнуть наблюдения со стороны посольских чиновников и шпионов.
— Очер? — удивился Егор. — Отчего такая странная фамилия?
— Это название большого завода на Урале, принадлежащего моему отцу, — пояснил Павел.
— Итак, оказывается, мы с тобой не ровня! — заметил Егор. — Ты графский сын, наследник огромного богатства, я простолюдин, без роду и племени…
Юноша покраснел.
— Как не стыдно! — горячо воскликнул он. — Разве не родятся равными все люди? Разве не возмутительны искусственные перегородки? Вот мы, Строгановы, причислены к высшей знати, отец мой — граф Римской империи. Но двести лет назад наши предки были купцами, и только с Петра Великого пошла наша знатность… А сколько таких, что вышли из грязи в князи? Чем же кичиться? И богатство тоже непрочное благо: нынче беден, завтра богат, или наоборот. Одно есть на свете богатство, достойное уважения: знания, таланты! Возвышенный ум, чистая и благородная душа! Вот чего никто не отнимет…
Егор кивнул:
— Таково и мое мнение. Но слышать такое от юного барина приходится не часто… Должно быть, твой учитель внушил тебе такие взгляды?
— Внушил? — Юноша вспыхнул. — Что за слово? Мы много рассуждали, он направлял меня в чтении. Но живу я своим умом…
— Прости! — сказал Егор. — Я неправильно выразился…
Они сразу подружились. Жильбер Ромм, узнав Аникина поближе, также почувствовал к нему симпатию. Особенно одобрял он то, что Егор, вопреки природной склонности, занялся естественными науками.
— Времена классического образования миновали, — говорил он. — Стоит ли иссушать мозг отвлеченными умствованиями, не изучив законов природы?
— Однако же вы, сударь, — осмелился возразить Егор, — прервали ваши научные занятия ради политики?
— То, что происходит теперь во Франции, не есть обычная политика, — сказал Ромм. — Это переворот в умах, в народной жизни. Он подобен землетрясению, которое иной раз, сметая целые страны, рождает на свет новые горы, острова, озера… Когда-нибудь то же повторится и в России.
— Едва ли, — вздохнул Егор. — У нас нет ни Мирабо, ни Сиэйса.
— Тем лучше! — усмехнулся Ромм. — Тебе кажется, что эти господа олицетворяют революцию? Поверь, это не так! Мирабо — маркиз. Сиэйс — священник. Они, пожалуй, умнее большинства своих собратьев и потому связали свою судьбу с третьим сословием. Но разве они намерены сокрушить до основания существующий порядок? О нет!.. Они хотят спасти монархию, сдобрив ее умеренной конституцией. Они не прочь оставить на престоле того же Людовика XVI, а если он окажется безнадежно глупым и упрямым, заменить его кем-нибудь другим. Но французскому народу нужно нечто большее… Стремительный поток революции смоет их и понесется дальше. Появятся новые вожди и народные трибуны. Сегодня они еще безвестны. Но придет день, и имена их будут греметь по всему миру. Найдутся и у вас в России подобные люди. Стоит только начать…
3
Напряжение в Париже возрастало день ото дня. После неудачной попытки, предпринятой королем 23 июня, Национальное собрание продолжало заседать в Версале, занявшись составлением конституции. Ему не мешали. Казалось, правительство примирилось с совершившимся фактом. Но это только казалось. Из провинциальных гарнизонов, из пограничных крепостей к Парижу стягивались наемные полки.
На французских солдат правительство не могло положиться. Они были слишком тесно связаны с населением. Вся надежда была только на иностранные части.
Столица была окружена войсками: они стояли в Версале, Севре, Кламаре, Венсенне, у заставы Сен-Дени, на Марсовом поле…
В воскресенье 12 июля Егор проснулся раньше обычного. Он решил посвятить воскресное утро занятиям, а после полудня вместе со своими новыми друзьями отправиться куда-нибудь за город.
В крошечной мансарде под самой крышей, накаленной июльским солнцем, было нестерпимо жарко. Все же Егор прилежно просидел за столом два часа. Затем он вышел на улицу.
У входа на Новый мост висел огромный плакат. Это было королевское воззвание, призывавшее парижан под угрозой ареста не скопляться на улицах и площадях.
По улицам правого берега Сены двигались пехота, кавалерия, пушки. Народ, стоявший на панелях, угрюмо глядел на это необычное зрелище.
— Можно подумать, что Парижу угрожает неприятельское нашествие! — сказал вслух Егор, стоявший на панели.
— Угрожает? — повторил какой-то простолюдин. — Да вот же оно!..
Жильбер Ромм со своим питомцем жили в небольшой гостинице на улице Тампль.
— Я собирался предложить вам прогуляться за город, — сказал Егор, войдя к ним. — Но, кажется, это невозможно: вряд ли пропустят через заставы… Все улицы заполнены войсками.
— Очевидно, близится момент, которого ждали все! — молвил Ромм задумчиво. — Пойдемте в Пале-Рояль!
Пале-Рояль был переполнен как никогда. С трудом удалось отыскать свободный столик в кафе де ла Фуа, помешавшемся в саду. Они уселись под сенью каштана, прислушиваясь к разговорам. Никто толком ничего не знал, из уст в уста передавались самые невероятные известия, слухи, предположения.
Вдруг Егор заметил своего приятеля, шагавшего по саду.
— Рени! — окликнул он.
Студент оглянулся и жестом показал, что торопится.
— Только одну минуту! — крикнул Егор и побежал к нему.
Возвратившись, Егор взволнованно сообщил:
— Неккер изгнан!..
— Неужели? — воскликнул юный Строганов. — Не выдумка ли?
— Нет… Рени знает наверное. Вчера Неккеру было вручено письмо короля: отставка и предписание немедленно покинуть Францию! Неккер с женой тотчас же сели в карету и выехали в неизвестном направлении…
— Чудесно! — сказал Ромм.
Оба юноши с недоумением посмотрели на него.
— Вы, должно быть, шутите? — заметил Егор.
— Нисколько! — сказал Ромм. — Лучше и быть не может! До сих пор народ тешился надеждами… Это были пустые и пагубные иллюзии! Неккер еще хуже Мирабо. Он верный слуга монархии, и все, что он делал, было ей только на пользу. К счастью, аристократические болваны не могут этого понять, они спешат навстречу своей гибели. Теперь у народа откроются глаза…
Должно быть, весть об изгнании популярного министра облетела уже весь город; Толпа все прибывала…
Вдруг на один из столиков под деревьями вскочил молодой человек. Он был бледен как полотно, глаза его сверкали. В каждой руке он держал по пистолету…
Егор сразу узнал Камилла Демулена.
— Внимание! — раздались крики вокруг. — Слушайте!
— Граждане! — воскликнул оратор. — Изгнание Неккера — это набат, призывающий к новой Варфоломеевской ночи!..
Теперь Демулен не заикался, голос его звенел.
— Неужели же мы уподобимся зайцам, бегущим от охотника, или овцам, покорно спешащим на бойню? Долгожданный час пробил! Да будет он благословен!.. Либо нас постигнет славная гибель, либо мы добьемся вечной свободы! К оружию, братья! Пусть весь Париж, вся Франция повторят наш призыв: «К оружию!»
— К оружию! — подхватила толпа.
— Граждане! Нам нужны опознавательные знаки, нужны кокарды, по которым мы сможем отличать друзей от врагов… Какой цвет хотите вы избрать? Я предлагаю зеленый… Цвет надежды!
— Зеленый! — раздались голоса. — Зеленые кокарды!..
Демулен поднимает голову… Над ним ветвь каштанового дерева. Он срывает лист, прикрепляет его к ленте своей шляпы. Тотчас же другие следуют его примеру: прыгают на столы и скамьи, взбираются друг другу на плечи… Не проходит и десяти минут, как деревья в саду становятся голыми, будто теперь не июль, а поздняя осень.
Павел Строганов тоже срывает листья и раздает своим спутникам. Все трое украшают шляпы зелеными кокардами.
— Куда нам идти? — кричат из толпы.
— К Курциусу! — отвечает Демулен.
Народ устремляется в мастерскую скульптора Курциуса, чтобы взять там бюст Неккера. Заодно берут и изображение герцога Орлеанского, так как прошел слух, что он тоже изгнан. Оба гипсовых бюста покрывают черным крепом, и огромная процессия, над которой, как знамена, плывут эти эмблемы национального траура, движется по улицам Сен-Дени и Сент-Оноре.
— Шляпы долой! — повелительно кричат из толпы встречным.
Все почтительно обнажают головы, многие присоединяются к шествию. Процессия растет, как снежный ком. Невдалеке от Вандомской площади ей преграждает путь конный отряд. Но, слава богу, это не иностранцы.
— Солдаты! — восклицает Камилл Демулен. — Вы же французы, вы наши братья!
И патруль уступает дорогу.
Егор с друзьями идет в первых рядах. Никогда еще не испытывал он такого пьянящего ощущения восторга, невесомости, безграничной свободы, отрешенности от всего земного.
…Опять конный отряд, на этот раз немцы! Они движутся на толпу, теснят ее. Кто-то поднимает булыжник. Здесь их целая куча — должно быть, для ремонта мостовой…
Камни летят тучей в солдат. Егор тоже швыряет булыжник.
«Неужели это я? — мелькает мысль. — Я тоже участвую в свалке? Я, Егор Аникин, русский студент, христианин?»
Он оглядывается и видит, как Павел Строганов запускает камнем в какого-то всадника. А Жильбер Ромм спокойно стоит, скрестив руки, словно полководец, следящий за сражением…
О чудо!.. Солдаты сбиваются в кучу, осаживают коней, отряд отступает. Толпа ревет от радости. Еще выше вздымаются траурные бюсты, шествие вступает на площадь Людовика XV. Но снова конский топот!.. Это немецкий драгунский полк. Драгуны галопом влетают на площадь. Бюст Неккера исчезает. Очевидно, упал тот, кто его нес… Брань. Проклятия. Крики боли и ужаса… Процессия рассыпается: одни бегут к набережной, другие — к саду Тюильри… Драгуны преследуют их, врываются в сад. Здесь, кроме демонстрантов, много гуляющей публики. Сверкают сабли, сыплются удары.
Егор потерял своих спутников. Он озирается по сторонам, но разве их отыщешь в этой каше!.. Спасаясь от драгун, публика валит на террасу, к столикам кафе.
— Преградите им путь! — кричит кто-то и швыряет вниз стол.
С треском обрушиваются с террасы столы, стулья, скамьи. Внизу, на садовой аллее, вырастает баррикада. В драгун летят уже не булыжники, а бутылки, стаканы, тарелки, пивные кружки… Солдаты поворачивают коней.
Опять победа!.. Но на этот раз уже не слышно торжествующих возгласов, толпа слишком обессилена…
— Пойдемте отсюда! — говорит кто-то рядом. — Нужно поскорее выбраться из этой мышеловки.
Егор медленно бредет к выходу, голова у него кружится, ноги подкашиваются от усталости. Посреди центральной аллеи толпятся люди. Егор протискивается и видит распростертое на земле тело. Это сухонький старичок. Его морщинистое лицо совсем пожелтело, стеклянные глаза устремлены в небо. Гравий вокруг окрашен кровью.
— Я знаю его, — произнес какой-то буржуа рядом. — Это господин Ришар, школьный учитель, Он живет неподалеку от меня…
Лицо убитого показалось Егору знакомым.
«Где я его видел? — припоминал он. — Где?»
Только выйдя из парка, он наконец вспомнил… Это был тот самый старичок, который однажды в Пале-Рояле так расхваливал ангельскую доброту короля Людовика.
Стемнело… Фонарей на улице не зажигают, вдалеке у застав полыхает зарево.
Егор едва доплелся до дому. Не раздеваясь, повалился на кровать и уснул мертвым сном. Его разбудили частые удары колоколов. Набат!.. Егор вскочил, сунул в карманы остатки черствого сыра и кусок такого же сухого хлеба и поспешил на улицу. Люди быстро шагали по направлению к Новому мосту.
— В ратушу! — отвечали они на его расспросы.
Егор пошел вместе с ними. По пути он заглянул в гостиницу, где жили Ромм со Строгановым. Их уже не было дома…
На площади перед ратушей чернеет море голов. Вокруг говорят о событиях минувшей ночи.
— Вчера все театры были закрыты… В знак траура по убитым патриотам.
— А зачем нас сюда созвали?
— Ждут вторжения войск в Париж…
— Не посмеют! Слыхал вчера стрельбу на Елисейских полях? Солдаты взбунтовались. Полк французской гвардии покинул казармы и объявил, что присоединяется к народу.
— Ах, молодцы!
— Швейцарцам было приказано разоружить их. Наши ребята дали залп и готовы были ударить в штыки. И представьте: швейцарцы отказались драться. Как ни бесновались офицеры, ничего у них не вышло…
— Здо́рово! Значит, иностранные солдаты тоже начинают шевелить мозгами.
— Потому я и говорю: не посмеют они напасть на Париж.
— Ну, это неизвестно!.. Одни отказались, других пошлют. У аристократов войск немало.
— Верно! Мы должны быть наготове… Да вот беда — нет оружия!
— Вот нас сюда и созвали: требовать оружия.
На балкон ратуши вышел человек. Он поднял руку.
— Флессель! — заговорили в толпе. — Парижский прево
[31].
— Друзья мои! — крикнул Флессель. — Вы просите оружия. У нас его нет.
Толпа зашумела…
— Погодите! — сказал прево. — Я послал людей на завод в Шарлевилль. Оттуда привезут двенадцать тысяч ружей…
— Мало! — раздались крики.
— Обещают потом дать еще сорок тысяч. Ручаюсь, что оружие будет. Разве Флессель когда-нибудь вас обманывал?
— Браво, Флессель! — раздался возглас, и толпа разразилась рукоплесканиями.
Флессель скрылся. На балконе ратуши появился человек в мундире французского гвардейца.
— Граждане! — закричал он зычным голосом. — Вы меня не знаете. Я сержант Лазарь Гош. И вот что я скажу вам! Каждую минуту иностранные наемники могут ворваться в город. У них здесь есть могучая опора. Это Бастилия!.. Пушки ее бастионов уже направлены на нас. Нужно предупредить неприятеля и овладеть Бастилией!
— Легко сказать! — крикнули из толпы.
— Голыми руками? Нас уничтожат до одного!
— Граждане! — продолжал Гош. — Да, нам необходимо оружие! Как хлеб, как воздух! Дожидаться некогда! Со вчерашнего дня кузнецы предместий куют для народа пики и сабли. Однако и этого мало. Нужны ружья! Пушки!
— Где их взять?
— В Доме инвалидов. Там в подвалах спрятано много всякого оружия… Пойдемте туда! Если откажут, возьмем силой!..
Толпа загудела:
— В Дом инвалидов! За оружием!
Началась давка. Егора завертело, как в водовороте. Вдруг чьи-то руки подхватили его сзади, приподняли и вынесли туда, где было посвободнее. Егор оглянулся, чтобы увидеть лицо своего избавителя, и обмер от изумления. Это был Ерменев…
Он возвратился в Париж два дня назад и не заехал к госпоже Бенар, опасаясь, что там его обнаружит полиция.
— Какая теперь полиция! — сказал Егор.
— Я ведь только приехал, не знал, что здесь творится. Первую ночь провел у моего учителя, господина Дюплесси. На другой день повстречал знакомого артиста, Дюгазона, он пригласил меня к себе…
Они уселись под мостом, у самой реки. Здесь прохладно и пустынно. Только несколько рыболовов расположилось на бережку. На Сене не видно ни баржей, ни лодок. Просто не верилось, что сегодня в Париже можно найти такой мирный уголок…
— Какими же судьбами вы здесь? — спросил Егор.
— Черт его знает, как это получилось! — говорит Ерменев. — В Петербурге никто мне не обрадовался. Даже всегдашний мой покровитель Баженов… И правду сказать, сам он ныне не в милости. Во-первых, он друг цесаревича Павла, а государыня с сыном своим в открытой вражде. Во-вторых, с московскими мартинистами близок…
— Отчего ж не поехали в Москву, к Новикову? — спросил Егор.
— К чему? Книг с гравюрами он не издает. А теперь, когда мартинистов все больше теснят, ему и вовсе не до меня… Тут пришли известия из Франции: Генеральные штаты, конституция… Опять потянуло сюда. И, кроме того, в Париже живет… одна особа.
— Знаю, — кивнул Егор. — Вы уже видели ее?
— Заходил, но не застал. Мне сказали, она в Версале.
— А что Каржавин? — спросил Егор. — Поехал он к Новикову?
— Пока нет. Тяжба у него с родней из-за наследства. Так что ему из Питера отлучиться нельзя… — Он помолчал и добавил: — Поссорились мы с Каржавиным.
— Неужели? — воскликнул Егор. — Отчего же? Ведь он хороший человек.
— Я и не говорю, что дурен. Только ослеплен… Шарлотта ему наговорила бог знает чего. Будто в его отсутствие я пытался отбить ее у мужа, предлагал руку и сердце.
— Но это же ложь! — изумился Егор. — Как можно такое выдумать?
— Не так уж трудно. Стоит лишь все изобразить шиворот-навыворот. Мужа своего она не любит, да и, кажется, никого никогда не любила, кроме себя самой. Однако увлечений у нее было немало. Кажется, я удостоился этой чести. Но отклонил ее весьма решительно.
— Еще бы! — сказал Егор. — Ведь Каржавин друг ваш.
— К счастью, Шарлотта никогда мне не нравилась, скорее наоборот. Так что соблюсти дружеский долг было не слишком трудно. А женщины, Егорушка, таких обид не прощают… Однако я изрядно проголодался. Не пойти ли нам куда-нибудь поесть? Боюсь только, что нынче всюду закрыто.
— У меня есть с собой кое-что, — предложил Егор.
Он вынул из кармана сверток. Закусив, они продолжали беседовать. Егор рассказал о парижских происшествиях последних дней.
— Давно я ожидал здесь бури! — сказал Ерменев. — А все же не думал, что она разразится так скоро. Это ведь только начало!..
— То же говорит и господин Ромм… — Егор рассказал о своем новом знакомстве. — Однако я все еще надеюсь, что обойдется без дальнейшего кровопролития.
Ерменев усмехнулся:
— Ведь и сам ты участвовал в свалке: камни швырял в солдат!
— Может быть, не следовало мне так поступать, — ответил Егор. — Как-то все смешалось, разобраться нелегко…
Заходящее солнце стояло над рекой, над шпилями башен, окруженное багровыми тучами. Рыболовы собрали сачки и удочки. Только один высокий, костлявый старик еще оставался на берегу, вновь и вновь закидывая удочку.
Издали донесся невнятный гул. Он приближался. На противоположном, левом, берегу Сены показалось шествие, направлявшееся к Королевскому и Новому мостам. Тащились телеги и повозки, нагруженные ящиками, громыхали пушечные лафеты, валила толпа с ружьями, саблями, пиками.
— Погляди! — сказал Ерменев. — Добыли все-таки оружие.
Толпа все шла и шла… Вот она уже вступила на мост, переправилась на правый берег. Нестройное пение, невнятные выкрики, грохот колес… Из хаоса звуков выделяется один грозный, страстный крик:
— В Бастилию!..
4
Ночь… Городские власти распорядились, чтобы жители не гасили ламп и не закрывали окон ставнями.
Егор идет по улице. В Ситэ, невдалеке от Собора Парижской богоматери, он натыкается на сторожевой пост. На перекрестке пушка, вокруг нее четверо горожан с ружьями.
— Куда? — К нему подошел один из караульных. У него на боку висит кавалерийская сабля.
— На улицу Тампль, — объяснил Егор.
— Кто такой?
— Студент.
— Студенты бывают разные. А что это у тебя на шляпе?
Егор в недоумении снял шляпу. На ней был прикреплен высохший лист каштана.
— Ах это? В воскресенье я был в Пале-Рояле, когда гражданин Демулен…
— Стало быть, ты не из аристократов?
— О нет!
— Не годится твоя кокарда! У нас теперь новая — красная с синим.
— Зеленый цвет носят придворные графа д’Артуа, — пояснил другой караульный, сидевший возле пушки. — А красный с синим — это цвета города Парижа.
— Я не знал, — сказал Егор.
— Пропусти студента, Юлен! — сказал тот, что сидел.
Юлен пристально поглядел в глаза юноше:
— Так и быть, возьму грех на душу…
Он достал из кармана красно-синий бант:
— Возьми и проходи!
— Благодарю! — Егор прикрепил кокарду к шляпе и пошел дальше.
Повсюду кипела работа. На улицах и площадях мужчины, женщины, уличные мальчишки разбирали мостовую. На перекрестках воздвигались баррикады.
У бульвара Тампль Егора снова задержали. На этот раз допрос был более придирчивым: «Куда? К кому? Зачем?»
Один из патрульных сказал начальнику:
— Я его знаю! Можно пропустить!
— Рени! — обрадовался Егор.
— Ты не записался? — спросил Рени.
— Куда? — не понял Егор.
— В национальную гвардию. Запись идет по городским округам еще с вечера.
— Нет.
— Предпочитаешь оставаться зрителем? — усмехнулся Рени. — Это не всегда безопасно.
— Да я не трушу! — горячо возразил Егор. — Тут совсем другое!..
— Пора решаться! — сказал Рени строго. — Раздумывать некогда. — Он пожал Егору руку и отошел.
Взошло солнце… Егор остановился у подъезда дома, где жили Ромм и Строганов. Не слишком ли рано? Может быть, еще спят…
Он прошелся по панели взад и вперед, и, когда уже собирался войти, они показались у подъезда. С ними еще один незнакомый пожилой человек. Он еще меньше ростом, чем Жильбер Ромм, — почти карлик. И так же некрасив: непомерно большая голова, морщинистая кожа, зеленый цвет лица, тонкие бескровные губы… Но глаза у него живые, глубокие, и они придают этому некрасивому лицу странную притягательную силу.
— Вот и ты! — радостно воскликнул Павел Строганов, завидев Егора. — Где же пропадал? Мы не виделись целую вечность…
— Только один день, — улыбнулся Егор.
— Разве? Впрочем, теперь один день это почти вечность! Вот гляди!
Строганов гордо указал на свою саблю.
— Жаль, не дали ни ружья, ни пистолета. Говорят: молод еще, а огнестрельного оружия мало. Жаль!.. Но ничего, потом добудем!
Ромм, любуясь воспитанником, сказал:
— Неправда ли, бравый гвардеец? А вы, друг мой? Записались?
Егор замялся.
— Нет еще…
— Не имеет значения, — успокоил его Ромм. — Это лишь формальность. Есть ваше имя в списках или нет, — сражаться вам никто не запретит!
Он представил Егора своему спутнику:
— Вот еще один русский юноша, одержимый ненавистью к деспотизму.
Тот внимательно поглядел на Егора.
— Не знал, что идеи свободы так популярны в России, — заметил он. — Вы принадлежите к русскому дворянству, молодой человек?
— Отец мой был кузнецом в Москве, — ответил Егор.
— А вы?
— Учусь медицине и естественным наукам.
— Значит, мы коллеги.
Ромм пояснил:
— Это гражданин Марат. Врач, ученый, писатель…
Егор почтительно поклонился.
— Итак, поспешим! — сказал Марат. — С часу на час может начаться великая битва.
— Куда же мы направляемся? — спросил Егор.
— К заставе Сент-Антуан.
…На плацу перед воротами Бастилии огромная толпа. Большую часть ее составляют рабочие и ремесленники, обитающие в Сент-Антуанском предместье. Почти все они вооружены. Из города подходят отряды новообразованной национальной гвардии. Площадь гудит, как вулкан перед извержением. Солнце уже поднялось над серой громадой Бастилии. Оттуда не доносится ни звука: можно подумать, что крепость покинута и безлюдна.
Марат со своими спутниками продвигается сквозь толпу. Его, видимо, узнали. Народ расступается перед ним, многие кланяются. Кто-то рассказывает, что депутат Тюрьо отправился в Бастилию парламентером.
— Тюрьо де ла Розьер? — переспросил Марат нахмурившись. — Кто уполномочил его?
— Комитет выборщиков в ратуше.
— О чем же ведет он переговоры?
— Чтобы убрали пушки с бастионов, — ответил национальный гвардеец.
— Что-то он не возвращается, — сказал другой. — Уже около часа, как отправился…
— Уж не заперли ли его в темницу?
— А может быть, и застрелили!..
Толпа всколыхнулась.
— Тюрьо! — послышались возгласы. — Вон там.
На крепостной стене появилась маленькая фигурка. Депутат помахал шляпой народу. Раздались приветственные крики.
Вскоре опустили подъемный мост, и Тюрьо вышел из ворот. Толпа встретила его рукоплесканиями.
— Комендант обещал отодвинуть пушки от амбразур, офицеры гарнизона поклялись, что не нападут на народ! — торжественно объявил Тюрьо и поспешил в ратушу с отчетом о переговорах.
— Ах, друзья мои! — воскликнул Марат. — Как вы легкомысленны!
Марат взобрался на ящик с патронами, снял шляпу и швырнул ее вниз. Длинные черные волосы с легкой проседью взлетели над его огромной головой.
— Граждане Парижа! — воскликнул он, и мощный голос пронесся над всей площадью. — Граждане Парижа! Вы только что наградили рукоплесканиями Тюрьо. Вчера вы так же приветствовали Флесселя, который обещал вам оружие… А известно ли вам, как он выполнил свое обещание?
— Нет! Неизвестно!
— Расскажи нам!
— Вечером прибыли обещанные ящики с оружием. Их вскрыли… Знаете, что там оказалось вместо ружей и патронов? Тряпье! Лохмотья! Дрова! Старый хлам!
— Флессель предатель! — закричали в толпе. — Смерть Флесселю!
— Ага, вы негодуете! — воскликнул Марат. — Но не прошло и пяти минут, как вы аплодировали… Кому? Одному из тех господ, что заседают в ратуше и ведут двойную игру. Чего они добиваются? Поблажек для богачей, ростовщиков, спекулянтов. Они ненавидят народ и боятся его, им страшно видеть оружие в ваших руках. Вы готовы верить всякому обещанию, вы надеетесь на милосердие тиранов. А если Тюрьо солгал? Какова цена заверению тюремщика де Лонэ? Аристократы хотят усыпить вас лицемерными речами, между тем их агенты рыщут среди вас, сеют злонамеренные слухи. Учитесь отличать честных патриотов от вражеских лазутчиков! Я хочу уберечь вас от козней, от ненужных жертв. Ибо я люблю вас, братья мои!
Он остановился, провел рукой по лбу, отирая пот, и спрыгнул на землю.
Раздался возглас:
— Он прав! Это истинный друг народа!
Другой крикнул:
— Да, агенты аристократов втираются в наши ряды… Вон глядите!
От заставы шла к плацу группа людей: впереди молодая, нарядно одетая дама, в модной шляпе, под крошечным белым кружевным зонтиком; за ней трое мужчин. Среди них Егор узнал Ерменева.
Навстречу им двинулись вооруженные люди. Послышались ругательства, угрозы. Один из мужчин, сопровождавших даму, схватился за рукоятку сабли.
— Назад! — крикнул он. — Пусть только посмеет кто-нибудь!..
Он вспрыгнул на груду камней и, обнажив саблю, обратился к толпе:
— Кто сказал вам, что мы аристократы? Кто посмел вас обмануть, а нам нанести оскорбление?
Шум несколько утих.
— Граждане! — продолжал человек с саблей. — Я артист Французского театра. Мое имя Дюгазон!
— Да, это Дюгазон! — воскликнул кто-то. — Я видел его на сцене. Он здорово представлял плута Криспила…
— Верно, верно!
— А кто из вас смотрел «Женитьбу Фигаро»? — спросил Дюгазон.
— Я видел!.. И я!.. — послышались веселые возгласы.
Дюгазон подал руку нарядной даме, она легко, словно птица, взлетела на возвышение.
— Узнаете? Она исполняет в этой комедии роль Сюзанны. Ее зовут мадемуазель Конта!
В толпе раздались аплодисменты.
— Друзья мои! — крикнул Дюгазон. — В руке у меня сабля, я получил ее в округе, когда записался в отряд национальной гвардии. Мои товарищи записались вместе со мной!
— Браво!
— Он славный парень, этот артист!
— Мы верим тебе, Дюгазон!
…Конта поднимает руку, прося тишины.
— О солнце! — Она обращает
взор к небу. — Ты даруешь нам дневной свет, тепло весны и лета! Ты растишь наши посевы! О, чистый огонь, вечное око, могучий двигатель жизни! Будь же теперь свидетелем величия французов!..
Это еще не опубликованная и мало кому известная ода молодого поэта Мари-Жозефа Шенье.
— …Пусть разобьются наши оковы! Пусть наконец свободно вздохнет земля! Пусть разум создаст новое государство, сияющее и вечное, как твои лучи. Пусть сгинут коварство и зло, тяготевшие над нами много веков! Человечество создано для свободы…
Толпа слушает в благоговейном молчании. Егор замер. Как она хороша, эта вдохновенная красавица, это сияющее видение, внезапно возникшее над мрачной площадью! Глаза ее горят, руки вздымаются плавно и властно, голос — мягкий и глубокий — то звенит, подобно колоколу, то замирает в трагическом шепоте.
Чем-то эта артистка напоминает Дуняшу Дудареву… Они вовсе не похожи внешностью, хотя обе красивы — каждая по-своему. Должно быть, воспоминание всплыло откуда-то из глубин сознания благодаря этой манере декламации, впервые услышанной Егором в раннем детстве.
Артистка умолкла. Гремят рукоплескания.
— Браво, Конта!
— Мерси, мадемуазель!
— Восхитительно!
Конта раскланивается, словно перед ней не толпа оборванцев, а изысканная публика придворного спектакля.
Овация усиливается. Какой-то мужчина — по виду рабочий или ремесленник — протягивает артистке красно-синюю розетку. Она прикалывает ее к шляпке и прижимает обе руки к сердцу в знак благодарности.
— Вот это женщина! Королева!
— Получше королевы!
— Долой австриячку! Да здравствует Конта!..
…Барабанный бой! Овация оборвалась! Все взоры обратились туда, где под дробь барабана, с белым флагом, шагала группа людей.
Это новая депутация из ратуши. Она явилась уговорить народ разойтись, а коменданту Бастилии предложить вывести гарнизон швейцарцев.
Депутатов окружили, начались бурные пререкания:
— Мы не разойдемся!.. Так и скажите вашему комитету…
— Пусть сперва сдадут Бастилию!..
Депутация двинулась к воротам крепости. За ней устремилась и некоторая часть толпы. Подъемный мост через крепостной ров, по которому недавно прошел Тюрьо, был все еще спущен. Депутация, подняв белый флаг, прошла в первый наружный двор, но загремели цепи, и мост стал медленно подниматься. Депутаты остановились. Вдруг с крепостной стены грянул ружейный залп. Трое упали, остальные бросились в бегство…
Исступленный рев раздался над площадью… На груду камней, только что служившую эстрадой артистке, вскочил сержант Гош.
— Что здесь происходит? — загремел он. — Неужели вы позволите разбойникам убивать вас? Вы слышали стихи, которые прочла нам эта артистка? «Пусть разобьются наши оковы!.. Пусть сгинут коварство и зло…» А я добавлю: пусть поскорее рухнут эти проклятые стены, воздвигнутые тиранами! Бастилия должна быть нашей!
— В Бастилию! — подхватил народ.
— Граждане! — говорит Гош. — Оружие у нас теперь есть. Но нужны хорошие командиры!
— Ты и будь командиром! — кричат ему. — Веди нас, сержант!
— Нет! Есть, более опытные… Господин Эли, офицер королевских войск, изъявил готовность служить нации. Я знаю господина Эли и предлагаю избрать нашим командиром.
Одобрительные возгласы, рукоплескания…
Гош сходит с возвышения, обнажает саблю. Эли, в офицерском мундире, строит колонну… Короткая команда — и авангард, предводительствуемый Эли, устремляется к воротам Бастилии.
Вот они уже в первом наружном дворе… Двое смельчаков бросаются к гауптвахте и принимаются рубить топорами цепи подъемного моста. Сверху, с ближайшего бастиона, офицер кричит что-то, очевидно требуя очистить двор. Двое добровольцев продолжают наносить бешеные удары по цепям. Наконец цепи разрублены, огромный мост опускается с оглушительным грохотом… Авангард хлынул на мост и ворвался во второй крепостной двор, по ту сторону рва. Здесь еще мост, он тоже поднят. Залп с крепостных башен… Несколько человек падает.
Эли командует:
— Огонь!..
Штурмующие вскидывают ружья, гремит ответный залп. С бастиона снова стреляют. Еще несколько человек, обливаясь кровью, свалилось на камни.
Перестрелка продолжается. Толпа, оставшаяся на площади перед воротами, гудит. Гош, построив вторую колонну, ведет ее на помощь авангарду.
Из-за крепостной стены вздымается густой клуб дыма. Это Эли, заметив во втором дворе несколько возов с соломой, приказал поджечь их. Блестящая мысль! Дымовая завеса прикрывает штурмующих, мешает осажденным вести прицельный огонь… Пылает солома, занимаются соседние строения. Дым валит все гуще и гуще, несется над площадью.
В сумятице Егор опять разлучился со своими спутниками. Где же они? Должно быть, Павел Строганов тоже там, в одной из колонн. А Жильбер Ромм и Марат? Едва ли они участвуют в бою — они стары и немощны… Но что же делать ему, Егору? Он-то молод и здоров. «Есть ваше имя в списках или нет, — сражаться вам никто не запретит!» Это верно. Но как? У него нет ни ружья, ни шпаги, ни топора. А если бы и были? Ему и на кулачках драться никогда не приходилось. Он не один такой: вокруг множество людей, французов… Безоружных и наблюдающих. Только и остается, что оставаться здесь и следить за битвой, хода которой он не понимает.
Но куда девалась эта чудесная актриса, которую народ нарек своей королевой? Не видно ни ее, ни Дюгазона…
Вдруг Егор заметил Ерменева. Да, да, это он! Взобрался на груду камней, в руке у него какая-то книга… Ах, это альбом! Конечно, альбом! Ерменев рисует. Отсюда видно, как быстро движется его рука, набрасывающая штрихи на альбомный лист. Он поминутно обводит быстрым взглядом толпу на площади, столбы дыма за стеной, крепостные башни.
…Снова гремит залп, на этот раз пушечный. На штурмующих сыплется град картечи.
На площади усиливается тревога. Ну да, ведь у них там пушки! Это же могучая крепость! Разве ее одолеешь ружьями и пиками? К осажденным прибудут подкрепления. Из Сен-Дени, из Версаля — мало ли откуда! Тогда конец! Они раздавят все это скопище, расстреляют из пушек, растопчут копытами.

Слышится боевой сигнал трубы, дробь барабанов. Вот, кажется, свершилось то, чего опасался народ!
Войско приближается. Это целый полк, пожалуй, даже больше… Пронзительно звучит боевой сигнал горниста, трещат барабаны.
Но что это? Впереди войска человек в гражданском платье, с ружьем через плечо и саблей на боку. Он поднял флаг, наскоро сшитый из красной и синей полос.
Егор узнает начальника караула, который на рассвете пропустил его через свой пост и подарил ему революционную кокарду… Кажется, его называли Юленом?
— Это Юлен! — кричит кто-то рядом с ним.
— Юлен! Юлен! — подхватывают другие.
Отряд идет в отличном строю, четко отбивая шаг. К ружьям примкнуты штыки. Лошади тащат пушечные лафеты… Пять пушек!
— Граждане! — объявляет Юлен. — Это россювельские гренадеры и люберсакские стрелки. Утром я пришел к ним в казармы и сказал: «Если вы французы и не хотите гибели отечества, помогите народу, сражающемуся под стенами Бастилии. Решается наша судьба!» И вот они здесь!..
5
Маркиз де Лонэ, комендант Бастилии, сидел на походном стуле, на эспланаде бастиона. Адъютант доложил, что к бунтовщикам присоединились почти два полка регулярных войск. Комендант выслушал донесение молча.
— Господин маркиз! — сказал офицер, несколько встревоженный этим безучастным видом. — Необходимо отправить кого-нибудь к маршалу Брольи за подкреплением.
— Бесполезно! — ответил де Лонэ. — Они осведомлены о том, что здесь происходит… Еще вчера я послал туда офицера.
Грянул пушечный выстрел, за ним другой… Это не бастильские пушки: заговорила артиллерия штурмующих. Одно ядро не долетело, другое ударилось в стену бастиона.
— Вы видите, господин маркиз! — сказал офицер побледнев. — Мы не сможем продержаться без подкреплений… Восемьдесят два инвалида да тридцать два швейцарца — вот и весь наш гарнизон! Отправим курьера к генералу Безонвалю! Он недалеко, у него достаточно сил….
— Говорю вам — это бесполезно. Подкреплений не пришлют.
— Почему? Неужели нас сознательно обрекли на гибель?
— Возможно! — сказал де Лонэ. — Отправляйтесь, сударь, к солдатам и постарайтесь поднять их дух.
— Но вы сами говорите, что…
— Потрудитесь исполнять, что вам приказывают! — негромко сказал комендант.
Офицер приложил руку к треуголке.
Еще пушечный выстрел… другой… третий… Глухой удар неподалеку… Отчаянный крик, стоны…
Адъютант еще не успел скрыться, как появился другой офицер. Он с непокрытой головой, мундир его забрызган кровью…
— Господин маркиз! — доложил он задыхаясь. — Ядро угодило в нашу батарею. Один убит, трое ранены…
— Поставьте запасных, — распорядился комендант.
— Господин маркиз! — воскликнул офицер. — Среди солдат смятение. Инвалиды измучены, швейцарцы явно не желают драться…
— Что же вы предлагаете?
— Если к нам не подойдут подкрепления, — сказал офицер, — не остается ничего иного, как повести переговоры о капитуляции.
— Господин лейтенант! — Де Лонэ поднялся со стула. — Покуда я не получу повеления от моего государя, крепости не сдам… Запомните это!
Снова удар пушки снизу, за ним ружейная трескотня… Опять где-то недалеко ядро попало в крепостную стену.
Снизу доносятся крики:
— Опустите мост! Опустите мост!
Комендант подходит к парапету, смотрит вниз. Наконец он оборачивается к офицерам:
— Вы правы! Больше часу нам не продержаться…
— Стало быть, вы решились, господин маркиз? — с надеждой спрашивает адъютант.
— Да!
Де Лонэ берет прислоненный к стене шест, обмотанный вверху промасленной паклей.
— Огня! — приказывает он.
— Что вы хотите делать?
Офицеры встревожены.
— Высеките огонь! — повелительно повторяет комендант.
Адъютант колеблется, но все-таки исполняет приказ…
Факел занялся. Де Лонэ, высоко подняв его, направляется к лестнице и спускается по ней. Здесь две батареи. Солдаты провожают его изумленными взглядами.
— Куда он? — тихо спрашивает унтер-офицер у адъютанта.
— Кажется, хочет взорвать нас на воздух…
Де Лонэ подходит к двери порохового погреба. Но в этот момент к нему бросаются унтер-офицер с адъютантом, вырывают факел.
— Бунт? — грозно кричит комендант. — Забыли присягу?
— Господин маркиз! — твердо отвечает адъютант. — Кроме нас, здесь более ста солдат, не считая многочисленной прислуги. Следует вспомнить и об узниках, они приговорены к заключению, но не к смертной казни…
Над бастионом реет белый флаг…
— Глядите, глядите! Они сдаются! — кричат внизу.
Вверху, у амбразуры, появляется офицер. Он протягивает на острие сабли лист бумаги.
Минутное замешательство… Кто-то находит длинную доску. Ее перекидывают через ров. Солдаты наверху принимают конец доски, укрепляют ее на парапете. Нижний конец доски держат на весу штурмующие. Молодой парень, медленно балансируя, идет по доске Мертвая тишина… Все взгляды прикованы к храбрецу, поднимающемуся по узкой доске над глубоким рвом, вымощенным острыми камнями… Вот он у цели! Он хватает лист, осторожно поворачивается и возвращается той же дорогой…
— Кто это? Кто? — спрашивают друг у друга.
— Его зовут Мейяр, — поясняет один из гвардейцев. — Служит швейцаром в каком-то особняке.
Эли читает бумагу. Это условия капитуляции: военный совет Бастилии постановил сдать крепость, если всему гарнизону будет гарантирована полная безопасность.
— Условия приняты! — кричит Эли и поднимает саблю с привязанным к ней белым платком.
Мост медленно опускается. Победоносное войско лавиной врывается в крепость.
Толпа мчится по лестницам, коридорам, площадкам… Солдаты гарнизона, сбившись в кучку, боязливо прижались к стене, оружие свалено на каменный пол…
— Не трогать солдат! — приказывает Эли. — Я дал слово…
— Опомнитесь, граждане! — вторит ему Юлен. — Не омрачайте нашего торжества! Не убивайте безоружных!
Разъяренная толпа не слушает: она накидывается на солдат.
— Пощадите инвалидов!..
Свалка продолжается, гремят пистолетные выстрелы.
— Граждане, вы забыли об узниках!..
Это крикнул Ерменев, взгромоздившийся на жерло крепостной пушки…
— Узники Бастилии ждут нас. Поскорее откроем двери этих проклятых казематов… Год назад я сам был в одном из них… За мной! Я покажу вам дорогу!..
Прошло два часа… На площади перед Бастилией черным-черно. Кажется, весь Париж здесь. На балконах, в распахнутых окнах соседних домов, на заборах, крышах, деревьях — всюду люди.
Томительное ожидание… Наконец звучит сигнал горниста, трещат барабаны. Из ворот выходит процессия… Толпа расступается.
Впереди несут трофеи: флаг Бастилии, ключи от главных ворот. Шеренгой идут герои штурма: Эли, Юлен, Гош, Мейяр…
В воздух взлетают шляпы, женские чепцы. Триумфаторов осыпают розами, маками, гвоздиками. Ливень цветов.
Егор стоит невдалеке. Он высок ростом, ему хорошо видно все шествие.
— Друзья! — обращается к толпе Юлен. — Отдайте последний долг тем, кто погиб, сражаясь за вашу свободу…
На носилках несут тела убитых. Воцаряется тишина, все обнажают голову. Носилки плывут на плечах национальных гвардейцев: одни, другие, третьи…
Егор вздрогнул. Неужели Рени?.. О бедный, милый Рени!.. Его лицо почти не изменилось, только чуточку почернело, должно быть, от пороха… Боже мой! Только сегодня утром Егор встретил его. «Быть зрителем иногда небезопасно!» Кажется, так он сказал? О нет. Все-таки безопаснее, чем сражаться… Вот теперь Рени мертв, а он, Егор, смотрит на триумф, словно с галереи театра. Ах, как стыдно! А это что за люди? Ветхая, истлевшая одежда, деревянные башмаки. Нечесаные, грязные волосы, лысые черепа… Желтые, худые лица, обросшие густой щетиной, блуждающие взгляды. Одних ведут под руки, других несут на скрещенных ружьях, на табуретах.
У одного седая борода до пояса, глаза щурятся, как у крота, боящегося дневного света.
Шепот проносится в толпе:
— Узники! Узники Бастилии…
— Верно, просидели лет по двадцати?
— А этот, кажется, побольше!
— Ох бедняги!
— Счастливцы!.. Дождались такой радости.
За освобожденными узниками ведут их бывших тюремщиков: офицеров, надзирателей, швейцарских гвардейцев. А вот и сам маркиз де Лонэ! Он не глядит по сторонам, старается казаться спокойным. Толпа бушует, выкрикивает ругательства и проклятия. Конвоиры с обнаженными саблями охраняют пленника. В арьергарде маршируют регулярные войска, перешедшие на сторону восставших.
Народ хлынул вслед за арьергардом. Процессия обтекает крепость, выходит на улицу Сент-Антуан и направляется к ратуше. Тысячи людей смотрят на процессию с панелей, балконов, из окон.
Вдруг шествие останавливается. Впереди замешательство. Это толпа набросилась на пленного коменданта. Конвоиры больше не могут сдержать натиск.
К ним на помощь спешат Эли и Юлен.
— Не нужно самочинных расправ! — кричат они. — Будем великодушны и разумны!
Их не слушают. Маркиз падает под градом ударов…
Егору не видно, что происходит там. Вдруг над толпой вздымается пика. На ее острие… голова. Человеческая голова!.. Напудренный парик посерел от уличной пыли, косичка расплелась, на лбу и щеках кровавые пятна.
У Егора кружится голова, перед глазами поплыли красные круги. Он шатается…
Кто-то рядом подхватил его, поднес к губам оловянную манерку с вином. Егор делает глоток, зубы его стучат.
— Испугался?
Смуглое немолодое лицо, лоснящееся от пота, живые черные глаза. Серый простой кафтан из грубого полотна, весь в копоти и засохшей крови.
— Благодарю вас, — тихо сказал Егор; постепенно он приходит в себя.
Незнакомец улыбнулся:
— Зрелище не очень приятное. Однако надо привыкать, молодой человек! Ты мужчина и патриот! А жалеть тиранов не стоит. Туда им и дорога!
…Егор проснулся, когда уже стемнело. В мансарде духота. Из раскрытого окна слышатся веселые крики и смех играющих детей…
Опять чудится ему эта страшная голова на пике… На смену ей является другая — с черной бородой, схваченная за волосы рукой палача… Заснеженный плац, каре войск, эшафот… Где это было?.. Ах да, Пугачев!.. Четырнадцать лет прошло с тех пор!
Егор поднимается с постели и выходит в город. Прислушиваясь к уличным толкам, он узнает об убийстве Флесселя. Прево вели из ратуши в Пале-Рояль, на суд народа. По дороге кто-то пристрелил его из пистолета…
— И поделом! К чему возиться с ними? Ясно, изменник!
— Подумать только: вместо оружия грязное тряпье!
— Не только это! У де Лонэ нашли письмо от Флесселя. Они были в сговоре!
— Слыхали? Комитет постановил разрушить Бастилию. Завтра же начнутся работы…
Егор пошел на улицу Тампль, к Строганову… Никого! Ах, если бы повидать Ерменева! Но как его найти? Где живет этот артист Дюгазон?
Он бродил по улицам, набережным, площадям, не разбирая направления. Поздний час, фонари не зажжены… Неожиданно перед ним Бастилия! Каким образом он очутился здесь?.. На площади мертвая тишина. Ни души. Ворота открыты, мост спущен, наружный двор пуст…
Егор идет по мосту. Во втором крепостном дворе тоже пусто. Он спотыкается о камни, бревна, ящики, обломки. В глубине двора мелькает огонек. Егор идет на свет. Человек с фонариком в руке шарит по земле. Заслышав шаги, он выпрямился, свет от фонаря упал на его лицо. Егор узнает Дубровского, чиновника русского посольства.
— Петр Петрович! Что это вы?
— Рукописи! — шепчет Дубровский. — Они вышвырнули сюда сундуки с тюремными делами… Вы понимаете? Архивы Бастилии!.. Боже мой, мог ли я мечтать о такой находке!..
В этот же час в королевскую спальню в версальском дворце постучался герцог де Лианкур, хранитель гардероба. Король провел день на охоте, утомился и уже лег почивать. Но герцог по своей должности имел доступ в королевские апартаменты в любое время.
— Что случилось? — спросил Людовик.
Герцог рассказал о взятии Бастилии, об убийстве де Лонэ и Флесселя.
— Послушайте, мой дорогой! — воскликнул пораженный король. — Да ведь это мятеж!
— Нет, государь! — ответил де Лианкур. — Это не мятеж. Это революция!
6
Через несколько дней королевский двор переехал из Версаля в Париж.
Ерменев поспешил к мадам Виже-Лебрэн. Вместо Мейяра дверь открыла новая привратница, пожилая, довольно неприветливая женщина.
Окинув посетителя недоверчивым взглядом, она предупредила:
— Мадам сегодня не принимает.
— Для меня мадам сделает исключение, — спокойно ответил Ерменев.
— Как доложить?
— Мосье Жанно.
…Луиза стояла посреди комнаты. Она была очень бледна.
— Неужели вы? — сказала она дрожащим голосом. — Я ушам своим не поверила.
— Теперь верите? — Ерменев шагнул, чтобы обнять ее.
Луиза, как бы предупреждая его, протянула руку. Ерменев поднес руку к губам и пристально поглядел на нее.
— Вы меня больше не любите? — спросил он.
— Почему? — Луиза несколько смутилась. — Это так неожиданно… Прошел год, даже больше! Я уже приучила себя к мысли, что больше не увижу вас. А теперь… Попробуем начать сызнова… Но объясните: отчего вы вернулись?
— По разным причинам, — ответил Ерменев. — Одна из них, очевидно, была моим заблуждением… Все же я не жалею.
— Но вам же запрещен въезд во Францию, Жанно!
Ерменев усмехнулся:
— Эти господа больше не могут ни запрещать, ни разрешать. Опасаться мне нечего.
— Слишком поспешное заключение! Еще немного, и порядок будет восстановлен… Постойте! Что это такое?
Она указала на красно-синий бантик, приколотый у него на груди.
— Я записался в национальную гвардию, — ответил Ерменев. — Но сюда явился без оружия, потому что не собираюсь вас брать штурмом, как мы брали Бастилию.
— Боже правый! — воскликнула Луиза. — Неужели вы находились среди этого сброда?
— Именно так!
— Вместе с моим бывшим привратником Мейяром? — усмехнулась Виже-Лебрэн. — Поздравляю!
— Принимаю поздравление! — сказал Ерменев серьезно. — Это в самом деле большая честь. Мейяр вел себя как герой. Он, правда, потерял место у вас, но зато приобрел громкую славу среди народа. Однако не смею больше докучать моим присутствием.
— Жанно!.. — Луиза приблизилась к нему и взяла его за руку. — Право, не стоит сердиться! Вы требуете от женщин слишком многого. Вас не было так долго, я немного отвыкла… Это не значит, что я разлюбила вас. Все могло бы еще вернуться! Но ваши сумасбродные фантазии — вот что ужасно! Прежде вы ограничивались словами, и это меня нисколько не тревожило. Теперь вы перешли к действиям. И в какое время!.. Опомнитесь, Жанно! Что общего у вас с этими негодяями? Вы же художник!
Ерменев молча смотрел на нее. Потом осторожно отнял руку.
— Луиза! — сказал он, и в голосе его не было злобы, только мягкий укор. — Да, я художник! И, может быть, поэтому то, что происходит, волнует меня, как ничто другое. Никогда еще я не испытывал такой радости и полноты жизни, как сейчас. Во время осады Бастилии я позволил себе сделать рисунок этой незабываемой битвы. Быть может, я согрешил, присоединившись к сражающимся несколько позже. Но я действовал своим оружием — карандашом, и, кажется, с успехом. Рисунок мне нравится… Поймите это, Луиза! Подумайте о своей собственной судьбе! Вы талантливы, наблюдательны, тонко чувствуете краски! Неужели вам не надоело писать слащавые, приторные, льстивые портреты? Вы растрачиваете попусту дарование, опускаетесь до…
— Довольно! — оборвала его Виже-Лебрэн. Она побледнела, губы ее дрожали. — Рано или поздно в человеке сказывается его натура… Помнится, вы говорили, что отец ваш был конюхом?
— Совершенно верно. — Ерменев тоже побледнел, но сохранял спокойствие. — Однажды мне уже приходилось слышать подобный упрек от человека вспыльчивого, но исполненного высоких достоинств. Он вскоре сам пожалел о своем поступке, и я простил ему… Вам, сударыня, прощать не за что. Впрочем, кажется, вы в этом и не нуждаетесь. Имею честь кланяться!
Он резко повернулся и быстро пошел к выходу.
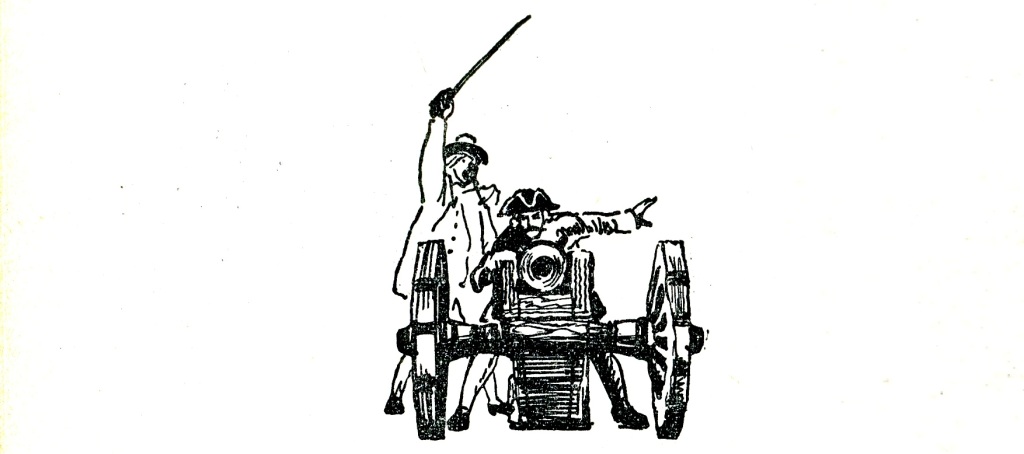
 ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ
1
Николай Иванович Новиков возвращался с доктором Багрянским в усадьбу. Ночью прошел дождь, в ямах и колеях на проселке еще стояла вода. На вспаханных полях работали крестьяне. Наступила пора весенних посевов.
Недавно Николай Иванович овдовел. После смерти жены, Александры Егоровны, на руках у него осталось трое малолетних сирот: дочери Вера и Варвара да младший сынок, Ванечка.
Ранней весной 1792 года Новиков с детьми отправился в свое имение Авдотьино, находившееся под Москвой, в Бронницком уезде, рассчитывая пробыть там до осени. Жил он уединенно: хлопотал по хозяйству, читал, понемногу занимался. Время от времени его навещали московские друзья. Недавно гостил Петр Иванович Страхов, а намедни приехал Багрянский…
— Понемногу оправились мужички, — говорил Новиков, с удовольствием оглядывая пашни. — Словно и не было этого ужасного голода.
— Зато гонение на вас, начавшееся с той поры, не прекращается, — заметил Багрянский.
— Что ж поделать! — сказал Новиков. — Совесть моя чиста. Преступления никакого не совершил, закона не нарушил. Авось посердятся да перестанут.
— Вспомните Радищева! — сказал Багрянский.
— Это другое! — возразил Новиков. — Радищев хватил через край. Увлекся не в меру, поддался пагубным французским заблуждениям. Мне жаль его от всей души, но общего между нами мало. Пути наши различны.
Багрянский покачал головой:
— Ваш путь властям также не по нраву, Николай Иванович. Времена настали суровые.
— Страшен сон, да милостив бог! — отвечал Новиков. — Несколько лет назад, ты тогда в чужих краях находился, пригласил меня к себе архиерей московский, Платон. Государыня поручила ему испытать меня: не еретик ли? Побеседовали откровенно, и на прощание преосвященный сказал: «Желаю искренне, чтобы все христиане были таковы, как ты, Новиков! Так и государыне напишу…» А недавно побывал в Москве граф Безбородко, тоже нашими делами интересовался. И ничего предосудительного не обнаружил.
— Слава богу, коли так, — сказал Багрянский.
— Ложи наши уже почти два года бездействуют, — продолжал Новиков. — Политическими материями мы не занимаемся, книги издаем самые безобидные. Кажется, придраться не к чему!..
Они приблизились к воротам небольшого парка, окружавшего усадьбу. В конце аллеи, ведшей от ворот к подъезду, стоял запряженный тарантас.
— Никак, гости! — воскликнул Новиков.
Они ускорили шаги. У крыльца стоял солдат с ружьем. Новиков поглядел на него с удивлением. В сенях стоял другой солдат.
— Барин приехал из Москвы, — доложил Федот. — Вас дожидается… Да вот и они сами!
По лесенке из мезонина спускался чиновник.
— Господин Новиков, ежели не ошибаюсь? — осведомился он, сухо поклонившись.
— Я Новиков! С кем имею честь?
— Алсуфьев. Надворный советник. Прибыл по повелению главнокомандующего, князя Прозоровского: произвести обыск в вашей усадьбе.
…Обыск продолжался недолго. Большая часть библиотеки и деловых бумаг Новикова оставалась в его городском доме. Все же чиновник отобрал несколько книг, писем и рукописей. К концу обыска Новиков почувствовал себя худо: он прилег на диван. Багрянский поднес флакон с нюхательной солью, стал растирать похолодевшие руки.
Чиновник сидел за письменным столом, составляя опись изъятых документов и книг. Закончив, он объявил:
— Придется вам, сударь, отправиться со мной в Москву. Надобно обыскать городское ваше домовладение…
Новиков не ответил. Глаза его были полузакрыты.
— Господин Новиков не может ехать, — сказал Багрянский. — Он болен…
— Все же придется, — повторил чиновник. — До Москвы не так уж далеко!
— Да он в обморочном состоянии, разве не видите?
— Прискорбно, но присутствие ихнее при обыске обязательно. Ежели угодно, обожду с полчасика.
— Господин надворный советник! — сказал Багрянский твердо. — Я врач и заявляю, что везти больного, находящегося в таком состоянии, опасно. На вас, сударь, ляжет ответственность за последствия. Они могут быть весьма тяжкими…
Чиновник помолчал.
— Хорошо-с! — сказал он наконец. — Пусть покуда остается здесь под караулом. Я представлю дальнейшее на усмотрение князя. Пока же попрошу подписать сию бумагу.
Он положил составленную опись на столик перед диваном, поставил чернильницу и перо. Новиков открыл глаза.
— Чего вам надобно? — спросил он шепотом.
— Подписи вашей, — сказал чиновник. — Под сей бумагой. Вот тут!
— Дайте перо! — Новиков, с трудом приподнявшись, подписал.
Чиновник уехал, оставив двух солдат в сенях.
— Кстати ты помянул Радищева! — сказал Новиков, пытаясь улыбнуться.
— Погодите еще, Николай Иванович! — Багрянский ласково обнял его. — Сами же давеча говорили: «Страшен сон, да милостив бог!»
Новиков покачал головой:
— Нет, братец, теперь сам вижу: дело худо! Беда! Не о себе тревожусь: детишки малые… Как они без меня проживут?
Багрянский заботливо ухаживал за больным: клал холодные компрессы на голову, горячие бутылки к ногам, обтирал ароматным уксусом, поил успокоительным бальзамом. Поздно ночью Новиков уснул. А около полудня в усадьбу примчался конный отряд с приказом: немедля доставить Новикова в Москву.
* * *
Князь Прозоровский сидел за столом, углубившись в бумаги. При появлении Новикова он не поднял головы. Новиков остановился, за его спиной стоял дежурный офицер. Прошло минут десять. Прозоровский поднял голову и поглядел заплывшими глазами из-под косматых седых бровей на стоявшего перед ним человека.
— Здравия желаю, ваше сиятельство! — поклонился Новиков.
Прозоровский не ответил, продолжая сверлить его суровым взглядом.
Новиков спросил:
— За что вы приказали арестовать меня, князь?
— Вопросы буду задавать я, — оборвал его главнокомандующий, — а вам надлежит отвечать.
— Извольте, князь! — сказал Новиков. — Я готов ответить на все, что вам угодно будет спросить… Не разрешите ли присесть? Я не совсем здоров.
— Потрудитесь постоять! Не с визитом явились! — буркнул князь и, выдержав паузу, торжественно молвил: — Отставной поручик Новиков. Арест ваш произведен по высочайшему повелению. Именем государыни императрицы приказываю вам сознаться в содеянных преступлениях, изложить дальнейшие ваши замыслы, ныне пресеченные властями, а также сообщить сведения о всех ваших сообщниках.
— Ваше сиятельство! — воскликнул Новиков. — Это же поклеп! Я верноподданный слуга государыни моей!
— Не надейтесь усыпить меня сладкими речами! — крикнул Прозоровский. — Ваша преступная шайка мартинистов задумала погубить православную церковь и царский престол. Вы вступили в тайные сношения со Швецией, с герцогом Брауншвейгским, с прусским министерством… А теперь дело дошло и до союза со злейшими врагами рода человеческого — французскими якобинцами!
— Господь с вами, князь! — в ужасе воскликнул Новиков. — Какие якобинцы?
— Да, да! — грозно подтвердил Прозоровский. — Государственная измена! Гнусный заговор! Сообщники ваши признались во всем. Советую, пока не поздно, последовать их примеру. Торопитесь!
Новиков едва держался на ногах. Он дышал с трудом, на лбу блестели мелкие капельки пота.
— Все это клевета, — сказал он тихо. — Ложный навет недругов моих. Самое подозрение в подобных злодействах почитаю для себя тяжким оскорблением…
— Скажите пожалуйста! — усмехнулся Прозоровский. — Экая птица! Оскорбили, вишь, его!
— Князь! — проговорил Новиков, едва переводя дыхание. — Прошу соблюдать приличия. Как бы то ни было, я российский дворянин.
— Молчать! — Прозоровский изо всей силы ударил кулаком по столу. — Не дворянин ты больше, но государственный преступник!.. Понятно?
— Пока меня еще никто не осудил, — сказал Новиков.
— За этим дело не станет!
— Государыня наша говорит: «Лучше простить десять виновных, нежели осудить одного невинного», — возразил Новиков.
— Не смей произносить имя той, которую намеревался с престола свергнуть и смертью извести.
— Ложь! — воскликнул Новиков.
Прозоровский подошел вплотную к арестованному:
— А что означают сношения ваши с известной персоной через зодчего Баженова? Для чего предлагали избрать персону сию великим магистром поганой вашей ложи? Какова была цель?
Новиков молчал, опустив голову.
— Ага! Затряслись небось поджилки! — злорадно крикнул князь. — Проняло наконец!.. Теперь сам видишь: все известно! Тут, братец, не отопрешься!
Новиков поднял голову:
— По сему пункту дам подробные объяснения. Но, клянусь, дурных намерений не было у нас.
— Ну гляди, Новиков! — сказал Прозоровский. — Будешь упрямиться, пеняй на себя. Посидишь недельку-другую в каземате на хлебе да воде, авось образумишься. И больным не прикидывайся! Не поможет.
2
Поднявшись рано поутру, Степан Иванович Шешковский отправился по обыкновению в церковь. Отстоял исправно службу, шепча заученные слова молитв и тихонько подтягивая певчим. Взял две просфоры, подошел под благословение к священнику. Троекратно осенив себя крестным знамением, приложился к образу заступника и молитвенника своего, великомученика Стефана, и, выйдя из церкви с просветленным лицом и легкой душой, поехал в Зимний дворец.
Через потайную дверь его впустили в царицын кабинет. Только Шешковский да нынешний фаворит, граф Платон Зубов, пользовались этой привилегией.
Екатерина уже сидела у письменного стола в халате и ночном чепце. Она сильно располнела за последние годы. Ни толстый слой румян и белил, ни искусно подведенные глаза не могли скрыть зловещих признаков наступившей старости: сеть мелких морщин, складки дряблой кожи на жирной шее…
Степан Иванович склонился над милостиво протянутой ручкой, справился, хорошо ли государыня изволила почивать, и деловито раскрыл папку с бумагами.
— Перво-наперво о Новикове, ваше величество! — объявил он.
Екатерина кивнула.
— Доносит Прозоровский, что аспид сей упрямится. Законов, говорит, не нарушал, недозволенного не печатал…
— Что за вздор! — прервала царица. — А эта, как, бишь, ее? «История об отцах соловецких…» Так, что ли? Ясно было указано: кроме синодальной типографии, нигде церковных книг не печатать!
— Новиков объясняет, что сочинение сие не есть церковное, но историческое… Да это же пустое, государыня! Самое для нас важное — раскрыть заговор, измену государственную. Но опасаюсь… Князю не справиться…
Шешковский извлек из папки несколько бумаг и вооружился лорнетом:
— Не угодно ли послушать, что он мне пишет: «Относительно Новикова, то вам теперь уже известно, что он под караулом. Сердечно желаю, чтобы вы ко мне приехали, а один с ним не слажу. Этакого плута тонкого еще видеть не приходилось…»
— Да, — молвила императрица размышляя. — Прозоровский старателен, предан. К сентиментам не склонен. Вольнодумцев и щелкоперов не терпит. Все это ладно!.. Однако малообразован и недалек. Нет у него проницательности твоей, Степан Иваныч.
Шешковский скромно опустил глаза.
— Еще пишет князь, что приглашал к себе прочих московских мартинистов: Ивана Тургенева, Лопухина, Трубецкого…
— Что же они?
— Как и можно было ожидать, себя выгораживают. Дескать, признаем, что в ложе состояли, но исключительно ради просвещения и благотворительности. О сношениях же с державами иноземными якобы знать не знают. Все на профессора Шварца валят да на барона Шредера…
— Чего проще! — усмехнулась Екатерина. — Один десять лет как помер, другой за границу укатил.
— И от Новикова также отрекаются, — продолжал Шешковский. — Уверяют, что в последние годы с ним вовсе разошлись, ибо он к идеалам масонским сделался равнодушен, увлекся материями посторонними, как-то: политической экономией, учреждением школ. Погряз в делах типографских и книжной торговле… И будто Новиков их запутал в сети…
— Ах младенцы невинные! — иронически заметила Екатерина.
Шешковский усмехнулся:
— А ведь и впрямь сущие младенцы! Им невдомек, что письма ихние мы просматривали да копировали, что среди членов их общества были мои люди, приставленные для наблюдения. У меня о господах мартинистах имеются подробные сведения. Переписка Лопухина с проживающим в Берлине Кутузовым, письма студентов Колокольникова и Невзорова из Лейдена и Геттингена, врача Багрянского из Страсбурга и Парижа.
— Знаю! — сказала императрица. — Переписку эту ты мне давал… Прочла! Дурачеств масонских там сколько угодно. Однако революционных умыслов не обнаружила.
— Верно! — согласился Шешковский. — А как насчет сношений их с цесаревичем Павлом Петровичем?
— Тебе что-нибудь известно? — заинтересовалась Екатерина. — В переписке как будто о цесаревиче не упоминается!
— Может быть, из осторожности? — предположил Шешковский. — О сношениях Новикова с великим князем Павлом Петровичем знали Трубецкой, Лопухин, Тургенев, Херасков и прочие. Прозоровский советует взять их под арест и учинить допрос с пристрастием.
Екатерина задумалась.
— Нет! — сказала она наконец. — Не годится. Это отпрыски знатнейших русских фамилий. Шум пойдет!.. Да, и конечно, они не чета Новикову! Тот истинно зловреден, а они только шалят от скуки да безделья! Достаточно будет с них высылки из Москвы. Пусть отправляются в поместья свои и сидят там безвыездно. Подобно строгановскому сынку. А дальше видно будет… Что студенты твои? Заговорили?
Шешковский ответил:
— Колокольников толковые показания дает, а Невзоров несет чушь, буйствует… То ли комедию разыгрывает, то ли и впрямь с ума спятил. Ну да я его выведу на чистую воду. На днях еще одного молокососа в экспедицию доставили. Сумароковский приемыш, Хераскова с Новиковым воспитанник. Проживал в Париже. Куралесил там с молодым Строгановым да с бездельником Ерменевым, живописцем.
— Ерменев? — переспросила Екатерина. — Знакомое имя, а кто он — не припоминаю.
— Как же! Отец его у покойной государыни Елизаветы Петровны в кучерах был. А этого мальцом взяли во дворец. Вместе с великим князем Павлом Петровичем играли да учились.
— Теперь вспомнила…
— Он, Ерменев, и в дальнейшем пользовался покровительством великого князя. А в Париже состоял на его иждивении. За какие такие заслуги — непонятно: в художествах вовсе не преуспел.
— Прелюбопытно! — Екатерина опять задумалась. — Мне Симолин докладывал, что в Париже какие-то русские являлись в Собрание национальное, речи произносили, приветствия… Так ты разузнай, кто именно.
— Уж будьте покойны, матушка-государыня! — сказал Шешковский. — Как же изволите приказать: отправляться мне в Москву, в помощь князю, или нет?
— Не нужно! — ответила императрица. — Лучше Новикова к тебе доставить. Заготовь указ Прозоровскому: немедленно препроводить его под стражей.
— Слушаю, государыня!
— А живописца этого, Ерменева, допроси повнимательнее да построже! Не было ли каких поручений от цесаревича либо к нему?
— Я и сам так полагал, ваше величество…
Шешковский поднялся. Царица протянула руку для поцелуя.
— Да, вот еще что, Степан Иваныч! Пытки-то я запретила. Надеюсь, помнишь?
— Как не помнить? Однако, ежели кнутом малость поучить упрямца, разве это пытка?
— Кнутом? — Екатерина слегка поморщилась. — Ну, может быть, самую малость. Для острастки! А пытать не нужно. Не в турецких владениях живем, не в Персии!
Из Зимнего Степан Иванович отправился к себе, в Тайную экспедицию. Его рабочий кабинет помешался в небольшой сводчатой комнате. В углу, против двери, находился иконостас. Образов было множество, теплились лампады, горели восковые свечи. На аналое лежала толстая библия. Степан Иванович снова помолился, кладя низкие поклоны и размашисто крестясь. Затем уселся за стол, дернул шнур колокольчика. Вошел дежурный прапорщик.
— Аникина сюда!
Через некоторое время прапорщик ввел Егора в кабинет. Шешковский сделал знак. Прапорщик вышел, плотно прикрыв за собой дверь.
— Здравствуй! — сказал Шешковский приветливо. — Что ж ты, братец, словно басурман? Входишь, святым иконам не кланяешься!
Егор перекрестился.
— То-то! — сказал Степан Иванович добродушно. — А я было испугался: неужто молодой человек вовсе от православной веры отрекся! Ну поди сюда, поближе! Садись-ка здесь вот, побеседуем!
Егор присел у стола, напротив Шешковского.
— Аникин Егор? — спросил Степан Иванович. — А по батюшке?
— Степаныч, — ответил Аникин.
— Стало быть, мы с твоим отцом тезки!.. Жив он, отец твой?
— Помер, — ответил Егор. — Во время московской чумы. И матушка также.
— Ай-ай-ай! — Шешковский сочувственно покачал головой. — От чумы? Кто же тебя, сиротинку, кормил, поил, грамоте учил?
— Сперва призрел меня покойный сочинитель Сумароков, Александр Петрович. Его заботами был в гимназию определен, а по окончании в университет поступил. Находился на попечении Михаила Матвеевича Хераскова и господина Новикова. Премного им обязан просвещением своим.
— Вижу, умеешь ценить добро, тебе оказанное. Похвально, весьма похвально! Кажется мне, что ты человек правдивый, откровенный. Не так ли?
— Кажется, так.
— Отлично… Кто же всем нам, россиянам, есть первый благодетель? Не матушка ли государыня, Екатерина Великая? Ей обязаны мы служить верой и правдой, открывать ей все самые сокровенные наши помыслы!
Егор молчал.
— А чем занимался ты, Аникин, в городе Париже? — спросил Шешковский. — Расскажи-ка об участии твоем в революции тамошней.
— В революции французской я не участвовал, — ответил Егор.
— Так ли? — Шешковский посмотрел на него прищурившись.
— Уверяю вас, сударь!
— Ах скрытный какой!..
Шешковский порылся в папке, извлек оттуда лист исписанной бумаги и, поднеся к глазам лорнет, стал читать:
— «Понятно, что французы, терпевшие столь сильные притеснения от аристократии, ожидают ныне вольности и справедливости. Не законно ли их стремление превратиться в свободных и равноправных граждан своего отечества?» Это кто же писал?
Егор, подумав с минуту, ответил:
— Кажется, я.
— А здесь, несколькими строками ниже: «Не вижу для себя необходимости покидать Париж в такие знаменательные дни». Тоже тобой писано?
— Мной.
— Как же ты отрицаешь, что участвовал в революции?
Егор задумался:
«Откуда у него это письмо? Неужто Страхова тоже взяли? А может быть, Багрянского? Нет, не Багрянского! Письмо было получено Петрушей, он на него ответил. Стало быть, Страхова!»
— Не смущайся, Аникин! — ободрил его Шешковский. — Отвечай, как на духу. Именем государыни спрашиваю.
— Я вам не солгал, сударь, — сказал Егор. — И впрямь был я рад, что представился случай наблюдать важные события исторические. Но, повторяю, участия в них не принимал, оставаясь лишь зрителем.
— Отчего же? Разве не был ты согласен с идеями французских вольнодумцев?
— Этого не отрицаю. Но убийств и казней, совершавшихся на моих глазах, одобрить не мог.
Шешковский усмехнулся:
— Чудак ты, право! Воззрения бунтовские разделял, а как до дела дошло — оробел… Уж коли борьба началась, как тут без жестокостей обойтись! Ну, а приятели твои: Иван Ерменев, граф Павел Строганов? Они тоже были только зрителями?
Егор замялся:
— Ерменев — художник, политикой не интересовался. А граф Павел Александрович слишком еще юн…
— Э, Аникин, нехорошо! — укоризненно заметил Шешковский. — Гляжу я, хитришь, изворачиваешься… Стыдно, братец!
Егор молчал, лицо его залилось краской.
— Известно тебе, где находишься?
— Разумеется. В тюрьме. А в какой — не знаю. По распоряжению российского посольства выехал я из Парижа на родину вместе с другими соотечественниками.
— С кем именно?
— С Ерменевым и с молодым графом Строгановым… Еще были с нами двое художников. Да вы, должно быть, все это знаете!
— Сие тебя не касается! — сказал Шешковский. — Коли спрашиваю, должен отвечать! Далее как было?
— У границы на заставе был задержан. Разлучили меня со спутниками моими, усадили в карету и повезли под
стражей. Карета наглухо закрыта, окошки завешены, ничего и не видел по пути.
— Слыхал ты когда-нибудь о Тайной экспедиции?
— Слыхал!
— А о начальнике ее, Шешковском?
— О да!
— Так вот, здесь эта самая Тайная экспедиция и находится, а Шешковский перед тобой. Понятно? Да ты не пугайся! Ежели будешь показывать все без утайки, худого тебе не сделаю. Откровенность твою и признание чистосердечное оценю по достоинству. Покаешься, сразу на душе легче станет, ну, а коли заупрямишься, тогда, конечно, худо… Кнутиком погреем, кнутиком! Ох, неприятная экзекуция! Не дай господь испытать! Так что ты, голубчик, уж сделай милость, не доведи до этого. Советую, как отец родной… Да, кстати, ты ведь обманул меня, Аникин. Отец-то твой вовсе не от чумы помер…
— От чего же? — изумленно спросил Егор.
— Казнили твоего батюшку. За бунт злодейский, за душегубство… У Пугачева Емельки подручным был.
— Что вы! — воскликнул Егор. — Быть не может.
— Повесили его, дружок, повесили! — повторил Шешковский грустно. — Уж я точно знаю. Тебе, может, и не сказывали, дабы не огорчать. А я человек прямой! Лучше, ежели узнаешь о тяжких прегрешениях родителя и постараешься искупить их перед богом и государыней.
Егор опустил голову, по щекам его медленно ползли слезы.
Шешковский подал ему несколько листов бумаги:
— Вот тебе, Аникин, вопросы! Ответишь письменно. Чем подробнее, тем лучше. Даю тебе сроку пять дней…
Он дернул шнур сонетки.
— Возьмите арестанта! — приказал он явившемуся на зов прапорщику. — А про кнутик, Аникин, не забывай! Ступай себе!
Петр Иванович Страхов вышел из аудитории, окруженный гурьбой студентов. Обычно после прочитанной лекции он всегда ощущал подъем и приятное удовлетворение. Но в последние дни на душе у него было невесело. Арест Новикова, вызвавший смятение в университетских кругах, для Страхова был особенно тяжким ударом. Петр Иванович был учеником и другом Новикова, одним из его ближайших помощников.
В юности, под влиянием Новикова и Хераскова, Страхов вступил в «Братство вольных каменщиков». Но постепенно он охладел к масонскому учению. Обстоятельства сложились так, что ему пришлось читать в университете общий курс физики, хотя до тех пор он занимался главным образом словесностью и риторикой. Благодаря выдающимся способностям и прилежанию он отлично справился с этой задачей, а затем искренне увлекся новой специальностью.
Занятия физикой изменили его прежний образ мыслей. Мистические бредни, подменяющие разумное познание мира таинственными откровениями, символические обряды, совершавшиеся в масонских ложах, теперь представлялись ему нелепостью, глупым суеверием.
Но дружба его с Новиковым нисколько не ослабела. Новиков и сам к мистической философии относился равнодушно, даже несколько иронически, и за это его порицали и недолюбливали в масонских кругах. Все же Новиков оставался в мартинистском обществе, нуждаясь в его поддержке для своих просветительных начинаний. По этой же причине и Страхов не порывал связи с масонами.
…Университетский швейцар подал Петру Ивановичу небольшой пакет. Страхов вскрыл его, быстро пробежал краткое послание и, поспешно попрощавшись с провожавшими его юношами, вышел на улицу. У подъезда его ожидала коляска.
Петр Иванович приказал кучеру:
— На Пятницкую, к Полежаевым!..
Слуга, открывший дверь, сказал, что Авдотья Кузьминична находится в конторе. Страхов прошел через двор к флигелю. Полежаевский дом не блистал изяществом барских особняков, но был просторен и удобен. В обширном дворе помещались флигели, сараи, склады, погреба, конюшня. Позади двора, за деревянным забором, раскинулся сад.
Хозяйка сидела у конторского стола. Она так углубилась в бумаги, что не заметила появления гостя.
— Доброго здравия, сударыня! — сказал Петр Иванович.
Хозяйка подняла голову.
— Вот радость-то! — улыбнулась она. — Пожаловал наконец!
— Вижу, помешал, — сказал Страхов. — Да я ненадолго.
— Какой дурень привел тебя сюда? — пожала она плечами. — Нехорошо здесь. Нечисто… Пыль, духота… На что у меня гостиная есть?
— А я с намерением! — ответил Петр Иванович. — Дама за конторскими счетами да еще эдакая красавица — зрелище любопытное.
Дуняша улыбнулась:
— Ну, ну! Пойдем отсюда. В беседке посидим. День нынче жаркий. Чем прикажешь потчевать? Кваску или чего-нибудь погорячее? У меня мадера заморская — первый сорт!
— Все равно, — сказал Страхов. — Потолковать надобно.
— Распорядись, Яков Лукич! — обратилась хозяйка к управляющему. — А счета отложим до вечера.
Они пошли к беседке. Сад был невелик, но отлично разделан: подстриженный газон на французский манер, превосходные цветники, чисто выметенные аллеи.
— Не совестно ли старых друзей забывать? — говорила Дуняша.
— Я заезжал недавно, да ты была в отъезде.
— Верно, только неделю, как из Твери воротилась.
— Все по делам?
— Фабрика там у меня полотняная… Приходится! После смерти Тимофея Степаныча все на мне одной. А дел много! Кроме фабрики, склады да лабазы в Москве, сибирские рудники…
— Нелегко тебе!
— Зато не скучно… Вдова, детей бог не дал. Без дела совсем тошно.
— Ты бы снова замуж пошла!
— Куда там! Старость на пороге. Тридцать седьмой годок пошел.
— Неужто в зеркало не глядишься? — спросил, улыбаясь, Страхов. — Хороша, как и прежде!
— Некогда мне собой любоваться, — тоже улыбнулась Дуняша. — Да нет, я пошутила! Была бы охота, жениха найти можно. Только не нужно мне. Ну, а ты, Петруша, каково поживаешь?
— Об этом после! — сказал Страхов. — Прежде о деле…
— Должно быть, насчет Новикова? — спросила Дуняша.
— Тебе уже все известно?
— Как же? Не успела в Москву воротиться, тотчас же пригласили меня к самому главнокомандующему.
— Вот как! — Страхов был обеспокоен. — И что же?
— Расспрашивал князь, много ли денег давала я Новикову и по какой причине. А больше интересовался Походяшиным. Хочется ему изобразить, будто Новиков нас, купцов, обольщал и надувал… Ничего он от меня не добился. Деньги, говорю, мои, куда хочу, туда их и жертвую! А господина Новикова почитаю честнейшим человеком. Он поступил истинно по-христиански, оказав помощь голодным мужикам. И нам с Походяшиным не зазорно пособить такому благоугодному делу.
— Обо мне князь осведомлялся? — спросил Страхов.
— Нет… Пробовал он меня стращать, но я ведь не робкого десятка.
Петр Иванович покачал головой:
— Бог знает, как все обернется! Книгопродавцев Кольчугина, Сверчкова, Козырева, Тараканова на днях тоже под арест взяли.
— Слыхала. Это все мелкота! А с именитым купечеством царице ссориться нет расчета.
— Так, говоришь, обо мне князь не упоминал? — еще раз спросил Страхов.
Дуняша улыбнулась:
— Ты, я вижу, напугался? Понятно! Опасаешься, что из университета прогонят, а может, того, хуже?.. Все может случиться… Однако, думаю, обойдется. Слишком многих пришлось бы наказывать. Какой смысл? Вот Новикову действительно худо… Ах, горе какое! Золотой человек! Ничего бы не пожалела, чтобы его выручить.
— Знаешь ли, что вчера Николая Ивановича под конвоем увезли из Москвы? — спросил Страхов.
— Нет, этого не знала. Куда же?
— Надо полагать, в Питер. К Шешковскому.
Дуняша задумалась.
— Да, худо ему придется! — повторила она. — Впрочем, может, так и лучше. К здешнему генералу — Прозоровскому — не подступишься: не возьмет. А Шешковский, говорят, до денег жаден.
— Вздор! — возразил Страхов. — Новиковским делом сама царица занимается… Но послушай, Дуняша! Только что получил я письмо. Написано по-французски, а подпись стоит «Павел Строганов». Кажется, петербургского графа, Александра Сергеевича, сын…
— Богат! — сказала Дуняша с уважением. — Ох как богат!
— Письмо краткое. Сообщает, что в Париже подружился он с нашим Егором. Вместе возвращались в Россию. Еще был с ними Ерменев. Ты помнишь его?.. На границе всех задержали. Ерменева и Егора порознь увезли под стражей неведомо куда. Строганову же было велено ехать в свое поместье и оставаться там. Он и решил оповестить меня, ибо не раз слышал мое имя от Егора. Оттого я к тебе и поспешил.
— Этого надо было ожидать, — сказала Дуняша. — Из Парижа вернулись, из самого ада, так сказать! Надобно прежде всего разузнать, где он, Егор. Должно быть, тоже в Питере. Ежели так, я сама туда поеду, погляжу, чем можно ему помочь.
— И Ерменеву также! — добавил Страхов.
Дуняша пожала плечами, брови ее слегка сдвинулись.
— Не могу я обо всех страждущих печься… А Егорушка мне как брат. Больше брата!
Пятнадцатого мая Новикова вывезли из Москвы в сопровождении конвоя из двенадцати гусар. В четырехместной коляске ехали Новиков и Багрянский под присмотром начальника отряда, князя Жевахова, и еще одного офицера. Конвой следовал в строго секретном порядке, не обычным путем, а через Владимир, Ярославль, Тихвин. Не заезжая в Петербург, арестованного доставили прямо в Шлиссельбургскую крепость и заключили в камеру, где некогда томился неудачливый наследник российского престола — Иван Антонович. В тот же день в Шлиссельбург прибыл Шешковский. Началось мучительное и долгое следствие. Одновременно продолжались допросы других обвиняемых.
Старания Шешковского и московского главнокомандующего князя Прозоровского доказать наличие мартинистского заговора с целью произвести государственный переворот не увенчались успехом. Из материалов дела императрице стало ясно, что заговора не существовало, о сношениях же Новикова с французскими якобинцами и вовсе речи быть не могло.
Тем не менее участь Новикова оказалась печальной. Он был признан заслуживающим смерти, но императрица снова проявила свое неизреченное милосердие, заменив казнь заключением в Шлиссельбургской крепости сроком на пятнадцать лет.
— Ужасно! — воскликнул Страхов, услышав эту весть от Дуняши, только что возвратившейся из Петербурга. — Это еще хуже радищевского приговора.
— Я же говорила, что ему придется худо… Еще двое студентов ваших пострадали! Колокольникова в больницу свезли, не сегодня-завтра помрет, Невзорова — в сумасшедший дом. Егорушку нашего присудили к ссылке в отдаленные места на шесть лет. Но это еще полбеды! Выхлопотала я позволение ему поселиться при моем руднике.
— Экий ты молодец! — заметил Петр Иванович с неподдельным восхищением. — Должно быть, обошлось тебе это в копеечку?
— Задаром, Петруша, на этом свете ничего не получишь, — улыбнулась Полежаева. — Авось не разорюсь! Кстати, будучи в Питере, заключила недурную сделку. Поблизости от моего рудника есть другой, государственный. Совсем захудалый — одни убытки! Так я рудник этот взяла в аренду у берг-коллегии. Господа чиновники были рады сбыть его с рук. А у меня через годика два дело пойдет получше.
— Ах умница! — засмеялся Страхов. — Любого купца за пояс заткнешь!
— Купец купцу рознь, — скромно заметила Дуняша и продолжала свой рассказ: — Тургенева велено сослать в симбирское его поместье, князя Трубецкого — в воронежское. С Багрянского, Михаила Ивановича, обвинение снято. Однако он сам пожелал остаться со своим другом и покровителем Новиковым, ибо тот болен и нуждается в его помощи.
— По доброй воле в крепость? — воскликнул Страхов.
— Каков человек! — сказала Дуняша почти с благоговением. — Стало быть, среди ученых господ находятся и такие…
Петр Иванович помолчал.
— Багрянский одинок, — сказал он, — а у других семья…
— К чему оправдываться? Я тебе не судья. Только так, к слову упомянула.
— Мне и самому стыдно. Да, к сожалению, духа не хватает. Люди не ангелы!
— Что верно, то верно! — согласилась Дуняша и, помолчав, добавила: — Пробовала я разузнать о Ерменеве… Ничего о нем не известно.
3
На крюке под самым потолком висит маленькая плошка. Скупое ее пламя освещает бревенчатые стены, трехэтажные нары. Каторжные спят, натянув на себя арестантские полушубки. На верхних нарах, в углу, идет игра в орлянку при свете огарка. Внизу кучка людей собралась вокруг одноглазого арестанта.
— Подступил он со своим войском к городу, — рассказывает одноглазый. — Такая поднялась кутерьма, что передать невозможно. Изо всей округи помещики пустились бежать, кто на чем горазд… И городские, и приказные, и попы! А солдат там было немного: постреляли из ружьев, раза два из пушки ударили и тоже наутек! Наутро вступает Пугачев в город. Стелят ему ковры на площади перед собором, ставят кресло на помосте, и починает он творить суд и расправу… Всех, говорит, кто мужичков русских обижал, смертью казню!
— А был он всамделе царь или самозванец? — спросил молодой парень.
— Вестимо, царь!
— Полно брехать, кривой! — откликнулся с верхних нар один из участников игры. — Варнак он был, твой Емелька. Казачишка беглый!
— Цыц, Мишка! — возмутились слушатели. — Не мешай! Знай, мечи свою монетку!
— Я так скажу, братцы, — продолжал кривой. — Может, и не был он истинно государь Петр Федорович, но что царем рожден, это уж так и есть. С одного взгляда видно! Осанка царская, глаза огнем горят, голос, как труба!..
— Давно это было? — спросил паренек.
— Давно! — ответил кривой. — Ты еще на свет не народился. Мне тогда, кажись, пятнадцатый годок пошел, а ныне, должно, под сорок, я и счет потерял! Эх, братцы!.. Кабы не измена, побил бы Емельян всех царицыных енералов, завоевал бы Москву, потом и Питер… Немецкую шлюху с престола долой да в темницу! А сам воссел бы на трон, и пошла бы на Руси совсем иная жизнь.
— Тогда бы и нас на волю отпустили, — вздохнул кто-то.
— А как же! — подтвердил рассказчик. — Беспременно!.. Бывало, явится Пугачев куда-либо, первым делом идет в острог. А ну, выходи, народ православный! Конец пришел вашим мукам! И сразу арестантиков берет в свое войско.
— Эх горе! — опять вздохнул парнишка. — А теперь пропадем мы в Сибире треклятом.
— Не увидим ни жен, ни детишек! — подтвердил другой. — Сгниют в тайге наши косточки, никто на могилке креста не поставит!
— Экий вы народ! — с укором молвил кривой. — У вас срока хоть и долгие, а когда-нибудь придет им конец… Ты, Алешка, еще совсем молодой. Отбудешь свои пятнадцать годов, воротишься на родную сторону. А я бессрочный, мне дожидаться нечего, однако не отчаялся еще… Конечно, ежели сидеть сложа руки, дожидаться второго пришествия, — добра не будет. Под лежачий камень и вода не течет.
— А чего делать? Бегать, что ли?
— Отчего бы и нет! — сказал кривой. — Я дважды бегал.
— И бессрочную заработал! — насмешливо заметил один из арестантов.
— Два раза поймали, авось третий повезет! — ответил спокойно кривой.
— Да куды податься? — с тоской спросил молодой парень. — Куды?.. Кругом тайга, язви ее в печенку! Мороз лютый! Сто верст пройдешь, жилья не увидишь…
— И, милок! — возразил кривой. — Порассказал бы я тебе, как люди из острогов уходили! Тут недалеко село большое, верст полтораста, не боле. А в селе государственные мужики беглого не продадут. Спрячут да еще в путь-дорогу снарядят… Конечно, теперь не время. Надобно лета дождаться. В тайге ягоды будут, коренья разные. Да заране хлебцем запастись…
— Здоров ты, Василий, сказки сказывать! — с досадой отозвался сидевший в сторонке старичок. — Это и молодому нелегко, а каково человеку в годах.
— Это верно! — согласился кривой. — Старость не радость! Только, по-моему, лучше пусть в тайге звери дикие растерзают, чем в остроге томиться, в руднике, во тьме и сырости, спину гнуть, да чтоб над тобой псы измывались.
— Ты объясни, как из острога уйти, Василий! — с жаром воскликнул парнишка. — Стражи-то сколько, замки пудовые на ногах, на руках оковы железные. Черта пухлого убегешь!
— Дело не простое, — сказал кривой. — Хорошенько обмозговать надобно… У меня на этот счет немало дум думано.
— А ты расскажи!..
Наверху между играющими закипела ссора.
— Мошенник ты, Мишка! Решка выпала, я сам видел… Отдай мои денежки!
— Я те отдам, гнида! Так отдам, что более не попросишь!
— Отдай!
Послышались глухие удары, истошный крик…
— Опять Мишка куражится! — сказал молодой парень.
Кривой поднялся и, позвякивая кандалами, пошел в тот угол, где затеялась ссора.
— Не трожь его, Мишка! — сказал он негромко, но повелительно. — Отпусти!
— Чего встреваешь, кривой! — откликнулся Мишка сверху. — Я его, подлюгу, выучу уму-разуму!
Василий ухватился за перекладину и легко подтянулся наверх.
— Сказано: отпусти человека!.. А ты, дурья голова, — обратился он к пострадавшему, — зачем в игру лезешь? Нешто не знаешь, что он жмот и мошенник?
— Чучело одноглазое, рваные ноздри! — заорал Мишка и ткнул Василия ногой в грудь.
Кривой удержался и, схватив Мишку за ногу, рванул его к себе. Мишка с грохотом скатился с нар. Поднявшись с пола, он с исступленным воем кинулся на кривого.
Загремели запоры, дверь распахнулась, появился надзиратель с двумя солдатами.
— Это еще что, сукины сыны!
Солдаты с трудом разняли дерущихся.
— Завтра каждому по двадцати горячих! — распорядился надзиратель. — А вы, воровское отродье, но местам, дрыхнуть! Не то всех перепорю!
Он обвел грозным взглядом арестантов.
— Ваше благородие! — торопливо шепнул Мишка надзирателю. — Заберите меня отсель, я вам что-то расскажу.
Надзиратель недоверчиво поглядел на арестанта. Тот многозначительно подмигнул.
— Этого взять! В холодную! — приказал надзиратель.
Солдаты схватили Мишку под руки. Стража удалилась, снова загремели запоры…
— Зачем его увели, Мишку-то? — удивился молодой парень.
— Должно, не зря! — отозвался кривой. — Продаст, собака! Все начальству перескажет, что промеж нас было говорено.
— Теперь добра не жди, — согласился старичок. — Беспременно продаст!
4
Егор Аникин идет из рудничного поселка. Над тайгой поднимается солнце. Розовеет снег на крышах, клубы дыма висят над печными трубами. Мороз трескучий! До острога верст пять, но идти не трудно, даже приятно. Хуже осенью или весной, когда брызжет колючий, холодный дождик и то и дело проваливаешься в полыньи.
А в такой зимний день — хорошо. Тихо, безветренно. Сияет солнце в чистом небе, по сторонам непроходимая чаща в белом кружеве изморози…
Уже четыре года Егор живет здесь, в доме Полежаевой. Это большое деревянное строение, по здешним понятиям — дворец. Дом разделен на две половины: в одной три жилые комнаты, в другой рудничная контора. Служанка стряпает Егору еду, хлопочет по хозяйству. Есть у него и занятие: он исполняет обязанности врача. Полежаева выстроила в поселке больницу с четырьмя палатами. Больница редко пустует. Чаще всего приносят сюда рабочих, пострадавших в руднике: одного бадьей зашибло, другой ногу сломал, третьего придавило… Случаются и другие болезни: чахотка, цинга, тифозные горячки.
Егор единственный лекарь на всю округу. А округа — верст четыреста. Ему помогает старик ссыльный, бывший военный фельдшер, и две женщины, которых он обучил уходу за больными. Они готовят отвары, настойки, бальзамы, капли, мази, порошки из собранных в летние месяцы трав, из игл пихты, сосны, лиственницы. Более сложные снадобья и всякие врачебные инструменты привезла Полежаева из Москвы.
С утра до вечера Егор занят в больнице. Кроме того, два раза в неделю он ходит в острог — лечить каторжан. Больницы там нет, но благодаря хлопотам той же Полежаевой при гауптвахте отвели горницу для тяжелобольных. Вот и сейчас он направляется туда, на обычный осмотр…
Дел много. Скучать как будто не приходится. Вечерком можно почитать: с каждой почтой приходят из Москвы — от Петруши Страхова — русские и французские книги.
За это время дважды он видел Дуняшу: один раз вскоре после приезда, другой прошлым летом. Ах какая это была радость! Сколько бесед, рассказов, новостей!
Правда, не очень-то утешительными были эти новости. Новиков томился в Шлиссельбурге, Радищев — в Сибири, в илимском остроге, Денис Фонвизин недавно умер, Княжнин также. Представленная, уже после его смерти, трагедия «Вадим новгородский», прославлявшая вольность, была запрещена. Херасков чудом уцелел и даже сохранил свою должность, но был смертельно напуган и отошел от общественной деятельности.
Императрицу, ее вельмож и чиновников преследовал призрак революции. Прежние увлечения французской философией и литературой были забыты Французов, издавна живших в России, приказано было выслать, если они не принесут присягу верности старому режиму; но и тех, кто был оставлен, подвергли строгому полицейскому надзору. На французские книги, драматические сочинения, даже на моды был наложен запрет.
…И все же тянет в Москву, в большой мир. Одинок Егор в этой сибирской глуши: не с кем побеседовать по душам, поделиться воспоминаниями о прошлом, размышлениями о будущем… Дуняша пробыла на руднике около двух месяцев, потом укатила обратно в Москву, и потекла однообразная жизнь. В поселке есть еще несколько ссыльных из чиновников и мелких дворян. Двое служат в рудничной конторе, другие живут без дела, на деньги, присылаемые родней. Осудили их за какие-то неблаговидные дела, не имеющие ничего общего с политикой. Все это люди малообразованные, серые, совсем опустившиеся, беседовать с ними не о чем.
Несколько раз Егор ездил в село, верст за полтораста. Ему хотелось познакомиться с бытом сибирских государственных крестьян, сблизиться с ними. Но ничего путного из этого не вышло. Ему были чужды их разговоры о хозяйстве, о семейных радостях и неладах. Он и речь-то их понимал с трудом. В конце концов Егор перестал наезжать в деревню, разве только приедут за ним от тяжелобольного…
Тоскливо, что и говорить!.. Перебирая в памяти все прошлое, он с удивлением и даже страхом вдруг понял, что, собственно говоря, настоящая жизнь еще не началась… Недавно ему минуло тридцать лет, юность уже позади, а он все еще какой-то неприкаянный! Всегда при других, под чьим-то крылышком: сперва Сумароков, потом Новиков с Херасковым и Петрушей Страховым, теперь Дуняша… Не было у него ни невесты, ни возлюбленной. Отчего это? В Париже знакомые студенты и художники легко и просто сходились с модистками, швейками, певичками, горничными. Они охотно рассказывали о своих любовных приключениях. Егор выслушивал с интересом, с каким обычно относился к чужим радостям и огорчениям. Иногда даже давал советы. Но эти пошлые интрижки не прельщали его, и если порой он завидовал, то только легкости, с которой его приятели относились к любовным делам.
Ему же хотелось другого. Он мечтал о чувстве высоком и святом, о той любви, которую воспевали поэты в лирических сонетах и стансах или Руссо в «Новой Элоизе»… Не часто встречались ему женщины, достойные такого чувства… В ранней юности такой представлялась ему Дуняша, потом племянница Хераскова, с которой он виделся так недолго, наконец парижская актриса, мадемуазель Конта… Но все они были так далеки, так недосягаемы! А больше никого он не встретил… Что ж поделаешь!
…Вот и острог! Высокий сплошной забор из кольев, у ворот часовые… Егор направился к гауптвахте.
— Как тут у вас?
— Есть один, — ответил дежурный фельдфебель.
— А что с ним?
Фельдфебель откашлялся.
— Перегрели малость. Задумал, вишь, побег да других подговаривал. Васька кривой, бессрочник, первый баламут! Ну, капитан и распорядился: двести розог… Многовато, конечно. Кажись, всю шкуру спустили.
— Двести розог! — в ужасе воскликнул Егор. — Да это смертоубийство!
— Молодой вытерпит! — глубокомысленно заметил фельдфебель. — А этот в летах. Давно на каторге, в каких только острогах не побывал… Два раза бегал, опять захотел. Сам и виноват. Поглядишь его, что ли?
— Пойдем!
Они вошли в больничку, отделенную от гауптвахты сенями. Маленькая горенка в два окошка с толстыми решетками. Тяжелый кислый дух. Холодно.
Егор подошел к арестанту. Больной лежал на тюфяке, набитом сеном; вместо одеяла арестантская дерюга. Глаза его закрыты, губы запеклись… Егор отвернул покрывало, осторожно приподнял рубашку. Вся спина была сплошной раной.
— Когда была экзекуция? — спросил Егор фельдфебеля.
— Третьего дня.
— Зачем же сразу не позвали? Ведь перевязать надобно. Гляди, что с человеком сделали.
— Вчерась не мое было дежурство, — пожал плечами фельдфебель.
— Вели принести теплой воды! — попросил Аникин.
Он раскрыл баул, вынул марлю и пинцет.
Солдат принес ведро с водой. Егор принялся обмывать раны. Больной застонал и проснулся. Аникин поглядел на него: один глаз вытек, ноздри вырваны, на лбу и щеках глубокие шрамы, щеки в оспинах…
— Пить! — прохрипел больной.
Егор зачерпнул железной кружкой воду, поднес к губам. Кривой с трудом сделал глоток и откинулся.
— Лекарь? — спросил он горячим шепотом. — Видал, как отделали?
— Ничего, ничего! — тоже шепотом сказал Егор. — Полечим тебя. Пройдет!
— Ничего? — просипел кривой. — Сволочь ты! Гадина… Тебя бы так! Ступай отсюда!
— Успокойся, дружок! — мягко сказал Егор. — Скоро полегче будет…
Больной опять приподнялся, единственный его глаз горел злобой.
— Уходи! — выкрикнул он и плюнул Егору в лицо.
Егор вытер лицо, позвал фельдфебеля и попросил подержать больного. Затем он осторожно обмыл израненную спину, перевязал марлей, смазанной маслом, влил сквозь стиснутые зубы немного успокоительной настойки.
— Завтра опять приду! — сказал он фельдфебелю. — А ежели худо станет, сегодня же пришлите за мной! Вот лекарство, к вечеру дай испить и поутру опять… Да прошу: будь с ним подобрее. Собаку и ту жаль, а ведь это человек. Разве с тобой не может такое случиться?
— Случалось! — ответил фельдфебель. — Всего попробовал: и каши березовой, и плетей, и палок. Уж так оно заведено! Начальство нас порет, мы — солдатиков, солдаты — арестантов! Для порядка, значит. Да уж ладно, не сумлевайся: не обижу хворого. Только все равно, не жилец он…
Егор собрал инструменты и вышел во двор. Навстречу бежал солдат.
— Господин лекарь! — крикнул он. — Тебя к коменданту требуют.
Комендантом здесь состоял старый знакомый Аникина — Павел Федорович Фильцов.
После усмирения пугачевского восстания Фильцов вышел в унтер-офицеры и был переведен в дворцовую охрану. Он и там проявил себя образцовым служакой; к тому же, императрица любила видеть в караулах таких пригожих, статных молодцов. Прослужив здесь двенадцать лет, Павел Фильцов был произведен в прапорщики. Для солдата из простых мужиков это было редким счастьем. Спустя два года Фильцов получил теплое, выгодное местечко: его назначили комендантом дальнего сибирского острога, поручив ему также надзор над ссыльными поселенцами соседнего округа.
Едва ли Егор сам бы узнал Фильцова: в последний раз он видел его восемнадцать лет назад — в день казни Емельяна Пугачева. Напомнила ему Дуняша. Ей еще прежде приходилось по делам встречаться с комендантом: каторжные работали на государственном руднике, который она сняла в аренду. Фильцов был туповат, но хитер и деловит: он сразу смекнул, что не следует заговаривать о прошлом с этой богатой и влиятельной московской купчихой. Полежаева тоже не подавала виду, что узнала бывшего своего жениха. Она держалась холодно, высокомерно, а если нужна была от коменданта какая-нибудь услуга, щедро расплачивалась.
 — Когда была экзекуция? — спросил Егор фельдфебеля.
— Когда была экзекуция? — спросил Егор фельдфебеля.
Приехав на рудник вскоре после прибытия Егора, Полежаева пригласила к себе Фильцова.
— Под надзором вашим, господин камендант, будет находиться новый поселенец, — сказала она. — Его зовут Егор Аникин. Возможно, вы помните его: когда-то, еще малышом, он жил в усадьбе у Сумарокова. Вы тогда как раз уходили на военную службу…
Это было первое, косвенное напоминание о прошлом.
Капитан приосанился. Он несколько обрюзг и располнел, но все еще был красив и статен.
— Как же-с! — ответил он с игривой улыбкой. — Коли уж угодно вам напомнить, то позволю себе заметить, что и других обстоятельств также не позабыл…
— А это уж лишнее! — холодно сказала Полежаева.
— Как угодно-с! — поклонился капитан, и лицо его приняло обычное официальное выражение.
Полежаева открыла ящик стола, вынула четыре ассигнации по двадцать пять рублей, вложила их в конверт и протянула коменданту. Тот небрежно сунул конверт за пазуху мундира.
— Не извольте тревожиться, сударыня! — сказал Фильцов. — Господину Аникину никаких стеснений чиниться не будет. Ежели, конечно, с их стороны не случится нарушений установленных правил.
— Благодарю! — Дуняша сухо кивнула головой и снова склонилась к своим бумагам.
— Желаю здравствовать! — Фильцов повернулся на каблуках и пошел к двери.
Обещание он выполнил. Егор ни разу не имел повода жаловаться на придирки, которыми здешнее начальство обычно изводило ссыльных. Частенько его вызывали в комендатуру, но только как врача. Фильцов весьма заботился о своем здоровье. При малейшем недомогании он ложился в постель, заставлял жену сидеть при нем безотлучно и посылал за лекарем.
…В небольшом дворе комендантского дома двое каторжных пилили дрова, двое других кололи толстые поленья и складывали их в сарай. Аникин поднялся на крылечко. Дверь открыл денщик и повел его в спальню. Госпожа Фильцова, рыхлая, словно налитая водой женщина, сидела у изголовья кровати и кормила больного из ложечки.
— Что с вами, сударь? — осведомился Егор.
— Худо, братец! Совсем худо!.. — Капитан издал протяжный стон. — Грудь заложило, колет иголками… Здесь вот!.. И здесь! В голове жар — мочи нет. Ох, смерть моя пришла!..
Егор внимательно осмотрел и выслушал больного.
— Успокойтесь, господин капитан! — объявил он. — Ничего опасного!
— Да что ты! — радостно воскликнул Фильцов. — Хорошо, коли так…
Вдруг он сильно закашлялся и, с трудом отхаркнувшись, смачно сплюнул на пол.
— А это что? Слыхал? — На лице его опять появилось выражение тревоги. — Уж не чахотка ли?
— Какая там чахотка! — пожал плечами Егор. — Обыкновенная простуда. Поставлю шпанскую мушку, отвару полезного попьете. Полежать нужно денька два. Вот и все!
— Ну спасибо тебе, Аникин! — молвил капитан умильно. — Может, водки выпьешь? Поднеси-ка ему, Варвара!
— Нет, нет! Не пью водки! — отмахнулся Егор. — Но вот что должен сказать, сударь. Уж не обижайтесь! Как могли вы назначить двести розог пожилому, истощенному человеку?
Фильцов нахмурился:
— Сие к тебе не относится.
— Как же не относится? — возразил Егор. — Ведь я врач. Да и просто по-человечески… Ведь он не выдержит!
— Пустяки! — сказал капитан со скучающим видом. — На них, как на собаках, быстро присыхает. Живучи стервецы!
— Говорю вам, он при смерти!
— А хотя бы и так!.. За мерзостные свои поступки заслужил он виселицу. Однако по действующему ныне положению не дано мне права назначать смертную казнь. Сие находится в ведении высших властей. А наказания на теле до двухсот розог я давать могу. Так что закона не преступил… Коли подохнет, стало быть, богу угодно. Туда ему и дорога!
На другое утро Егор снова явился в острожную больничку. Больной метался. Повязки были сорваны. На пояснице появились зловещие черные пятна. Жар усилился… Больной был в беспамятстве.
«Плохо! — подумал Егор. — Кажется, гангрена… И сердце работает совсем худо».
Он опять обмыл израненную спину, переменил повязки, дал лекарства. Больной пришел в себя.
— Опять явился! — просипел он, узнав лекаря. — Я ж тебе в рожу плюнул…
— Врачу нельзя обижаться на больного, — ответил Егор. — А за что ты меня обидел, не понимаю.
— Ненавижу всю вашу барскую породу, язви вас в брюхо! Злодеи!
— Не все баре злодеи, — отозвался Егор. — А я и не из благородных. Сын мастерового. Остался сиротой, меня и призрел один барин. Хороший был человек, царство ему небесное.
— Не видывал я таких, — прохрипел кривой. — А ты, от кого бы ни уродился, все равно к волчьей своре пристал. Господские холуи еще похуже самих господ.
— Да ведь я сам ссыльный, — возразил Егор.
— Ссыльный? — переспросил тот недоверчиво. И, подумав, сказал: — Что из того? Знаю, за что вашего брата в Сибирь посылают. Кого за фальшивые ассигнации, кто у папаши деньги стащил или наследство чужое забрал…
— Нет, друг! — вздохнул Егор. — Фальшивых ассигнаций я не делал, чужого не присваивал… А за что попал сюда, могу рассказать, ежели охота послушать.
Больной помолчал.
— Ладно, рассказывай! Только сперва испить подай!
Егор стал говорить о Новикове, о «Дружеском обществе», о своем учении в Москве и за границей, о преследованиях со стороны властей.
Выслушав, больной сказал:
— Глупа ваша царица! Одно слово: дура баба! Ей бы с вами жить в мире, в ладу. Вы бы книжечки печатали, рассуждали бы о всяких премудростях да прославляли ее царское величество. Ни ей, ни господам помещикам от вас никакого вреда нет. Свои люди! Только и знаете языки чесать: про вольности, законы, про господа бога — каков он да где помещается… А небось, когда мужики за вилы и косы берутся, вас в дрожь кидает… Вся ваша братия — враги мужику, все на его шее уселись…
— Да нет же, Василий! Не так это!..
Егор и забыл, что он врач, сидящий у постели больного. Это была давнишняя мучительная тема, о которой столько было передумано и переговорено. Обращаясь к этому умирающему арестанту, он снова спорил с Радищевым и Ерменевым, с Жильбером Роммом, Маратом, с самим собой наконец!..
— Пойми же! — заговорил Егор. — В том, что ты сказал, есть правда. Но подумай: к чему привели все наши бунты? К ужасному кровопролитию, к братоубийству! А чем окончились они? Казнями да острогами! Не оттого ли, что мужики бунтуют, не понимая толком, чего им надобно? Одна лишь слепая ненависть владеет вами. Вы готовы разрушить все, что попадается на пути, не разбирая правого и виноватого, не отличая полезного от пагубного… Темнота народная, невежество — вот в чем главная беда. Значит, первее всего нужно дать народу знания, облагородить души… И тогда переменится вся наша жизнь и не будет на Руси ни господ, ни рабов!..
Послышались странные звуки: больной смеялся… Это был ужасный смех — хриплый, надтреснутый; изуродованное одноглазое лицо корчилось в чудовищной гримасе…
— Да ты, видно, дурачок! — проговорил кривой. — Блаженненький, вроде схимника в скиту… Видал я и энтих! Не знаю, может, ты и вправду добрый человек, да в голове у тебя неладно… Слушай, лекарь! Не будет по-твоему. Не видано еще, чтобы кошка с мышью ладила или волк с овцой. Отец мой бунтовал — его повесили. Я заместо его стал — меня на каторгу! Два раза бегал — ловили… И, коли суждено подняться, опять сбегу… Пока дышу, пока целы руки да ноги, буду насмерть бить вас, окаянных, усадьбы ваши огнем жечь…
Задыхаясь, он упал на подушку, задергался в конвульсиях. Егор снова влил ему в рот успокоительное снадобье, обвязал пылающую голову мокрым полотенцем. Постепенно больной успокоился и уснул…
«Господи, господи! — думал Егор, шагая к себе на рудник. — Опять слышу знакомые речи! Но этот человек рассуждает не по книгам. Он выстрадал свое убеждение, кровью, муками заплатил за него. Мне трудно возразить ему… В самом деле: что стоит наше просвещение, ежели оно коснулось только горсточки счастливых избранников? Что этим несчастным до наших споров, наших мучительных поисков истины, стремления познать причину всех вещей и смысл жизни? Их низвели до состояния диких зверей, и они по-зверски борются, но внутренне, сами того не сознавая, хотят стать людьми. Это мои братья! Даже по крови, по самому моему происхождению. Ведь я такой же мужицкий сын, как этот замученный каторжник. И мой отец тоже был казнен, подобно его отцу… Отчего я не сказал ему об этом? Завтра же скажу!.. Впрочем, едва ли это что-нибудь изменит… Между нами пропасть, я для него чужак, хуже иноземца. Что бы там ни было, я не могу принять его правды… Как же засыпать эту пропасть или хотя бы перекинуть через нее мост?»
Егор не сомкнул глаз в эту ночь. Утром к нему постучался старик фельдшер.
— Егор Степаныч! Получено известие! Государыня скончалась!
— Неужели? — Егор вскочил и стал торопливо одеваться.
— Точно так!.. Прибыл курьер из Красноярска… Померла апоплексическим ударом, еще в ноябре. Скоро два месяца. Ныне на престоле император Павел Первый…
* * *
После ухода лекаря Василий поспал недолго. В каморке было душно, словно в бане. Он сбросил покрывало, сорвал повязку со лба.
— Где ж лекарь? — вспомнил он. — Ушел… Зачем я его эдак? Кажется, он кроткий, безобидный. Лечит меня, сочувствует… Ах да ну его ко всем чертям, этого блаженного! Ссыльный, а живет и здесь по-барски: на голых нарах не спит, розгами его не потчуют. Провались они все в преисподнюю!
Вдруг вспомнился кривому приятель детских лет, Петька Страхов… Когда-то был паренек душевный, вместе в лапту игрывали, по московским улицам бегали. А потом мундир напялил, шляпу. Примчался в карете с господскими детками поглядеть, как Емельяну Пугачеву голову с плеч долой… Все одним миром мазаны!
Василий заметался, мысли его путались. По временам он терял сознание, потом снова приходил в себя… Отрывочные картины прошлого проносились перед ним.
Отцовская кузня… Избенка на Зацепе. Мать хлопочет у печи, маленький Егорка возится на полу… И вот мать зачумела, а они с Егоркой пошли по пыльной улице искать отца. Громыхают похоронные колымаги, мортусы в личинах и балахонах шарят крючьями по дворам… А Егорка пропал! Должно, в карантине помер… Ох, тяжко! Дышать вовсе нечем… Василий пробует приподняться, судорожно ловит воздух, будто рыба, вынутая из воды. Страшная боль поднимается в груди, лицо покрыто липким холодным потом… И вдруг — всему конец! Нет больше ни боли, ни страха, а только невыразимое ощущение легкости и покоя…
На другой день мертвеца уложили в наскоро сбитый некрашеный гроб. Когда стемнело, солдаты вынесли гроб и опустили в яму на острожном погосте — за оградой. Никто из арестантов не проводил покойника, над могилой его не сделали и холмика: не дозволялось. В реестре же была выведена запись: «Бессрочный каторжник, не помнящий родства, известный по прозвищу Василий кривой, помер от горячки, лета 1796, декабря 30-го дня».
* * *
В середине апреля Егора вызвали в комендатуру.
— Господин Аникин! — обратился к нему Фильцов почтительно и торжественно. — Получено высочайшее повеление об освобождении вашем от ссылки и восстановлении в правах. Вам надлежит отправиться в Санкт-Петербург, где получите бумаги по всей форме.
У Егора закружилась голова, он закрыл ладонью глаза…
— Не желаете ли присесть? — забеспокоился комендант. — Совсем побледнели!.. Водички выпейте!..
— Нет, не нужно! Ничего… Это просто от неожиданности.
— До Красноярска можете отправиться в моем возке, — добавил Фильцов. — А уж далее на почтовых. Подорожная вам будет выдана, ежели угодно, курьерская. Только, по-моему, лучше немного обождать, Распутица!
— Благодарю, — сказал Егор. — До свидания!
— Здравия желаю, сударь!.. Да, чуть не забыл: надеюсь, что никаких неудовольствий против меня не имеете? Поверьте, в душе даже соболезновал…
— Не беспокойтесь! — прервал Егор. — Претензий у меня нет.
— А что касается каторжника этого, — продолжал комендант, — так действовал исключительно по служебному долгу. Прошу войти в мое положение…
Со следующей почтой пришло письмо от Полежаевой. Она поздравляла Егора и сообщала, что новый государь, тотчас же по вступлении на престол, приказал выпустить на волю Радищева и Новикова, а участникам мартинистского братства разрешил жить, где пожелают. Дуняша тоже советовала Егору повременить с отъездом до лета, когда сибирские дороги станут проезжими.
«Ежели прибудешь в Петербург в конце июля, — писала она, — то и меня там найдешь. Ибо есть у меня дела с заморскими купцами, кои явятся летом в Петербург на кораблях своих. На сей случай купила я небольшой дом на Песках, где и рада буду принять тебя, дорогого гостя…»
В июне 1797 года, вскоре после духова дня, Егор Аникин выехал из рудничного поселка, в котором провел четыре с половиной года.

 ЭПИЛОГ
ЭПИЛОГ
Егор Аникин идет по Невскому проспекту, с любопытством разглядывая здания, вывески, экипажи, лица… Четыре часа дня, начинается обычное гулянье…
— Батюшки! Неужто Егор Степаныч?
— Господин Каржавин!..
Они крепко обнялись.
— Давно ли? Откуда? — спрашивал Каржавин.
— Из Сибири… Только на днях прибыл. А рассказывать долго, вы, верно, торопитесь?
— Нисколько!
Каржавин взял Егора под руку, они медленно пошли в сторону Адмиралтейства. Егор рассказал обо всем, что случилось с ним в последние годы.
— Так-с! — задумчиво молвил Каржавин. — И мне тоже пришлось испытать немало горестей. Сперва тяжба с родней, потом еще более тяжкое горе: матушку мою убили дворовые люди. А так как я с покойной находился в разладе, недруги навели на меня подозрение в убийстве. Едва на каторгу не упекли! Слава богу, удалось в конце концов доказать мою невиновность. По этой причине и не смог поехать в Москву, к Новикову, как предполагал. Кто знает, может, это к счастью! Иначе пришлось бы и мне разделить участь Новикова или хотя бы вашу!.. «Все к лучшему в этом лучшем из миров», — говаривал Вольтеров мудрец, Панглосс
[32].
— А супруга ваша?
Каржавин вздохнул:
— Вскоре после возвращения моего в Россию Шарлотта также приехала ко мне. Но и здесь супружество наше оказалось не более счастливым, чем во Франции. Она поступила гувернанткой в семейство Архаровых, так что живем мы врозь… Странная натура! Немало мучений причинила мне. А все же и теперь забыть ее не могу.
— Искренне сочувствую! — сказал Егор. — Но вы же сами напомнили об изречении Вольтерова героя.
— Да, пожалуй…
Вдруг на улице поднялась суматоха… Все экипажи остановились. Седоки выходили на мостовую и, обнажив головы, вытягивались, как солдаты на смотру… Замерла и толпа пешеходов.
Из-за угла — от Инженерного замка — на Невский вылетела карета, запряженная шестеркой. В ней восседал щуплый курносый человек в генеральском мундире и треуголке. Вздернутый, будто наклеенный нос, круглые оловянные глаза, брови, печально приподнятые к середине лба. Он
сидел неподвижно, как идол, глядя прямо перед собой и приложив кончики пальцев к треуголке…
— Шляпу! Шляпу снимите! — испуганно прошептал Каржавин. — Государь!
Егор в растерянности снял шляпу и с удивлением поглядел вслед карете, умчавшейся по направлению к Фонтанке.
Улица как бы очнулась от обморока… Опять покатили экипажи, двинулись гуляющие на панели.
— Новое распоряжение, — объяснил Каржавин. — Велено так приветствовать государя при каждом его проезде.
— Странно! — сказал Егор. — Вот уж не ожидал… Ведь он освободил Радищева, Новикова!
— Это другое! — заметил Каржавин. — Наперекор покойной императрице. Любимцев ее в опалу, а тех, кого она преследовала, на волю! Однако… На сем дело и закончилось. Радищев и Новиков в деревнях своих поселены, деятельности прежней не возобновили. Здесь, в Питере, только и забот, что военные смотры, маневры, экзерциции и разводы. За малейшую провинность солдат до смерти запарывают, офицеров и чиновников — на гауптвахту да в Сибирь!.. Сказывают, затеял государь повести все европейское дворянство в крестовый поход против французских якобинцев!
— Несчастная Россия! — тихо сказал Егор.
— Я-то никогда не питал на сей счет розовых надежд, — продолжал Каржавин. — Вспомните наши парижские беседы. Слишком рано вы начали. Россия — не Европа. С дикими мужиками много не сделаешь. Надеюсь, что теперь, испив горькую чашу, вы согласитесь со мной?
— Как сказать! — ответил Егор задумчиво. — Именно там, в сибирской глуши, появились у меня иные мысли. Многое привелось повидать и услышать… Был у меня как-то разговор с одним каторжным, никогда его не забуду. У мужика есть своя правда, отличающаяся от нашей… И самое главное — слить их вместе, в одну общую русскую правду!
— Не совсем понятно, — заметил Каржавин.
— И мне также, — кивнул Егор. — Да и Новикову, вероятно… Но я верю, что после нас явятся другие, которые поймут то, чего мы понять не смогли.
— Бог знает, когда это будет! — вздохнул Каржавин. — Да и будет ли вообще? Пока же ничего не остается, как спокойно взирать на круговорот событий да заниматься каким-нибудь полезным делом… Право же, ваша покровительница, Авдотья Полежаева, своими предприятиями более содействует прогрессу отечества, нежели господа вольнодумцы. Жаль только, что таких, как она, у нас по пальцам пересчитать можно… Возьмите, к примеру, мою судьбу… Каких только проектов не предлагал я нашим богачам! Выгоднейшие торги заморские, коммерческие и навигационные компании, основание русских колоний в дальних странах… Никакого проку! Остался опять без средств. Очевидно, и здесь слишком рано. Срок не вышел.
— Чем же занимаетесь? — спросил Егор.
— Издал несколько книг — собственных сочинений и переводов… По естественным наукам, географии, архитектуре. Однако этим не прокормишься. Пришлось определиться на службу. Состою переводчиком при коллегии иностранных дел. Опять помог благодетель мой, господин Баженов. Он у нынешнего государя в большом фаворе.
— Не знаете ли, что сталось с Ерменевым? — вспомнил Егор.
— Как же! Четыре года пробыл в Петропавловской крепости, в одиночном заключении. При восшествии на престол императора Павла его выпустили. Ведь он некоторым образом из-за Павла Петровича пострадал…
Но этим и ограничилась милость. Государю стало известно о том, что Ерменев якшался в Париже с революционерами, чуть ли не участвовал в нападении на Бастилию. Он и приказал: впредь Ерменева на порог не пускать и никаких пособий ему не выплачивать. Дескать, пускай живет как хочет! Сколько ни старался Баженов, ничего не вышло. Однажды встретил я Ерменева на улице. Зрелище печальное: постарел, здоровье надорвано в сыром каземате, еле ноги передвигает. Живет впроголодь.
— А где квартирует? — быстро спросил Егор. — Нужно помочь ему. У меня явилась одна мысль…
— У Тучкова моста, — ответил Каржавин. — Живет в семье младшего своего брата.
— Федор Васильевич! — Егор в упор посмотрел на собеседника. — Извините, что напоминаю о неприятном… У вас ведь, насколько мне помнится, была с ним ссора?
Каржавин махнул рукой:
— Все это миновало, потеряло всякий смысл.
— Могу дать клятву, что Иван Алексеевич перед вами ни в чем не виновен, — сказал Егор.
— Верю, — согласился Каржавин. — Но к чему ворошить старый хлам?
— Не отправиться ли нам вместе к Ерменеву? — предложил Егор. — Хоть сейчас?
— Отчего же, можно!
Они уселись в извозчичий кабриолет. Лошаденка лениво потащилась по набережной. Навстречу катила богатая коляска. В ней сидела изысканно одетая красивая дама средних лет, рядом с ней молоденькая девушка, скорее подросток…
— Видали? — указал на них Каржавин. — Законодательница петербургских мод! Знаменитая художница! Госпожа Виже-Лебрэн с дочерью.
— Как? — воскликнул Егор. — Она в России?
— Здесь немало французских эмигрантов, бежавших от революции, — ответил Каржавин. — Многим из них живется не очень-то сладко на чужих хлебах. Но этой повезло: пишет портреты знатнейших вельмож, придворных дам, великих княгинь. Сам государь весьма к ней благоволит… А мы с вами едем к старому, нищему, больному Ерменеву. Вот они, капризы фортуны!..
Возвратившись домой, Егор поспешил к Полежаевой.
— Дуняша, Иван Ерменев помер. Я только что оттуда…
— Похоронили уже? — спросила она, глядя в сторону.
— Это случилось уже два месяца назад, — объяснил Егор. — Он жил у брата, в нищете ужасной! После него остались рисунки, картины. Но нас даже не впустили. Грубые люди! Невежественные, озлобленные…
— Пришло письмо от Петра Страхова, — сказала Дуняша. — Пишет, что приготовлено тебе место в гошпитале.
— Чудесно!
— Надобно ехать в Москву не мешкая. Меня не дожидайся, поезжай на этой же неделе! Нужно за дело приниматься. Жить будешь у меня в доме. Никто там тебе мешать не станет.
— Что ты! Мне лучшего и не нужно.
— Вот и ладно! А завтра поутру вместе отправимся к Ерменевым. Авось впустят!..
…Утром Полежаевская карета, не уступавшая по богатству барскому выезду, подъехала к облупленному двухэтажному домишку, близ Тучкова моста. Егор провел Дуняшу по деревянной скрипучей лестнице. Пахло кошками, квашеной капустой, кухонным чадом. Дверь отворил мужчина с землистым, испитым лицом.
— Господин Ерменев? — спросила Дуняша и, не дожидаясь ответа, сказала, как говорят люди, уверенные в том, что не получат отказа: — Я вдова купца первой гильдии Тимофея Полежаева… Намерена приобрести все, что осталось от покойного вашего брата.
— Право, не знаю-с, — пробормотал хозяин.
— За ценой не постою. Вам, верно, деньги надобны, а картинки эти ни к чему!
— Отчего же-с! — возразил хозяин. — Впрочем… Пожалуйте! Олимпиада Петровна! — позвал он. — К нам посетители…
В сенях показалась женщина, одетая убого и неопрятно, с белесыми, жиденькими, растрепанными волосами.
— Кто такие? — осведомилась она ворчливо.
Хозяин шепнул ей несколько слов.
— Пожалуйте-с! — сказала женщина.
Дуняша с Егором вошли в темный коридорчик.
— Сюда!.. — Хозяин отворил дверь в маленькую горенку.
Грязные стены, штукатурка кое-где осыпалась, закопченный потолок, на полу насорено. У одной стены обшарпанная кушетка, напротив тусклое, засиженное мухами зеркало. В углу мольберт, рядом груда холстов, альбомов, бумаг…
Присев на корточки, Егор принялся рассматривать рисунки. Были среди них новые, были и знакомые…
А это что? На гравюре — массивные крепостные стены, над ними вздымаются клубы дыма… Лес пик, сабель, топоров… Толпа мчится по подъемному мосту… Ах, это штурм Бастилии! Ну да, конечно!.. Вдруг перед его глазами, как живой, возник Иван Алексеевич на груде камней, с альбомом и карандашом…
Под гравюрой подпись: «Гравировал мастер Жантосын по рисунку русского художника Ивана Ерменева».
— А вот не угодно ли взглянуть? — предложил хозяин. — Это покойный брат малевали незадолго до кончины.
…На кушетке полулежит больной. Он почти лыс, глаза ввалились. Одна нога приподнята и обвязана тряпкой.
— Кто это? — тихо спросила Дуняша.
— Сами себя изобразили. В зеркало гляделись и малевали…
Над рисунком было что-то написано.
Егор прочитал вслух:
— «Выгоднее быть цеховым маляром, чем историческим живописцем без покровителей. Испытал, но жалею, что поздно».
Водворилось молчание.
— Сколько вы хотите за все? — спросила Дуняша.
Хозяин развел руками.
— Пятьсот рублей! — сказала Дуняша.
Хозяин не мог сдержать радостного удивления.
— Кажется, маловато! — вмешалась Олимпиада. — Глядите, сколько картинок-то!
Дуняша и не посмотрела на нее.
— Никто другой этого покупать не станет, — сказала она. — Решайте!
— Извольте, сударыня! — торопливо согласился Ерменев-младший. — Забирайте все!
* * *
Егора разбудили засветло.
— Запрягают! — предупредил слуга. — Одевайтесь, сударь. Да к барыне зайдите-с, они просили.
Егор быстро оделся, уложил свой несложный гардероб и пошел к Дуняше. Она была уже одета.
— Простимся, Дунюшка! — сказал Егор.
Она повернулась к нему.
— Что с тобой? Никак, плакала?
— Пустяки! — улыбнулась она сквозь слезы. — Я ведь тоже баба, у нас это случается.
На столе лежал рисунок. Егор взял его: это был Дуняшин портрет, писанный некогда Ерменевым в Сивцове…
Русая коса, перекинутая через плечо… В руках охапка полевых цветов…
— Ах как жаль его! — вздохнул Егор, не сводя глаз с рисунка.
— И его и меня! — сказала Дуняша. — Чудно сложилась жизнь. Видно, придется помирать в одиночестве.
Егор взял ее за руку:
— Я счастлив буду до гроба при тебе остаться. Ежели ты не против…
— У тебя должна быть своя жизнь. Давно пора! Жениться надобно!
Егор с удивлением посмотрел на нее.
— Жениться?.. Да на ком же? У меня никого нет…
— Появится, — вздохнула Дуняша. — Если не по книгам станешь жить, а по жизни!.. Впрочем, там видно будет. Садись поешь хорошенько! А в путь тебе всякая снедь уже приготовлена…
Егор уселся за стол, Дуняша положила ему пирогов и холодного мяса, налила крепкого кофе.
— Новикова не забудь навестить в Авдотьине! — напомнила она. — Трудно ему живется! Детишки… Сам хворый, еле концы с концами сводит… А помощи брать не желает, горд!
— Первым долгом к нему отправлюсь! — сказал Егор.
— Петруше поклон передай! А зимой сама в Москву приеду… Приятеля твоего, Каржавина, на днях к себе позову. Скоро должны еще иностранные купцы приехать, он мне понадобится… Ну, отправляйся с богом!
Они посидели в молчании минуту, затем Дуняша резко поднялась. У крыльца ждала тройка, багаж был уложен. Егор поцеловал Дуняшину руку, она прикоснулась губами к его волосам. Он уселся в коляску.
— Трогай! — приказала хозяйка. — Счастливый путь!
Тройка выехала за ворота и, позвякивая бубенцами, понеслась по ночным улицам. Когда она миновала заставу и выехала на московский тракт, небо стало понемногу светлеть.
«Начинается новая жизнь! — размышлял Егорушка. — Буду трудиться, больных лечить… Чем не завидный жребий! Да, верно! Нельзя жить только по книгам и мечтам. Что ж, попробуем, может, бог еще пошлет счастья… На великие дела я, видно, не способен, но пользу все-таки могу принести. А Новиков? Что скажет он при встрече? Каковы теперь его помыслы, намерения? Неужто так и сгинет все содеянное им?.. «Рано начали», — говорит Каржавин. Пожалуй, еще рано!..»
Он поднял голову. На светло-сером небе мерцала одинокая звездочка.
«Утренняя звезда! — подумал Егор. — Недолго ей жить, скоро погаснет. А следом за ней явится солнышко, наступит день…»

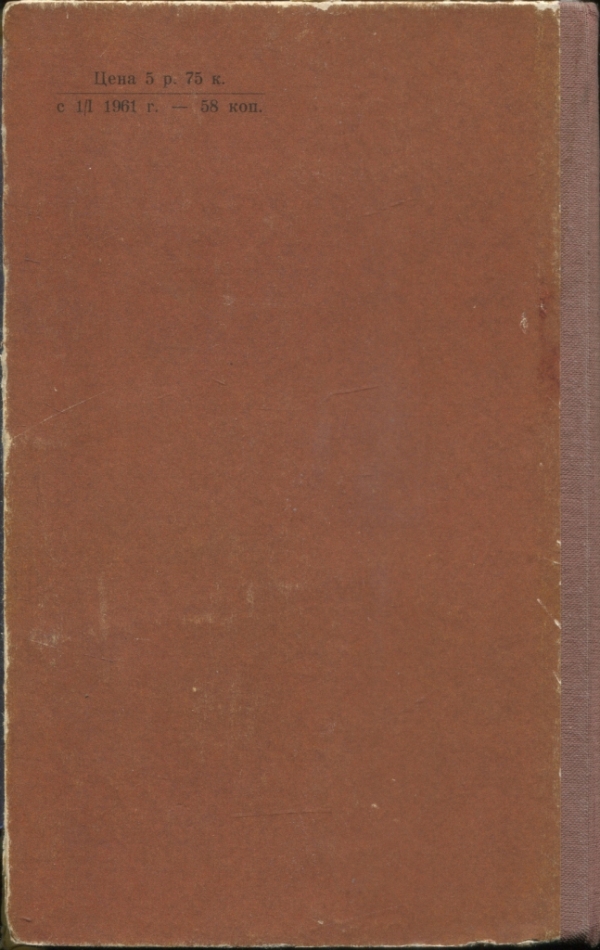 Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
Граф П. С. Салтыков командовал русскими войсками, разбившими прусскую армию Фридриха II При Цюлихау и Кунерсдорфе в 1759 году.
(обратно)
2
— Прошу извинения за то, что явился без разрешения.
(обратно)
3
— Милость и великодушие вашего превосходительства хорошо известны всем…
(обратно)
4
— Сударь, не отталкивайте беднягу, который только и желает искупить свою вину.
(обратно)
5
— Для меня это вопрос чести.
(обратно)
6
— И вы еще осмеливаетесь говорить о чести!
(обратно)
7
— Это уж слишком!
(обратно)
8
Комплот — заговор
(франц.). По техническим причинам разрядка заменена болдом
(Прим. верстальщика)
(обратно)
9
Так называли Вольтера, изгнанного из Франции и поселившегося в швейцарском городке Ферне.
(обратно)
10
Куафер — парикмахер
(франц.).
(обратно)
11
Неслыханно!
(нем.).
(обратно)
12
Генерал-фельдцейхмейстер — начальник артиллерии российской армии в XVIII веке.
(обратно)
13
Рыцарь без страха и упрека
(франц.).
(обратно)
14
Жан-Жак Руссо.
(обратно)
15
Марк Курций — легендарный герой, добровольно бросившийся в пропасть, чтобы спасти Рим от гибели (IV век до н. э.).
(обратно)
16
Дед Прокопия Демидова, Никита Демидов, простой тульский кузнец поставлял Петру I ружья во время Северной войны. Петр щедро вознаградил его, отдав в его владение Верхотурские железные заводы.
(обратно)
17
Ведомство, управлявшее горной промышленностью Российской империи.
(обратно)
18
Осел
(лат.).
(обратно)
19
Соответствует нынешнему «браво».
(обратно)
20
У него и впрямь загадочный вид
(франц.).
(обратно)
21
И он тоже!
(франц.).
(обратно)
22
Новый мост.
(обратно)
23
Малый (первый) завтрак
(франц.).
(обратно)
24
Титул графа д’Артуа носил принц бурбонского дома, младший брат Людовика XVI, впоследствии король Карл X.
(обратно)
25
Буквально: письмо с печатью. Так назывались именные указы короля, дававшие право подвергнуть заключению или ссылке любого, чье имя будет вписано в заранее заготовленный бланк.
(обратно)
26
«Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел» — многотомный труд французских просветителей, главным образом Дидро и д’Аламбера (вторая половина XVIII века).
(обратно)
27
Роман Жан-Жака Руссо.
(обратно)
28
Масонов тогда в России прозвали «мартинистами», по имена французского мистика Сен-Мартена, автора книги «О заблуждениях и истине», вышедшей в свет в 1785 году.
(обратно)
29
Так произносили по-русски в те времена имя Дидро, знаменитого французского философа-просветителя.
(обратно)
30
Так называли французы королеву Марию-Антуанетту.
(обратно)
31
Так именовался староста парижского купечества, считавшийся городским головой.
(обратно)
32
Персонаж романа Вольтера «Кандид, или Оптимизм».
(обратно)
Оглавление
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
2
3
4
5
6
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1
2
3
4
5
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
1
2
3
4
5
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
1
2
3
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
1
2
3
4
5
6
7
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
1
2
3
4
5
6
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ
1
2
3
4
ЭПИЛОГ
*** Примечания ***


 ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



 ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ



 ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ


 ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

 ЧАСТЬ ПЯТАЯ
ЧАСТЬ ПЯТАЯ


 ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

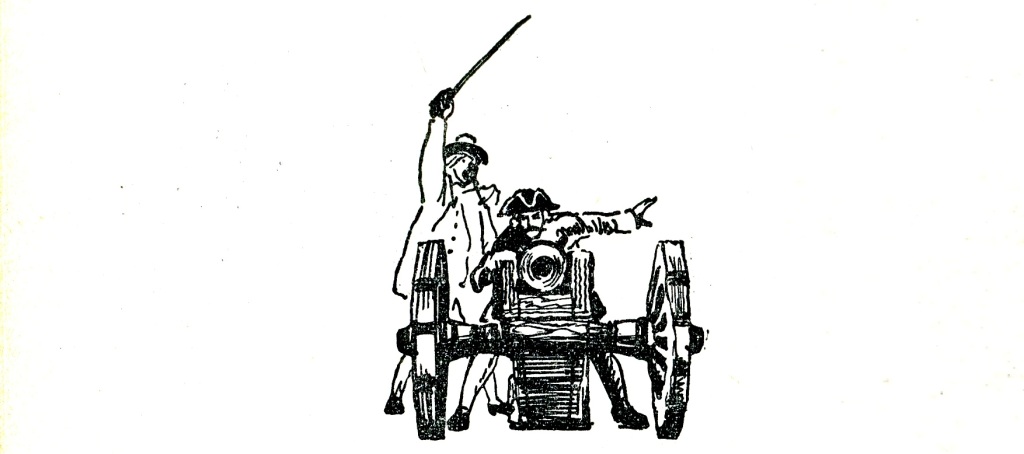
 ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ


 ЭПИЛОГ
ЭПИЛОГ

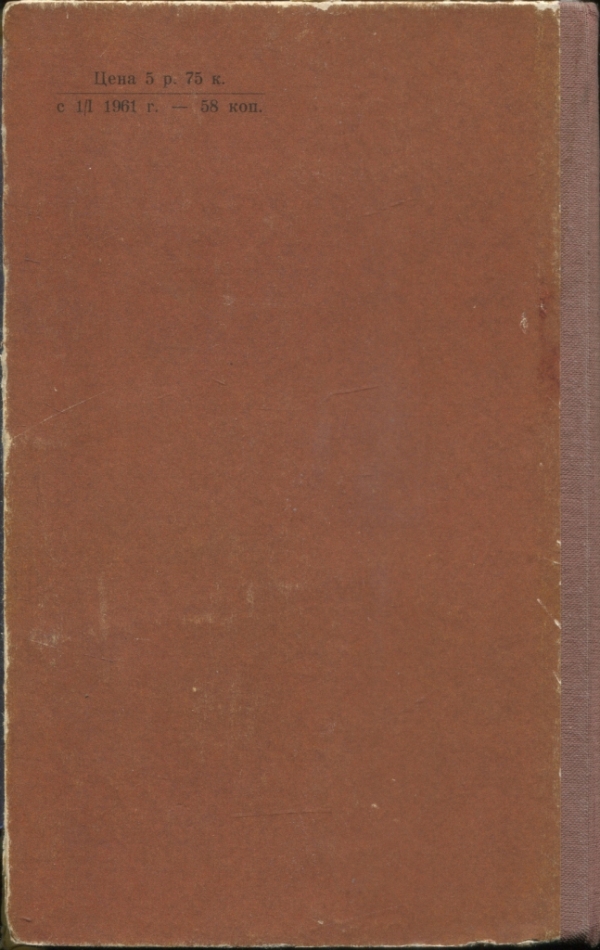 Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.