Иван Фотиевич Стаднюк
Максим Перепелица
СТО БЕД НА ОДНУ ГОЛОВУ

У своего батьки, колхозного кузнеца, Кондрата Перепелицы, и матери Оксаны я, Максим, единственный сын. Да вот дела до этого никому нет в нашем селе Яблонивке, что на Винничине. Не очень нравлюсь я людям. Говорят – ветерок у меня в голове посвистывает.
Но я с этим не согласен. Ну, действительно, Максим Перепелица – не как все хлопцы. Люблю я порассуждать, люблю везде первым быть. Нравится мне, когда я у всех на виду. Шутки всякие мне по душе. Так что в этом плохого? Почему же прозвали люди меня ветрогоном? И так прилипла ко мне эта дурная кличка, что даже на комсомольском собрании не стесняются обзывать ею Максима Перепелицу, если критикуют за поведение.
Но должен сказать, что критикуют за сущие пустяки. Подумаешь, яблоки обнес в садку деда Мусия! Или по-собачьи залаял среди ночи под окном тетки Явдохи. Так кто же не знает Мусия? Более сварливого деда во всей области не найти. А Явдоха? Это же явная спекулянтка! Она умеет наторговать денег даже за капустные листья, которыми масло обвертывает, когда несет на базар!
Посмеиваются надо мной в селе еще и потому, что не понимают толку в значках различных. Сдал я, например, нормы «Готов к труду и обороне». Привесил себе значок. А рядом с ним примостил значок альпиниста, который нашел в Виннице на вокзале. Так это ж в шутку – в честь того, что я раз в неделю покупаю себе дорогие папиросы «Казбек»!
Значки спортсменские дело, конечно, не пустяковое. Но это ничто по сравнению с тем, чего можно добиться на военной службе. Вот уйду в армию, там покажу себя! В Яблонивке еще увидят, каков есть Максим Перепелица!
Долго дожидался я этого счастливого дня. И вот он не за горами: завтра уезжаю служить в пехоту. Эх, быстрее бы завтрашний день! Быстрее бы военную форму надеть!
И тут случилось такое… Страшно даже подумать… Не видать мне армии, как ушей на своей дурной голове! И это Максиму Перепелице – первому парубку на всю Яблонивку!.. Нет, где же правда? Где совесть людская? Почему никто не беспокоится, что я могу не перенести этого?!
А произошло все вот как.
Сегодня на работу в колхоз я уже не ходил – по случаю отъезда. Раз так, решил пораньше выйти на гулянку. Ведь последний вечер в родном селе!..
Оделся во все новое, значки свои к пиджаку привинтил – и за порог. А хата наша стоит на пригорке, у всего села на виду. Осматриваюсь… Хороший вечер! По ту сторону Бродка (так наша речка называется) садится над лесом большое красное солнце. Такое красное!.. Прямо похоже на горящую бочку. И вроде в эту бочку полным-полно малинового сока налили. Катится бочка по небу и яркий сок расплескивает – на облака, на стены сельских хат, на сады яблонивские. Даже вода в Бродке не убереглась, не укрылась в тени кучерявых верб. И ее окрасил малиновый сок.
Да-а, красота какая вокруг. А вон в садку виднеется хата Маруси Козак. Во всем селе лучшей хаты нет! Еще бы. Там же моя Маруся живет!
Славная дивчина Маруся. Многие удивляются, как могла она полюбить такого хлопца, как я, – ветрогона и хвастуна. Но Маруся умеет разбираться в людях. Знает она цену Максиму Перепелице. Еще бы! Кто в селе лучше меня пляшет? Никто! А поет? Тоже. И не лентяй Максим. Работаю в колхозе исправно. В основном, конечно, исправно. Но дело не в этом.
Смотрю я на Марусину хату, на садок Марусин, и так в груди моей защемило! Должен я сегодня проститься с Марусей на три года. Не шутка – на три года! Дождется ли меня Маруся? Уж больно красивая она, и многие хлопцы засматриваются на нее. А вдруг не дождется?.. Не будет тогда мне жизни на белом свете без Маруси!
Задумался я крепко. Маруся, конечно, обещает ждать меня, даже честное комсомольское слово дала. Но три года!..
И тут вдруг пришла мне в голову одна смешная идея. Даже расхохотался я, – так мне весело стало от нее.
В основу своей идеи положил я проделку с обыкновенной тыквой. На Украине тыкву гарбузом называют. Растут они у нас всевозможных размеров и самых причудливых раскрасок. Огромные, продолговатые, как поросята, они бывают желтые или зеленые, белые или оранжевые, зеленые в желтую крапинку или желтые в зеленую крапинку. Словом, узорчатые на разный манер.
Добрый харч для скота эти гарбузы! Сырые, печеные или вареные, они по вкусу даже самой привередливой корове, не говоря о свиньях и другой скотине. А кто не пробовал поджаренных тыквенных семечек? Хороши! Без них даже самая малая вечеринка в Яблонивке не обходится.
Для разного дела гарбуз может пригодиться. Я, Максим Перепелица, когда еще хлопчиком был, не один раз выдалбливал из гарбуза лодку, корабль; или чем плохо усесться посреди огорода на большую гарбузину, точно на лошадь, раскачиваться и во всю мочь песни спивать?
И вот этот обыкновенный гарбуз решил я использовать в своих сердечных делах…
Когда-то в Яблонивке придерживались такого обычая. Если парень (а по-нашему – парубок) собирался жениться, он засылал к дивчине, которая ему полюбилась, сватов. Иногда и сам шел со сватами.
Сваты несли с собой буханку хлеба и, придя в хату невесты, клали хлеб на стол. Дивчина, если она согласна выйти замуж, ставила рядом свою буханку. Это значило, что дело на мази.
Ну, а если она не любила хлопца, не хотела стать его женой? Сказать об этом напрямик при всех как-то неловко. Тогда она бежала в погреб (а летом – на огород) и выбирала там гарбуз побольше. Затем вносила его в хату и клала на стол рядом с буханкой неудачливого жениха. Сваты и жених, завидев гарбуз, хватали свои шапки и пятились к порогу. Для них все становилось ясным… А на селе после этого начинались суды-пересуды.
Старинный это обычай. Сейчас его никто не придерживается. Теперь ведь другие женихи пошли, да и невесты не те. Прежде чем свататься к девушке, каждый парубок заранее заручается ее согласием.
Но бывают же девчата с характером козы! Никак с ней не сговоришься. Ни да ни нет хлопцу не скажет, а все хиханьки да хаханьки. Парень томится, мучается, а потом – была не была – идет свататься. И тут тебе – получай! Здоровенную гарбузину подносит дивчина, а если и не подносит, а просто отказывает, то на селе все равно говорят: «Поднесла парубку гарбуза».
И вот я прикинул в своей голове, кто из наших хлопцев может ухаживать за Марусей в мое отсутствие, и решил каждому из них поднести от ее имени гарбуза. Так сказать – отказ всем вероятным женихам в аванс! Поможет или не поможет, но проделка веселая. Будет же смеху на все село! А это я люблю.
Нужно бежать до моего дружка Степана Левады. Мы с ним вместе на военную службу едем. Правда, друзья мы со Степаном не очень большие. Характеры у нас разные. Я поговорить люблю, а он молчит. Молчит, даже когда свою Василинку – есть у нас одна такая быстроглазая дивчина – домой провожает. Молчит, и точка. Да и неповоротлив он. Плясать стесняется. Раз прихожу к нему домой и со двора слышу, как хата Степанова гудит. Что за чудо? Подхожу к окну и вижу… Степан сам себе на губе играет и гопака отбивает. Чуть не умер я от смеха. Оказалось, тренировался дружок мой. Но дальше тренировки дело не пошло. Так и не плясал он ни на улице, ни в клубе.
Вспомнил я все это и решил, что Степан не подходит для такой операции, как доставка гарбузов на дом парубкам. Пришлось обратиться к своим малолетним друзьям – хлопчикам.
Решено – сделано. Вышел я на улицу, заложил пальцы в рот, свистнул три раза. Вначале собаки по всему селу загавкали, потом хлопчики-подростки начали сбегаться.
Поставил я хлопчикам задачу, для верности дал на каждых трех по значку «Готов к санитарной обороне» (благо, завезли их дюжину в нашу лавку, и я оптом купил), и машина закрутилась.
Через полчаса во рву за колхозным огородом появилась гора тыкв. На каждой я выцарапал ножом соответствующую надпись, и ребята начали разносить по селу гарбузы, развешивая их на воротах адресатов.
А я – руки в брюки, папиросу в зубы – и следом. Надо же посмотреть, как хлопчики выполнили мое задание.
Иду по улице, важный, задумчивый, вроде мне и дела нет до всего, что вокруг делается. Вижу, у ворот двора тракториста Миколы Поцапая собралась толпа хлопцев и девчат. Хохочут все. Только подхожу к ним, как из калитки сам Микола показывается. Разодетый, в сапогах хромовых, чуб из-под кепки ниже уха спадает.
– Над чем смеемся? – добродушно спрашивает Микола и затягивается дорогой папиросой. И вдруг он увидел на своих воротах тыкву. Как коршун на куропатку, бросился на нее. Сорвал и смотрит, точно на гадюку. А на тыкве нацарапано: «Парубку Миколе Поцапаю от Маруси Козак».
– Чего ржете?! – сердито спрашивает Микола. – Не видите – мать повесила сушиться!
– А надпись тоже мать сделала? – поддеваю его.
– Та то куры поклевали, – все еще не сдается Микола. Тут всех хватил такой приступ смеха, что я даже испугался. Вижу – Василинка Остапенкова, невеста Степана Левады, так хохочет, даже руками за голову держится и к земле приседает.
– Ты подумай, какие грамотные куры! – давится она от смеха.
– И чего тем девчатам треба, – сочувственно замечаю я, глядя на Миколу, и обращаюсь к девчатам. – Вы посмотрите на него! Гарный, як намалеванный. С его лица воду можно пить! А она ему – гарбуза.
Опять хохот. А Микола изо всей силы тыквой о землю.
Иду дальше, довольный, веселый. Приближаюсь ко двору бабки Горпины, у которой квартирует Иван Твердохлеб. Это нового шофера прислали в Яблонивку. Симпатичный, видать, он хлопец, если девчата очень засматриваются на него.
Вдруг вижу, со двора выбежала старая Горпина, накинула на ворота платок и сама сверху вроде распялась на них.
– Что такое, бабушка? – спрашиваю.
– Иди, иди, Максимэ, своей дорогой, – отвечает. – Это я… Да уходи, тебе говорят!
Пожимаю плечами, прохожу мимо и тут же за куст бузины, который рядом с воротами во рву растет, прячусь.
– Иванэ! Иванэ! – кричит бабка. – Ходи сюда! Бегом!
Иван Твердохлеб умывается возле порога. С работы только пришел.
– Что случилось? – спрашивает он, берясь за полотенце.
– Т-с-с… Помоги снять! – шепчет ему бабка.
Иван никак в толк не возьмет. Подходит ближе.
– А что такое? – спрашивает.
– Не пытай!.. Беда!.. Снимай скорее.
Иван снимает с ворот тыкву, а бабка оглядывается по сторонам и за плетень его толкает. За плетнем, слышу, шепчутся:
– Слава богу, ни одна живая душа не бачила.
– Ничего не понимаю, – отвечает бабке Иван.
– Сразу видно, что недавно ты в селе, – говорит Горпина и растолковывает Ивану про обычай яблонивских девчат гарбуза женихам подносить.
– Так я ж не сватался к Марусе! – доказывает ей Иван.
– Говори, – посмеивается Горпина. – Приглянулась она тебе?
– А разве Маруся дуже гарна?
– Ой, як яблочко!..
Иван некоторое время молчит, а потом отвечает, да такое, что у меня даже в носу засвербело.
– Ну что ж, – говорит он. – Треба присмотреться к Марусе. Это она мне, наверное, знак подала, что нравлюсь ей.
Хотел я тут выскочить со рва да растолковать Ивану, что к Марусе ему дорога заказана, да он ушел в хату.
Испортил мне настроение этот Твердохлеб. И зачем я послал ему гарбуза? Выходит, что сам я заставил его обратить внимание на Марусю?..
Да-а… Иду дальше по улице, и уже не весело мне, уже не хочется ни о чем думать, кроме как о расставании с Марусей.
Вдруг замечаю – через плетень с огорода деда Мусия, как хмель, вьется тыквенный стебель. На нем – маленькие тыквы. А на самом конце стебля, упавшего в лопухи под плетень, – огромнейшая гарбузина! Я со злом пихнул ее ногой, а она оторвалась от стебля и покатилась по тропинке. Тьфу! Новая забота. Увидит дед Мусий – крику на все село будет.
Куда ее деть? Забросить? Жалко.
Взял я тыкву в руки и надел на кол в плетне. Отошел, оглянулся на нее, а она так хорошо сидит – на самом видном месте. Нельзя такой случай упустить.
Вернулся я к тыкве и ножом нацарапал на ней:
«Парубку Мусию от (?)». Вот, думаю себе, будет комедия, если бабка Параска, жена Мусия, увидит. Но на плетне может не заметить. И пришлось перевесить тыкву на ворота Мусия.
– Зачем это ты, Максим?! – окликает меня голос. Я даже подпрыгнул от испуга. Оглядываюсь – Галя, младшая сестра моей Маруси. Выбежала она из переулка и смотрит на меня.
Гарное дивчатко эта Галя. Очень на Марусю похожа. Две косички с бантами, глазищи большие, круглые, брови черные, крутые. На загорелом лице пробиваются маковки веснушек.
– Галюсю! – обращаюсь к ней и по-военному становлюсь в положение «смирно». – Слушай, Галю, приказ боевой! Пулей лети домой и скажи Марусе: через десять минут ноль-ноль пусть выходит к липе. Только маме ни-ни. Военная тайна.
– Сама знаю, – смеется Галя. – Мама каждый день Марусю из-за тебя ругает.
– Не хотят, чтобы я был вашим зятем?
– Нет, не хотят. Говорят, ветрогон ты.
– И ты веришь, Галюсю? – спрашиваю.
– Нет, – отвечает Галя. – А где ты, Максим, такой цветок взял? – и притрагивается к георгину, который я на козырек фуражки прикрепил. – Мне его Володька дал – сын тетки Явдохи.
– Нравится? – спрашиваю у Гали.
– Очень! – отвечает она, направляясь в переулок, чтобы бежать домой.
– А Маруся любит такие цветы?
– У нас вкусы схожи! – смеется Галя и, мотнув косичками, скрывается в переулке.
Итак, в моем распоряжении десять минут. Удастся ли Марусе за это время вырваться из дому? Очень уж строгая у нее мать. И меня считает непутевым парнем. Но у Маруси тоже характер твердый. Захочет – придет.
Эх, Маруся, Маруся! А что, если на прощанье я ей букет цветов преподнесу? Сказала же Галя, что Марусе георгины нравятся. Надо завернуть к тетке Явдохе. У нее цветник большой: для продажи цветы разводит.
И вот я уже у ее двора. Но заходить в калитку не хочется. У порога хаты лежит на цепи рыжий пес, очень похожий на тигра.
Окликнул я дважды тетку Явдоху. Не отзывается. А время идет. Ладно, нарву цветов без спросу – не будет же она ругать завтрашнего солдата.
Перемахиваю через плетень в цветник и торопливо срываю цветы, какие побольше и покрасивее. Еще один-два, и букет будет готов.
Вдруг слышу – скрипнула в хате дверь. Я так и присел: на пороге появилась Явдоха с двумя пустыми ведрами и коромыслом.
– Володя, Володенька! – зовет она и осматривается. – Сходи, сынку, воды принеси!
Голова моя прямо сама в плечи влезла. Хотя б не заметила…
– Володенька, не ховайся, я вижу! – Явдоха ставит на землю ведра и с коромыслом направляется к цветнику. Ясно, увидела мою спину.
– Ой, это ты, Максим?!
– Я, – отвечаю хриплым голосом и, бросив букет на землю, выпрямляюсь. Пытаюсь даже улыбнуться.
А Явдоха почему-то широко раскрытыми глазами смотрит на мою фуражку, и лицо ее краснеет, делается сердитым. Я перепугано хватаюсь за козырек… Ясно: георгин свой узнала.
– А-а, так вот зачем ты по чужим огородам шляешься! – пошла в атаку тетка Явдоха. – Для чего сорвал?! Это же чистые гроши!
Ну, думаю, если она за один цветок такой тарарам поднимает, что же будет… И подальше отталкиваю ногой сорванные цветы. Но от глаз Явдохи ничто не скроется. Заметила-таки. Даже дыхание у нее перехватило.
– Держите его, люди добрые! – начала орать. – Ой, что наделал! Чтоб у тебя руки поотсыхали, чтоб у тебя пальцы отвалились! По миру меня пустил, разбойник! Да за такой букет пять рублей выторговать можно!..
– Не кричите, титко, – пытаюсь я ее успокоить, и каждая извилина в моем мозгу напрягается. Как найти выход из трудного положения? – Перестаньте! Вам за это заплатят!
В ответ свистнуло в воздухе коромысло и огрело меня по руке.
– Кто заплатит?! – голосит Явдоха. – Кто?! Ты, червивый?!
Набираю я дистанцию, чтобы второй контузии от коромысла не получить, и даже не слышу, что мой дурной язык лепечет:
– Да не бейтесь! Голова колхоза заплатит, – и сам удивляюсь: при чем тут председатель колхоза?
– Ты брехать еще будешь? – опять замахивается коромыслом Явдоха. – Зачем голове цветы?!
– Артистам! – сболтнул я, соображая, как увернуться от второго удара. – Артисты в село приезжают.
И так обрадовался этой мысли. И уже смелее гляжу на Явдоху.
– Так пусть голова свои рвет, – бушует она. Но мне уже не страшно. Сейчас я ее взнуздаю.
– У него не хватило, – говорю. – Послал по селу искать. Ведь по двадцать копеек за каждый георгин будут платить. А вы еще деретесь! – и перехожу в решительное наступление. – Возьмите свои цветы! – отшвыриваю их ногой. – В другом месте найдем. А за оскорбление и побои перед судом ответите! Насидитесь в тюрьме.
Вижу, клюнуло. Явдоха в панике. А я сдвинул фуражку набок, руки в карманы и к плетню.
– Постой, Максим! – опомнилась Явдоха. – Ой, боже! Я ж тебя легонько!.. Постой!.. А много артистов приедет?
– Человек тридцать, – отвечаю ей и собираюсь перемахнуть на улицу.
Но как тут перемахнешь? Чувствую, что поразил тетку Явдоху в самое сердце. Интересно, как она теперь будет вести себя?
– Тридцать?! – Явдоха всплеснула руками и даже присела. – У меня на всех хватит… Максим, хлопчик мои славный! Прости меня, дурную бабу! Не ходи больше никуда! Я пошутила.
Добрые шутки. Рука у меня огнем горит. Такой синячище выше локтя выскочил, что фуражкой его не закроешь. А Явдоха не отстает. До чего ж хитрая жинка! Подхватила с земли цветы, в один миг собрала их в букет и ко мне:
– Возьми, возьми, Максим!
Чего ж не взять, раз просит? Беру.
– Вот спасибо, вот спасибо! – благодарит меня Явдоха. – Здесь на пять рублей. Давай еще нарву.
– Хватит, не донесу. – И перебираюсь через плетень
Надо спешить. Если приду к липе, что над речкой, позже Маруси, – чуб оборвет мне моя милая. Но только вышел за поворот улицы, как тут новая история. У двора деда Мусия целое представление. Вначале я даже не понял, что случилось. Вижу, что собралось много народу, все смеются, а бабка Параска подступается к Мусию и кричит:
– Ах ты старый веник, кочерга блудливая! Как назначили начальником над колхозной пасекой, так я уже не пара тебе стала?!
Я заметил, что в руках старой Параски тыква, и все понял. Интересно. Подхожу ближе, на людей осматриваюсь. Здесь и вездесущий Марко Муха – сельский почтарь, и Опанас Дацюк – самый рассудительный старик в селе и умеющий поддеть кого угодно словцом острым, как бритва; здесь же Микола Поцапай, Иван Твердохлеб, Серега (они сами получили по гарбузу и поэтому особенно довольны происходящим).
А бабка Параска не унимается.
– Внуков бы наших постыдился! – кричит она. – А ну сознавайся, к кому ходил?
У деда Мусия такой несчастный вид, что мне даже жалко его стало. Он опасливо отступает от бабки и молит ее:
– Парасю, опомнись!.. Это охальник какой то подшутил…
– Не бреши! Сознавайся! – И бабка тычет в нос деда тыкву. На ней ясно нацарапано моей рукой «Парубку Мусию от (?)»
Трудно приходится деду. Надо знать бабку Параску, чтобы понять, как трудно. Слышал я однажды, как Параска у колодца доказывала соседкам, что есть люди, которые могут перенести все – голод, холод, пожар и любое другое несчастье. Только одного не могут перенести: назначения на должность начальника. Тогда, мол, такие люди начинают ведрами пить горилку и менять жен, как цыган коней… А тут как раз поручили деду Мусию заведовать колхозной пасекой – вроде в начальники он выбился. Вот и допрашивает его бабка с пристрастием.
– К кому?!
– Не ходил, побей меня гром, ни к кому не ходил! – оправдывается Мусий и обращается к Опанасу Дацюку: – Опанасэ, хоть ты ей скажи…
Опанас поглаживает рукой бороду и хитро улыбается.
– А чего? – вполне серьезно говорит он. – Любви все возрасты покорны.
Точно раскаленной солью плеснули в лицо бабке Параски. Ох, и заголосила ж она.
– Любви?! – кричит. – Тебя уже ноги не носят, а ты любви захотел?!
Меня все больше совесть начинает мучить. Ну, зачем я выставил деда Мусия на такое посмешище? А дед тоже хорош: не может ничего придумать, чтобы прервать эту комедию. Обращается к почтарю Мухе и чуть не плачет:
– Марко… ну, ты объясни…
Марко – известный мастер зубы скалить.
– Трудно, диду, объяснить, – смеется он. – А чего это вы на прошлой неделе ходили по огороду вдовы Наталки?
– Да то я порося искал! – взвыл Мусии не своим голосом. Но тут бабка Параска как из пушки стрельнула в него:
– Развод!..
Это слово, точно гром, поразило Мусия. Он как-то обмяк и сделался еще более жалким. Что делать? Сейчас же при всех людях сознаюсь, что гарбузы на воротах – моих рук проделка. Да, но что скажут Микола Поцапай, Иван Твердохлеб, Серега? Они могут нечаянно на месте меня прикончить. А мне завтра в армию идти. И все же решился я. Уже рот раскрыл, чтобы слово сказать, да так и остался с раскрытым ртом. Дед Мусий вдруг… сознался, что он виноват:
– Парасю, смилуйся! Во всех грехах покаюсь тебе…
Бабка Параска ухватилась за голову. Она, видать, еще надеялась, что все это недоразумение, а теперь…
– А-а-а!… – заголосила она. – Нагрешил, теперь каяться!..
– Какой же это грех? – стонет Мусий. – На прошлой неделе стеклил окно в хате Варвары… Пригласила потом зайти в хату…
– Заходил? – Глаза у бабки стали круглыми, как единственная пуговица на штанах Мусия.
– Заходил, – сознается дед, – миску ряженки съел… и…
– Ну! – грозно топает ногой Параска.
– …и два пирога… – еле выдавил из себя Мусий.
– Развод! – снова стрельнула Параска.
Не знаю, удержался ли дед на ногах после нового залпа, но я лично упал на дорогу и засовал ногами, как подстреленный заяц. От смеха даже букет цветов из моих рук вывалился. И вдруг… Галя! К Мусию подбежала Галя – сестра моей Маруси – и затараторила:
– Это Максим! Я сама видела! Максим гарбуза на ворота повесил.
И не успел я опомниться, как дед Мусий уже летел на меня с огромнейшей палкой.
Подхватил я свои цветы и, сколько было сил, начал удирать. Стыдно, конечно, но это же ради деда Мусия! Еще покалечит меня, и отвечать ему придется перед судом. Не-ет, лучше убегу. Тем более – спешить мне надо: Маруся наверняка давно под липой на скамеечке сидит и сердито на тропинку посматривает.
Выбегаю на берег речки, петляю меж кустами и держу направление к липе. Вроде отстал дед Мусий. Прибегаю к липе, оглядываюсь – пусто. Сажусь на скамеечку, чтобы отдышаться. И вдруг чья-то рука смахнула с моей головы фуражку и цап за волосы! Даже похолодел я.
– Не опаздывай! Не опаздывай! Не опаздывай! – услышал знакомый голос. И от этого голосочка сердце мое сладко-сладко заныло.
Оказывается, Маруся забралась на пологую ветку липы, устроилась там и подстерегла меня. Треплет за волосы и хохочет.
– Ой, Марусь! Понимаешь, – подбираю я слова в свое оправдание. И вдруг где-то за кустами раздается голос деда Мусия:
– А-а, гром бы тебя побил!.. Ветрогон проклятый!..
Одним духом взлетел я на липу к Марусе и рот ей ладонью зажал, чтоб не выдала меня. И во-время. Дед, как молодой козел, пронесся по тропинке мимо липы.
– Ну, погоди! – уже где-то в стороне кричал он. – Я тебя из-под земли достану! Я тебя…
И тут сразу же вступила в прокурорские права Маруся.
– Опять? Чего натворил?! – и смотрит она на меня своими зеленоватыми оченятами так строго, что брови над ними почти узелком связались и ямочки на щеках исчезли. Трудно перед Марусей что-либо сбрехать. Но тут, на счастье, заметила она в моей руке букет.
– А цветы кому?!
– Угадай! А ну, угадай! – оживился я, стараясь перевести разговор на цветы.
– Мне! – выпалила Маруся и так радостно улыбнулась, так сверкнула на меня глазами, что я чуть-чуть не ослеп.
– Ага, – отвечаю, – тебе, – и улыбаюсь, как дурак. Тут же надо снова про любовь говорить, а я «агакаю».
А она прижимает цветы к груди и говорит:
– Ой, Максимка!.. Мне еще никто никогда цветов не дарил.
– Значит, я первый?
– Угу… Спасибо тебе…
Если б в эту минуту Маруся приказала луну с неба достать, я, наверное, постарался б. И так мне захотелось, чтобы она поверила, что для нее я готов в огонь и в воду!..
– Какие красивые, – любуется Маруся букетом. – И где ты достал? Я такие в оранжерее видела, в райцентре.
В эту секунду я возненавидел себя, что не сбегал в райцентр, в оранжерею, и не притащил оттуда охапку самых лучших цветов. А так, что я отвечу Марусе? Она же смотрит на меня ласково-ласково и ждет ответа.
– Оттуда и есть! Из оранжереи! – выпалил я и отвел в сторону глаза.
– Из райцентра?! – Маруся смотрит с недоверием. А недоверие в такую минуту для меня ровно что нагайка для коня.
– Из райцентра, – подтверждаю вполне уверенно.
– Так туда ж двадцать километров! – недоумевает Маруся.
– А что для меня лично двадцать километров? – спрашиваю. – Встал пораньше и сбегал.
– Пешком?
– Напрямик. На гати еще упал, руку зашиб. – И, подвернув рукав, показываю огромный синяк – след от коромысла Явдохи.
Маруся посмотрела на мою руку, потом вдруг… чмок меня в щеку! От неожиданности я чуть с липы не слетел. Еле успел за ветку ухватиться
– Давай слезем, – смеется Маруся, – а то упадешь, и… в армию тебя не возьмут.
Я первым соскакиваю на землю, подставляю руки Марусе. Снял ее с ветки, а сажать на скамеечку не хочется. Так бы век и держал на руках. Тем более за шею она меня обняла
Опустила Маруся руки с моей шеи, и я бережно посадил ее на скамейку.
– Ты рад, что в армию уезжаешь? – спрашивает.
– Ой, еще как! – отвечаю.
– Рад, что от меня уезжаешь?!
– Да что ты, Марусь! – испугался я. – Как ты могла подумать?
– Ну ладно, верю, – Маруся придвигается ближе ко мне и запускает руку в мою шевелюру. – Только волосы там не стриги.
– Нельзя, не положено, – объясняю ей.
– А ты все равно не стриги! – настаивает. – Некрасиво!.. Хотя, впрочем… Стриги! – и с таким лукавством поглядела на меня. – Стриги, стриги!.. И смотри там…
– Ты о чем? – спрашиваю.
– Ни о чем, – и уже на значки мои смотрит. – Для чего столько нацепил? На петуха похож…
– Чтоб знали. Человек заслуженный.
– Заслуженный? Ха! Небось половину выменял!
Ох, и язычок у Маруси. Никакой деликатности.
– Ну да, – отвечаю. – Придумаешь еще!
– Конечно! Ну, откуда у тебя значок парашютиста, например? – и ухватилась за значок; того и гляди оторвет.
– Как откуда? Отпусти.
– Ну, откуда? Ты что, прыгал?
– Прыгал, – сердито отвечаю. И как она не понимает, если я и не прыгал, то могу хоть сто раз прыгнуть! Я же все книжки о парашютистах перечитал!
– С дерева. Ясно, – засмеялась Маруся.
Если бы она не засмеялась, я бы смолчал. А тут…
– Ничего тебе не ясно! – говорю. – Вот уеду в армию, еще услышишь обо мне!
Ну, слово за слово, и пошло…
– Максим! – Маруся уже смотрит на меня волчонком. – Если ты не отучишься хвастаться, вечно брехать… то…
– Что «то»?
– То.
– Подумаешь, учительница выискалась! Я тебе почтя никогда не вру.
– А что толку? А другим? У тебя вечно язык свербит!
– А ты всегда правду говоришь? – ставлю ей вопрос ребром.
– Конечно, – отвечает.
– Конечно… Небось матери сказала, что в клуб пошла, а не на свидание с Максимом
– Эх, ты!.. Во-первых, если хочешь знать, я ей ничего не сказала, так утекла. А во-вторых – это же для тебя!..
– И я для тебя…
– Для меня? – в глазах Маруси опять насмешливые чертики запрыгали. – Зачем за тобой Мусий гнался? Говори!
– Так… – отвечаю, – разминка. Тренируется дед.
– Вот видишь, и мне врешь… Самый настоящий брехун!
Вроде пощечину мне влепила.
– Я брехун? – и вскакиваю со скамейки.
– Брехун, – спокойно отвечает Маруся.
– Брехун?
– Угу… – и еще при этом кокетливо косит на меня глаза.
– Так чего ж ты тогда со мной встречаешься?! – Мне даже чуть-чуть смешно стало. Что она ответит на такой вопрос?
– Да так, из жалости, – безразлично, не моргнув глазом бросила Маруся. – Кому ты еще такой нужен?..
Я даже взопрел.
– Ах, не нужен? – переспрашиваю.
– Не нужен, – подтверждает и еще усмехается.
– Не нужен, значит?.. А-а… а думаешь, ты мне очень нужна?.. Да я только свистну, и девчата табунами за мной побегут…
О! Попал в самую точку. Уже не улыбается Маруся. Вскочила с места, впилась в меня своими глазами-колючками и даже побледнела.
– Ну и свисти… свистун, – сказала тихо, спокойно, а букетом так залепила в лицо, что у меня, кажется, и память отшибло. Когда пришел в себя, Маруси и след простыл…
Вот тебе и последний вечер!.. Вот и простились называется… Ну, что мне делать?.. Пойду в клуб. Маруся перекипит и наверняка туда прибежит.
Осторожно шагаю по тропинке, что через огороды ведет к клубу. Осматриваюсь: как бы на деда Мусия не нарваться… В вестибюле клуба замечаю высокую худую фигуру. Это мой дружок – Степан Левада. Повернулся он ко мне и смотрит, вроде впервые увидел. Ясно, сейчас что-то спросит: у него такая привычка.
– Что, поругались с Марусей? – задает Степан вопрос и подходит ко мне.
– Да так, – неопределенно отвечаю я. – Чи ты Маруси не знаешь? Зашипела, як шкварка, и все. Сейчас прибежит.
Говорю я так Степану, а сам смотрю на людей, идущих через вестибюль в зал. Над дверью захлебывается электрический звонок – оповещает, что собрание начинается. Собрание сегодня не простое: посвящено проводам новобранцев – значит, и мне посвящено и Степану. Но мне не до собрания. Придет Маруся или не придет?
Из зала вдруг выскочила Василинка Остапенкова. Увидела Степана, обрадовалась и тут же приняла строгий вид. Глядит на него, вроде бить собирается. А Степан на меня смотрит – боится без моего разрешения уходить к Василинке.
– Ну ладно, иди, – позволяю я ему. И Степан вместе с Василинкой убегают в зал.
Вижу, вслед за ними спешит через вестибюль Иван Твердохлеб. Я за деревянную колонну, в тень отступаю. Тем более, остановился Иван – шнурок на ботинке завязывает.
Вдруг Маруся влетела в вестибюль. Я к ней. А она сердито повела глазами и отвернулась. Остановилась возле Твердохлеба и сладеньким голоском здоровается с ним:
– Здравствуй, Иванушка!
– Да ты вроде уже поприветствовала меня сегодня, – отвечает Твердохлеб.
– Что-то не помню, – говорит Маруся. – А ты чего ищешь?
– Сердце, Марусенька, потерял, – Твердохлеб выпрямляется и так, дьявол, смотрит Марусе в глаза, что у меня даже кулаки зачесались.
– Да ну? – удивляется Маруся. – Так без сердца и ходишь? – и прикладывает к его груди руку. – А где твой значок парашютиста? – спрашивает.
Тут мне приходится еще глубже в тень ховаться.
– Внук бабки Горпины стянул, – говорит Иван. – А Максим выменял у него на свисток. Ты не видела Максима?
Я думал – Маруся сейчас укажет ему в мою сторону, а она даже не повернулась. Только презрительно бросила.
– Очень нужен мне этот свистун!..
– А кто тебе нужен, Марусенька? – спрашивает Твердохлеб и берет ее за руку.
А она не отнимает руку, нет, а кокетливо поводит плечами, лукаво смотрит на Ивана и отвечает:
– Мало ли гарных хлопцев в селе?..
Все ясно… Маруся с Иваном ушла в зал, а я прикипел к месту и весь огнем горю. Неужели Маруся могла в один вечер разлюбить Максима? Не верю!
Хоть и не чувствую под собой ног, иду в зал. Народу! Как галушек в миске! Вперед не протискиваюсь, а останавливаюсь у задней скамейки, на которой уселись рядом Маруся и Твердохлеб. Стараюсь прислушаться, что говорит с трибуны наш голова колхоза. Но слова его, точно горох от стенки, отскакивают от меня. Вижу, за столом президиума и мой батько, Кондрат Филиппович, сидит. Сидит и грозно в оркестровую яму, где расселись музыканты, смотрит. Он же у меня на скрипке играет и сельским струнным оркестром руководит.
– …Мы провожаем на службу в родную Советскую Армию наших лучших хлопцев!.. – дошли, наконец, до меня слова головы колхоза.
Вот это правильно. Но Маруся разве поймет? Даже не смотрит в мою сторону.
И вдруг по залу точно ветер прокатился. Голова колхоза на трибуне умолк. Все почему-то поворачиваются, смотрят на входную дверь. Поворачиваю голову и я… Ой, горе мое! Увидел я тетку Явдоху и ее сына Володьку. Полные корзины цветов несут в клуб. Это же для «артистов», о которых я наврал Явдохе, когда она меня в цветнике поймала!..
Что за день сегодня? Разве один человек сразу столько бед вынесет?
А народ переговаривается между собой:
– Вот тебе и Явдоха!..
– Это что? Новобранцам притащила?..
– А говорили – за грош повесится!
– Всем девчатам нос утерла!..
Кто-то захлопал в ладоши. Начал аплодировать и голова на трибуне. И весь зал точно с ума сошел: такие рукоплескания, аж окна звенят. Потом батька мой из-за стола президиума махнул рукой оркестру и грянул туш.
Явдоха и Володька пробираются к сцене, а я проталкиваюсь в обратную сторону. У выхода останавливаюсь. Что же будет дальше?
Вижу, Явдоха уже подает корзины голове колхоза и сама взбирается на сцену.
– Вот это по-нашему! – радостно говорит ей голова.
– А как же?! Мы порядок знаем, – отвечает Явдоха и, поставив корзины на стулья, усаживается за столом президиума.
Замолк, наконец, оркестр, и голова опять вышел на трибуну.
– Завтра уезжает от нас в пехоту, – продолжает он речь, – комсомолец Степан Левада!..
Люди опять начинают хлопать в ладоши, оркестр играет туш, а Степан, вижу, сидит рядом с Василинкой и не знает, что делать. Неловко ему, чудаку. Его со всех сторон толкают, заставляют подняться.
– Сюда! Сюда, Степан! – зовет голова и берет у Явдохи букет цветов.
Василинка толкнула Степана под ребра, и он поплелся к сцене.
«Что же будет делать Явдоха? – думаю себе. – Неужели сознательности у нее ни на грош?»
Вижу, шепчет она что-то на ухо голове.
– Какие артисты? – отвечает тот во весь голос. – Конечно, для хлопцев!
– Так побольше давай, чтоб не осталось! – говорит Явдоха и, сложив из двух букетов один, тоже подает Степану цветы.
Голова улыбается, аплодирует Явдохе. Небось сам удивляется, что такой отсталый элемент вдруг в сознание пришел. Аплодируют и в зале. А Явдоха важно раскланивается во все стороны и новую охапку цветов готовит. Это – для Трофима Яковенко, которого выкликал голова после Степана. Тут, вижу, Явдоха снова что-то шепчет ему на ухо. Председатель пожимает плечами и говорит:
– Зачем же их считать? – и на цветы указывает.
– И то правда, – соглашается Явдоха.
Дальше председатель объявляет:
– В пехоту идет комсомолец Максим Перепелица!.. Я, чтоб подальше от греха, выскальзываю в вестибюль и останавливаюсь у двери, прислушиваюсь. Аплодисменты не сказал бы чтоб сильные. А оркестр играет туш ничего, – видать, батька мой постарался.
– Максим Перепелица! – повысив голос, повторяет голова, когда оркестр и аплодисменты затихли.
Слышу, ему отвечает Явдоха:
– Максим уже свое получил, не беспокойся.
– Когда ж он успел? – удивляется голова.
– А когда ты до мэнэ его присылал.
– Я? Зачем?
Тут Явдоха, видать, недоброе учуяла и повысила голос:
– За цветами! Ай запамятовал? По два гривенника за штуку!
В зале вроде что-то треснуло и загремел стоголосый хохот. А я, чтоб не слышать его, кинулся на улицу.
Но не зря говорят, что беда одна не приходит. В дверях сталкиваюсь… с кем бы вы думаете? С дедом Мусием!.. Так и метнулся я в сторону, под лестницу, которая на галерку ведет. А дед посеменил в зал. Заметил я, что понес он с собой тыкву, чтоб ее корова съела! И от самых дверей заорал:
– Дозволь слово, голова!..
Вышел я уже не спеша на улицу, закурил папиросу и стою, точно чучело на огороде. А чего стою? Утекать надо. Осрамился же! Как пить дать – отберут теперь комсомольский билет у меня.
Но уйдешь разве? В зале же осталась Маруся! И еще Твердохлеба этого черти подбросили. Эх… Если сегодня не помирюсь с Марусей, значит точка. Ведь это последний вечер… Нет!.. Что-нибудь соображу! Надо вызвать ее, объяснить.
И только подумал это, как Маруся сама, без вызова моего, пулей вылетела из клуба.
– Коза смоленая! – слышу, кричит ей вслед дед Мусий.
Увидела меня Маруся, остановилась, сверкнула потемневшими глазами и… бац Максима по морде.
– Вот тебе оранжерея! – задыхаясь, шепчет она и тут же на другой моей щеке припечатывает руку. – Вот тебе гарбузы от Маруси!
Не успел я, как у нас говорят, облизаться, а Маруся исчезла, точно сквозняком ее сдуло. Но не такой Максим Перепелица! Догоню! Догоню и подставлю ей свою дурную голову. Пусть еще бьет, раз заслужил. Пусть бьет, только знает, что никто на белом свете крепче любить ее не будет, чем я.
Но побежать вслед за Марусей мне не удалось. Из клуба вырвалась толпа хлопчиков-подростков и в момент взяла меня в кольцо.
– Максим! Скорее! – кричит один.
– Не пускают!
– Решили не посылать! – галдят другие.
– Чего болтаете? – спрашиваю. – Кого не посылать?
– В армию решили не посылать тебя! – объясняют. Ну, это уж слишком! Даже зло взяло.
– Что?! – ору на ребят. – Меня в армию не брать? Прав таких не имеют! – и галопом в клуб.
А в клубе что делается – передать невозможно. Шум, крик, смех. Останавливаюсь в дверях, слушаю. Нужно же сориентироваться.
– Не пускать! – кричит дед Мусий и потрясает над головой тыквой.
От него не отстает Явдоха:
– Правильно! Не пускать!
– Пусть знает! – хохочет Микола Поцапай.
Вижу, объединились все мои противники. А сколько их еще голос не подает?! Ведь больше дюжины тыкв по селу развешано.
Из-за стола президиума поднимается мой батька.
– Это почему же не посылать?! – грозно спрашивает он у Мусия.
– А ты что, хочешь, чтоб он всю Яблонивку нашу там осрамил?! – сердито отвечает дед. – Писать прошение воинскому начальнику! Не место таким в армии!
– Товарищи! Позвольте! – вдруг раздался голос Ивана Твердохлеба. – Как это не пускать?
Я даже рот раскрыл от удивления: Иван вдруг мою сторону взял!..
– Пусть едет! – кричит Твердохлеб и проталкивается к выходу. – В армии из него человека сделают!
А-а, понимаю. Иван спешит вслед за Марусей и заодно старается меня из села выпихнуть, чтоб не мешал ему.
Слышу, тетка Явдоха на полную мощность свою тонкоголосую артиллерию в ход пускает:
– А чтоб ему язык отвалился! В такие убытки меня ввел, брехун! – и поспешно складывает в корзину оставшиеся цветы. – Нехай убирается из села!
– Недостоин! Честь солдатскую запятнает! – дед Мусий даже охрип от крика. – Он всех парубков опозорил! Гарбузов на ворота понавешал!
Я замечаю, что многие в зале хохочут, даже голова колхоза улыбается. Значит, не принимает всерьез болтовню Мусия да Явдохи. И решаюсь перейти в контратаку.
– Каких гарбузов? Кому?! – громко спрашиваю, не отходя от дверей. – Хлопцы, кто сегодня гарбуза получил? Прошу поднять руки!
Ага! Вижу – прячут хлопцы глаза, головы за соседей ховают. Никто не хочет сознаться.
– Вот видите! – с возмущением обращаюсь к Мусию. – Нет таких!
Дед онемел от изумления.
– Как нет?! – наконец, взвизгнул он. – Никто не получил? А я?.. Я получил гарбуза!
– А разве вы парубок? – с удивлением спрашиваю и, видя, что весь зал покатился со смеху, продвигаюсь от дверей метров на пять вперед. – А о вас, титко, – обращаюсь к Явдохе, – говорят, что вы спекулянтка! Так это ж брехня.
– А брехня, брехня, – соглашается Явдоха и спускается вместе с корзинами со сцены.
Опять хохочет зал. А дед Мусий не унимается:
– Не пускать поганца! Пусть дома сидит!
– Не имеете права! – ору ему через весь зал. Голова колхоза застучал карандашом по пустому графину, и, наконец, наступила тишина
Что ты там говоришь? – спрашивает он, обращаясь ко мне. – Иди сюда, чтоб люди тебя видели.
– Мне и здесь неплохо.
Вдруг мой батька срывается с места, бьет кулаком по столу и кричит:
– Иди, стервец! Народ тебя требует!..
Что поделаешь? Раз отец приказывает – надо идти. Снимаю фуражку и плетусь по проходу между скамейками. По ступенькам взбираюсь на сцену.
– Ну, что ты хотел сказать? – спрашивает голова и насмешливо улыбается.
Не терплю я насмешек. Поэтому отвечаю сердито:
– Не имеете права нарушать конституцию!
– А мы не нарушаем, – говорит голова. – Помнишь, как в конституции сказано?
Конституцию я знаю и цитирую без запинки:
– Служба в армии – почетная обязанность каждого советского гражданина
– Вот видишь, почетная! – серьезно говорит мне голова. – А люди считают, что ты такого почета недостоин. Армия наша народная, и народ имеет право решать: посылать тебя на военную службу или не посылать.
– Не посылать! – орут какие-то дурни из зала и хохочут.
Им смех, а мне уже не до смеха. Вдруг правда – решат и не пустят меня в армию? Завтра голова колхоза позвонит по телефону в военкомат, и точка… Даже мурашки забегали по спине. С тревогой смотрю на голову, хочу что то сказать ему, но не могу. Не слушается язык, и в горле пересохло.
– Тов… товарищ голова. – еле выдавил я из себя.
А он отворачивается и улыбается.
– Батьку! – обращаюсь я к отцу. Он даже глаз не подымает
– Люди добрые! – с надеждой смотрю в зал. – За что?.. За что такое наказание?
А в зале тишина, слышно даже, как дед Мусий сопит в усы. Вижу, опустил голову Степан, блестят слезы на глазах у Василинки. На галерке онемели ребята.
– Я же комсомолец! – хватаюсь за последнюю соломинку.
– Выкинуть тебя из комсомола! – подпрыгнул на месте дед Мусий.
– Ну, были промашки, – оправдываюсь. – Глупости были… Так я ж исправлюсь! С места этого не сойти мне – исправлюсь! Клянусь вам, что в армии…
– Дурака будешь валять! – выкрикивает Микола, но тут же на него почему-то цыкает Мусий.
– Товарищ голова! – обращаюсь к президиуму. – Поверьте!.. Что хотите со мной делайте, только не…
– Ты людям, людям говори! – голова указывает на притихший зал.
Но как тут говорить, раз слезы душат меня?
– Никогда дурного обо мне не услышите, – уже шепотом произношу я и умолкаю.
С трудом поднимаю глаза и с надеждой смотрю на голову колхоза. Улыбается, замечаю
– Ну как, товарищи? – спрашивает он у собрания. – Поверим?
И
вдруг собрание в один голос отвечает:
– Поверим!..
Только дед Мусий добавил:
– Сбрешет, пусть в село не возвращается. Выгоним!
Так и посчастливилось уехать мне на службу в армию. А вот с Марусей помириться так и не удалось.
НА ПОРОГЕ СЛУЖБЫ
Верно говорят: в дороге первую половину пути думаешь о местах, которые покинул, а вторую – о тех, куда едешь, о делах предстоящих, о встречах и заботах.
Так и я – Максим Перепелица. Четвертый день везет нас воинский эшелон. В какой город едем и как долго ехать будем – никому не известно. Знаю, что в армию, а остальное меня мало заботит. Все о Яблонивке своей вспоминаю, о том, как провожали нас из села…
Стояло утро – ясное, свежее. По голубому океану неба плыла куда-то серебристая паутина. А на душе у меня было грустно. Может, потому, что минуло лето, что деревья в садках будто огнем опалены – листва их раскрашена во все цвета: желтый, коричневый, красный, оранжевый?.. И в этой листве не слышно птичьего гомону. Тишина стояла кругом. Казалось, и трава, припав к земле, вслушивалась в эту тишину и ждала чего-то.
Потом то там, то здесь начали скрипеть калитки, ворота, раздаваться голоса. С другого конца села донеслись звуки гармошки. В ответ ей на соседней улице послышалась песня. К центру села, на площадь, что перед клубом, потянулись люди – одиночками, парами и целыми семьями. Шли хлопцы с высокими, как гора, мешками за спиной. Это новобранцы харчами запаслись. Стайками бежали девчата. Толпа на площади росла с каждой минутой и все сильнее гудела.
И я стоял в этой толпе, чуть хмельной от чарки сливянки, которую батька поднес мне на дорогу. Мне уже было ясно, почему грущу я в такой радостный день: не вышла провожать Маруся. Не пришла! Встретилась мне на улице, стрельнула глазами и отвернулась. Злится. А чего? Ну, поругались. Так помириться ж можно! На пожар есть вода, а на ссору – мир!
Не пожелала… «Ну, погоди, узнаешь же Максима! – думал я. – Да и все, кто ветрогоном меня зовут, – узнают! Докажу я людям, на что способен Максим Перепелица! Армия для этого самое подходящее место. Пожалеет еще Маруся не раз. Сама письмо напишет. Но поглядим еще, отвечу ли я».
И все-таки хотелось сбегать к ней домой. Но батька, как репей, прилип ко мне. Ни на шаг не отходит, наставления дает, наказывает, как должен служить я Родине.
Мать рядом стоит и украдкой слезы утирает. Возле нее – дед Мусий, трясет своей жидкой бороденкой и шепчет что-то матери на ухо. А батька все наставляет:
– Исправно служи. Да командиров слушайся. И не забудь, что самое главное – со старшиной роты в ладу быть.
– Пиши, Максимэ, почаще, – просит мать. – Да не заблудись там в городе большом. И одевайся потеплее, чтоб не простудился, не дай бог…
Тут дед Мусий в разговор вступает:
– Чего ты квохчешь, Оксано? Не пропадет твой Максим! Ты ему генеральную линию давай, чтоб воякой добрым стал!
– Не беспокойтесь, диду, – отвечаю ему. – Сам знаю, куда и зачем еду. Хуже других не буду.
– Ой, не хвались, Максим, – не отстает Мусий. – Не кажи «гоп», пока не перескочишь. Делом докажи!
Даже зло меня взяло. Не я буду, если в первые же дни службы не покажу себя. Сразу так возьмусь за дело, что ого-го!..
И вот наш эшелон подъезжает к станции назначения.
А мы – новобранцы – толпимся в дверях теплушек и рассматриваем виднеющийся километрах в пяти город. Город, я бы сказал, так себе. Ни тебе высотных зданий, ни дворцов заметных. А вдобавок к этому – эшелон наш подали не на пассажирский вокзал, а на товарную станцию.
Правда, с оркестром встретили нас на платформе. Это уже дело другое.
Выгрузились мы из вагонов и ждем команды к построению. Я держусь Степана, который мой сундук несет. Осматриваюсь кругом и думаю:
«Пора бы мне начинать действовать…»
– Ставь, – говорю Степану, – сундук и сбегай брось мое письмо в ящик. Только в почтовый!
– Марусе успел настрочить? – спрашивает Степан и берет у меня конверт.
– Ей, – и скребу в затылке. – Неловко получилось все. Поругались перед самым отъездом.
Степан убегает, а я обращаю внимание на высокого симпатичного парня. Стоит он у своего чемодана и цыгарку завертывает.
– Эй, дружок! – окликаю его. – Ты откуда?
– Из Белоруссии.
– Как зовут?
– Илько Самусь.
– А почему такой высокий?
– Кормили хорошо.
Четко отвечает. Люблю таких хлопцев. Говорю ему:
– Добрый наблюдатель из тебя выйдет, Самусь. Зрение крепкое? А ну почитай, что там написано, – и указываю на забор, где еле уместились аршинные буквы: «Не курить!»
Посмотрел Самусь на забор, затушил цыгарку и положил ее за ухо.
– Далеко видишь! – одобряю. – Становись сюда, будешь в моей команде.
Самусь с недоумением смотрит на меня, я уже подхожу к другому хлопцу, одетому в меховой треух и полосатую свитку.
– Добрая у тебя одежа, – говорю ему и щупаю свитку. – Я такой еще не бачив.
Хлопец повернул ко мне лицо, и я даже испугался. Загорелый до черноты! Только зубы да глаза блестят.
– Как же тебя звать, такого черного?
– Моя Таскиров, – отвечает. – Али Таскиров.
– Иди к нам. У нас черных не хватает.
В это время подбегает Степан Левада и докладывает мне:
– Товарищ командир, ваше приказание выполнил, – и улыбается – рад, что по-военному у него получилось.
– Молодец! – хвалю Степана и обращаюсь ко всем: – Вольно, хлопцы, можно курить!
– А ты кто такой? Чего распоряжаешься? – подлетает ко мне какой-то парняга, в кепке, в кожаной тужурке, с котомкой за спиной.
– Скажи ему, Таскиров, кто я такой, – прошу черного.
– Камандыр, – авторитетно заявляет тот.
– Понятно? – спрашиваю у парняги. А он не верит.
«Как бы ему доказать?» – и оглядываюсь по сторонам. Замечаю, стоит недалеко какой-то начальник с красными нашивками формы «Т» на погонах. Направляюсь к нему вроде к старому знакомому. Обращаюсь тихо, чтоб парняга тот не слышал:
– Здравствуйте, товарищ командир!
– Здравствуйте, – отвечает. – Мое воинское звание «старшина». Запомните.
Я даже позабыл, зачем подбежал к нему, так обрадовался. Передо мной стоял… старшина. И, кажется, не так уж строгий.
Позже я узнал, что фамилия этого старшины – Саблин. И многое другое узнал. Верно батька говорил – старшина самая главная фигура в казарме. Спит солдат или дневалит, чистит сапоги или спешит в строй – часто о старшине вспоминает. И если солдат не очень исправный, то нужно дрожать ему перед старшиной, как осиновому листу на ветру. Не потому, что старшины плохой народ. А обязанности у них такие: увидеть все непорядки и за все спросить с виновных. Недаром и название им серьезное дали.
– Товарищ старшина! – обращаюсь к Саблину. – А долго треба служить, чтоб в командиры выйти?
– Смотря как служить будете.
– Ух, знаете, как буду! – говорю.
– Хвалю за желание. Как фамилия? – и таким придирчивым взглядом осматривает меня! На значки мои, между прочим, глянул понимающе.
– Перепелица моя фамилия.
– Перепелица? – почему-то удивился старшина. – Это не вы во время остановки эшелона бродячую собаку к станционному колоколу привязали?
О! Уже знает! Небось старший по вагону успел разболтать.
– Я, – отвечаю. – Но собака хорошая. Только, дура, звонить и кусаться начала, когда ее отвязать хотели. Раньше времени пассажирский поезд отправила.
Засмеялся старшина и сказал на прощанье:
– Если попадете ко мне в роту, у нас с дисциплиной строго. Запомните. А сейчас приготовьтесь к погрузке личных вещей на машину, если они у вас тяжелые.
– Обойдемся без машины, – отвечаю. – У нас хлопцы крепкие.
Возвращаюсь к своим. Вижу, парняга в кепке поверил в мое командирство.
– Как фамилия? – спрашиваю у него.
– Ежиков.
– То-то, – и командую всем: – Приказано грузить вещи на машину!
Следом за мной эту же команду старшина подает. И мой авторитет окончательно окреп.
– А вы не кладите, – говорю нашим хлопцам.
– Почему? – недоумевает Ежиков.
– Эх ты! – и измеряю его изничтожающим взглядом. – А ну, Таскиров, скажи ему.
– Закалка будем делать, да? – догадывается Али.
– Конечно! – и боясь, что меня не послушаются, на сознание влияю: – Кто знает, когда кормить будут. А в сундуках у нас колбаса домашняя, сало, пирожки. Всю дорогу будем закаляться!
Подействовало. Степан, Самусь и Таскиров оставили вещи при себе. Только Ежиков закинул свою сумку в машину. Придется исключить его из нашей группы, раз не подчиняется мне.
Выстроили нас в колонны. Меня, Степана, Таскирова и Самуся поставили замыкающими. И это потому, что мы с вещами. Ну и порядки! Самых выносливых хлопцев – и в хвост.
Докладываю о своем несогласии лейтенанту. А он смеется и отвечает:
– Выносливость и здесь можно показать.
Пошли мы. И Ежиков вместе с нами, замыкает за компанию строй.
Хорошо идти под команду. Потом песню кто-то запел, и мы дружно подхватили. Ничего, что не обученные, добре в ногу шагаем!
А по краям дороги сосны шумят, вроде на нас любуются. С телефонных проводов срываются ласточки, вспугнутые песней.
Но постепенно настроение у меня начало падать. Уж очень до города далеко, а сундук мой не так легкий. И Степану не передашь его. Он и от своего мешка пыхтит.
То в одной, то в другой руке несу сундук – тяжело. Того и гляди рука оторвется. И пот заливает глаза. На спину попробовал взвалить сундук – к земле гнет, и углы его до костей врезаются.
– Хлопцы! – кричу. – Кто пирогов хочет? У меня половина сундука лишних.
Никто не отзывается. А выбрасывать жалко – хлеб ведь.
И так и сяк пытаюсь брать сундук, а он все тяжелее делается. Вижу, трудно и моей команде. А тут еще Ежиков подсмеивается:
– Что, ребята, взопрели? А командир ваш молодцом держится.
– Нэ камандыр он! – сердито сопит Таскиров.
– Балаболка, трепач, – поддерживает его Самусь.
Только Степан молча вытирает рукавом пот со лба.
Зло меня взяло. Я же хотел как лучше! В армию приехали служить, а не на курорт!
– Привал, хлопцы! – командую. – Отдохнем и со следующей колонной пойдем, – и усаживаюсь посредине дороги на свой сундук. А хлопцы никакого внимания – поплелись дальше. Даже Степан Левада осмелился не выполнить моего приказа.
Ну и пусть!
Вдруг слышу – машина гудит за поворотом.
«Вещи новобранцев везут», – догадался я и мигом стащил свой сундук в придорожную канаву.
Вот машина уже рядом. Перед мостком замедлила ход и меня минует. Тут я вытолкнул сундук на дорогу и во всю глотку заорал:
– Стойте! Стойте!
Грузовик затормозил, и из кабины выскочил знакомый мне старшина Саблин.
– В чем дело? – спрашивает.
– Сундук подберите! Свалился! Старшина измерил меня недоверчивым взглядом и приказал положить сундук в кузов.
– Почему отстали? – спрашивает.
– Да сапог, – говорю, – ногу жмет. А у меня действительно сапоги узковаты – по последнему фасону.
– Тогда садитесь в кузов и за вещами смотрите, – приказывает Саблин.
Я, конечно, противиться такому приказу не стал и забрался на машину. А чтоб веселее было ехать, достал кольцо колбасы из сундука. Первый кусок откусил как раз тогда, когда машина обгоняла ушедшую вперед колонну новобранцев.
– Привет, пехота! – насмешливо крикнул я своим хлопцам, сердитый на них, что ослушались моей команды.
Вскоре примчались мы к военному городку. Вижу – ворота, небольшая будка со сквозным проходом. Из будки выскакивает военный и ворота открывает. Проезжаем мы мимо него, а он смотрит на меня и насмешливо улыбается, вроде думает: «Едешь? Ну-ну. Покажут тут тебе обсмаленного волка».
Дальше вижу – за колючей проволокой ровными рядами выстроились бронетранспортеры с большими пулеметами сверху, пушки, минометы со стволами, может чуть поменьше, чем заводская труба, какие-то машины с железными прутами на крыше. Одним словом – техника. А впереди и слева – трехэтажные казармы под черепицей. В какой-то из них я буду жить.
Подъезжаем к небольшому дому (видать, складское помещение) и останавливаемся.
– Приехали! – говорит старшина Саблин, выходя из кабины.
Соскакиваю я на землю, отряхиваюсь и по сторонам смотрю. Ничего особенного. Солдаты на плацу маршируют. И почему-то по два человека. Никакого впечатления. И оркестра нигде не слышно. А я думал, что в армии ходят только под музыку.
– Ну, осмотрелись? – спрашивает Саблин. – Теперь за дело.
– За какое?
– Разгружайте машину и вещи аккуратно под стенку складывайте.
– Мне разгружать? – удивился я и посмотрел на гору сундуков, чемоданов и мешков в кузове. – Товарищ старшина, сейчас придет моя команда – вмиг все сделаем!
– Не рассуждайте! – строго говорит Саблин. – «Команде» вашей и так достанется. А вы отдохнули. Действуйте.
Потом обратил внимание на значки, привинченные к моему пиджаку.
– Документы на значки имеются? – спрашивает.
– А как же, – отвечаю. – Где-то имеются. Значки без документов никому не выдаются.
– Смотрите, проверю, – и ушел старшина. А за ним шофер куда-то исчез.
Стою я возле машины и чужие значки с пиджака свинчиваю. А то действительно еще документы спросят. Они же, как я сказал старшине, имеются где-то, но не у меня…
Свинтил, спрятал в карман и открываю борт машины. Ой-ой-ой! Треба крепко чуба нагреть, чтоб самому управиться с разгрузкой.
Вдруг замечаю – совсем недалеко, вокруг вкопанной в землю бочки, сидят новобранцы (видать, раньше нас прибывшие). Сидят и папироски посасывают. Подхожу к ним.
– Здравствуйте, товарищи! – здороваюсь.
– Здравствуйте, – отвечают нестройно.
– Ну как, привыкаете? – спрашиваю. – Ничего, привыкнете. Только нужно встать, когда с вами старший разговаривает.
Встают неохотно, с недоумением смотрят на меня.
– Вот так, – хвалю их. – Молодцы! А сейчас трошки потрудимся. Пошли за мной!
Вижу, не спешат хлопцы выполнять мое распоряжение.
– Нам здесь приказали сидеть, – говорит кто-то.
Я хмурю брови и стараюсь смотреть построже.
– Не рассуждайте! – приказываю. – За мной!
Подействовало. Вначале шагнул ко мне невысокого роста парняга с облупившимся носом, потом еще один. Затем кто-то свою команду подал:
– Пойдем, ребята! Все равно делать нечего! И пошли все. А мне это и нужно. Подвожу их к машине и приказываю:
– Двое открывайте борт! Четверо наверх! Остальным таскать вещи к стенке. Складывать аккуратно. А это, – указываю на свой сундук, – давайте сюда.
Поставил я сундук в стороне, чтобы не потерять его среди других вещей, и наблюдаю за ходом разгрузки. А работа кипит. Крепкие ребята – как игрушки хватают тяжелые мешки.
Еще несколько минут, и машина пуста. Поблагодарил я хлопцев, дал тем, кто пожелал, закурить и разрешил быть свободными. И только ушли новобранцы, как из дверей ближайшей казармы старшина Саблин вынырнул. Схватил я быстро свой сундук и, пошатываясь, будто от усталости, ставлю его поверх вещей.
– Ну что, начали разгружать? – спрашивает Саблин.
– Да, – отвечаю безразличным тоном и вытираю платком лоб. – Порядок…
Старшина глянул в кузов, перевел взгляд на гору вещей под стеной и ахнул.
– Уже?!. Вот это работяга!..
– А нам не привыкать, – говорю. – Мы работать умеем, не прикладая рук.
– Постойте, постойте, – перебивает меня Саблин и на часы смотрит. – Так… Ровно семь минут.
– Ну и что? – с притворством удивляюсь я и начинаю беспокоиться. Уж очень насмешливые стали глаза старшины.
– Ничего, – отвечает он. – Придется направить вас на склады служить. Там такие грузчики на вес золота ценятся.
– Товарищ старшина! – взвыл я. – Как же можно – мне и вдруг в грузчики?! Мне с оружием дело иметь хочется.
– Там об оружии тоже не забывают.
Я прямо растерялся. Вот влип! Что же делать? А старшина смотрит на меня и усмехается. Потом вдруг говорит:
– Так вот, товарищ Перепелица. Запомните, что вы в Советскую Армию пришли служить. У нас ценят находчивость солдат. А за такую находчивость, какую вы проявляете, наказывают. Ибо она сопряжена с обманом. Обманывать же можно только врага. Запомните это, вступая на порог службы!
Пришлось запомнить.
«ЛУЧШЕ НА ГАУПТВАХТУ…»
Я да мой односельчанин Степан Левада служим в одном отделении. Степан – тихий хлопец, приятно с ним поговорить, вспомнить нашу Яблонивку. Степан, как известно, помалкивает, а я балакаю.
Красивые, должен сказать вам, на Винничине села! Богатые. Все в садах утопают. Каждому, конечно, свой край люб. Вот и нам со Степаном… Идешь, бывало, весной с поля, и за два километра от села вишневым цветом пахнет. И нигде, наверное, так не поют, как на Винничине. Девчата наши, точно соловейки в роще, голосистые.
Ох, и хороши же у нас девчата! Провожаешь вечером с гулянки девушку и примечаешь, как она у своей хаты вздохнет украдкой при расставании – нравлюсь, значит. Но сам виду не подаю. Не таков Максим Перепелица, чтобы от первого вздоха голову потерять. Может, на следующий вечер я уже другую провожать буду. Хотел выбрать себе такую невесту, чтобы все хлопцы от зависти свистнули.
И выбрал. Полюбилась мне чернобровая дивчина – Маруся Козак. Да я ей, на беду мою, вначале не полюбился. Пришлось год целый к Марусиной хате стежку топтать да песни под ее окнами ночи напролет петь. Не раз мать Марусина с кочергой за мной по улице гонялась, что спать не даю.
Но вышло-таки по-моему: полюбила меня Маруся. Хотя и случай мне помог. Однажды увидел я, что Маруся стирает на речке белье. И решил показать ей, какой герой Максим Перепелица. Залез на самую высокую вербу, которая над водой склонилась, и бултыхнулся с нее в такое место, что дна никак не достать. К тому же пузом об воду плюхнулся. Пошел вначале ко дну, потом с превеликим трудом вынырнул. Вынырнул и стал захлебываться – все силы израсходовал. Короче говоря, тонуть начал.
Заметила это Маруся и кинулась в речку спасать Максима. Поймала за чуб и давай к берегу грести. Я вначале смирно плыл рядом с ней, а потом отдышался и чуть опять не захлебнулся, когда понял, что меня Маруся спасает. Пришлось пойти на хитрость: принялся я Марусю «спасать». Получилось так, что я ее из воды вытащил.
А она, хитрюга, все поняла. Полчаса хохотала на берегу. Ну, а потом все-таки подружились мы. Поверила Маруся, что люблю ее по-серьезному, и созналась, что и меня любит. Правда, с оговоркой: сказала, весело ей со мной.
Но не везет мне в жизни. Перед самым моим уходом в армию поссорились мы с Марусей. Поссорились так, что и провожать не вышла меня.
А Степана провожала Василинка Остапенкова, помощница колхозного садовода. Славное дивчатко. Диву даюсь, как ей полюбился такой молчун. Теперь Степан каждую неделю получает от нее письма. Да почти на всех солдат нашей роты почта исправно работает. Одного меня письма обходят, хотя сам пишу их, может, больше, чем вся рота вместе. А это не так просто. Ведь свободного часу у солдата, что у бедного счастья. После занятий столько забот сваливается на тебя, что хоть кричи: за оружием поухаживать нужно, устав полистать, просмотреть конспекты по политподготовке. А в личное время – есть у нас такое – и повеселиться не грех.
На занятиях тоже не всегда за письмо сядешь. В самом деле, разве можно думать о чем-нибудь другом, когда на последних стрельбах мне еле засчитали упражнение? Хуже всех в отделении стрелял! Ведь Степан Левада, кажется, тоже не старый вояка, а о нем и по радио передавали, как об отличном стрелке. Да и другие недостатки за Максимом числятся. То, говорят, отстает Перепелица по физической подготовке, то не в меру любит похвалиться.
Попробуй найти время для письма.
А тут иногда что-то находит на меня. Из самой глубины сердца, из какого-то его потайного мешочка начинают идти такие слова, хоть садись и стихи пиши! Удержу нет! Прут эти слова изнутри и, кажется, пищат, так просятся в строчки письма.
Тогда я обращаюсь за помощью к Степану Леваде. А он друг настоящий: и автомат мой почистит, и постель мою заправит, и пол в казарме вымоет, если моя очередь это делать. Словом, дает мне возможность писать письма Марусе. Но не всегда этого времени достаточно. Тогда солдата смекалка выручает.
Например, совсем недавно случай был. На занятиях по политподготовке сел я в учебном классе рядом со Степаном Левадой и говорю ему:
– Толково записывай, Степан, чтоб разборчиво.
– Сверить конспекты хочешь? – удивляется Степан.
– Угу, – неопределенно отвечаю.
Начались занятия. Лейтенант Фомин, наш командир взвода, ведет рассказ. Хороший он лейтенант. Командует громко, нарядами не разбрасывается, а если попросишь увольнительную в город – редко когда откажет. И собой симпатичный: худощавый, стройный, брови хотя и не черные, но заметные, лицо загорелое, вот только кожа на носу все время лупится. А физкультурник какой! В цирке б ему работать, а не взводом командовать. Начнет «солнце» крутить на турнике, так даже у меня в животе ноет от страха. Вдруг сорвется!
Словом, уселся я поудобнее, приготовил свою самопишущую ручку, раскрыл тетрадь, внимательно посмотрел на облупившийся нос лейтенанта Фомина и начал писать.
А лейтенант рассказывает:
– Честность и правдивость – важнейшие черты морального облика советского воина…
– Морального? – переспрашиваю я.
– Морального, – подтверждает лейтенант и продолжает дальше: – Быть честным и правдивым – значит не за страх, а за совесть выполнять служебный долг, безоговорочно выполнять все требования уставов.
Перо мое еле успевает за лейтенантом. А из-под него текут ровные, четкие строчки:
«…Неужели ты не понимаешь, Марусенька, – пишу я, – что даже у солдата сердце не камень?» – и поднимаю глаза на лейтенанта, который в это время говорит:
– Ни в чем и никогда не обманывать командира и товарищей по службе, быть самокритичным…
– Са-мо-кри-тич-ным, – повторяю я протяжно и продолжаю писать:
«…Все наши солдаты получают письма от девчат, даже Ежикову – есть у нас один такой языкастый хлопец – пишет какая-то дура…»
Последнее слово мне что-то не понравилось, и я, глянув на командира взвода, перечеркнул его и исправил на «дивчина».
«Имей же сознательность, Маруся! – пишу дальше. – Думаешь, легко мне служить, если сердце мое, как скаженное, болит по тебе?..»
И пишу, и пишу. Вдруг слышу, лейтенант Фомин объявляет:
– Занятия закончены! Ежиков, Таскиров, Петров… Перепелица – сдать тетради.
Точно ошалел я, услышав это. Быстро промокаю написанное, закрываю тетрадь и к Степану:
– Спасай, Степан! Дай твой конспект!
– Ты же сегодня сам хорошо записывал, – недоумевает Степан.
– Да то я письмо Марусе конспектировал. Давай скорее!
– Нет, – отвечает Степан. – На обман я не пойду.
Уставился я на друга своего и глаз оторвать не могу: он ли это? А тем временем сидящий впереди Ежиков подхватил мою тетрадь и вместе с другими сунул в руки лейтенанту Фомину.
– Чего хватаешь! – зашипел я на Ежикова. Но уже поздно.
Ох, и не нравится мне этот Ежиков! Слова при нем сказать нельзя – все на смех поднимает.
Но сейчас не до Ежикова. Бегу вслед за лейтенантом Фоминым. Догоняю его у дверей канцелярии роты и прошу вернуть тетрадь.
– Зачем? – удивляется Фомин.
– Да, понимаете, я конспект не докончил…
– Ничего. Посмотрю, потом закончите, – и хлопнул дверью.
А в казарме гремит команда:
– Приготовиться к построению на занятия по тактике! Я вроде не слышу команды. В щелочку двери подсматриваю, куда Фомин тетрадь положит. Вижу – на стол. Теперь надо найти момент, чтоб забрать свою и хоть вырвать из нее страницы с письмом Марусе. Но момент не подвертывается. Командир отделения торопит в строй. И через несколько минут мы уже входим в парк боевых машин, готовимся к посадке в бронетранспортеры.
Появляется одетый в шинель лейтенант и дает команду: «По машинам!» А я не трогаюсь с места, держусь за живот и морщу лицо.
– В чем дело, рядовой Перепелица? – спрашивает лейтенант.
– Ой, в животе режет… – отвечаю. – Света белого не вижу.
– Сейчас же в санчасть! – приказывает он.
…Взвод уехал на тактические занятия, а я без рубахи сижу в кабинете врача – молодого майора медицинской службы. Правда, погонов его из-под белого халата не видно. Но черные усики кажутся даже синими на фоне халата и белой шапочки.
– Сильно болит? – спрашивает у меня этот медицинский майор
Я внимательно смотрю ему в глаза и стону.
– Даже круги зеленые перед очами, – отвечаю.
Тут, вижу, медицинская сестра заходит – молодая такая, голубоглазая дивчина с подведенными бровями и что-то в инструментах на столике начинает копаться. Это мне не очень понравилось: не люблю при девчатах больным быть. Но ничего не сделаешь.
– Ложитесь на кушетку, – приказывает врач.
Ложусь, хоть и страшно испачкать сапогами белую клеенку Начинает майор щупать мой живот.
– Ой, больно! – ору.
– А здесь? – врач изучает где-то под ребрами.
– Еще больнее!
– И в коленку отдает? – почему-то улыбается врач.
– Кругом отдает, – отвечаю и кошусь на медсестру. Чего ей здесь надо?
Врач вздыхает, качает головой:
– Странная болезнь. Рота, наверное, в караул собирается?.. А ночи сейчас темные, прохладные…
– Нет, – говорю, – не собирается.
– Нет? – удивляется врач. – Тогда дело сложное. Таблетками не обойдешься, – и обращается к медсестре: – Готовьте наркоз, инструменты. Будем срочно оперировать.
– Резать! – сорвался я с кушетки и, вспомнив, что у меня сильные боли в животе, опять лег. – Не надо резать, – прошу врача. – Уже вроде отпустило трохи.
Но вижу, что моя просьба никого не трогает. Медсестра с улыбочкой готовит здоровенный шприц, каким, я видел, лошадям уколы делают, ножичками на столе побрякивает. Ну, беда! Сейчас располосуют живот, отрежут что-нибудь, и пропал Максим Перепелица.
– Не дам я резать, – серьезно заявляю врачу.
– Резать обязательно, – спокойно отвечает врач. – Нельзя запускать такую болезнь.
– Да какая это болезнь? Уже, кажется, совсем перестало, – и с облегчением вздыхаю.
– Это ничего не значит, – замечает врач и снова мнет мой живот. – Больно?
– Чуть-чуть, – машу рукой, – но это пройдет. Посижу часок в казарме, перепишу конспект, и все.
– Конспект? А что у вас с конспектом?
Дотошный врач, все его интересует.
– Да ничего особенного, – говорю. – Написал в тетради не то, что нужно…
– А тетрадь забрал для проверки командир взвода? – продолжил мою мысль врач.
– Да не то чтоб забрал, – начал я выкручиваться, – по переписать конспект треба.
Словом, выпроводил меня врач из санчасти и даже таблеток никаких не дал. Сказал только, что если еще раз приду к нему с такой болезнью – сразу положит на операционный стол. Ха!.. Так я и приду. Меня теперь туда и калачом не заманишь. Тем более – перед медсестрой осрамился.
Направляюсь в казарму. Надо же все-таки тетрадь свою выручать. Подхожу к ротной канцелярии, сквозь дверь слышу, что там не пусто. Командир роты, старший лейтенант Куприянов, по телефону разговаривает.
– Спасибо, – благодарит кого-то он и смеется. – Вы угадали. Теперь мы операцию без наркоза сделаем.
Остолбенел я у двери. Не врач ли позвонил Куприянову?
Если он – упечет меня командир роты суток на десять на гауптвахту. Это точно! Однажды я вышел на утренний осмотр с оторванной пуговицей на гимнастерке. И чтоб старшина не ругал – спичкой ее прикрепил. А тут сам старший лейтенант появился. Прошел вдоль строя и на ходу пальцем в мою пуговицу ткнул.
– Три шага вперед! – скомандовал.
И так отчитал меня перед всей ротой, что страшно вспомнить. Это только за пуговицу…
Губа так губа. Не привык Максим Перепелица от опасностей прятаться.
«Пусть все сразу», – думаю и стучусь в дверь.
– Войдите!
Захожу. Вижу – пишет что-то командир роты. И не сердитый нисколько. Отлегло у меня от сердца. Прошу разрешения обратиться и докладываю, что хочу взять свою тетрадь с конспектом.
– Почему не на занятиях? – спокойно спрашивает Куприянов.
– Прихворнул малость.
– Что врач говорит?
– Операцией пугал. Но как же можно, товарищ старший лейтенант? В учебе отстану.
– А зачем конспект переписывать хотите? – и Куприянов протягивает руку к стопке тетрадей. – Давай те посмотрим.
Не весело почувствовал я себя в эту минуту. Вроде пол под моими ногами загорелся. Но виду не подаю.
– Ничего не разберете, товарищ старший лейтенант, – говорю. – Почерк у меня неважный.
– Ну, сами читайте, – и протягивает мне командир роты мою тетрадь.
Беру я ее, чуть-чуть отступаю подальше, раскрываю, и перед глазами темные пятна. Никак от испуга не могу оправиться.
– Читайте, читайте, – торопит Куприянов.
И тут… язык бы мне откусить!
– Дорогая Мар… – сгоряча болтнул я то, что написано в верхней строчке. Болтнул и онемел, на полуслове остановился. Но смекнул быстро. Читаю дальше: – Дорога каждая минута учебного времени… Нет, не здесь, – и перелистываю тетрадь. – Да и разобрать никак не могу.
– Ну, если вам трудно разобрать собственный почерк, – говорит старший лейтенант, – расскажите…
«Это мы можем», – думаю себе и с облегчением вздыхаю.
– Значит так, – говорю. – Тема занятий: «Честность и правдивость – неотъемлемые качества советского воина».
– Правильно, – замечает командир роты и приятно улыбается. – Продолжайте.
Продолжаю:
– Ну… солдат должен быть честным, правдивым… Если служишь, так служи честно… за оружием ухаживай на совесть. На посту не зевай. Ну, обманывать нельзя, воровать… и так далее.
– В общем, верно, – говорит старший лейтенант и так на меня смотрит, вроде в душу хочет заглянуть. Я даже глаза в сторону отвел. – А что если вам поручить провести с солдатами беседу на эту тему? – спрашивает.
– А что? Могу! – соглашаюсь. – Еще подчитаю трохи… Разрешите идти?
– Минуточку, – задерживает меня старший лейтенант и зачем-то выдвигает ящик стола.
«Наверное, хочет дать брошюру, чтоб к беседе готовился».
И так радуюсь я про себя! Удалось ведь выйти сухим из воды! И вдруг… командир роты протягивает мне чистый конверт…
– Возьмите. Он вам, кажется, нужен.
Я почувствовал, что у меня начали гореть уши, потом щеки, затем запылало все тело. Во рту стало горько. И таким противным я сам себе показался! Вспомнил санчасть, где я пытался прикинуться больным, чтоб на занятия не пойти и тем временем конспект составить, вспомнил весь разговор с командиром роты. А он-то с самого начала знал, в чем дело!
– Товарищ старший лейтенант… – еле выдавил я из себя. – Не могу я беседу проводить… Лучше на гауптвахгу отправьте…
– Вы же больной, – говорит Куприянов.
– Нет, здоров я, – отвечаю каким-то чужим голосом и не могу оторвать глаз от пола.
– Тогда ограничимся одним нарядом, хотя можно было б и на гауптвахту отправить… – сказал командир роты и вздохнул тяжело.
С тех пор нет у меня охоты на занятиях отвлекаться посторонними делами. А если из сердца слова в письмо просятся, я их про запас берегу.
КИЛО ХАЛВЫ
Кто получал внеочередные наряды, тот знает: штука эта не сладкая. Ведь наказание отбываешь. И большей частью отбываешь в выходной день, когда твои товарищи отдыхают, веселятся, идут в городской отпуск.
Наряды бывают разные. Легче, например, отстоять сутки дневальным. Не страшно, когда на какую-либо работу посылают. Но идти в наряд на кухню… Нет горше ничего! Дрова коли, воду таскай, посуду мой, котлы и кастрюли чисть, наводи санитарию и гигиену на столах и на полах. Больно много нудных хлопот.
И вот мне не повезло. Упек меня старшина Саблин в воскресный день на кухню отбывать взыскание, наложенное командиром роты. Это за то, что письмо на занятиях писал я. А тут еще картофелечистка на кухне сломалась, и приказали мне вручную чистить картошку. А заниматься этим не мужским делом я страх как не люблю! Может, потому, что история одна со мной приключилась, когда я подростком был.
Мать моя славится в Яблонивке доброй стряпухой. Если наша бригада выезжала на далекие поля, ее брали за повара. Во время одной косовицы я с товарищами искал на покосах гнезда перепелов. Мать увидела меня и заставила начистить картошки. Не мужское это дело. Но раз мать заставляет – не откажешься. Начистил я картошки, вымыл ее. Вечерело, смеркаться стало. Мать уложила в котел мясо, крупу, приготовила сало с поджаренным луком и другой приправой.
– Высыпь картошку в котел, – приказала она. Я мигом схватил ведро и перевернул его над кипящей водой, не разглядев в спешке, что под руку попало ведро с нечищеной картошкой и картофельной шелухой. А потом… что было потом, лучше не рассказывать. И не припомню я сейчас, чем меня мать колотила. Я только скулил и упрашивал:
– Быйтэ, мамо, но нэ кажить людям, Бо засмиють!..
А люди и без того засмеяли. С той поры я люблю картошку, когда она уже на столе.
Так вот, довелось мне-таки чистить картошку. Сижу я в подсобном помещении кухни – тесноватой комнате с двумя окнами, сижу и стружку с картошки спускаю. На мне поварской колпак, короткий халат и клеенчатый передник. Рядом со мной солдаты из соседней роты – Зайчиков и Павлов. Зайчиков – узкоплечий, губастый, с пожелтевшими зубами (видать, сладкое любит). Такому в самый раз на кухне сидеть. Павлов посерьезнее парень: строгий, неразговорчивый, ростом покрупнее меня. Чистит картошку и фокстрот насвистывает. Вижу, оба хлопца проворно с картошкой расправляются. У каждого из них уже по полведра, а у меня только дно прикрыто.
А за окном что делается! Гуляет мяч на волейбольной площадке, гармошка у клуба заливается, смех, говор, песни. Ясно – выходной день. И так мне нудно стало, что того и гляди швырну нож и в открытое окно выскочу.
Но попробуй убеги. Прямой наводкой на гауптвахту направят. А разговоров сколько будет!
Недовольно кошусь на своих соседей и соображаю…
– Смотрю я на вас, хлопцы, – говорю им, – и удивляюсь: ничему вы не научились в армии.
Зайчиков и Павлов даже рты пораскрывали.
– Нет, верно, – продолжаю. – Живем мы дружно, одной семьей, а картошку чистим в разные ведра.
– Глубокая мысль, – ухмыляется Павлов, смекнув, куда я клоню. – Ты изложи ее дежурному по кухне.
– А что дежурный? – недоумеваю. – Все зависит от вашей сознательности.
Павлов бросает в свое ведро очередную картофелину, с издевочкой смотрит на меня и заключает:
– Ох, и ленивый же ты, Перепелица! Как тюлень.
– Я?.. Да я был в колхозе первым человеком! – отвечаю. – До сих пор письма шлют, советуются… А недавно одно предложение им подкинул. Благодарят!.. Ящик халвы прислали…
При упоминании о халве Зайчиков – тот, который губастый, – уши навострил. Знаю я, что солдаты халву любят. Не пойму только почему.
– Целый ящик? – заерзал Зайчиков на своей табуретке.
– С полпуда весом, – отвечаю. – Не знаю, что с ней делать. Ребят кормил… А она все не убывает. Выкидывать?.. Жалко.
– Так тащи ее сюда! – предлагает Зайчиков и облизывается. – Поможем.
– Вот это друзья! – хлопаю я себя ладонью по коленке. – Значит, халву есть «поможем»? А картошку чистить?..
– Сколько принесешь? – ставит Зайчиков вопрос ребром.
Тут Павлов вмешивается:
– Да врет он все! Ты что, о Перепелице не слышал?
– Плохо знаешь ты Перепелицу! – отвечаю ему. – У меня слово твердое. – И предлагаю: – Ведро картошки – кило халвы!
Зайчиков без разговора вскочил с табуретки и придвинул мое пустое ведро к себе.
– Ну, смотри, если обманешь! – говорит. – Дежурному по кухне доложим.
А я и не собирался обманывать. Раз дал слово, значит сдержу его. Тем более сдержать не трудно: халва продается в нашем военторговском ларьке, который рядом с клубом.
Но к ларьку я не спешу – погулять хочется.
Направляюсь к спортивной площадке. А мяч сам мне прямо в руки летит. Подкинул я его и как гасанул в сторону волейбольной сетки! Попал Василию Ежикову в затылок. Повернулся Василий и с недоумением смотрит на меня.
– Ты чего не на кухне. Перепелица? – спрашивает.
– Там ребята душевные, – отвечаю. – Не дают переутомляться. Ценят!
И к турнику иду, вокруг которого солдаты собрались. Прошу одного «спортсмена», который болтается на перекладине, место уступить. Уступил. Я с ходу сделал замах на склепку и тут же взлетел на перекладину на прямые руки. «Здорово!» – хвалят хлопцы. Чего здесь удивительного? Это раньше я по физкультурной подготовке отставал. А сейчас натренировался.
Хотел еще одним упражнением похвастаться, да вдруг заметил, что старшина Саблин из казармы появился. Надо маскироваться.
Соскакиваю на землю и в толпу солдат. Когда старшина прошел, я к военторговскому ларьку направляюсь. Уже, наверное, начистили мне Зайчиков с Павловым картошки.
Подхожу, вижу, торчат в открытое окошко ларька усы дяди Саши – «Крючка» по прозванию.
«Порядок! – думаю, – продавец на посту».
Без спросу кладет передо мной дядя Саша коробку дешевых папирос и спички.
– Не-е-т, – говорю ему. – Дайте-ка халвы попробовать.
– Попробовать? – переспрашивают усы.
– Эге.
Из окошка высовывается длинный нож с кусочком халвы на кончике. Разжевал я халву, проглотил. Добрая! Но хвалить не спешу: еще пожалеет килограмм продать.
– Что-то плоховата, – морщу нос, но потом машу рукой и добавляю: – Ну, ладно. Съедят и такую. Взвесьте кило.
А усы смеются:
– Раньше надо было приходить. Вся распродана.
– Как распродана?! – ужаснулся я.
– Очень просто, – отвечает дядя Саша. – Завтра опять завезу.
Что ты скажешь! Как же я теперь на кухню вернусь? Съедят же меня хлопцы. Да и стыдно. Жуликом обзовут.
Одно спасение: надо выскочить на десять минут в город. Но без увольнительной записки, которую мне никто не даст, это невозможно.
И все же иду к контрольно-пропускному пункту. Издали смотрю, кто там дежурит. Вижу – сержант из третьей роты.
«Не пустит», – вздыхаю.
Тут как раз машина из расположения части выезжает. Сержант кинулся ворота ей открывать, а я следом за машиной и бочком, бочком. Вдруг, как из «катюши»:
– Ваша увольнительная! Заметил-таки сержант…
– Мне вон в тот ларек халвы купить, – объясняю ему.
– Без увольнительной нельзя.
– На одну же минутку…
– Кр-ру-гом! – резко командует в ответ.
И разговор закончен.
Отошел я в сторонку от проходной, и так грустно мне. Хоть бы кто из наших в город шел – можно задание дать.
Но солдат бежит в увольнение впереди увольнительной записки. Все давно ушли.
А возвратиться на кухню без халвы не могу. Совесть не позволяет. Совесть же – это мой бог. Если я с ней не в ладах – нет мне спокойной жизни!
Решаюсь на последнее: через забор! Никто не увидит. Быстро слетаю к ларьку и тем же путем назад.
Решено – сделано. Перемахнул я через забор. Но… к ларьку, что через дорогу, подойти нельзя. Вижу, стоит там старшина Саблин и с продавщицей любезничает. Это на час, не меньше.
Пячусь назад, поворачиваю за угол и бегу к гастроному. Подбежал, а на дверях за стеклом покачивается табличка: «Перерыв». Посмотрел я с ненавистью на эту табличку и обращаюсь к чистильщику обуви, который рядом сидит, – этакому смуглому, белоусому старику:
– Дядьку, где здесь срочно халвы можно купить?
– Халвы купить, да? – гнусаво переспрашивает дядька. – Зачем халвы? Давай сапоги почищу.
Смеется, бестия!
– Некогда! – сердито отвечаю.
– Некогда? На базар иди… Второй квартал направо. Пулей несусь на базар. Уже спина мокрая. И ноги подкашиваются от страха: вдруг кого-нибудь из своих встречу?! Или – не дай и не приведи – патруль комендантский!
Только подумал об этом, как из переулка, навстречу мне, вышел с двумя солдатами незнакомый лейтенант. Увидел я на его рукаве красную повязку и вроде споткнулся. Потом взял себя в руки. Перехожу на строевой шаг и четко отдаю патрулю честь.
– Ваша увольнительная! – останавливает вдруг меня красная повязка.
– В каком смысле? – удивляюсь…
И все кончилось как нельзя плохо. Сижу я на гауптвахте – в небольшой комнате с решетками на окнах. Деревянные откидные нары подняты к облезлой стене и закрыты на замок.
Сижу на табуретке, скучный, как пустой котелок, и тру о подоконник пятак, чтоб отшлифовать его до зеркального блеска. Говорят, это помогает грустные мысли отгонять. Но мысли как назло не покидают меня. Пятак уже до того отполирован и отделан после подоконника о штанину, что вижу в нем весь свой похожий на винницкую дулю нос и прыщик на носу.
В другое время этот прыщик много б мне хлопот доставил, а сейчас не до него. Свет белый мне не мил! Уже пытался шаги считать – шесть шагов к запертым дверям, шесть к окну с решеткой. Четыре тысячи насчитал и бросил. Досада огнем жжет мое сердце! Я даже не догадывался, что в нашей славной Яблонивке на Винничине мог уродиться такой несчастливый хлопец, каким оказался я.
Перед моими глазами стоит учебный класс, битком набитый солдатами. Идет комсомольское собрание, на котором обсуждают поведение комсомольца Максима Перепелицы…
Эх-х… Лучше не вспоминать. И как только человек может выдержать такое? И все из-за моего перепеличьего характера. Видать, придется шлифовать его, как этот пятак…
Начинаю тереть о подоконник другой стороной пятак и мечтать о том времени, когда Максим Перепелица станет человеком. А он же станет им.
У ИСТОКОВ СОЛДАТСКОЙ МУДРОСТИ
Прошла осень, зима. А кажется, что я уже сто лет как уехал из родной Яблонивки, как служу рядовым второй роты Н-ского стрелкового полка. Но что это за служба? Все, как говорил дед Щукарь, наперекосяк получается, навыворот. Мечтал об одном, а выходит другое. Нет мне счастья в службе военной. Но я в этом не виноват. Отличаться пока негде! Ведь каждый день одно и то же: подъем, становись, шагом марш, отбой. Вздохнуть некогда. А старшина! Знали бы вы нашего старшину Саблина!
Вот и сегодня. Сижу я в комнате политпросветработы и письмо Марусе пишу.
Вдруг слышу голос дежурного:
– Вторая рота, приготовиться к вечерней поверке!
Мне же отрываться никак не хочется – мысли толковые пришли. А тут еще Степан Левада надоедает.
– Максим, не мешкай, – говорит. – Ты же сапоги еще не чистил.
– Чего их чистить? – отвечаю. – Не свататься же пойду. Все равно завтра в поле на занятия.
А Степан носом крутит – недоволен:
– Опять достанется тебе от старшины.
– Не достанется, – успокаиваю его. – Вот допишу письмо и маскировочку наведу – два раза махну щеткой по носкам, и никакой старшина не придерется.
Но Степан не отстает:
– Опять Марусе строчишь? – интересуется. – Чудак человек. Плюнь! Не отвечает, и плюнь.
Ничего я не успел сказать на это Степану, так как в казарме загремел милый голосок старшины:
– Стр-роиться, втор-рая!..
Быстро сую недописанное письмо в карман и пулей лечу чистить сапоги. А старшина Саблин знай командует:
– В две шер-ренги…становись!
«Эх, дьявол! – ругаюсь про себя, – не успею». Раз-два щеткой по сапогам, и мчусь к месту построения. А там уже слышится:
– Ровняйсь!.. Чище носки, левый фланг!.. Еще р-ровнее! Та-ак… Смир-рно!..
– Товарищ старшина, разрешите стать в строй, – обращаюсь к Саблину.
– А-а, Перепелица?! – вроде обрадовался он встрече со мной. – Опять, значит, опаздываем? Уже сколько служим, а к элементар-рному пор-рядку не приучимся?
– Да я сапоги чистил, товарищ старшина, – оправдываюсь.
А он глянул на мои сапоги и скривился, точно муху проглотил.
– Чистили? – переспрашивает. – Что-то не замечаю… Ага, ясно. Носочки, значит, обмахнули. А каблучки кто же будет чистить?..
«Ну, думаю, начнет сейчас отчитывать да про порядки объяснять». Надо бы промолчать мне, но мой язык сам себе хозяин.
– Каблуки тоже чистил, – болтнул он. – Вон Левада видел.
И тут начал старшина меня «чистить» перед строем всей роты.
– Ага, – говорит, – надеетесь, что земляк выручит? Вряд ли. Не в этом суть солдатской взаимовыручки. Но где вам понять? Это поймет только солдат. Повторяю: только настоящий солдат.
А мой язык опять сболтнул:
– Я тоже солдат.
Старшина Саблин даже удивился:
– Солдат? Так-так. Солдат, значит? А где же ваши солдатские качества? Нет их, рядовой Перепелица. Товарищескую взаимовыручку вы понимаете неправильно, да и находчивости у вас тоже нет… Что это за находчивость – сапоги только с носков почистить или оторванную пуговицу прикрепить спичкой к клапану кармана? А на занятиях вчера не сумели правильно подобраться к огневой точке «противника»… Где же ваша сообразительность солдатская? А выносливость? Была она у вас?
– Он в столовой вынослив! – подает голос Василий Ежиков. – Двойную порцию вмиг осилит.
В строю прокатился смешок. А этого старшина Саблин не любит. Отвернулся он от меня и на Ежикова уставился.
– Р-разговор-рчики в стр-рою! Делаю вам замечание, р-рядовой Ежиков!
И опять ко мне:
– Две минуты на чистку сапог. Бегом!..
Такая-то жизнь моя солдатская.
Давно потушен свет в казарме, а мне не спится. Эх, служба, служба! Разве так я, Максим Перепелица, мечтал служить? Думал, что, как приеду в армию, буду у всех на виду, буду горы ворочать. А получается… получается, как у нашего деда Мусия из Яблонивки: как-то при гостях хотел он показать свою власть в семье, хотел похвалиться, какой он хозяин в доме, но, как на беду, позабыл кочергу спрятать. И как только повысил голос на свою жинку – бабку Параску, – она схватила кочергу и так стремительно атаковала его, что дед Мусий и на гостей оглянуться не успел – утек на чердак и лестницу за собой втащил. Два дня сидел там не евши и просил бабку Параску о помиловании.
Вот так и у меня. Надеялся на пироги с маком, а тут тебе горчица с хреном.
Конечно, многому я научился за эти месяцы в армии. Карабин и автомат знаю, как бабка Параска свою кочергу, а саперной лопаткой, если захочу, умею работать, как ложкой. А маскироваться, а перебегать, а шаг печатать, чтоб даже искры сверкали! И стреляю лучше прежнего. Научили! Но все же, очень не везет мне. Никак не могу найти правильного азимута в службе. Куда ни повернусь, все не так: то не так постель заправил, то поясной ремень слабо затянул, то в строя опоздал, то схватил из пирамиды чужое оружие, то честь командиру не так отдал, то не доложил, то не спросил, не сказал, не узнал… И все замечания, замечания, замечания.
Когда же конец этому будет? Когда я настоящим солдатом стану, чтоб не склоняли Перепелицу на комсомольских собраниях, в стенгазете, чтоб старшина Саблин от меня отвязался?
Неужели не способен я стать другим?.. Способен!
И принял я твердое решение: завтра же с подъема во всем первым быть. С этой мыслью и уснул.
А ночь для солдата ой как быстро проходит! Не успел, кажется, и лечь, как уже дежурный по роте «подъем» горланит.
Вскочил я утром, когда раздалась команда «подъем», и не торопясь одеваюсь. Вдруг вижу, Ежиков обгоняет меня. И тут я вспомнил о вчерашнем своем решении.
Вроде током тряхнуло Максима. Вмиг натянул я бриджи, обул один сапог, схватился за другой. Но все-таки отстаю. Чтоб быстрее было, не стал портянку наматывать, а положил ее на голенище, а затем поверх портянки ногу и р-раз ее в сапог. Ничего, потом выберу минуту и переобуюсь.
Представьте себе, что к месту построения на физзарядку я подбежал первым. Командир отделения, сержант Ребров, даже удивился, а старшина Саблин тоже подметил мое старание.
– Одобряю, Перепелица! – бросил он на ходу. – Первым в роте поднялись сегодня.
Промолчал я, а сам подумал:
«Еще не то увидите. Будет Перепелица первым и в учебе и в дисциплине».
Наступили часы занятий. У нас по расписанию должна была начаться стрелковая подготовка, но вместо этого почему-то всю роту вывели в поле. Прошел слух, что приехал сам командир дивизии и будет проверять нашу выучку.
Так и случилось. Не успели мы передохнуть на зеленой травке у дороги (а она мягкая, сочная, только на свет появилась. Май же кругом службу дневального несет. Так он прибрал все вокруг в зелень, что любо-дорого, – душа песни просит. Моя бы власть, я б каждый год наряда по четыре давал маю вне очереди. Пусть дневалит!)… Так вот, не успели мы передохнуть, как командир взвода, лейтенант Фомин, вызывает к себе в придорожный кювет командиров отделений и отдает им боевой приказ.
Через минут пять сержант Ребров уже и нам задачу поставил. Оказывается, мы являемся не кем-нибудь, а десантом. Высадили нас на планерах в поле (разумеется, условно высадили, так как притопали мы сюда ногами), и нам предстоит, действуя по отделениям, преодолеть занятую «противником» полосу в пять километров, а затем в точно назначенное время атаковать и уничтожить «неприятельский штаб» в овраге близ рощи «Фигурная». А чтоб добраться до этой самой рощи, нужно продираться сквозь густые кустарники, идти по оврагам и болотам. И притом засады «противника» надо обходить. Наткнется отделение на засаду – и долой из игры. Такие условия.
Приказ есть приказ. Надо действовать. Но не успели мы выйти на исходное положение – перебежать к опушке недалекого кустарника, – как появился незнакомый капитан с белой повязкой на рукаве. А на повязке буква «П» – посредник, значит.
Подошел, посмотрел на нас и бросил единственную фразу:
– Командир вашего отделения выведен из строя.
Смотрю я на капитана и ничего не понимаю. А как же воевать без командира? Другие солдаты на сержанта Реброва оглядываются, а он руками разводит – не могу, мол, ничего сделать.
И тут… Ушам я своим не поверил.
– Второе отделение, слушай мою команду!
Оглядываюсь – Степан! Поднялся на карачки и так строго смотрит на солдат, что смех один. Видать – боится, что не послушаются его.
– Почему твою? – удивляюсь я. – Я же первым сегодня в строй стал.
А он вроде и не слышит.
– Отделение, за мной! – и первым бежит к опушке кустарника. За ним поднимаются Ежиков, Самусь, Таскиров и все отделение. Приходится и мне подниматься.
Догоняю Степана и заговариваю с ним.
– Чего ты поперед батьки в пекло лезешь?
– А что? – удивляется.
– «За мной! За мной!» – тоже мне генерал выискался!
– Так чего же ты не командовал? – сердито спрашивает Степан.
Что ему ответишь?
– Да я только подумал, – говорю, – а ты уже выскочил.
– Ну, командуй сейчас, – уже миролюбиво предлагает он.
Но тут Ежиков в разговор вмешался.
– Хватит, – говорит он, – Перепелица уже покомандовал.
– А тебе какое дело? – отражаю наскок Ежикова.
Вдруг его Таскиров поддерживает.
– Нэ камандыр. Перепелица, – категорически заявляет.
Тут отделение добежало до кустарника, и Степан скомандовал:
– Стой! – А когда мы залегли, строго добавил: – Прекратить разговоры!
Не узнаю дружка своего. Даже голос его вроде изменился. Пререкаться не хочется, но все-таки отрубил я Ежику и Таскирову:
– Очень нужно мне командовать вами – лопухами такими!
А Степан на меня как цыкнет:
– Перепелица!..
Икнул я и умолк. Тем более, заметил, что лейтенант Фомин спешит к нам.
– Кто принял командование отделением? – издали спрашивает он.
Степан, кажется, сробел. Он на меня смотрит, а я на него. «Раз трусишь, думаю, давай я». И вскакиваю на ноги. Но вижу – и Степан вскакивает.
– Докладывайте, рядовой Левада, – почему-то обратился не ко мне, а к Степану лейтенант.
Когда Степан доложил, что он командир, Фомин на меня глаза перевел.
– Вы что-то хотели сказать, рядовой Перепелица?
– Хотел спросить, нельзя ли курить, – отвечаю.
– Нельзя, – отрезал лейтенант.
– Правильно, – соглашаюсь. – Я так и думал.
Слышу, Василий Ежиков хмыкает. А когда лейтенант Фомин позвал к себе Леваду, чтоб проверить, как уяснил он задачу, Ежиков захихикал еще громче:
– Думал. Вы слышали, ребята? Он, оказывается, думал!
Очень засвербел у меня язык. Хотелось покрепче ответить Ежикову. Но подходящего слова не нашел и смолчал. А тут и Степан Левада вернулся. Вернулся и еще раз начал нам задачу объяснять. Потом по секрету сообщил, что на пути вся третья рота будет нас караулить и с воздуха будут за нами глядеть.
– Третья рота? – переспрашиваю. – Да там все такие, как Ежиков, недотепы. Дойдем!
Ежиков опять в контратаку:
– Твоим бы языком, Максим…
Но Степан опять бабахнул:
– Разговоры! – и приказал: – Перепелица и Таскиров – в головной дозор. Старший – Перепелица.
Люблю быть старшим. Хоть под моим командованием один Таскиров, но все равно боевая единица.
Оторвались мы от отделения на расстояние зрительной связи и пробираемся сквозь кустарник в направлении рощи «Фигурная». Таскиров впереди, а я, как и полагается старшему, чуть позади и сбоку Хорошо! От земли душистым парком несет, в кустах соловьи перекликаются, а по небу, среди кучных облаков, солнце путь себе прокладывает, точно как мы среди зарослей.
Вот только с ногой у меня худо. Так и не удалось переобуться. Теперь портянка сбилась в носок сапога, а голая пятка уже огнем горит. Вначале не обращал я внимания на это, да и сейчас не особенно обращаю. Пустяки! Солдат к боли должен привыкать.
Идем мы и идем. Прислушиваемся, конечно, да и глазами каждый куст прощупываем. Мое дело, разумеется, командовать да поддерживать зрительную связь с отделением, которое следует сзади нас – дозорных.
И сейчас, когда вышли мы на узкую дорогу, за которой налево от нас вытянулось большое озеро, поднял я над головой автомат – сигнал командиру отделения, чтоб к нам выдвинулся.
Степан, заметив мой сигнал, тут как тут. Выскочил из кустарника и давай дорогу рассматривать.
– Чего тут смотреть? – говорю ему и на озеро показываю. – Надо идти направо, через дамбу. Здесь втрое ближе.
– Правильно, – соглашается Таскиров.
– Нет, не правильно, – возражает вдруг Степан и приказывает нам разговаривать шепотом. – Там на засаду нарвемся.
– Откуда это известно? – удивляюсь я.
А Степан на дорогу указывает.
– Глядите, след бронетранспортера.
– Так, может, он влево поехал, – не сдаюсь я.
Но Степан, вижу, стоит на своем:
– Косые зубцы по краям следа указывают направление… Так куда он поехал? – спрашивает он.
– Вправо, – уже соглашается с Левадой Таскиров.
– Верно, – говорит Степан. – Значит, надо идти влево.
Степан возвращается к отделению, а я смотрю ему вслед и удивляюсь.
– Откуда он знает все? – спрашиваю у Таскирова.
А Таскиров отвечает без всякого уважения к старшему дозорному:
– Он не пишет, – говорит, – на занятиях писем Марусе.
– Разговорчики! – обрываю его. – Наблюдайте вперед!
Пошли мы дальше. Начали огибать озеро. Здесь дозорному пришлось идти почти рядом с ядром отделения. Справа и слева камыш шелестит, а под ногами вода хлюпает. Чувствую, что пятка моя не на шутку начинает болеть. А доложить Степану неудобно – ведь старший дозорный я. И вдруг… (тут и о пятке своей позабыл) справа, на другом конце озера, как полоснет пулеметная очередь! Эхо кругом пошло, а я даже присел. В чем дело? Раздвигаю в стороны камыш и замечаю: далеко на дамбе бронетранспортер, вспышки выстрелов и суетня.
– Кто-то из наших нарвался, – спокойно говорит Левада.
И так мне неловко стало, что я предлагал идти через дамбу.
– Лопухи, – говорю о тех, кто нарвался на засаду и должен возвратиться ни с чем. А сам на Степана кошусь:
«Помнит он или нет о моем предложении?»
Чувствую, Таскиров меня локтем под бок толкает. Повернулся я к нему, а он шепчет:
– Камандыр, – и кивает головой в сторону Степана.
Да-а, верно. Голова у Степана вроде работает. Надо бы и мне подтянуться. Ведь солдатская служба – дело-то серьезное, нужное. Там, в Яблонивке, небось думают, что Максим Перепелица уже офицером скоро станет, а я того… Впрочем, не такое уж великое дело отделением командовать. Подумаешь, следы бронетранспортера разгадал! Мы тоже еще себя покажем! Вот только пятка…
За озером перебежали быстро через небольшое мелколесье, и перед нами раскинулась широкая болотистая долина. В долине той колышется пожухлая прошлогодняя осока, а среди нее пробивается к солнцу молоденькая осока – тоненькая и густая, как грива коня.
Перед долиной остановились мы. Степан выполз чуть вперед и с таким важным видом рассматривает ее, что просто смех: вроде генерал вражеские укрепления.
– Чего на нее глядеть? – спрашиваю. – Перебежим быстро, и точка. Жалко – ноги запачкаем.
А Степан молчит, наблюдает. Потом поворачивается к нам и приказывает:
– Всем ползти по-пластунски!
Сдурел Степан! Совсем сдурел! Там же болото, вымажемся, как черти. Я уже рот раскрыл, чтоб сказать ему об этом, как меня опередил Илько Самусь.
– Тут целый день ползти надо, – говорит он. – К сроку не поспеем.
А Степан ему в ответ:
– Кто здесь командир? Может, вы будете командовать, товарищ Самусь?.. За мной!
Не захотелось мне после этого вступать в разговор, и пополз я вслед за Степаном. Так даже лучше – пятка моя отдохнет.
Но не очень-то легко ползти по болоту. Уже через минуту почувствовал я, как на локтях и на груди вода пробралась к телу. Потом – на коленках. Да и спина от пота все больше мокнет. Рубашка так и прилипает к ней.
С этим можно было б еще мириться, если б в нос не бил такой противный запах тины и плесени. Тошнит!
Приходится терпеть. Ползу я, попеременно подтягиваю под себя ноги и бросаю тело вперед, а автомат, который лежит на правой руке, то за куст чернотала цепляется, то за кочку. Попросил я у Степана разрешения забросить оружие за спину. Не разрешил: нужно быть в боевой готовности на территории «противника». Ну, думаю, черт с тобой. Вырвусь сейчас вперед и первым на ту сторону выползу. Знай наших. И только чуть-чуть взял в сторону, как из-под моего локтя плеснула тина и прямо мне в лицо! Ослеп я и от злости оглох.
– Дай дурню волю, – ругаю тихо Степана и продираю глаза. Продрал, оглядываюсь на товарищей и вдруг вижу, что такая же история с Ежиковым приключилась. Грязный он, как порося! Я даже захохотал.
– Чего ты? – спрашивает у меня Самусь.
– Ежиков утонул, – отвечаю.
А Самусю не до шуток. Тоже из сил выбился и промок весь.
– Кому это нужно? – шепчет он. – Перебежали бы быстро, и все.
– Вы же, дурни, не хотели, чтоб я командовал отделением, – у меня бы не ползали так.
Вдруг Левада как зашипит на нас:
– Тише!.. – и взглядом вправо указывает.
Повернул я голову вправо и обмер. Сквозь осоку увидел на краю лощины замаскированный танк. Пушка его в нашу сторону развернута, а над башней торчит танкист и в бинокль смотрит. Кажется, смотрит прямо на меня. Я так и врос в болото.
В это время в небе стрекот моторов послышался… Ну, беда! Два вертолета откуда-то вырвались. И прямо на лощину, где мы лежим, курс держат. Один потом замер в воздухе на одном месте, видать болото просматривал. Затем дальше повилял хвостом.
Вот тут мы все поняли, что шутки плохи. Я уже так старательно полз – прямо носом борозду среди кочек прокладывал. И не зря. Слева заметили еще одну засаду. Но и возле нее проползли без единого выстрела, как и требовалось.
И когда из нас уже выходил последний дух, выбрались мы на опушку леса.
– Встать! – шепотом командует Степан.
А у меня сил нет.
– Не могу, – отвечаю. – Привык… На пузе легче.
Однако подняться пришлось. Поднялся… охнул и сел. На пятку не наступить.
– Снимайте сапог, – уже на «вы» обращается ко мне Степан.
Разуваюсь. Глянул на свою ногу и ахнул. Растер до крови. И, как всегда, первым Ежиков подкалывает меня:
– Солдат… Портянку наматывать не умеет.
– На язык бы тебе такого болячку, – огрызаюсь и достаю индивидуальный пакет.
А Степан на часы смотрит. Видать, приближается время атаки. Роща «Фигурная» уже рядом.
Что делать? С бинтом ногу в сапог не сунешь? Придется в одном сапоге бежать.
Так мне пришлось и сделать. Намотал поверх бинта портянку, привязал ее другим бинтом и вперед. В одной руке автомат, в другой – сапог. Потом додумался за поясной ремень сапог заткнуть.
Но все же отстал я от отделения. Добежал до оврага, что у рощи «Фигурная», когда наши уже разгромили там штаб «противника» и выстроились для разбора занятий.
Стоят солдаты в строю – подтянутые, подобранные (правда, солдаты только тех отделений, которые сквозь засады прошли). Стоят в тени ветвистых елей, а я бреду по крутой тропинке – грязный, усталый, в одном сапоге.
– Смотрите, и Перепелица дошел! – слышу голос старшины Саблина.
В ответ смешок прокатился. Но тут же затих. Старшин лейтенант Куприянов, командир роты нашей, ко мне обращается:
– Становитесь, рядовой Перепелица, в строй! То, что дошел – молодец! А вот ногу натер – плохо.
«Да разве только это плохо? – горько думаю я про себя. – А что было б, если бы не Степан Левада, а я, Максим Перепелица, принял на себя командование отделением? Первая же засада нас завернула б назад!»
И все оттого, что характер у меня перепеличий – по верхам летаю, а до сути военной службы не дохожу. Но дойду. Ей-ей, дойду, не быть мне Максимом Перепелицей!
Только подумал я это, как ко мне Саблин подходит.
– Вот сюда становитесь, – тихо говорит и ставит меня на самый левый фланг. – И не горюйте, дело будет. Начало ведь положено?
«СПАСИБО, ТОВАРИЩ!»
Какой-то особый характер у нас, солдат, выработался – всегда что-нибудь тревожит тебя, всегда чего-то добиваешься. Беспокойный мы народ.
А попробуй не будь беспокойным, попытайся положить руки в карманы и сказать: «Мне делать больше нечего». Попадешь в такой переплет, что ого-го!
Я, Максим Перепелица, кажется, уже выбился из отстающих солдат, хотя и в передовые еще не вышел. Можно б командирам поменьше на меня внимания обращать. Да где там!.. Вот совсем пустяковый случай. Торопился я и плохо заправил свою кровать. За это сержант Ребров сделал мне внушение по всей строгости.
– Порядок знаете? – спрашивает. – Почему же нарушаете его?
Говорит так, а у самого даже глаза потемнели от недовольства. Вообще Ребров требовательный сержант. Даже в театре однажды не постеснялся сделать замечание самому Стратосферову – лучшему артисту. Играл Стратосферов роль старшины, а у самого пряжка ремня набок сбилась, гимнастерка не заправлена. Сержант Ребров в антракте пробрался за кулисы и кому-то доложил о таком беспорядке на сцене. И что вы думаете? Артист подтянулся, а Реброву режиссер объявил благодарность.
Пришлось мне перестелить одеяло на своей кровати. Но, думаете, простили Перепелице его оплошность? В стенной газете пропечатали. А это, пожалуй, хуже, чем взыскание получить. Взыскание – за конкретный проступок, а тут уже обобщение целое. Черным по белому написано: у Максима Перепелицы нет еще любви к порядку. Очень неприятно…
И так мне захотелось, чтоб в следующем номере стенгазеты про меня хорошую заметку поместили, что хоть криком кричи! Пусть бы вся рота знала, что Перепелица стал на правильный путь, что человек он вполне серьезный и свои задачи понимает.
Прямо во сне мерещилась мне такая заметка. И старался, как только мог. А сегодня утром увидел в комната политпросветработы почти готовую стенгазету. Но о Перепелице в ней пока ни слова.
Вроде вареным я стал. Неужели не напишут обо мне? Направляюсь по дороге в спортгородок. «С досады хоть на турнике покручусь». А навстречу – командир нашей роты, старший лейтенант Куприянов.
Эх, не знаете вы нашего ротного! Хоть и поругивал он не раз Максима Перепелицу, и наряд давал, и под арест сажал, а полюбился мне крепко. Рассказать сейчас ему о своих думках – враз нашел бы добрый совет. Идет он мимо, вроде и не узнает солдата Перепелицу. Даже обидно. Отдал ему честь, как положено… И вдруг:
– Рядовой Перепелица, ко мне!
Повернулся я к старшему лейтенанту.
– У вас что, зубы болят? – спрашивает Куприянов.
– Никак нет, – говорю, – зубами не страдаю.
– Тогда еще раз пройдите мимо меня, отдайте честь, и чтобы вид был гвардейский.
Возвращаюсь и снова иду навстречу старшему лейтенанту. А он:
– Голову выше! А глаза… глаза почему не смеются?! Веселее! Тверже шаг… Так, молодец, теперь вижу настоящего солдата. Молодец!..
Неудобно было, что командир роты заставил меня заново отдавать честь. Но зато как здорово отозвался он о Перепелице. Вот бы в стенгазету такие слова про Максима: «Молодец, вижу настоящего солдата, гвардейца!» Ведь похвала-то от самого ротного, а за него я душу готов отдать! Да что и говорить, все знают старшего лейтенанта Куприянова. Как подаст он, например, команду, каждая струнка зазвенит в теле. Мертвый по его команде зашевелится. А на занятиях объяснять станет ротный, даже удивительно, до чего все ясно и понятно, запоминаешь навсегда.
Однажды на стрельбах сильно разбросал я по мишени пули. Старший лейтенант после этого долго лежал вместе со мной на стрелковой тренировке и в ортоскоп смотрел, проверял, как приготовился я для стрельбы. Точно врач у больного, командир роты хлопотал у рядового Перепелицы. И нашел мою болезнь. Оказалось, что слишком я напрягаюсь, когда прицеливаюсь, и от этого усиливается колебание оружия. Кроме того, посторонними мыслями отвлекаюсь. Еще только целюсь в мишень, а уже вижу, как командир объявляет мне благодарность за отличную стрельбу перед строем или что-нибудь похожее… И, представьте себе, об этом тоже догадался командир роты. Как это человек может так все насквозь видеть и разбираться в чужом характере?
Пришлось лечиться. И сейчас здоров. Последнее стрелковое упражнение Перепелица выполнил на «отлично».
Такой-то у нас командир роты. Да и поглядеть на него приятно. Всегда одет аккуратно, брюки наглажены, сапоги до синего блеска начищены. И каждый старается ему подражать. А засмеется – никак не удержишься, тоже засмеешься. Но если недоволен тобою старший лейтенант, бойся в его глаза смотреть.
…Когда начались у нас занятия по физподготовке, старший лейтенант Куприянов пришел в спортивный городок. По лицам товарищей вижу – каждый думает: «Подошел бы к нашему отделению…» А солдаты в нашем отделении – орлы. Трудно Перепелице приходится, чтобы среди таких чем-нибудь отличиться. А отличаться я должен обязательно – характер у меня такой. Тем более что в стенгазете меня отчитали.
В этот час занятий старший лейтенант к нашему отделению не подошел. Все время находился у спортснарядов, на которых третье отделение упражнялось. В перерыве мы взяли командира роты в кольцо. Окружили и смотрим на него влюбленными глазами. И хоть бы для приличия сказал кто слово. Молчим. Засмеялся тогда старший лейтенант Куприянов, и мы грохнули смехом.
– Сейчас, – говорит, – посмотрю, какие вы герои, как на снарядах работаете. Перепелице, наверное, – это ко мне относится, – ничего не стоит через «коня» перемахнуть.
– На то он и птичью фамилию носит, – съязвил солдат Василий Ежиков.
Ох, и колючий же этот Ежик! Ведь это он обо мне заметку в газету составил. Страсть как писать любит. И ни одного случая не пропустит, чтобы не поддеть Перепелицу. Один раз до того подковырнул, что в глазах моих потемнело. Было это на общем собрании роты. Обсуждали мы вопрос о бдительности воина Советской Армии. После доклада должны были прения начаться. Но первым никто выступать не решался. Неудобно мне стало. Ведь сам командир батальона на это собрание пришел. Что о нашей роте подумать может? А председательствовал старший лейтенант Куприянов. Таким задорным голосом спрашивает он:
– Кто будет говорить?
Как тут удержишься? У меня рука сама вверх полезла, и не успел я собраться с мыслями, как старший лейтенант объявил, что слово, мол, предоставляется товарищу Перепелице. Захолонуло у меня в груди. Правду скажу – не подготовился я к речи. Но выступать мне приходилось не раз, авось, думаю, и сейчас обойдется. Вышел к столу президиума и как увидел, сколько на меня глаз смотрит, в голове мешанина началась, а к языку точно гирю привесили. Стою и молчу. По залу уже смешок покатывается. Многие на стульях заерзали – за меня переживают. А тут Василий Ежиков шепчет, да так, что всему залу слышно: «Хлебом, – говорит, – Перепелицу не корми, а дай отличиться. Вот и отличился, смотреть стыдно…»
Такая обида меня взяла – и на себя и на Ежикова, что враз прорвало. Отвечаю на шепот Василия:
– Мне тут, – говорю, – отличаться нечем. Я на учебном поле отличусь. А если вы, товарищ рядовой Ежиков, и дальше будете так плохо чистить оружие, как сегодня почистили (вспомнил я, что сержант Ребров после занятия заставил Ежикова снова смазать ствол карабина), то бдительности вашей грош цена! На язык вы острый, а бдительность притупилась…
Вот на какую мысль натолкнул меня Василий Ежиков. А мне только начать, дальше пойдет. Содержательная речь получилась – о боеготовности солдат. Даже командир батальона отметил это в своем выступлении.
С тех пор Ежиков при случае старается тоже критикнуть Перепелицу, показать, что и я не без греха. Вот и сейчас уколол при старшем лейтенанте Куприянове. Догадывается Василий, что хочется мне молодцом показать себя перед командиром роты. А разве ему, Ежикову, не хочется?
Когда перерыв кончился, старший лейтенант пришел посмотреть, как прыгает через «коня» отделение сержанта Реброва. А хлопцы наши, чтобы блеснуть своей удалью, успели удлинить ноги «коню» так, что стал он похожим на верблюда.
Видит это старший лейтенант и одними глазами смеется. Не говорит, что «коня» можно и пониже опустить, как требуется по нормам упражнения.
Первым прыгнул Степан Левада. Перед разбегом он постоял секунду, измерил взглядом расстояние, рассчитывая, чтоб правой ногой на трамплин ступить. Затем побежал… Толчок! И перелетел через «коня». Чистая работа!
Потом рядовой Ежиков вышел на исходное положение. Вижу, волнуется хлопец. «Хотя бы отделение не подвел», – кольнула меня мысль. Побежал. Я даже глаза закрыл… Слышу – хлопок руками по «коню», а затем глухой удар ногами по матрацу. Молодчина! – И позабыл я, что моя очередь наступила, – за Василия Ежикова волновался.
– Рядовой Перепелица, к снаряду! – слышу голос сержанта Реброва.
Дрогнуло от неожиданности у меня сердце. Глянул я на старшего лейтенанта Куприянова, а он положил руки за спину и смотрит в мою сторону, вроде подбадривает. Стал я на исходное, а в голове мысль: «Не оскандалиться бы». И когда поймал себя на этой мысли, почувствовал, что беда может случиться. Раз неуверенность появилась, значит имеешь, Перепелица, шансы «показать себя»… Даже трудно рассказывать.
Побежал я один раз – плохо рассчитал толчок и отказался от прыжка. Делаю второй разбег. Чудится мне, что сейчас в рамки стенной газеты буду впрыгивать. И так мне хочется туда впрыгнуть!.. Отрываю взгляд от трамплина, отталкиваюсь… А кожаная спина «коня» длинная-предлинная! Выбрасываю вперед над ней руки, но достаю недалеко. Значит, толчок о трамплин слабый. Теперь толчок руками не спасет. Так и случилось. Застрял я на самом конце «коня» да еще носом клюнул, а потом мешком плюхнулся на матрац.
Счастье, что в отделении такими неудачниками оказались только двое – я да Илья Самусь.
Старший лейтенант все же похвалил отделение, а по моему адресу коротко сказал:
– Перепелица перестарался. Бывает и такое. Значит, хладнокровия ему не хватает.
Как в точку попал. Верно же – горячился я. В перерыве товарищи разные советы стали давать.
Один Ежиков не упустил случая, чтобы опять не ущипнуть Максима. Подошел ко мне и говорит:
– Вся беда в том, что хвастун ты, Перепелица.
Так и сказал: «хвастун». Мне даже жарко стало.
– Ведь, – продолжает он, – ты думал лишь об одном: как бы отличиться перед командиром роты?
Не догадывался Василий, что я мечтал еще благодарность старшего лейтенанта заслужить. Тогда бы наверняка сегодня вечером Максим Перепелица прочитал о себе в стенной газете и ему не пришлось бы отводить в сторону глаза при встрече с товарищами из соседних взводов, как это было после выхода прошлого номера газеты.
– И не обижайся за прямоту, – говорит Ежиков, – и сам душой никогда не криви.
После физподготовки пошли мы на тактические занятия в район высоты «Круглая». Подобрались к ней с севера. И такая это симпатичная высотка – слов не найдешь! У ее подножья ручеек протекает, правда плохонький ручеек, берега его вязкие, болотистые. Зато склоны густой травой покрыты, а из травы синими фонариками фиалки выглядывают. Чуть повыше – кусты приютились. Каждая ветка на них молодой листвой покрыта. Заберись, Максим, на самую макушку такой высотки, ляг спиной на траву и смотри в небо, наслаждайся полетом Земли-планеты, забудь о всех своих неудачах.
А тут тебе голос сержанта Реброва:
– Рядовому Ежикову разведать брод ручья в створе ориентира два! Отделению быть наготове прикрыть действия Ежикова огнем.
«Ориентир два» – это высотка. На ней «противник» закрепился. Вот тебе и поэзия! Но, думаете, высотка хуже стала оттого, что ее «ориентиром» назвали? Нисколько. Хочется лишь побыстрее выковырнуть оттуда «противника» и надышаться вволю горьковатым запахом кустов. А если бы на высоте этой настоящий враг оказался, разве можно было бы терпеть, чтобы он дышал тем воздухом?
Лежу я в своем окопчике и выглядываю осторожно из-за мохнатой кочки, слежу, как Василий Ежиков уползает к спуску, ведущему к ручью. Удастся ли ему найти подходящее место для переправы? Ведь берег речки топкий. Пытаюсь рассмотреть, что делает Ежиков. Но он где-то спрятался в осоке – не заметишь.
А время идет. Ребров уже нетерпеливо на руку с часами поглядывает, хмурится. Видать, кишка тонка у Василия Ежикова. Не под силу ему задача досталась. Вот мне бы такую.
А сержант Ребров точно угадал мысли Максима и по цепи передает приказание:
– Рядовой Перепелица, на помощь Ежикову!
Меня словно подтолкнул кто сзади. Так и рванулся вперед. Ползу, вроде удираю от кого. Метров через двадцать дух захватило и соленая капля пота на губу скатилась. «Куда ты торопишься. Перепелица? – сказал я себе. – Где план твоих действий?»
Пришлось остановиться. Как раз самое удобное место, чтобы русло ручья осмотреть. Приподнимаюсь из-за кустов и вижу: речка слева вплотную подходит к высоте, затем резко вихляет от нее в сторону. Сделав полукольцо, она ровно течет меж поросших осокой и мохом берегов, а напротив меня снова загибает к высоте.
Раздумывать долго не приходится. Каждому солдату должно быть известно, что самое мелкое русло речки бывает на перекатах между двумя ее изгибами. Это немножко левее меня. Подобраться к этому месту можно ползком, держа направление на кривую березку. Раз березка растет, значит и грунт там потверже, менее заболоченный.
Теперь нужно спуститься вниз, пробраться к воде и выяснить, с какой скоростью она течет. Ясно, что с маленькой, если так обильно берега обводняет. Иначе они посуше были бы.
Однако спуститься к речке так, чтобы с высоты было незаметно, нелегко. Но что ты за солдат, если трудности одолеть не можешь? Думаю себе: раз спуск, значит весной и в дожди вода проходы где-то сделала. Так и есть. Справа заметил овражек, промытый водой. Перебрался в него и уже через полминуты был у болота. Осмотрелся. Нигде Василия Ежикова не видно. Тревожно мне стало. «Как бы он не замеченный мною не вернулся в отделение. Тогда держись, Максим, Ежиков снова все колючки на тебя направит».
Много мне беспокойства от этого Ежикова. Осадить бы его, чтобы нос поменьше задирал!
Вдруг слышу – хлюпает что-то в осоке. Быстро ползу к тому месту, разгребаю впереди себя зелень. Вижу на маленькой полянке, покрытой мохом, Василий Ежиков. Мох под ним привалился, и ноги выше колен увязли в болоте. Забросил он свой автомат за спину и барахтается, как кот в мешке, а выбраться не может. Заметил меня и говорит тихонько:
– Прорва проклятая! Ползу через эту поляну, думал, что островок, а под мохом ловушка. Пришлось на ноги приподняться, и вот…
– А ты хотел, чтобы под мохом перина пуховая оказалась? – сердито отвечаю. – Это тебе не заметки в стенгазету сочинять.
Потом спрашиваю:

– Речку-то успел разведать или дальше этой лужи не был?
– Речку разведал, – буркнул Ежиков.
Что делать? Быстро отстегиваю от своего автомата один конец ремня и бросаю его Василию. Но подняться на ноги нельзя – на высоте «противник». Да и думается мне, что там старший лейтенант Куприянов находится. Наверняка наблюдает, как отделение Реброва задачу выполняет. Вот увидел бы он этого красавца Ежикова в болоте!..
Сажусь лицом к Ежикову и, упираясь ногами в кочки, начинаю тянуть ремень, за который ухватился Василий. Тяну и чувствую, как проваливается подо мной почва. И до чего же коварное это болото! Как схватит тебя за ноги – не отобьешься.
Дела плохи. Надо менять позицию.
Вытаскиваю ноги из тины и отползаю немного в сторону. Отсюда ремень еще достает до Ежикова. Опять сажусь лицом к Василию. Новая позиция вроде удачнее. Почва хоть и гнется подо мной, как доска тонкая, но пока держит. Ежиков придумал пристегнуть конец ремня от моего автомата к своему поясному ремню, чтобы руки свои освободить. Правильно сделал.
Потянул я сколько сил было. Ежиков руками начал помогать. Еще поднатужились, и одну ногу, облепленную черным густым месивом, Василий вытащил. Но нужно же было ему затем поторопиться! Приподнялся он на руках и высвободившуюся ногу под себя подтянул, чтобы опереться на нее. И только он это сделал, как мшистая корка треснула и Ежиков по пояс окунулся в трясину.
Стиснул я зубы и молчу. А ругать Василия страсть как хочется! Ведь там, за пригорком, сержант Ребров из себя выходит. Наверное, скоро сам поползет речку разведывать…
– Держись крепче! – со злом говорю Ежикозу.
Чувствую, как ноги мои рвут сплетения корней осоки и вместе с кочками все глубже уходят в болото. Чем сильнее тяну, тем больше меня засасывает. Но зато Ежиков вот-вот выскользнет из трясины. Еще рывок, и Василий свободен. Точно тюлень на льдине, лежит он на моховом покрывале, под которым трясина прячется. Лежит и по сторонам оглядывается, боится, как бы опять не провалиться.
– Ползи на меня! – командую ему.
Подполз он и ахнул, когда разглядел, что я по пояс увяз. Кинул Ежиков взгляд в одно, другое место – ищет, где бы ему укрепиться, чтоб теперь мне помочь. Но время не терпит.
– Ползи к отделению, – говорю я ему. – Сержант давно тебя дожидается.
– А ты? – спрашивает с удивлением он.
– А я посижу, пока все наши не подоспеют сюда. Будут форсировать речку, заодно и Максима из болота выдернут. Только отделение пусть держит направление на кривую березку. Там почва крепкая.
Пришлось Ежикову подчиниться. Ведь лучшего ничего не придумаешь.
Занятия закончились: речушка форсирована, высота «Круглая» взята. Разбор действий взвода командир перенес на послеобеденное время. Кажется мне, что не совсем понравилось ему, как вели мы бой в глубине обороны «противника». Очень вперед все рвались. А одна огневая точка, встретившаяся на пути нашего отделения, по-настоящему не была блокирована. Бухнули в ее амбразуру гранату и пошли дальше. Но, может, и одной гранаты для нее достаточно? Хотя нет. Перед концом занятий ожила эта точка и с тыла ударила по отделению. Не зря старший лейтенант Куприянов так брови хмурил. Значит, после обеденного перерыва атаковать высоту будем заново. Тогда и разбор занятий состоится.
Но, несмотря ни на что, в расположение части шли мы с песнями. Пели, как всегда, с задором. А солдатам задора у соседа занимать не приходится. Тем более что обед впереди. И всякому известно, что отсутствием аппетита солдат не страдает. Еще бы! Поползаешь в поле целый день (а там форточки открывать не нужно, воздуха хватает), перепашешь малой саперной лопатой добрую сотку земли (если меньше, то не намного), и никаких тебе капель для аппетита не нужно. К тому же обед какой! Ей-ей, такой наваристый, вкусный борщ, какой готовит наш повар Тихон Васильевич Сухомокрый, умеет готовить, может, еще только одна моя мать. А жирный какой! Если ты неряха и капнешь им на гимнастерку, вовек пятна не выведешь.
Но таких котлет с соусом, с гречневой кашей и мать моя не приготовит. Оно и понятно. Мать моя курсов по поварской части не проходила. А Тихон Сухомокрый, прежде чем заложить в котел продукты, в книгу смотрит да с врачом совет держит. По-научному обед варит. Когда был я в наряде на кухне, своими глазами видел это.
Но дело не только в обеде. Вообще у солдат настроение бодрое. Очень занятия всем понравились. Настоящий был бой, захватывающий. Наступаешь на «противника» и не знаешь, что подстерегает тебя впереди. Каждая неожиданность требует от солдата ловкости, сноровки, умения пользоваться оружием. А кому не интересно испытать свою находчивость, сообразительность?..
Запевала наш затягивает песню. Весь взвод подхватывает ее. Я пою и в то же время кошу глаза в сторону Василия Ежикова. Как-то чувствует он себя? Вижу, не отстает от всех, поет с азартом. Но Перепелицу не проведешь – притворяется Василий. Кисло ему небось, что перед Максимом оконфузился, в болоте искупался. Теперь наверняка все наоборот повернет. Ведь не его, а меня товарищи вытаскивали из болота…
Вечером в комнате политпросветработы нашей роты вывесили очередной номер стенгазеты. Мне даже и подходить к ней не хотелось. Еще утром просмотрел все заметки. И тут слышу, кто-то из солдат выкрикнул:
– Про Перепелицу опять пишут. Везет же человеку!
Меня точно кто в спину кулаками двинул. Подлетел я к товарищам, протолкался к стенгазете, а у самого, чувствую, глаза потемнели от недовольства. «Чем, думаю, я еще провинился?»
Протиснулся к стенгазете, нашел заметку, в которой обо мне говорилось, и первым долгом на подпись гляжу:
«Рядовой В. Ежиков». Опять он!..
Читаю:
«Сегодня на тактике выполнял я задание командира: разведывал брод. И когда после разведки возвращался с докладом, допустил оплошность – не сумел найти дорогу через болото и попал в трясину. И если бы не рядовой Перепелица, наше отделение не форсировало бы речку в назначенное время…»
Дальше рассказывались все подробности о находчивости Максима Перепелицы, о взаимной выручке солдат.
А над заметкой красными буквами выведен заголовок: «Спасибо, товарищ!»
ТРУДНАЯ ФАМИЛИЯ
С дружком моим Степаном Левадой последнее время что-то неладное творится.
Проснулся я однажды ночью и случайно на кровать Степана глянул. Точно кипятком меня ошпарило. Вижу, под одеялом у Степана огонь. Соскочил я на пол – и к нему. А огня как не бывало, исчез. Степан же спит и сладко посапывает.
Утром рассказываю Леваде, какое чудо приключилось ночью, а он смеется:
– Спросонку и не такое может показаться.
Вроде я поверил Леваде, а на душе все-таки сомнение. Решил присмотреть за Степаном – друг ведь он мне!
Улегся я в следующую ночь на правый бок, чтобы в любую минуту можно было посмотреть на кровать Левады. Но солдату не так легко проснуться без команды, ежели он полдня в поле по-пластунски ползал.
Только перед самым подъемом меня словно кто-то под бок толкнул. Приоткрыл глаза и вижу – тянется ниточка света из-под одеяла, которым с головой накрылся Степан. С минуту я смотрел на эту ниточку, не знал, что мне делать. Вдруг в казарме зажглись плафоны, и дежурный закричал:
– Подъ-е-е-м!
Известно – по этой команде солдата точно сквозняком сдувает с кровати. Вскочил и я, позабыв на миг о таинственном огне… А когда спохватился, Степан как ни в чем не бывало надевал гимнастерку.
Я внимательно осмотрел кровать Левады, но ничего подозрительного не заметил. Точно невзначай столкнул с места подушку – не запрятал ли он под ней электрический фонарь? Нет ничего. Что за напасть? Не превратился же Степан в светлячка!
И решил я насесть на друга и узнать от него, что за фокусы по ночам он выкидывает.
Но поговорить со Степаном не удалось: крепко осерчал я на него.
А дело было так. В перерыве между строевыми занятиями подошли мы с Левадой к ларьку военторга папирос купить. И видим у ларька Зину Звонареву,
библиотекаршу нашу. Укладывает она в свою сумочку покупки. Это та самая Зина, которой в Женский день солдаты нашей роты такой букет цветов подарили, что пришлось обе половины двери в библиотеке открывать. Славная она девушка, понимающая. Узнает, какая солдатам книга понравилась, громкую читку устроит. Охотников до хороших книг у нас много! Сидим мы и не дышим – слушаем звонкий голосок Зины. А она такая симпатичная, прямо беда – глаз не оторвешь. Волосы под косынкой как спелое жито, а очи точно васильки – синие, синие.
Даже знаменитый наш молчун Степан Левада и тот как зайдет в библиотеку, вроде его кто подменяет, – откуда только слова у хлопца берутся! И все о книгах да о писателях. Чудо, а не Степан. Академиком скоро станет. Слушает Зина и глаз с него не сводит. Вот до чего ж приятная дивчина! На всех у нее внимания хватает. Но кажется мне, что с Левадой она дружит крепче, чем с другими. Даже из городской библиотеки книги ему приносит, вроде в полковой книг для него мало.
Вот с этой самой Зиной Звонаревой встретились мы у ларька военторговского.
Степан поздоровался как старый знакомый и поднялся на ступеньку ларька, почтовую бумагу начал рассматривать. Ему этого материала много требуется на письма Василинке. Ну, а я поближе к Зине: «Как, мол, живете да что нового?» Она так охотно отвечает, вроде ей очень приятно со мной беседовать.
Мне бы тут только разговор поддерживать на зависть всем солдатам нашего отделения, которые издали наблюдают за этой встречей. А я, дурень, размечтался. Смотрю на эту самую Зину и думаю… да, о Марусе Козак нашей яблонивской думаю! Куда там Зине до Маруси! Та как посмотрит на тебя, даже жаром полыхнет. Покраснеешь, а в сердце что-то теплое шевельнется. Никак в очах у Маруси бесенята сидят. У Зины же глаза спокойные, внимательные. Сама она маленькая, тоненькая, вроде заставил ее наш старшина затянуться ремнем.
За разговором обращаюсь к дяде Саше – продавцу. Меж собой мы «Крючком» его зовем. Старый человек, усы как у Тараса Бульбы, но любит нашего брата поддеть. Говорю ему: «Дайте папирос». – «Каких вам, спрашивает, «Казбек» или «Дукат»? А ведь знает, усатая бестия, что я самые дешевые курю. И захотелось мне тут блеснуть перед Зиной, показать ей, что Максим Перепелица понимает толк в папиросах. «Дайте, говорю, высший сорт – «Казбек», так как до армии я в альпинистах состоял».
Вроде Степана кто шилом под бок кольнул – как напустился он на меня, как стал при всех отчитывать! Ни Зины, ни дяди Саши не стесняется. Хоть сквозь землю провались. Говорит:
– Солдат по средствам своим должен жить! А ты за один-два раза все гроши выбросишь. Сейчас «Казбек» куришь, а потом «Чужие»? Или хочешь показать, что богатый дюже? Как будто никому не известно, что солдат все готовое получает и нет нужды, чтобы деньги у него сотнями водились.
Так он на меня навалился, молчун этот, что я не стерпел и отрубил:
– Откуда такой учитель выискался? А если я совсем хочу бросить курить и напоследок решил коробку хороших папирос изничтожить?..
Левада примолк. Взял почтовой бумаги, папирос, что подешевле, и, сказав Зине и продавцу «до свидания», побежал к отделению, где солдаты уже кончали перекур. А я держу в руках коробку «Казбека» и не знаю, что мне делать.
Зина смотрит на меня синими глазами и улыбается. Потом говорит:
– Раз бросать курить, так бросайте прямо сейчас, – протянула руку, забрала у меня папиросы и отдала их дяде Саше. – Только, чтоб это твердо было, как полагается мужчине. Посмотрю, умеете ли вы держать свое слово. А на Степана (так и говорит: «на Степана») обижаться не нужно. Хорошо он сказал. Солдату по средствам надо жить. Да не только солдату, а всякому человеку.
Я хотел что-то ответить, но тут услышал голос сержанта: «Кончай курить!» Впрочем, что я мог ответить? Оконфузил меня Степан. Зина ни с того ни с сего взяла слово, что я курить брошу. А у меня об этом и мысли не было. По-моему, солдат без курева – не солдат.
Уже вслед Зина крикнула мне:
– Приходите вечером со Степой в клуб!..
«Ишь ты, – подумал я, – он уже тебе Степа!..»
Передал я Леваде приглашение Зины, но даже не посмотрел на него – сердился.
– А я и без приглашения должен быть там сегодня, – ответил Степан.
И тут я вспомнил, что он выступает в клубе на читательской конференции, организованной полковой библиотекой.
Словно назло мне, старательно готовился Степан к вечеру: подшил свежий подворотничок, пуговицы начистил, а над сапогами минут десять трудился. Наконец, ушел, бросив мне в насмешку:
– Счастливого дневальства! (В тот вечер я в наряд заступал.)
Когда хлопцы вернулись из клуба, рассказывали, что после конференции там оркестр играл. И Степан с библиотекаршей целый вечер вытанцовывали. Говорят, Зина сама приглашала его, а Левада глаз не мог оторвать от пола – стеснялся товарищей. Подумаешь, застенчивость какая! А проводить после танцев Зину до проходной будки не постеснялся!..
Тут только меня и осенило. Как же я раньше не догадался?! Наверняка между Степаном и Зиной – любовь. Ведь не зря, как придет он в библиотеку, нет конца их разговорам. Ни за что Левады не дозовешься. Теперь ясно, что за свет под одеялом зажигал Степан: письма Зины читал или свои сочинял. При дневном свете перед товарищами совестно – все же знали о Василинке…
И такая меня обида взяла: ведь Василинка – какая дивчина! Как он смеет?..
И уже на это дело стал я глядеть с другой точки зрения, я бы сказал – с главной: пришел хлопец родине служить, военную науку познавать, а вместо этого за юбкой бегает, дисциплину нарушает. Срам!
А может, Зина Звонарева сама виновата во всем? Может, приворожила хлопца синими глазами да ямочками на щеках? Но опять меня сомнение берет: не могла она разве выбрать хлопца покрасивее? Я же, например, не приглянулся ей. А ведь Максим Перепелица не хуже Степана!
Даже к зеркалу подошел, чтобы посмотреть на себя. Ну, чем я плох? В плечах широк, лицо круглое, чистое, не закапанное никакими там веснушками. Брови, как смола, черные, глаза веселые. Нос, правда, чуток вздернулся. Но это не мешает.
А Степан? По-моему, он тоже не ахти какой красавец. Высокий как верба. Смотрит исподлобья. А губы! У меня такие были после того, как на стадионе футбольный мяч мне в лицо заехал. Да и ходит он как-то по-особому. Шагает широко, не торопясь, словно по лугу идет и осоку ногами подминает. Спокойной походкой хочет уверенность в себе показать. Словом, как ни прикидывай, а Степан сам постарался любовь с Зиной закрутить.
Справедливости ради нужно заметить, что уверенный вид Степана ничего общего не имеет с самомнением, в каком, например, меня раньше упрекали. Думается мне, что эта уверенность – от физической силы Левады и от рассудительности его. Конечно, физкультурник он редкого калибра, получше меня. Однажды на занятиях так метнул учебную гранату, что мы всем взводом разыскивали ее. А ум у Левады – позавидуешь. Только больно нетороплив Степан. Прежде чем сказать слово, думает над ним, словно прицеливается. Но скажет – в точку, как снайпер. Правильно и к месту.
Да-а, рассудительностью своей меня Степан перекрывает – никуда тут не денешься. Страдаю я такой болезнью – люблю высказаться раньше других, показать, что я, мол, не лыком шитый. Бывает иногда – болтаешь, и язык потом откусил бы. Ведь непродуманное слово, что недозрелое яблоко, – горькое, только сморщишься от него. Самому от таких слов неловко, да крепишься, а еще хуже, когда отстаиваешь их. Но это раньше было. Сейчас другое дело – понял я свои изъяны. Все реже слова бросаю, не прицелившись. Последний такой пустой выстрел был при встрече с Зиной Звонаревой у ларька военторговского.
Вот так хорошенько подумаешь о себе, о Степане, и как сквозь ортоскоп видишь, кто в какую сторону отклоняется. Добре, что хотя учат меня в армии пользоваться этим хитрым прибором.
Однако рассудительность Левады все же не помогла ему избежать такой дури, как измена Василинке. Вот тебе и Степан! Очень мне стало за друга обидно, и решил я, как только сдам дневальство, начистоту поговорить с земляком. Правда, утерпеть до конца дневальства мне не удалось – старая, знать, привычка сказалась. Степан утром подошел к тумбочке дневального и положил на нее конверт с письмом (почту у нас дневальные собирают). Я увидел, что письмо адресовано Василинке Остапенковой, и бросил Леваде:
– Что, покаянную Василинке посылаешь? Зина полюбилась?
Степан покраснел, подошел ко мне и ответил:
– Не дневальному Перепелице, а дружку своему Максиму говорю: «Чапля ты».
Чаплей в нашем селе зовут тех, кто из ума выжил, – по имени давно умершего Ивана Чапли. Иван этот имел три овцы. Однажды ему приснилось, что овцы хотят бежать от него. Чапля надел кожух наверх мехом и забрался в хлев, чтобы подслушать, когда овечки хотят устроить ему такую пакость. Ждал, ждал и уснул там. Утром жинка вышла кормить скотину и видит: из-под одной овцы ноги в сапогах торчат. С перепугу как огрела она по ним коромыслом! Иван спросонку схватился да лбом об стенку…
Не знаю, что Левада нашел общего между мной и Иваном Чаплей. Не от страха же мне показалось, что он в Зину влюбился. Но все же засомневался я. Степан слов на ветер не бросает. Только вот эта история с ночными фокусами…
Прояснилось только к вечеру, сразу же после того, как я сдал дневальство. Помогла в этом сама Зина Звонарева. Через одного солдата из соседней роты передала она для Степана новую книгу. Взял я ее и пошел разыскивать Степана. Открыл на ходу книжку и вдруг между страницами увидел запечатанный конверт. Все ясно – любовное письмо. И так у меня сердце защемило за друга – прямо вынь и в холодную воду опусти.
Левада сидел в комнате политпросветработы. Положил я перед ним книгу, а сверху письмо. Стою и молчу. Степан вроде с недоумением посмотрел на меня и распечатал конверт. Начал читать. Никогда я не видел таким своего земляка. То белые, то красные пятна выступают на его лице, а лоб испариной покрылся.
Смотрю я на Степана и думаю себе: «Как бы ты, Максим Перепелица, поступил, если бы оказался на месте этого хлопца?» И стало мне ясно: теперь, когда понял, что самое ценное в человеке честь и совесть, серьезность и мужество, я ни за что не свернул бы с прямой дороги. Хорошая Зина девушка, слов нет. Но раз уж любишь другую, по сторонам не оглядывайся. Иначе нет тебе уважения от людей. Да и сам себя уважать перестанешь. Тогда уж не человек ты, а так – обломок, из которого даже кола не сделаешь.
Подает мне Степан письмо и говорит:
– Почитай и посоветуй, как быть.
Читаю:
«Уважаемый товарищ Левада!
Работники нашей библиотеки сердечно благодарят ваз за содержательное выступление на вчерашней читательской конференции об образе советского воина в послевоенной литературе. Такая же конференция состоится в следующее воскресенье в гарнизонном доме офицеров. Очень просим вас повторить там свое выступление. Надеемся, что не откажетесь.
С приветом –
3. Звонарева».
– Ну так что же? – спрашиваю у Степана, прочитав письмо. – Чего ты волнуешься?
Степан, как всегда, помолчал, а потом отвечает:
– Да понимаешь, Максим, говорить-то я не мастер. А эту речь на память заучил.
– И очень хорошо. Что тебя смущает?
– Фамилия одна, – отвечает Степан. – Потребовалось мне назвать в своем выступлении одного героя из довоенной пьесы «Свадьба в Малиновке» – Лупанпопало… нет, опять забыл. А Попандопуло – есть там такой. Так я, когда речь заучивал, десять раз фамилию повторял правильно, а на одиннадцатый путался. Страшно боялся, что собьюсь на конференции. И ляпнул с трибуны: «Лопан-дропуло».
– Ну?! – не терпится мне.
– Вот тебе и «ну». Вчера в полковом масштабе осрамился, а теперь предлагают еще в гарнизонном.
– Чудак человек, – смеюсь я. – Запомнишь! Ты мне о другом скажи: разве ты не письма Зине сочинял ночью с фонариком?
Тут меня Степан обозвал одним непечатным словом и пояснил:
– То я эту проклятую фамилию зубрил. Проснусь, пытаюсь вспомнить, и никак. Уснуть тоже не могу. Вот и приходилось доставать электрофонарь и зажигать его на секунду, чтоб в блокнот одним глазом глянуть. Только потом спать мог.
Вот такая-то история с трудной фамилией.
ДРУГ КОМАНДИРА
Я уже говорил, что фамилия моя Перепелица, имя Максим. Это я тот самый Максим, которого в селе Яблонивка, на Винничине, ветрогоном прозвали и которому до сих пор Маруся Козак на письма не отвечает. Так и считает меня ветрогоном. А разве это справедливо? Ну, были глупости по молодости. От них же и следа не осталось.
Стал я, наконец, исправным солдатом. С хорошей стороны знают меня в полку. А хочется, чтобы и по-за полком знали.
Иногда размечтаюсь и вижу наш колхозный клуб. Сидят вечером яблонивские девчата у приемника, радио слушают, пересмеиваются. Конечно, среди девчат и Маруся Козак. И вдруг передают из Москвы, что в Н-ском полку имеется знаменитая вторая рота, в которой солдаты один к одному – орлы! И среди них мою фамилию называют.
Жаль, что пока о нашей роте по радио не говорят. Пусть бы в Яблонивке гордились Максимом Перепелицей, Степаном Левадой и другими солдатами, пусть бы земляки наши спокойно занимались своим делом.
Но пусть никто не поймет, что Максим Перепелица о своей собственной славе заботится, хотя честно добытой славы нечего стесняться. Ведь слава красна не словами, а делами. Просто хочется, чтобы знали: Максим Перепелица и его товарищи гордятся своим солдатским званием, дорожат солдатской честью. Не зря же в книгах пишут, что доброе имя у солдата – добрая слава у армии, победа у государства. Это старая истина.
Вот и говорю я, что боевые ребята служат в нашей роте. Никто лицом в грязь не ударит. На что я, отстававший раньше по стрелковой подготовке, и то приличный авторитет имею. Знает меня в полку каждый. И не потому только, что в клубе на доске отличников появилась недавно моя фотография. Это само собой. Есть и другие причины. Например, был смотр художественной самодеятельности. Кто отличился? Максим Перепелица! И не каким-нибудь бреньканьем на балалайке или тем, что песню до посинения выводил. Гопаком отличился! Так плясать умеют наверняка только у нас на Винничине: чешут, а ж земля гудит и листья с деревьев сыплются…
Вот и приметный я. Даже больше, чем друг и земляк мой Степан Левада. Но радости от этого мне мало. Кому, думаете, недавно звание младшего сержанта присвоили? Перепелице? Ошибаетесь! Это Степан сержантом стал! И назначили его командиром нашего отделения. Тоже мне, генерала нашли! Заменил Степан нашего сержанта Реброва, который в офицерскую школу уехал.
Поздравил я, конечно, друга, а сам думаю: «Да ведь и я вроде отличником стал, и Василий Ежиков на «отличное учится…» Спрашиваю у Левады:
– И почему так получается! Идем с тобой по одной стежке, вроде рядышком, а потом оказывается – ты впереди!
В это время проходил мимо командир взвода лейтенант Фомин. Услышал он мои слова, понял, к чему они, и сказал:
– Левада быстрее вас командирские качества приобрел. Правильный подход у него к людям.
И стал я думать: «Что же это за командирские качества?»
Положительные качества у Левады, конечно, есть… Если и завидую ему, так зависть эта хорошая. Разве плохо, что и я мечтаю стать сержантом? И я им все равно стану. Максим Перепелица научился быть хозяином своему слову.
А пока надо ждать. Впрочем, жизнь моя солдатская теперь вольготнее потечет. Ведь командиром назначен дружок! Кто чаще Максима Перепелицы сейчас в городской отпуск будет увольняться? Никто. И работой на кухне меньше досаждать станут. Вот, к примеру, завтра моя очередь туда идти. Так не поверю, чтобы Степан меня послал. Он-то знает, что для Максима Перепелицы нет более тяжкой работы, чем на кухне возиться. Значит, могу располагать завтрашним воскресным днем по своему усмотрению. И так от этого весело мне! Да и как не радоваться? Занятия кончились. Отстрелялся я сегодня отлично. На дворе весна…
И вдруг дежурный по роте передает приказание:
– Командирам отделений выделить по одному человеку в распоряжение старшины для уборки территории вокруг казармы.
Чистота, конечно, дело нужное. Но уж очень неохота в субботний или воскресный день брать в руки лопату или метлу. Только подумал об этом, как Левада приказывает мне:
– Рядовой Перепелица, в распоряжение старшины роты.
По всем нервам стегануло меня такое приказание. А потом смекнул: да это же Степан повода ищет, чтобы на кухню потом Максима не послать.
– Слушаюсь, товарищ младший сержант! – весело ответил я.
А когда вышел с лопатой во двор и представился старшине Саблину, он поставил меня во главе команды. И взялись мы за дело. Не только возле казармы убрали, а и весь спортгородок вычистили. Даже посветлело вокруг. Кто-то камушком начал выстукивать на большой квадратной лопате комаринского, кто-то завторил на губе. Я не удержался и дал волю ногам. А они у меня лихие! Тем более, что вскоре баян появился.
Словом, любит повеселиться наш брат, особенно перед выходным днем.
А на вечерней поверке старшина объявляет мне благодарность. Это за уборку двора. Ответил я, как положено по уставу, а сам думаю: «Молодец, Степа, не забыл старшине напомнить… Этак ротному писарю скоро некуда будет заносить мои благодарности. Хорошо, когда дружок командиром!»
Раздумывал я себе, а вечерняя поверка продолжалась. Вдруг, словно босой ногой на ежа наступил, так меня передернуло. Старшина зачитал наряд на кухню, и первым в списке значился рядовой Перепелица.
Вздохнул я тяжко и покосился на Степана. А он стоит, вытаращив свои очи, вроде ничего и не случилось.
«Эх, Перепелица, Перепелица, – думаю я себе, – неразумная ты птица. Степан – дружок и земляк твой, может теперь и говорить с тобой иначе не станет, кроме как по стойке «смирно».
Плохо мне, вроде полыни нажевался. Знали бы обо всем этом в Яблонивке, частушки б по селу про Максима распевать стали. Ведь Максим Перепелица, хоть и ветрогоном считался, был лучшим плясуном! А кто раньше него кончал сев? Кто вперед всех с возкой буряка управлялся? Ведь Максим первый парубок на селе. Куда было этому тихоне и молчуну Степану Леваде до Максима! А теперь на тебе: Степан командиром стал, а я – Перепелица – должен ему подчиняться.
…Перед отбоем подходит ко мне Степан, улыбается. И рук по швам не вытягивает. Даже удивительно. Говорит:
– Молодец, Максим, что хорошо потрудился. Солдатам такая работа, какую ты выполнил, не по душе в субботний день. Поэтому нарочно тебя послал. Как друг, не осерчаешь, а товарищи убедились, что у нас дружба не мешает службе. Каждый увидел, что у Левады, когда дело идет о службе, все солдаты равны. Понял, Максимка?
Конечно, понял. Выходит так: раз ты, рядовой Перепелица, друг младшему сержанту Леваде, значит все шишки на тебя… Внеочередная работа подвернулась – иди работай именно ты, а не другой, иначе подумают, что командир, как друга, балует тебя. Хочется в город сходить – сиди в казарме. А пойдешь – что люди могут сказать? Ты же друг командира! Отличился на занятиях вместе с другими – им похвала, а тебе кукиш.
Чувствую я, что от такой дружбы взвыть можно. Придется попросить начальство, чтобы в другое отделение перевели. Но тут случай все мои намерения нарушил. Вышло так, что оказался я виноватым перед Левадой. А у меня теперь правило такое: раз виноват – терпи, дал маху – исправляй ошибку.
Объяснял нам Левада устройство нового стрелкового приспособления. Не понял я, для чего там шпилька одна служит. Говорю:
– Степан, повтори, пожалуйста.
Левада прервал урок, посмотрел на меня такими глазами, вроде на некрасивом поймал, и отвечает:
– Товарищ Перепелица, запомните: на службе, на занятиях ни Степанов, ни Максимов не должно быть. Есть младший сержант Левада, есть рядовой Перепелица. Устав почитайте!
Как отрезал. Только и нашел я, что ответить:
– Виноват, товарищ, младший сержант. Обидно, даже в ушах засвистело. На себя, конечно. И дернуло ж меня за язык! Как будто бы я и сам не знал, как положено к командиру обращаться.
Вечером Левада беседу затеял. Знает же Степан, что ошибся я и не повторю больше подобного, а все же забрасывает в мой огород камушки, чтобы другим неповадно было ошибаться. Известно, рад случаю, чтобы солдат поучить.
Потом еще такая история приключилась. Иду я в нашу полковую библиотеку книжку обменять и встречаю напротив казармы соседнего батальона Леваду. Обижен я на него. Поворачиваю голову в сторону плаца и вроде не замечаю Степана. И вдруг:
– Товарищ Перепелица, вернитесь и отдайте честь!
Ушам своим не верю. Повернулся к Леваде, а он стоит и с таким укором на меня смотрит, что я даже глаза опустил.
– Почему устав нарушаете? – спрашивает Левада.
– Степан, имей совесть, – тихо, чтобы не слышали солдаты, которые стояли у казармы и смотрели на нас, говорю я Леваде. – Сто раз же сегодня встречались мы с тобой
Левада отвечает так же тихо:
– Это для них неизвестно, – и кивает головой в сторону группы солдат. – Зачем дурной пример показывать?
Что тут поделаешь? Пришлось мне вернуться на несколько шагов назад и по всем правилам строевого устава пройти мимо младшего сержанта Левады.
Все навыворот получается. Надеялся: раз Степан командиром стал – Максиму в службе послабление будет. Ведь, нечего греха таить, жизнь солдатская – не фунт изюму. А Левада не то что послабления, отдышаться не дает. Однажды на занятиях в траншею вскочил я неправильно – не по стенкам скользнул, а на дно прыгнул. Сапоги жалко было о стенки тереть, тем более знал я, что в этой траншее ни мин, ни других «сюрпризов» нет. Заметил это Степан и командует:
– Рядовой Перепелица, назад! Повторите прыжок в траншею.
В другой раз не понравилось ему, как замаскировался Перепелица. Заставил все заново делать. Зло меня взяло. «Ну, думаю, теперь даже наедине Степана на «вы» буду величать и разговаривать только по стойке «смирно». Никаких других отношений».
Но разве поймешь этого Степана! То ему не угодишь прыжками в траншею, то лучше Перепелицы и солдата в отделении нет
Вот хотя бы случай на недавних двусторонних занятиях. Наше отделение атаковало траншею и завязало бои в глубине обороны «противника». Продвигались медленно – оборона была крепкой. А на выходе из лощины совсем дело застопорилось: под фланговый огонь пулемета попали. Стрельба пулемета обозначалась трещоткой.
– Рядовой Перепелица, уничтожить пулемет «противника»! – приказывает мне Левада.
Уничтожить так уничтожить. Быстро отползаю назад, затем пробираюсь вправо. Но пулеметчики «неприятеля» оказались глазастыми. Заметили меня, насторожились. «Этих легко не возьмешь», – думаю. Нырнул в лощину, мигом наломал с кустарника веток, снял шинель и завернул в нее ветки. Затем чучело выдвинул к кусту на выходе из лощины. Пулеметчики засекли куст, за которым лежала моя шинель, и снова заработала их трещотка.
Я же тем временем по лощине на четвереньках еще дальше вправо забрался, а затем подполз к пулеметному гнезду почти с тыла. Нагрянул внезапно. Бросил рядом взрывпакет, потом из автомата очередь дал. Словом, случай, каких на каждом занятии много.
И вот этому случаю Левада на разборе внимание уделил. Расхвалил находчивость Перепелицы. Вроде я виноват, что он именно меня, а не другого солдата послал против тех пулеметчиков. Да еще благодарность объявил. Прямо не узнаю Степана.
Потом в караул мы заступили. Левада был разводящим. Снова Перепелица хорош. Понравилось ему, видите ли, как ловко Максим ликвидировал загорание замкнувшихся электрических проводов. Будто другой кто-нибудь иначе поступил бы. На комсомольском собрании я даже рассердился, когда потребовали, чтобы Перепелица поделился опытом несения караульной службы. Какой тут опыт? Действуй, как устав велит!
А вчера утром Степан подходит ко мне и спрашивает:
– Как думаешь выходной проводить? Пойдем в город.
– Пойдем, есть мне о чем поговорить с тобой.
Но разговор, о котором я думал, не получился. О книгах полдня спорили. Степан был под впечатлением хорошего романа «Семья Рубанюк» и все рассуждал о дальнейшей судьбе главного его героя Петра Рубанюка. Я-то книгу эту раньше Левады прочитал. Конечно, интересно мне знать, как дальше устроится жизнь Петра, Оксаны. Но чтобы я сам додумывал, мне и в голову такое не приходило. Лучше уж письмо писателю написать, пусть он расскажет.
Потом Степан вдруг говорит мне:
– Завидую я тебе, Максим.
– Не тому ли, что мне счастье выпадает картошку па кухне чистить? – съязвил я.
Степан вроде и не расслышал моих слов, продолжает:
– Завидую, что о твоих делах все наше село Яблонивка узнает.
– Каких делах? – ужаснулся я.
– Написал командир части письмо председателю нашего колхоза. Завтра огласят его в каждом взводе. Хорошее письмо. Рассказывается там, что ты стал круглым отличником, и бдительно караульную службу несешь, и умеешь за оружием ухаживать. Словом, обо всех делах. И благодарность в том письме старикам твоим – отцу и матери – за хорошего сына.
Дух у меня перехватило от этих слов. Не помню, что я молол в ответ Степану. Кажется, доказывал, что никаких «дел» я не сотворил. А у самого сердце от радости из груди рвалось. Вся Яблонивка узнает! Думаю о Яблонивке, а перед глазами Маруся Козак стоит, улыбается. Вот вам и Максим Перепелица, вот вам и ветрогон!
А Степан Левада все же друг настоящий. Понял я: дал бы он мне послабление, не стал бы Максим отличником! Требовал Степан с Перепелицы строго, как и с каждого солдата, вот и толк вышел. Ох, и учиться ж я теперь буду… Еще лучше! Пусть все знают, что Максим Перепелица несет службу на совесть. И быть ему тоже сержантом.
Но это еще не все. Вскоре из Яблонивки пришли на мое имя два письма. Первое – от председателя колхоза. Благодарит он меня за добрую службу, хвалит, что сдержал я свое слово, данное землякам, когда в армию уходил.
Второе письмо от Маруси. Коротенькое такое. Однако суть не в этом. Поверила она, что Максим разделался со своим ветрогонством, желает ему новых успехов в службе и спрашивает, можно ли ей писать мне письма…
Эх, Марусенька!.. Зачем спрашивать?!
ВАЖНЫЙ ФАКТОР
Наша рота – лучшая в полку, а может, и во всей дивизии. Не зря оказали ей честь открыть в этом году первомайский парад. Шли мы мимо трибуны во главе всего полка, а впереди, вслед за полковым начальством, шагал с клинком на плече наш командир роты, старший лейтенант Куприянов.
А народу сколько на тротуарах!.. Замерли все от восхищения. Мы же еще крепче печатаем шаг по асфальту. Даже заглушили звук духового оркестра.
Прямо грудь распирало у меня от гордости. Да и как не будешь гордиться своей ротой и таким командиром, как наш старший лейтенант?!
И когда однажды знакомый солдат из соседнего подразделения сказал мне, что наш ротный уж больно строг, рассерчал я не на шутку.
– Эх ты, голова два уха! – отвечаю ему. – Да мы его за эту строгость, как батьку родного, любим! Не был бы он строг, плелась бы наша рота в обозе. Понимать надо! В роте Куприянова служить – это, брат, честь!
И вообще, что такое командирская строгость, если ты умом и сердцем до конца понял основное требование военной службы: учиться тому, что нужно на войне? Это требование выполняют и наш полковник, и командир роты, и мой непосредственный начальник, младший сержант Степан Левада. Идет отделение на стрельбище. Левада командует: «Бегом!» Возвращаемся с полевых занятий, старший лейтенант приказывает делать броски от укрытия к укрытию. Бывают дни, когда так «набросаешься», что ноги стонут. А то еще завел командир роты порядок раз в месяц состязаться в штыковом бою. Кому же интересно быть пораженным? Вот и приходится тренироваться Я даже щеткой, когда казарму подметаю, упражняюсь выпады и удары делать.
Одним словом, нелегко нам дается первенство роты. Знаем мы цену нашей славе и каждой капле солдатского пота. Но никто из нас на это не жалуется, каждый крепким фактором обладает.
Ценная вещь, этот фактор. Моральным он называется. Читал я, что высокий моральный дух нашей армии явился очень важным фактором в завоевании победы. И понял я, что в нашем солдатском деле умение побеждать всякие трудности, умение быть решительным, волевым тоже входит в этот важный фактор.
Очень мне это слово понравилось и запомнилось. Веское оно, авторитетное.
Однажды мы всей ротой пошли на реку купаться. Вижу, Василий Ежиков никак не может расстаться с берегом. Опустит ногу в воду, дрыгнет ею – и назад. Кричу ему:
– Что, Вася, фактора не хватает? – и как бултыхнусь в реку, целый фонтан брызг обрушился на Ежикова.
– Эй ты, фактор! Удирай, догоняю! – закричал Василий и следом за мной в воду.
Ну, думаю, попало слово на язык Ежикова. Хорошо, что не пустячное слово, а то Василий навеки окрестил бы им Перепелицу. Но Ежиков все равно не раз находил повод, чтобы подковырнуть этим словечком.
Случилось, что на учениях нашу наипервейшую и наиславнейшую роту постигла такая неудача, что вспоминать тяжело. Оскандалились мы перед самим командиром дивизии.
Поставили нас тогда на главном направлении батальона. Вначале подготовились мы для оборонительного боя. Зарылись в землю, траншеи соорудили такие, что зимовать в них можно.
А за широкой лощиной, на склонах высоты, окопался «противник» – солдаты нашего же полка. И предстояло нам его «разгромить».
Старательно готовились мы к атаке, хотя нас артиллерия и танки должны были поддерживать.
На второй день учении утро выдалось свежее, прохладное. Трава вокруг поседела от росы, к земле прильнула. А в лощине, за которой «противник» находился, вроде молочная река разлилась: туман, каких я еще не видел в этих местах, – густой-прегустой. Стоит и не шелохнется, прячет не только всю лощину, но и ее противоположные скаты. Чудится, что молочная река до самою горизонта разлилась. Смотришь поверх тумана, и взгляду не на чем остановиться – бежит он к белым, таким же, как туман, облакам, обложившим край неба, и кажется, что впереди раскинулась заснеженная равнина без конца и края.
Скоро наступать будем. Но легко сказать – наступать. Попробуй в таком тумане не заблудиться, попробуй найти тот дзот, который намечено атаковать нашему отделению. А может, туман на руку: удастся незаметно пробраться к «противнику» и – как снег на голову?
И вдруг приказывает мне младший сержант Левада отправиться в распоряжение командира роты. Потребовалось заменить связного от нашего взвода. У старого связного, видите ли, живот внезапно разболелся. И что это за солдат, если у него живот болит?
Побежал я к окопу, где находился командный пункт старшего лейтенанта Куприянова, а там пусто. Один радист сидит у рации, да связные от других взводов в соседнем окопчике прохлаждаются.
– Связной от второго взвода? – спрашивает у меня радист. – Дуй на энпе батальона. Комроты там. Доложи, что явился.
Так и зачесался у меня язык, чтобы разъяснить радисту, как надо разговаривать с рядовым Перепелицей, да время не терпело.
Наблюдательный пункт батальона – на маленькой высотке, каких здесь много. Бегу напрямик через жнивье к этой высотке и уже издали замечаю, что там какое-то большое начальство. Насчет начальства у меня нюх тонкий – на расстоянии чую. И еще знаю, что мозолить ему глаза без надобности не следует. А потому решил свернуть налево и подойти к высотке со стороны. В боевых условиях к наблюдательному пункту нельзя идти в открытую. Вот и стал я подползать. А самого все же интересует, что там за начальство…
Первым я приметил в группе офицеров нашего командира роты. Стоит он, руки по швам, не шелохнется. Офицеры на него смотрят, а один – в светлосерой шинели – указывает пальцем в карту, которую держит в руках, и что-то говорит. Я ближе подполз, и стали слова этого начальника до меня долетать. Но лучше бы мне их не слышать: до того горько от тех слов стало, что в груди защемило, особенно когда разглядел на плечах начальника генеральские погоны. Это же сам командир дивизии!
– Вас постигла неудача, товарищ Куприянов, – говорит генерал. – Ваше боевое охранение проглядело «противника», дало ему возможность незаметно уйти. Теперь ищите выход из положения. Или, может, другой роте предоставить такую возможность?
– Разрешиге моей, – сказал Куприянов. И вроде спокойно он сказал, но почудилось мне, что голос у него чуть дрогнул.
– Действуйте, – сказал генерал. – Но командира батальона держите в известности.
А комбат наш – тут же рядом. Сердито так смотрит на старшего лейтенанта. Но разве виноват командир роты, что туман в лощине? Да при такой видимости скирду соломы из-под носа можно утянуть и не заметишь!
Старший лейтенант Куприянов взял под козырек, повернулся кругом и побежал к своему командному пункту. Еле успел я догнать его…
Дотемна вел нас командир роты через болото. Петлять много пришлось. Ведь болото не везде проходимо. Если видишь впереди осоку, камыши – не суйся. Иди туда, где трава растет, где цветы полевые попадаются, кустарники.
Перед нами задача – обогнать «неприятеля» и неожиданно встретить его в районе перекрестка дорог, что у изгиба реки.
До перекрестка не так уж далеко. И каждый из нас мечтал о той блаженной минуте, когда можно будет присесть на землю. Ведь после большого, трудного марша для солдата нет ничего милее, чем привал. Пусть даже земля сырая, мокрая, мерзлая – все равно! Найдешь местечко, пристроишься поудобнее и отдыхаешь, сил набираешься.
Но оказалось, что «противника» и тут голыми руками не возьмешь. Он выслал вперед себя заслон, расположив его фронтом к болоту. Куда ни совалась наша разведка, везде натыкалась на огонь.
Тогда наш командир придумал такой маневр – прямо суворовский! Чтобы начать выполнять его, нужно было одному стрелковому отделению пробраться в тыл неприятельского заслона. Такая честь выпала как раз нашему отделению. Но честь честью, а утомились мы до невозможности. Кажется, сил не хватит муху со щеки согнать. Вот и попробуй выполни задание, тем более что впереди такой бывалый «противник». Его солдаты птицу не пропустят через свой рубеж, не то что целое отделение.
Но приказ есть приказ. Придется мобилизовать всю свою волю, все умение ползать, применяться к местности, тенью проскальзывать под носом у «противника». К тому же, военная хитрость имелась в резерве. Вот только усталость беспокоила. Как бы не сказалась она на мастерстве солдат. Одно утешение, что пробираться нам не так уже далеко.
– Становись! – командует младший сержант Левада.
Становимся в строй, а у каждою гудит в ногах, так они натрудились за день.
Левада объясняет задачу, и по его хриплому голосу чувствую, что и он крепко устал.
Двинулись мы в путь. Торопимся – время-то ограниченное. Идем цепочкой, ступаем в темноте неслышно: «противник» ведь совсем рядом. Еще десяток метров пройдем и начнем ползти. И вдруг у рядового Таскирова… лоб зачесался. Он с таким ожесточением запустил под каску пальцы, что ремешок соскочил с подбородка, а каска соскользнула с головы, точно скорлупа с каштана. Сорвалась – и об автомат Ильи Самуся. Мы так и замерли. Вроде глухой удар получился, а «противник» услышал. Застрочил из пулемета в нашу сторону. Потом – ракеты в небо…
Если бы не знали мы, что за «противник» перед нами, попытались бы в другом месте просочиться через его рубеж. Но солдат из нашего полка не проведешь. Пришлось уползать обратно.
Как быть? Время-то идет!
Младший сержант отвел нас в лощину, достал из сумки карту и осветил ее электрическим фонариком. А чего глядеть? Вправо – не пробьешься: непроходимое болото. Слева – река. Разве только вернуться назад, через мост перемахнуть на другую сторону реки и вдоль нее обойти заслон, а потом в тылу «противника» форсировать речку? Но тогда времени потребуется раза в два больше того, которым располагает отделение. Да и устали мы так, что ветер с ног может сшибить.
И вдруг Левада говорит:
– Один путь – в обход. Другого нет…
Сердце зашлось, когда понял я, что впереди у нас такой длинный путь. И все из-за этого Али Таскирова. Шляпа!
Вижу, и товарищи косятся на Али. У Ивана Земцова вот-вот горячее словцо с языка сорвется. Оно и понятно: у человека ручной пулемет за спиной, потаскайся с ним.
– Каску на голове не удержал! – зло сказал он Таскирову. – А еще укротитель диких коней. Кур бы тебе укрощать!
Таскиров в ответ только глазами сверкнул.
За него вступился Илья Самусь:
– Побереги нервы, Земцов. Ты тоже хорош. Забыл, как роту заставил лежать по команде «смирно»?
Солдаты прыснули смехом. Это Илья намекнул на один потешный случай. Как-то после отбоя в нашу казарму зашел командир полка, чтобы посмотреть за порядком. Дневалил тогда Иван Земцов. И когда неожиданно появилось начальство, он растерялся и заорал: «Рота, смлрно! Некоторые солдаты вскочили с коек, чтобы выполнить команду, а я, например, в постели вытянулся в струнку.
Тут вставил свое слово Василий Ежиков.
– Хлопцы, – говорит, – помалкивайте и учитесь у Перепелицы. У него даже на ушах соль выступила, а духом не падает, потому что фактор сильный имеет. Верно, Максим?..
Хотел я что-то ответить, но тут Левада прикрикнул:
– Прекратить разговоры! – И скомандовал: – За мной, шагом марш!
Знаем мы, что это за шаг будет. Уже через две минуты младший сержант предупредил: «Приготовиться к броску!»
Вот она – жизнь солдатская! Хоть и интересная, почетная, но с потом и солью.
Каждому известно, как тяжело заставлять бежать усталые ноги. Нипочем не раскачаешь их. Но у солдата не ноги, а голова всему хозяин. Не нравится моим ногам, а нажимаю я на них. Вначале не торопясь, чтобы не сорвать последних сил, стараюсь попасть в ногу Василию Ежикову, который впереди бежит. Даже земля звенит под сапогами отделения: гуп-гуп, гуп-гуп. Точно марш выбивают солдаты. Под него будто легче бежать.
Но чувствую, что мне не хватает воздуха, вот-вот отстану от Ежикова. К тому же автомат с каждой минутой вроде прибавляет в весе, вещмешок, скатка, подсумок точно сыростью пропитались, отяжелели, прямо невмоготу. А черенок лопатки, как овечий хвост, непрерывно молотит, и притом по ноге.
Так изнемог я, что, кажется, темнота ночи сгущается. И как только Левада путь различает? А отделение все – топ-топ, топ-топ. Но звон земли уже менее слышен. Наверное, заглушают его удары сердца, шум в голове да частое дыхание бегущих рядом товарищей. Чувствую, что дышать больше нечем. Может, потому, что прямо перед моими глазами прыгает вещмешок на спине Ежикова?
Принимаю немного в сторону. Заметил, что в темноте тускло сверкнула поверхность реки. А дышать нисколько не легче. И скатка шинели еще больше трет шею у левого уха, лямки вещмешка глубже впиваются в плечи. Вспоминаю, что в такие минуты нужно пересилить себя, вытерпеть, пока не откроется «второе дыхание».
Сухопарому Ежпкову легче бежать Он чуть задержался, а когда я поровнялся с ним, спросил:
– Ну, как твой фактор? Дышит? – и опять побежал.
А я терплю. И глаза пошире раскрываю, петому что желтые пятна перед ними в темноте плывут, мешают глядеть.
Вдруг под ногами забарабанил настил моста. Значит, река под нами. За мостом свернули вправо и побежали вдоль реки – почти в обратном направлении. Земля кочковатая, мягкая. Каждую минуту спотыкаюсь и теряю ритм шага. И ноги точно чужие. Кажется, не они несут тело, а какая то незримая сила.
Вижу, Иван Земцов взял немного в сторону и бежит рядом с цепочкой отделения. Ручной пулемет сидит на ремне нетвердо, и он то и дело поправляет его. Тяжело Ивану!
Вдруг меня обогнал Таскиров. Это он спешит на помощь Земцову. Замечаю, как Иван отшатнулся, когда Али взялся за его пулемет. Но Таскиров настойчивый. На бегу передал Земцову свой автомат, а его оружие закинул за свое плечо.
И стало мне совестно за свою слабость. Ведь держатся Василий Ежиков, Али Таскиров, Илько Самусь, Иван Земцов. И ты, Максим, не смей думать: вот добегу до тех кустов или до той балочки и упаду, как думал когда-то на первых занятиях. Тогда молодых солдат только начинали «втягивать» в походы.
Так бежали мы до тех пор, пока не услышали свистящий шепот младшего сержанта.
– Шагом!..
Перешли на шаг. И уже я боюсь, что на той стороне речки слышны хрипящие звуки нашего дыхания.
Стараемся шагать часто, чтобы постепенно снизить ритм работы сердца. Темнота раздвигается, глаза видят зорче. Наконец, отделение остановилось. Левада посмотрел на часы и с тревогой сказал:
– Осталось тридцать восемь минут. Успеем?
И тут же сам ответил:
– Успеем! – и слово его прозвучало как приказ.
Нужно было переплыть через реку и на той стороне оседлать дорогу. А под руками ни лодки, ни плота. Вплавь же в полном снаряжении не пойдешь. Да и комсомольский билет, солдатскую книжку нужно уберечь от воды.
Долго раздумывать нельзя. Бросились мы к тростниковым зарослям. Быстро соорудили четыре снопа. Связали их один к одному и на воду спустили. Сверху уложили узлы со снаряжением и обмундированием, ручной пулемет. Автоматы же за спиной закрепили. Плот толкать Левада поручил Ивану Земцову, Илье Самусю и Петру Володину. Остальным приказал плыть самостоятельно.
Окунулся я в воду. Бр-р-р! Мало сказать – холодно. Тело каменеет! А Вася Ежиков тут как тут:
– А ну, Максим, покажи свой фактор!
И сразу пустился вплавь. Я за ним. Усталость пропала, точно вода ее слизнула.
Что есть силы плыву. Но откуда им взяться – силам-то, после такого броска? Еще до середины реки не добрался, как почувствовал, что руки точно на расслабленных шарнирах. И ноги еле слушаются. Автомат ко дну тянет. Но плыву. И замечаю, между прочим, что Василий Ежиков все время рядом. Опасается: сдюжит ли Перепелица.
«Эх, Максим, Максим, – думаю себе, – хватит у тебя пороху или мало еще ты солдатской каши съел?» Осматриваюсь. Али Таскиров уже до противоположного берега добирается. Это ему обида за неосторожность с каскою сил придает. Горячий хлопец! Но и Перепелица не из теста.
Кое-как добрался я до противоположного берега.
А все остальное, что произошло в ту ночь, – обычнее. Скажу только, что утром, после того как закончился «бой»,
на перекрестке дорог появилась машина командира дивизии. Мы в то время как раз завтракали и готовились к отдыху.
Подозвал генерал к себе старшего лейтенанта Куприянова и сказал так, чтобы слышала вся рота:
– Настоящие солдаты у вас, любая задача им по плечу. Орлы! На то же, что вчера «противник» незаметно покинул свой рубеж, не обижайтесь. Он имел такой приказ. А приказ должен быть выполнен – это закон у советских воинов.
Генерал довольно засмеялся, потом весело крикнул:
– А ну-ка мне порцию каши из солдатской кухни!
А Вася Ежиков шепчет мне на ухо:
– Знаешь, почему генералу нашей солдатской каши захотелось? Э, Максим, не знаешь, а еще Перепелица! Ведь харч в нашей солдатской жизни тоже немаловажный фактор! Вот и пойдет он сейчас к генералу на проверку.
Все-таки донял меня Ежиков этим фактором.
ДУША СОЛДАТА
Зря некоторые считают, что Максим Перепелица способен подтрунивать абсолютно надо всем. Конечно, нравится мне добрая шутка. Ведь она для человека словно ветерок для костра. Но бывает время, когда и Максиму не до шуток. Вчера, например, даже слеза прошибла.
И при каких, вы думаете, обстоятельствах у Перепелицы нервы не выдержали? Не поверите, если скажу, что набежала слеза в ротном походном строю, да еще под бой барабана.
До этого давно мне не приходилось плакать. Не потому, что у солдата душа каменная и нет сил выжать из нее слезу. Насчет слезы, конечно, правильно. Это уж последнее дело, когда солдат распускает нюни. Со мной, прямо скажу, приключился необычный случай, и брать его в расчет не нужно. Но все же душа у нас, солдат, точно струна у скрипки: отзывается на каждое прикосновение к ней. А жизнь щедро прикасается к душе солдатской. До всего нам дело есть. Одно волнует, переполняет сердце радостью и гордостью, другое – заставляет не дремать и закалять наши мускулы.
Раз уж разговор зашел, расскажу, что заставило мою душу зазвенеть до слез.
Возвращался я однажды из городского отпуска. Вижу, впереди меня идет незнакомая женщина в новом пальто, платком цветастым повязана, с чемоданом в руке. Путь к нашему военному городку держит. «Наверное, мать к кому-то приехала», – думаю. А к кому – не догадаюсь. Она услышала стук кованых сапог и оглянулась. Увидела меня, улыбнулась, остановилась.
– Давайте, – говорю ей, – чемодан подсоблю нести.
– А не торопишься? – спрашивает.
– Нет, время у меня есть.
Взял ее чемодан, несу. А навстречу строй солдат вдет – в кино.
Женщина остановилась, смотриг Ясное дело – мать.
– Что, – спрашиваю, – не узнала своего?
– Нет, – отвечает, – не узнала.
А потом говорит:
– Мне бы к вашему начальнику пройти. Я из Белоруссии к сыну в гости приехала, к Ильку.
– Не к Самусю ли? – насторожился я.
– Угадал Самуси – наша фамилия.
«Как же это ты, Максим Перепелица, сразу не сообразил? – думаю себе. – Ведь Илья Самусь с лица как две капли воды на свою мать похож». Брови у нее такие же черные, тонкие. А глаза, даже удивительно, – синие. У наших яблонивских женщин и девчат, если брови черные, то глаза обязательно карие.
Только мать Ильи Самуся не похожа на своего сына станом: крепкая, стройная. На лице румянец. Смотрю на нее и вроде свою мать вижу. Всегда она такой румяной бывает, когда у печи хлопочет.
А если б вы посмотрели на Илью Самуся! Да что на него смотреть! Не солдат, а сплошное недоразумение. Неповоротлив, точно из жердей сколоченный. По физподготовке отстает, стреляет слабо. Понятно: если солдат на турнике больше одного-двух раз не подтянется, значит он и оружия не возьмет как следует. Этим и известен на всю роту Илья Самусь.
– Вижу, сынок, знаешь ты моего Илька.
– Как не знать, в одном отделении служим, – отвечаю. А в голове мысль: «Рассказать бы ей, каков из Ильи солдат. Пусть посовестила бы парня».
Но разговаривать некогда. Уже к контрольно-пропускной будке подошли. Представил я мать Самуся дежурному. Тот проверил ее документы, пропуск выписал и говорит мне:
– Проводите Марию Федоровну в комнату посетителей. Не давайте ей скучать, пока рядовой Самусь из городского отпуска не вернется.
Привел я гостью в клуб, при котором эта самая комната находится, зашли в нее. Здесь уютно, цветы на подоконниках, у стены мягкий диван, а возле дивана столик круглый, бархатной скатертью покрытый. Еще несколько кресел мягких. В углу – столик, за которым дежурный по комнате сидит. А мать Самуся – Мария Федоровна – деловито осматривается, развязывает цветастый платок и спрашивает:
– Ну, как тут наш Илько?
В самый раз, думаю, выложить ей горькую правду про сына. Пусть знает и пособляет нам воспитывать из него настоящего солдата. На то она и мать. Подбираю нужные слова и тем временем помогаю гостье снять пальто. И вдруг… Как вы думаете, что я увидел? На левой стороне жакета Марии Федоровны висят золотая звезда Героя Труда и два ордена Ленина!
Нет у меня языка – отнялся! Стою окаменелый и глаз не свожу с золотой звезды. Вот это награды! Эх, хотя бы одну такую для начала на весь наш перепеличий род…
Вспомнил тут я, что собирался рассказать этой Героине Труда про Илью Самуся, и плохо почувствовал себя. Так плохо, что передать трудно. Тяжкая обида на Илью взяла. Какое он имеет право мать свою позорить?
А Мария Федоровна торопит.
– Рассказывай, как он здесь? Начальников слушается? Говори и пирогами угощайся – домашние, с калиной.
Достает она из чемодана узелок с пирогами: подрумяненные, аппетитные. Беру я пирог, а сам думаю:
«Пусть у тебя, Максим, язык отвалится, если сделаешь больно этой женщине».
Начинаю разговор. Рассказываю, что, мол, Илья – солдат как солдат. Честный, справедливый, товарищей не обижает. Цену себе знает, и командиры видят, на что он способен. Много сил отдает службе и учебе. Говорю так, а у самого душа радуется. Ведь я еще ни одного слова неправды не сказал. Крой дальше, Максим!
А Мария Федоровна все пироги пододвигает и глаз с меня не сводит. Я ем, конечно, с оглядкой, чтобы Илью без пирогов не оставить, и думаю, о чем еще можно сказать.
– Какие отметки на занятиях заслуживает Илько? – задает она вопрос.
У меня дух перехватило. Кусок пирога стал поперек горла – ни туда ни сюда. Пока справился я с этим куском, удачный ответ придумал. Говорю Марии Федоровне:
– Это вы у командира роты спросите. Он имеет право отвечать на такие вопросы.
Но мать, она и есть мать. Ее не проведешь. Почувствовала неладное. В глазах тревога засветилась. Смотрит мне в лицо, а я не знаю, куда деваться от ее взгляда. Так совестно мне, вроде это я отстаю в стрельбе из личного оружия, а не Илья Самусь. Доел пирог и на часы, что в углу стоят, оглядываюсь – как будто бы тороплюсь. Только повернулся к часам и увидел… Илью. Встретился с его взглядом, и мурашки у меня по спине забегали, а лицо вроде кипятком отпарило.
Стоит Самусь в дверях – бледный, взволнованный. Тут я как можно спокойнее говорю:
– А вот и Илья.
Встреча сына с матерью известно какая бывает. Кинулись друг к другу. Мать слезу утирает. Я тем временем бочком к двери. Мне здесь делать нечего.
– Постой, Перепелица, – обращается ко мне Самусь. – Хочу два слова тебе при матери сказать.
Остановился я, насторожился. Как бы не оконфузил меня Илья перед героиней. Так и случилось. Говорит:
– Слышал я, как ты тут пытался меня выгородить. К чему это? Смелости не хватает правду сказать? Так я сам не побоюсь ее матери выложить.
Не знаю, как ноги вынесли меня из помещения. И вроде ничего плохого я не сделал, а чувствовал себя прескверно.
Какой-то внутренний голос спросил у меня: «А что ты, Максим Перепелица, сделал, чтобы твой товарищ Илья Самусь хорошо стрелял и не отставал по физподготовке?» – «Так мне же никто не поручал заниматься с ним», – оправдывался я. «А где твоя комсомольская совесть?» – упрекал тот же голос.
Крепко задумался я. Самусь три года прожил с матерью в землянке, когда гитлеровцы в Белоруссии хозяйничали. Каждую зиму болел. Сказалась фашистская неволя на организме Ильи. Нет в нем цепкости, какая солдату нужна. А ты, Максим Перепелица, палец о палец не ударил, чтобы помочь Самусю. Мало того, посмеивался еще, когда он мешком болтался на турнике и не мог выполнить самого простого упражнения. Надеялся, что командир со всеми управится, всех научит, а не подумал о том, что и товарищи большую помощь Илье оказать могут.
Заскребло у меня на душе… Не буду подробно рассказывать, какой был разговор у нас с Ильёй после того, как мать его уехала. Признаюсь только, что не принял Самусь моей помощи. Человек с характером! Говорит:
– Помощь тогда впрок идет, когда она от чистого сердца. А ты, Перепелица, мать мою пожалел. Подумал, что неудобно, мол, – сын Героини Труда, а отстает. Помоги Таскирову, у него тоже нелады со стрельбой. А я и без того выбьюсь в люди…
Вся совесть моя вспенилась от этих слов. Ведь правда, до приезда Марин Федоровны мне не приходило в голову заниматься вместе с Ильёй Самусем Я считал, что «брать на буксир» отстающего товарища можно только по поручению командира или комсомольской организации. Но Илья трижды не прав, если думает, что теперь хочу помочь ему не от чистого сердца. А как докажешь ему?… Впрочем, никакими тут словами не убедишь человека. Да суть не в одном Самусе. Ведь Али Таскиров тоже неважно стреляет. Теперь-то уж не буду ждать, пока мне поручат помогать ему.
Казаха Таскирова, по имени Али, знает у нас каждый. Крепкий он парень. До службы в армии табунщиком был. О лошадях может целыми часами рассказывать. Заслушаешься!
У них в Казахстане на пастбищах бродят тысячи табунов молодых лошадей. Силы нагуливают. Но пока наберут их, одичают совсем. Как звери делаются, не подступишься к ним. И вот Таскиров был усмирителем диких жеребцов. Очень серьезная профессия!
Скачет Али на лошади наперерез табуну одичавших коней и аркан в руках держит. Наметит самого красивого жеребца и начинает охотиться за ним. Как стрела, несется вперед. А приблизится на нужное расстояние к выбранной «жертве» – приподнимется на стременах и бросает аркан.
Как будто бы собственными глазами вижу эту картину.
Кинет Али аркан вперед и в один миг охватывает шею дикого жеребца. А тот, как тигр, во все стороны мечется. Только держись! Если рука у тебя нетвердая и нет нужной ловкости, увлечет тебя дикий конь куда глаза глядят или из седла стащит.
Но Али Таскиров не такой. Как сожмет твою руку, пальцев потом не расцепишь. Только охаешь от боли, а он улыбается, показывает ровные, белые, как бумага, зубы, щурит чуть раскосые глаза. И если он заарканит коня, будь тот сильным, как ветер, – удержит.
Вначале мчится следом за ним, не дает ему от табуна оторваться. В это время другие табунщики направляют косяк несущихся лошадей к ручью, который впадает в речку Чу. Там в землю целый ряд толстых столбов вкопан. Поровняется Али со столбом и камнем на землю из седла вываливается. В один миг конец аркана вокруг столба несколько раз обвивает. Жеребец на дыбы, потом на колени падает. И тут на него наваливаются табунщики, недоуздок надевают. И сколько бы он ни ржал, ни бил копытами в землю, Али его не отпустит.
Твердый характер у Таскирова. Упрямый он человек. Только в стрельбе ему не очень везет. Когда промахнется Али на стрельбах, такая грусть бывает написана на его широком, скуластом лице. Кажется, от этого лицо еще более смуглым делается. И вот диво бывает, что Таскиров стреляет и хорошо, но чаще мажет. Значит, нет у него настоящего мастерства в этом деле.
Никаких разговоров о помощи я не заводил с Таскировым. Просто на занятиях и в свободное время начал ближе держаться к нему. И как-то само собой получилось, что вскоре Максим Перепелица и Али Таскиров стали друзьями – водой не разольешь. А командир нашего отделения, младший сержант Левада, видит, что это на пользу Али идет, и дает мне разные указания – на одно, на другое обратить внимание: то Таскиров изготавливается вяло, то карабин сваливает или не умеет правильно локти ставить при стрельбе лежа. Сам Левада на занятиях показывает Таскирову, как нужно делать. А я уже слежу потом, идет ли ему на пользу наука.
Однажды Левада понаблюдал в ортоскоп, как целится из карабина Али Таскиров, и сказал ему:
– Встаньте передо мной и смотрите мне в глаза.
Затем вытянул вперед руку кистью вверх и, поставив указательный палец вертикально перед своим лицом, потребовал:
– Смотрите на палец!
Когда озадаченный Али перевел взгляд на палец Левады, тот вдруг спросил:
– Какой глаз я сейчас закрывал?
– Уй-бай! – изумленно воскликнул Таскиров. – Я, товарищ командир, на палец смотрел.
– А когда смотрите на прорезь прицела, вы видите, что делается с мушкой, и тем более с мишенью? – снова спросил командир отделения. – Если нет, то обязаны приучить глаз видеть. Иначе стрелять не научитесь.
– Уй-бай! – восхищался Таскиров.
И есть чем – вот так Левада! Прямо – профессор! Когда жили мы с ним в нашем селе Яблонивке, я и не подозревал, что у него такая голова. Ведь верно! Впервые взяв оружие в руки, и я никак не мог приловчиться одновременно смотреть на прорезь прицела, на мушку и на мишень. Глядишь на одно, другое расплывается, а третьего совсем не видишь. А тут не только глядеть нужно, но и совмещать, как того стрелковая наука требует. Вот этой болезнью до сих пор страдает Таскиров. А раз недуг известен, побороть его легче.
Во время одного перерыва говорю я Али:
– На следующих стрельбах мы с тобой не промажем. А для этого ежедневную порцию стрелковых тренировок утроим.
Таскиров улыбается и отвечает:
– Максим – хорош товарищ; по-нашему – жолдас. Спасибо тебе. С Максимом Али будет красиво стрелять…
– Может, и меня в компанию возьмете? – вдруг послышался рядом голос Ильи Самуся.
От неожиданности я даже не тем концом папиросу в губы сунул. Товарищи смеялись, а я крепко пожимал Самусю руку.
Много времени прошло с тех пор. В отделении давно привыкли к тому, что раз отсутствует в расположении роты Перепелица, значит – не ищи ни Самуся, ни Таскирова. Наверняка все вместе в спортивном городке находятся (конечно, с ведома командира отделения). Да и в часы самоподготовки занимаемся мы только за одним столом.
И вот этот вчерашний воскресный день. Никогда его не забуду.
От нашего лагеря до города недалеко. Было решено в воскресенье коллективно отправиться в театр. Строем двинулись мы в путь.
День был на исходе. На улицах города полно людей. Известно – воскресенье. А строй по асфальту так печатает шаг, что дух захватывает. Рядом с командиром роты старшим лейтенантом Куприяновым и командирами взводов идут молодые отличники. Я думаю, никто не удивится тому, что в числе их – Илья Самусь и Али Таскиров… Радостно мне!
Барабан впереди роты точно подтверждает мои мысли;
Да! Да-да-да-да!
Да! Да-да-да-да!..
Ему вторит скрип сапог и гул асфальта под их ударами. На нашем пути на перекрестках зажигается зеленый свет светофора. Замирает движение. Пешеходы стоят на тротуарах и любуются молодцеватым видом солдат. Каждый вспоминает сейчас о своем сыне, брате, муже или любимом, которые, как и мы, несут службу в рядах Советской Армии. Поневоле грудь колесом становится, а голова еще выше поднимается. А улыбок! Столько я еще никогда не видел. Нам улыбаются с тротуаров, из трамваев, улыбаются шоферы машин и постовые милиционеры, продавщицы мороженого и молодые мамаши с карапузами на руках. Девушки машут руками…
Вот он, наш народ! Эх, нет слов у Максима Перепелицы, чтобы рассказать о том, что делалось в его душе в эти минуты!
И когда запевала начал песню, Максим Перепелица впервые за свою солдатскую жизнь не поддержал его. Твердый комок подкатился к горлу…
НЕМОКНУЩИЕ СПИЧКИ
Кто не был в лагере нашей части, тот не знает, что такое настоящий лагерь. Кажется мне, что лучшего лагеря и быть не может.
Представьте себе широкую речку. По одну ее сторону, где берег пологий, раскинулись густые заросли верболоза, осины, орешника. А дальше от берега – целые тучи кудрявых кустов калины, обвитых хмелем. И когда цветет этот хмель на калине, да и сама калина цветет, даже до наших палаток доносится гудение диких пчел, которые там мед берут.
По другую сторону речки берег обрывистый, песчаный, насквозь прошитый корнями старых елей. Многие ели так засматриваются в воду, что того и гляди кувыркнутся туда. Чем дальше от речки, тем лес все выше забирается на высоту. Вот на этой-то высоте, меж долговязыми елями, и раскинулся лагерь нашей части.
Скажу вам, что порядок здесь образцовый и красота неописуемая! Лагерные линейки – ровные, точно струна, песком желтым посыпаны. А палатки словно по команде выстроились. За их строем – шеренга ротных погребков, где бачки с холодной водой хранятся, вторую шеренгу – массивную, внушительную – составляют закрытые пирамиды с оружием. Рядом – места для курения. А за тыловой линейкой – спортивные площадки рот и комнаты политпросветработы. И везде линии, линии… В сочетании с деревьями и кустарниками, которые толпятся в лесу, как им вздумалось, эти линии создают такую картину, что она хоть кого за сердце тронет! Очень хорошо здесь!
Но дело не только во внешней красоте. Главное в другом. Лагерь напоминает солдату боевые условия. И нужно сказать, что к этим условиям, в которых происходят самые необыкновенные, увлекательные события, он стремится всей душой. Ведь в жизни солдатской столько захватывающего! Возьмите хотя бы последние занятия по тактике в нашем взводе…
На занятия эти явился командир роты, старший лейтенант Куприянов. Авторитетный он человек, знающий. Каждому его слову цены нет. Ведь еще в период Отечественной воины Куприянов командовал пулеметным расчетом. А пулемет в бою доверяется, известно, самым толковым людям. Читал я в «Истории нашего полка», что в боях за Берлин старшина Куприянов вместе со своим пулеметным расчетом пробрался на улицу, занятую фашистами, и много там дел натворил. Восемь часов в окружении дрался. Подбил даже огнем пулемета вражеский самолет с генералами и офицерами, который пытался взлететь с автострады.
После войны Куприянов учился в офицерской школе. А теперь, говорят, в академию готовится поступать. Как не уважать такого человека? Сам я ведь тоже об учебе подумываю.
И когда придет ротный на учебное поле, каждый старается изо всех сил. Каждый хочет показать старшему лейтенанту, что, мол, не подведем мы его. В любой день может он отчитываться хоть перед самим министром обороны, что вторая рота умеет действовать в бою.
Стараюсь и я, Максим Перепелица. Только иногда не везет мне. На одном занятии по физподготовке Перепелица так оскандалился перед командиром роты, что вспоминать стыдно. Через «коня» не сумел перемахнуть.
Когда увидел я, что и на берегу речки, где обучались мы, появился старший лейтенант Куприянов, сердце мое зашлось. Ну, думаю, не доведись случиться, чтобы Максим опять так отличился, как в тот раз. Все вороны в лесу будут смеяться.
О том, какую тему мы изучали на тех занятиях, говорить не полагается. Скажу лишь, что младший сержант Левада поставил перед каждым солдатом отделения задачу: с оружием, незаметно для «противника», переправиться через речку и на той стороне зажечь по костру.
Нелегкое это дело. Речка извивается между зарослями, точно уж, которому на хвост наступили. И на нашем же высоком берегу, за соседней извилиной, «противник» закрепился. Его наблюдатели почти до середины просматривают русло речки. Вот и попробуй переплыви на ту сторону незамеченным. А дымовую завесу ставить нельзя – «неприятель» замысел наш разгадает. Единственный выход – до середины речки под водой пробираться. Это не каждому под силу. А если под силу, то как спички убережешь от воды? Уберечь же их обязательно нужно. Иначе на том берегу огня не зажжешь, задачу не выполнишь.
Прямо хрустит в голове от мыслей. Как быть? А тут сам командир роты голос подает:
– Семь минут даю на подготовку. Действовать каждому самостоятельно. Засекаю время!
Точно ошалел я. Туда метнулся, сюда. Куда спички положить? Злюсь на себя. В таком деле как раз спокойствие нужно, а я нервничаю. Взял себя в руки, оглядываюсь кругом. Замечаю, у рядового Ежикова даже пот на лбу выступил. Наклонился он над чем-то и огонек раскладывает. Не рехнулся ли парень, что уже на этом берегу костер разжигает? Нет, вряд ли. Знаю я Ежикова: не солдат, а художник. Если делает что, так со смыслом. Этот зря шага не ступит. Но не подумайте, что ленивый, – расчетливый он. Как-то продирались мы сквозь густой лес – двигались по азимуту. А время было дано ограниченное. Шел я тогда рядом с Ежиковым, даже немного впереди, и все удивлялся, почему Ежиков каждый раз, после того как сориентируется по компасу, назад оглядывается, высматривает что-то у себя за спиной. Не выдержал я и спросил: «Что ты, Василий, шею свою ломаешь? Нам дорога – вперед, туда и гляди». А он отвечает: «Сейчас вперед, а потом назад. На обратном пути тоже будешь компас перед глазами держать?» Никак в толк не возьму, о чем он говорит. Но потом Ежиков пояснил, говорит: «Примечаю дорогу. Будем идти назад, останавливаться не придется. Вот и сэкономим время».
Вспомнил я этот случай, и так мне захотелось подсмотреть, что же делает Василий со своими спичками. Но вдруг совестно стало: «А ты, Максим, сам ни на что не способен? – мелькнула мысль. – В бою ты тоже на дядю оглядываться станешь?»
И начал я искать выхода. Все во мне кипит. Карманы вывертываю, в подсумок лезу рукой: во что бы завернуть спички? Ведь безвыходного положения для солдата никогда не бывает, – об этом нам часто твердит командир взвода.
Вдруг вижу, что возле тропинки, которая вдоль берега юлит, лопухи растут. Самые обыкновенные лопухи, каких в нашем селе Яблонивке, на Винничине, в каждом рву целый лес. Кинулся к лопухам. Сорвал один, второй. Находка же это! Хозяйки у нас в селе накрывают лопухами кувшины с молоком, потом перевязывают тесемкой и в воду опускают, чтобы молоко было холодным. Это в поле, в жару чаще делают. Кувшин, завязанный лопухом, сутки простоит на дне ведра с водой или в ручье, и капля в него не просочится.
Быстро раздеваюсь (по условиям задачи мы могли в трусах на тот берег переплывать). А душа уже ликует. Так радостно мне: ведь додумался! Жаль, что товарищам подсказать нельзя. Велено самостоятельно действовать.
Достал из вещмешка индивидуальный пакет, разорвал его. Затем разломал спичечную коробку и обе терки вместе с десятком спичек приладил к правой ноге повыше ступни. А сверху один, второй, третий лопух. Потом туго-натуго – бинтом. Так прибинтовал к ноге лопухи, что к спичкам, которые под ними упрятаны, не только вода, воздух не проберется. Потом за спиной закрепил свой автомат – и к речке. Вижу, Ежиков тоже разделся, Самусь… Значит, кумекают хлопцы.
Тороплюсь. Вдохнул полную грудь воздуха и из-за куста нырнул под воду. А вода чистая, дно песчаное. Гляжу на дно, чуть лицом к нему не прикасаюсь и, сколько есть сил, ногами отталкиваюсь от него вперед, а руками вверх гребу, чтобы вода меня не выносила. Этот способ каждому солдату известен. Если не очень глубоко, свободно можно пройти под водой метров тридцать.
Однако наша речка не такая. Возле берега мелко, песочек на дне. А дальше – коряги. Страшные! Зелеными бородами водорослей пошевеливают. От коряг не оттолкнешься. Значит, нужно не «идти» по дну, а плыть над ним. Так и делаю. Но речка широка, под водой больше минуты не выдержишь. Плохо твое дело, Максим. Никакой мочи нет терпеть дольше.
Что есть сил работаю руками, ногами и постепенно выжимаю из груди воздух. Еще метр-два проплываю вперед. Чувствую, как немеет правая нога, к которой спички прибинтованы. Значит, слишком туго перехватил ее. А коряги протягивают ко мне свои зеленые бороды, что-то прячут в темных закоулках. Даже неприятно.
Перевертываюсь на спину и, рассчитывая движения, чтобы не вынырнуть всем телом, выставляю над водой только лицо. Жадно подышал, передохнул – и снова к корягам. Хорошо, что приучил я себя в воде смотреть. А зрячий – не слепой.
Наконец, выбрался за середину речки. Гора с плеч. Здесь глаз «противника» не достанет – заросли мешают. Плыву я на боку и осматриваюсь. Вижу, Василий Ежиков меня настигает. А там из воды, точно утка, Илья Самусь вынырнул. Одним словом, хлопцы в нашем отделении такие, что их трудно опередить.
Только один Али Таскиров на две минуты позже других костер разжег. На то тоже была своя причина.
…Итоги занятий проводились в лагере на задней линейке. Стою я в строю и радуюсь за себя, за товарищей. Не спускаю глаз со старшего лейтенанта Куприянова. А он, стройный, молодой, хмурит брови и ходит перед строем, поскрипывая новыми сапожками. Но очи его смеются. И всем нам доподлинно известно, что командир роты доволен.
Когда начали разбирать, кто какую смекалку проявил, чтобы сохранить сухими спички в воде, настроение мое стало резко падать. Ведь подумайте только! Илья Самусь вытащил из учебного патрона пулю, сунул в гильзу несколько спичек, кусок терки и опять заткнул ее пулей. Затем махнул в воду. Вот тебе и Илья. Просто и здорово! А Володин использовал стеклянный пузырек, в котором таблетки от изжоги носил; Иван Земцов – гильзу из-под ракеты. Таскиров же проще всех. Половинки спичек и кусок терки обвернул в бумагу и так зажал в кулаке, что даже под водой не замочил их. Правда, кулаком ему несподручно было грести. Поэтому Али позже других на противоположный берег высадился.
А Василий Ежиков – прямо удивительно – спички в подсумке перевез и ни во что их не упаковывал. А чтобы спички не намокли, Ежиков такое придумал, что ахнешь! Был у Василия кусок парафиновой свечки. Он быстро растопил его в крышке металлического портсигара, окунул в парафин спички, каждую в отдельности, затем терки. А когда на спичках и на коробке парафин застыл, никакая вода им не была страшна. Бери спичку из воды и зажигай. Парафин стирается с головки, а остальной горит, потрескивает.
Узнал я на разборе обо всем этом, и так обидно стало за себя! Думаю: «У всех смекалка по последнему слову техники разработана, а у меня – лопух. Как бы хлопцы в шутку такую кличку мне не приклеили».
А тут командир роты говорит:
– Способ Ежикова должен каждый запомнить. Спички в парафине можно сохранить в любую погоду. А спички солдату ой как нужны!
А дальше обо мне речь:
– Перепелица – молодец (так и говорит – молодец!). Его смекалка простотой своей всех перекрывает. А суть смекалки в том и есть, чтобы найти выход из трудного положения самым простым способом. Удачно придумал и рядовой Самусь…
Прямо своим ушам не верю. Вот тебе и последнее слово техники! Оказывается, для пользы дела всякая техника пригодна. Нужно уметь правильно и вовремя использовать ее.
Оглядываюсь вокруг и вижу, что лагерь наш еще краше стал. Наверняка потому, что позолотили его косые лучи заходящего солнца. Но, по-моему, лагерь все же хорош другим – интересная в нем жизнь солдатская, трудная и от этого еще более увлекательная.
БАТЬКОВА НАУКА
Я уже говорил, что младший сержант Степан Левада – мой односельчанин и личный друг. Счастливый же он человек. Однажды приходит газета нашего военного округа. Вижу, на ее первой странице – большущий портрет. Глазам своим не верю! Узнаю на портрете Леваду. Серьезный такой, деловой. А под портретом подпись, от которой дух захватывает: «Лучший сержант Н-ской части. Все подчиненные его отделения учатся только на «отлично».
Схватил я газету и стрелой в комнату политпросветработы, где Левада к занятиям готовился. Врываюсь в двери и замечаю, что Степана уже не удивишь. Сидит он над газетой и смотрит на свою фотографию.
Набросился я на него. Поздравляю, руку жму. А он как-то виновато улыбается, вроде ему неудобно, что в газете пропечатали его, а не меня – Максима Перепелицу.
Рад я за Леваду, за отделение наше. Ведь не всем дана такая честь. Говорю Степану:
– Посылай домой эту газету и отдельный экземпляр Василинке Остапенковой. Пусть знают наших!
Степан махнул рукой и отвечает:
– Неудобно, скажут – расхвалился. Уж когда в отпуск поеду, тогда и покажу при случае.
Просто обидел меня Левада своими словами. Какое тут неудобство? Собственными силами такая слава завоевана. Чего ее стесняться? Тоже мне скромник! Как будто в газете идет речь об одном Леваде. Все же отделение чести удостоено! Да и роте и офицерам нашим хвала. Ведь солдатская наука – орешек очень крепкий! Его не раскусил бы ни Левада, ни Перепелица, если бы офицеры сидели сложа руки.
Но Степана не убедишь. Знаю я его. Как заупрямится – скала, не сдвинешь. Думаю себе: раз Леваде неудобно газету со своим портретом домой отсылать, так мне – Максиму Перепелице – абсолютно удобно.
Решено – сделано. Отправил я в Яблонивку своему батьке, Кондратию Филипповичу, толстую бандероль и к ней инструкцию приложил, кому газеты распределить. Отправил и дожидаюсь ответа. Степану же об этом – ни слова.
Через неделю приходит письмо от отца. Пишет, что газеты вручил всем по назначению, рассказывает о сельских новостях. А в конце читаю приписочку. И такая, скажу вам, это была приписочка, что все нутро она мне перевернула.
Пишет батька в конце письма:
«Газету от первой и до последней строчки прочитали. Портретом Степана всей семьей любовались. Потом на стенку под стекло повесили. Но дивно мне, что в газете той о тебе упомянуть забыли. Ни слова о Максиме Перепелице. Далеко, видать, тебе до Степана…» А в конце восклицательный и вопросительный знаки.
Не сладко мне от такой подковырки Батька же знает, что служу я в отделении Левады. А в газете ясно написано: все солдаты отделения – отличники. Но этого отцу мало. Фамилии, видите ли, моей не пропечатали. Догадываюсь, другая думка у него в голове. Кисло старику, что на фотографии рядом со Степаном нет Максима. Тогда бы он газету по всему селу носил. Нашел бы дело заглянуть до самого головы райисполкома. Знаю я батьку.
Что мне ответить? Голова пухнет. Хочу такую же колючую приписку сочинить. Наконец, надумал. Пишу домой письмо, а в конце поддеваю батьку. Пишу ему:
«Учусь я на первый сорт. И сорт этот не липовый. Им можно хоть перед кем похвалиться, не то что перед… попом…» Потом огромнейший вопросительный знак рисую.
Знал я, что мое письмо будет батьке, как понюшка молотого перца. Поэтому никак не решался его послать. Не любит старик, когда напоминают про то, как он в науку ходил. Не зря по-уличному его «Первым сортом» прозывают.
Давно это случилось. Отец мой, Кондратий Филиппович, мальчонкой еще был. В великой бедности жили. Семья была большая, из десяти душ состояла. Хозяйство имели чахлое – слепую лошадь, старую повозку, две овцы да полоску земли. Известно, при таком хозяйстве от голода не отобьешься.
И все же дед Филипп мечтал кого-нибудь из сыновей в люди вывести. Выбор пал на среднего сына Кондратия. Хоть дети соседа-кулака дразнили его «Кондрат – свиньям брат», но отец заметил, что имеет Кондратий голову способную. Послал его в школу. Но что это за школа? Один смех – двухклассная. Дьячок деревенский, по фамилии Таранда, пьяница беспросветный, по собственной воле учительствовал в ней, за что ему крестьяне летом в поле отрабатывали.
Не ошибся старый Филипп. Школу дьячка Таранды закончил Кондратий с отличием. Научился читать и расписываться. А как дальше быть? С таким образованием даже писарчуком не станешь. Решил Филипп не сдаваться. Продал двух овец, занял еще три рубля у соседа и отвез Кондратия – моего отца теперешнего – в волостное местечко. Это то самое местечко, которое сахарным заводом славится. В нем – церковно-приходская школа. Со слезами просил Филипп, чтобы записали Кондратия в ту школу. Пообещал заведующему, что сынишка летом будет бесплатно его коров пасти.
Вот и пошел мой отец в науку. Зимой ходил в лаптях да в пиджаке из крашеного холста. Жил в интернате. Рассказывал он нам, детворе, что не помнил такой минуты, когда бы ему тогда есть не хотелось. Одно спасение – бегал на сахарный завод, нанимался котлы чистить. Согревался там и на кусок хлеба зарабатывал. Для уроков же времени не оставалось. Разве до науки, когда в животе пусто?
Еле дотянул Кондратий до зимних каникул. На каникулы домой пришел. Переступил порог хаты и слова не может вымолвить – дрожит весь. Дрожит от холода и от страха перед своим отцом – дедом Филиппом.
Тот сидел как раз за починкой сапог. Увидел Кондратия, сдвинул на свой морщинистый лоб очки и спрашивает:
– Как наука? Не зря в убыток семью вводишь?
– Ничего, – отвечает Кондратий, – учусь. – И достает из-за пазухи карточку с отметками. В ней деду расписаться полагалось.
Старый Филипп в грамоте немного разбирался. Раскрыл он карточку и вслух по складам начал читать:
«Закон божий – 2; чтение гражданской и церковной печати – 2; письмо – 1; арифметика – 1, церковное пение – 5; поведение – 2».
Потом подозрительно посмотрел на Кондратия и спрашивает:
– Как разуметь эти номера?
А тот продолжает дрожать, как щенок на морозе, и думает: «Чем будет бить, ремнем или розгой?» И вдруг точно просветлело у него в голове. Спрятал глаза и отвечает:
– А это написано, по какому сорту я учусь в классе. Где стоит единица, значит первый сорт, лучше меня никого нет. Где двойка, значит второй сорт.
У деда Филиппа даже глаза от радости засветились. Но на всякий случай спрашивает:
– А сколько всего сортов бывает?
– Двенадцать, – не моргнув глазом, соврал Кондратий.
Филипп даже руками всплеснул. А бабушка, мать моего отца, стоит у печки, выпрямилась, улыбается. Сын ведь на первый и второй сорт учится.
– А чего же по церковному пению пятый сорт? – с неудовольствием спрашивает дед Филипп, – чи голоса у тебя нет? Это, наверно, дьяк Таранда плохо учил. Да куда ему, пьянице, в учителя таким разумным детям!..
Точно праздник в доме. Кондратия посадили за стол, мать наливает ему миску супу. Хлеба ложит не порцию, как всегда, а полбуханки: «Сам, мол, режь, сколько нужно».
Заговорился Кондратий с матерью, с братьями и не заметил, как старый Филипп спрятал в шапку его карточку с отметками и побежал к попу сыном похвалиться.
Поел Кондратий, вышел из-за стола. Хорошо так у него на душе – домой попал. Вдруг влетает в хату Федька – младший братишка – мой дядька теперешний. Испуганный. Говорит: «С тятькой что-то стряслось! Без шапки прибежали, сердитые, побелели. Вожжи зачем-то ищут!»
Как услышал это Кондратий, онемел. Мигом в сенцы. А Филипп уже в дверь ломится. Не заметил Кондратия – и в хату. Кричит:
– Где этот щенок? Дурнем меня перед батюшкой сделал!.. На все село осрамил! Зашибу! По первому сорту всыплю!..
Выскочил Кондратий во двор и босиком по снегу к своему дядьке, который на другом конце улицы жил.
На этом и кончилась наука моего отца. С тех пор зовут его в Яблонивке «Первым сортом».
Так вот и намекнул я батьке в своем письме об этой истории, а отправлять его побаиваюсь, как бы не обиделся отец.
А время-то идет. И вдруг второе получаю от батьки письмо. Даже струхнул я: «В чем дело?»
Обстоятельное такое письмо, рассудительное. Правда, ругает меня в нем батька, но ругает по справедливости. Говорит, почему не отвечаешь на мое письмо, в котором упрекнул тебя. «Неужели не задели мои слова, не заставили задуматься? Ведь упрекнул я тебя с умыслом. Знаю слабость за тобой: часто любишь прихвастнуть (так и режет, не считаясь, что Максима от этих слов в жар бросает). И я подобной слабостью страдал когда-то, говорит о себе батька. И вот прислал ты газетку с фотографией Степана, а у самого небось мысль: «Жалко, что меня рядом с ним не пропечатали…» Знаю, что была такая думка у тебя. Была потому, что в письме твоем вижу только гордость за Степана. А гордости собой, отделением своим, все солдаты которого, и ты в том числе, как пишется в газете, «отличники», ты не высказываешь. Нехорошо! На колхозном собрании мы читали ту газету. По заслугам Степана Левады, по достижениям вашего отделения судили мы о всей нашей Армии Советской. И очень приятно нам, отцам, что сыновья наши – добрые хлопцы».
Прямо душа у меня кричит от этих слов! И приятно за батьку, что стал он не таким, каким я знал его с детства, и горько, что видит во мне того же Максима, какой был в Яблонивке, – ветрогона и хвастуна. Неужели непонятно, что если он там с каждым днем вроде на вышку поднимается, то я в армии тем более!
Словом, мерили мы друг друга старыми мерками…
«И еще догадываюсь я, – пишет дальше батька, – что получил ты мое письмо и обиделся. Подумал: «Учусь я как следует, не так, как ты когда-то учился – «на первый сорт».
Прямо в точку попал. Ей-ей, не голова у него, а телевизор! Удивительно, как он в этот телевизор не сумел разглядеть, что Максим в армии другим стал.
И о своей давнишней учебе у батьки особое мнение имеется. И такое мнение, что хоть политинформацию проводи по нему. Говорит батька в письме, чтобы я его историю с «первым сортом» на носу себе зарубил и товарищам о ней рассказал. Пусть знают, как в старину наука людям доставалась. Иначе невозможно оценить ту жизнь, которую принесла советская власть нашей молодежи. «А насчет теперешних дел твоего батьки можешь судить по тому, что закончил он с отличием колхозную агрошколу, хотя и кузнецом является. И суди не только о батьке, а о всех колхозниках наших».
Вот тебе и батька!..
Никак не пойму, кто кого обгоняет, то ли мы своих отцов, то ли они нас. Впрочем, какая разница – кто кого? Лишь бы отстающих не было!
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ
И кто бы мог подумать, что мне, Максиму Перепелице, придется в самой Москве – понимаете, в Москве! – принимать участие в таком тонком и деликатном деле, как организация концерта?!
Может, не нашлось большего ценителя искусства, чем я? Не-ет, вряд ли! Тут есть другая причина. А корень этой причины, я бы сказал, в моем перепеличьем характере. Впрочем, может, характер здесь и ни при чем. Просто – нелегко живется на белом свете тому, кто любит красивую дивчину. Очень нелегко!.. Но расскажу все по порядку.
Возвращаюсь я с тактических занятий, а дневальный вручает мне огромнейший пакет. В нем – газета «Вiницька правда». Чем-то домашним дохнуло на меня. Газета, которую каждый день читал я в Яблонивке. Добрая газета! А на первой странице!.. На первой странице портрет моей Маруси и яблонивского агронома Федора Олешки, который приходится внуком деду Мусию, самому говорливому старику в нашем селе.
Гляжу я на портрет Маруси… Ага… Понимаю. Знай, мол, Максим, наших! Ты портрет Степана Левады и статью о своем отделении в село присылал, а я тебе свой собственный портрет в газете… Но почему это сердце мое так бесится? Не оттого ли, что рядом с Марусей сфотографирован Федор Олешко? Я же Федора знаю. Хлопец такой красивый, что девчата сельские как мухи мерли, когда он на летние каникулы из Московской сельскохозяйственной академии приезжал! Конечно, не все девчата. Маруся, между прочим, кроме меня, ни с кем знаться не хотела.
Так в чем же дело? Почему мне волноваться?
Не валяй, Максим, говорю я сам себе, дурака! Ты же своими глазами читал одну мудрую книжку, где говорится, что ревность – это пережиток прошлого, который не украшает человека!
Но что поделаешь? Любовь, она тоже свои законы имеет. И даже самая высокая сознательность бессильна перед этими законами.
Читаю, что написано под снимком:
«Молодой агроном села Яблонивки Федор Олешко и молодая колхозница Мария Козак вывели новый сорт высокоурожайной гречихи…» А дальше сообщается, что их пригласили в Москву, в Сельскохозяйственную академию опытом делиться. Тоже мне, нашли академиков!
Но дело не в этом. Маруся, конечно, любит меня. Однако Федор Олешко – это ж такой парень!.. Да ему, с его высшим образованием, раз плюнуть сагитировать хоть какую дивчину замуж за него выйти!
Из газеты выпадает записка. Еле узнаю Марусину руку. Вроде курица лапой нацарапала. Видать, наспех писала… Ага, так и есть. Извиняется за короткое письмо. В машине пишет. Едут на станцию… «… После совещания в Виннице побыла дома два дня, а теперь едем с Федей…» Гм… С Федей… «…едем с Федей в Москву… Крепко целю…» Что за «целю»? Может, «целую?» Нет. «Крепко целю. Маруся».
Куда же это она целит? В кого?
Поплыла перед моими глазами казарма. Не знаю даже, как очутился я в канцелярии перед командиром роты. Так и так, докладываю ему, показываю газету, записку Маруси, прошу отпустить меня на два дня в Москву. Ведь до столицы от нашего города – рукой подать.
Поругал меня командир роты крепко. У солдата, говорит, есть дела поважнее сердечных. Служба прежде всего. Да и считает он, что страдаю я излишней мнительностью. Словом, никаких разговоров об отлучке из части.
Но тут повезло мне. Потребовалось сопровождать одного нашего майора в Москву. Вез он туда какой-то срочный пакет. Назначили меня, как авторитетного товарища, и разрешили задержаться в Москве на два дня, так сказать по личным делам.
Перед самым отъездом вызывает меня командир полка. Захожу к нему со страхом: вдруг отпуск отменит.
– Товарищ полковник, – докладываю, – рядовой Перепелица по вашему вызову явился!
Полковник наш прямо на Чапаева похож. Усищи! Сам здоров, в плечах широк, голос твердый, сильный. Поднялся он из-за стола, поздоровался со мной и говорит:
– Хочу вам, Перепелица, одно попутное задание дать. Да вот не знаю, справитесь ли.
– Справлюсь, товарищ полковник, – заверяю его. – Можете не сомневаться. Все выполню, что прикажете, лишь бы мне в Москву попасть!
– Так уж и все, – похохатывает полковник. – А если в прикажу из зоопарка слона в полк доставить?
– Ну, если объясните, как это сделать, то и доставлю, – так же шуткой отвечаю ему.
– На этот раз обойдемся без слона, – серьезно говорит полковник. – Дело вот в чем: мы как-то посылали письмо на радио. Просили передать концерт по заявкам наших солдат…
– Концерта не было, – напоминаю.
– Вот именно что не было, – подтверждает полковник. – Видимо, таких заявок поступает туда много, и все их удовлетворить нет возможности. Так вот, забирайте с собой наши
заявки, зайдите там на радио…
И подробно объясняет мне, что нужно сделать. Смотрю я в его усатое лицо, смотрю на орденские планки на груди полковника, и так мне хочется сделать все до точности, как он приказывает.
– Слушаюсь, – говорю. – В следующее воскресенье вечером будет передача.
А полковник улыбается:
– В следующее – вряд ли. Ведь три дня осталось.
– Товарищ полковник! – даже руку к груди прикладываю я, хотя так и не полагается. – Разве вы не знаете Максима Перепелицу? У меня закон: сказано – сделано!
– А вот бахвальства я не люблю! – суховато отвечает полковник.
Мне даже не по себе стало. Не верит…
– Товарищ полковник… Ну… Ну, вот увидите? Разве я могу вам соврать? Да отвались у меня язык!..
Командир полка смягчился и улыбается опять.
– Ладно, – говорит, – посмотрим, какой вы хозяин своему слову. Сам буду в воскресенье у репродуктора сидеть.
– Можете не сомневаться…
И вот я уже в Москве. Сопроводил нашего майора, куда он приказал, и пошел на радио. Нашел улицу, номер дома, подъезд. Расспрашиваю у людей, куда мне и к кому, по каким ходам и переходам.
Наконец, стучусь в ту самую дверь, куда мне предписано. Захожу в комнату с окнами во всю стену, представляюсь. Встречает меня этакая серьезная дивчина лет шестидесяти. Оказывается – редактор. Вступаю с ней в переговори, показываю заявки солдат нашего четырежды орденоносного полка.
– О, да здесь же огромный список! – удивляется дивчина.
– А как же? – подтверждаю. – Культурные запросы. Завтра вечером передача должна быть обязательно.
Редакторша смахнула с носа очки, подняла на меня глаза.
– Что вы, молодой человек! – говорит. – Такую передачу надо готовить недели две.
Меня даже в жар бросило.
– Две недели? – ужасаюсь. – Завтра же весь полк наш займет позиции у репродукторов! Сам командир полка… Да знаете вы?..
А бабка меня успокаивает. Говорит и в такт своим словам очками помахивает.
– Подождите, подождите. Не горячитесь, товарищ Перепелица. Дело в том, что все эти люди заняты, у каждого свой рабочий план. Поэтому нужна предварительная договоренность. Кроме этого, нужно заблаговременно заказать радиостудию, вызвать тонмейстера, оператора…
– Хорошенькое дело! Как же я в полк вернусь, как покажусь на глаза полковнику? – спрашиваю у нее. – Не-ет, у нас так не положено. Получил приказ – умри, а выполни!..
– Но как же выполнить? – пожимает плечами бабуся. – Ну? Допустим, часть тех номеров, которые хотят услышать ваши товарищи, у нас имеется в записи на пленке. А ну давайте еще раз посмотрим ваши заявки… – И, надев очки, заглядывает в бумажки, которые я выложил перед ней – «Радиопостановка «Василий Теркин» по поэме Александра Твардовского». Это у нас есть. Можно выбрать отрывок. Песни и арии тоже есть в записи. А вот этого нет, и этого нет. Выступление народного артиста Огнева нужно готовить… заслуженной артистки Васильковой – тоже.
– Там еще просьба, – напоминаю ей, – чтобы выступил поэт Степанов.
– Вот видите! – разводит руками редактор. – Не-ет. Такую передачу подготовить в два дня физически невозможно.
– Невозможного ничего нет, – втолковываю ей. – Ведите меня к вашему генералу или полковнику.
– У нас военных нет, – отвечает редактор и смеется.
– Да, я и забыл! Ну, к начальнику или директору ведите.
И начал действовать Максим Перепелица! Чтобы ближе к делу, скажу только одно: доказал я начальству, что наш славнейший четырежды орденоносный полк без радиопередачи по заявкам солдат и офицеров никак не обойдется. А насчет того, что трудно будет заставить артистов и писателей выступить перед микрофоном в скоростном порядке, так это я взял на себя. Начальство пошло навстречу, дало мне помощника – гарненьку дивчинку, которая назвала себя ассистентом. Мудреное какое-то слово! Но звучит оно здорово: «Мой ассистент». Вот дожил Максим Перепелица! Уже ему и ассистентов прикрепляют в помощь. А в распоряжении этого черноглазого ассистента – разумная машина, и не очень сложная, магнитофон! Все до точности записывает он на пленку, которую потом проигрывай сколько душе угодно. За полчаса научился я управлять ею.
Раз у меня теперь в руках такая техника, так в чем же дело? Будь ты самый народный артист, а если к тебе приехали домой и нацелились в тебя микрофоном, никуда не денешься! Выступишь.
На легковую машину тоже не поскупилось начальство. Наверно, подумало: раз ты, Максим Перепелица, такой хитрый, на тебе все и сам попробуй.
Спрашивает мой ассистент, куда первым делом поедем. Что за вопрос? Начнем с Маруси Козак!
Но как найти ее? Объясняю все как есть ассистенту. Понятливая дивчина! Между прочим, Людмилой Васильевной ее величают. Кинулась к телефону и давай звонить. Не прошло и трех минут, как докладывает она мне: Маруся Козак и Федор Олешко остановились в гостинице «Москва»… Как будто гостиниц им мало, не могли в разных поселиться.
И вот мы сидим в машине, слушаем радио и едем в эту самую «Москву». Прямо чудно: «Москва» в Москве.
А машин-то, машин! А людей!.. Куда они спешат? Вон памятник Пушкину. Знакомый, хоть и в первый раз вижу. Неужели по этим улицам Пушкин ходил? И Гоголь. И Горький, которого, между прочим, тоже Максимом звали…
Подъезжаем к гостинице. Ох, и высока! И только остановились, как вдруг я вижу: выбегает из широких дверей… Маруся! Моя Маруся! С портфельчиком в руках. Как заправская москвичка. Рванулся я с места.
– Сумасшедший! – кричит на меня шофер. – Машину сломаешь!
И пока открыл дверцы (не привык же я в легковых машинах ездить), Маруся села в «победу». Ишь уже на «победе» ее раскатывают.
– Гони, – кричу шоферу, – за этой «победой»!.. И тут я понял, что такое светофоры, будь им на том свете кочерга! Чуть не треснул от нетерпения. Наконец, издали вижу, что остановилась Марусина машина.
– Тормози! – подаю шоферу сигнал. А Маруся тем временем уже перебегает через улицу, не обращает внимания, что милиционер аж захлебывается, так в свисток дует. Что ты скажешь? Не знает Маруся городских правил. Я следом за ней, хотя и милиционера страшновато. Слежу, в какой дом она нацелилась. Засек. Вхожу, оглядываюсь, спрашиваю у бородатого сторожа, или швейцара по-городскому, куда тут сховалась дивчина, которая сейчас только что зашла. Он показывает на дубовую дверь с табличкой «Лекторий». Я туда, а навстречу мне женщина в очках – близорукая, глаза щурит. (Везет же сегодня на встречи с женщинами в очках!)
– Сюда нельзя, – говорит.
– Как нельзя? – задыхаюсь я. – Мне Марусю Козак!..
– Мария Козак сейчас занята, – отвечает. – Она и так опоздала.
– Гражданочка, мне на одну только минуточку, – умоляю женщину. – По делу. Скажите, Перепелица…
– Тише, – грозит она мне пальцем. – Ну, хорошо. Постойте здесь, я сейчас спрошу у нее.
И ушла. Жду я, а сердце – як белены объелось. Так и рвется из груди, точно пташка из клетки. Выходит, наконец, женщина и смотрит на меня каким-то непонятным взглядом.
– Извините, товарищ, – говорит, – забыла вашу фамилию…
– Я же вам сказал: Перепелица!
– Ну, хорошо, гражданин Перепелица, – и теснит меня подальше от двери. – Мария Козак просит извинить ее, она знает, что виновата перед вами, но выйти не может. Очень просит простить ее… и получите…
Тут женщина сует мне в руку десятирублевую бумажку и хлопает перед моим носом дверью. Ничего не понимаю. Маруся просит ее простить, она виновата передо мной…
Дожил Максим Перепелица…
Швырнул я на пол десятирублевку и к выходу. Что
жеэто делается?! А? Прямо горю весь. А что с сердцем – передать невозможно.
Подбегаю к машине.
– Людмила Васильевна, – говорю своему ассистенту. – Вся жизнь моя сейчас в ваших руках. Помогите!
– Что случилось? – всполошилась Людмила Васильевна.
– Беда! Останьтесь здесь и дождитесь Марусю. Расспросите у нее по-человечески, – и объясняю все, как есть. – А если этого злодея Федора Олешко встретите – и с ним поговорите. Я буду по телефону швейцару здешнему звонить.
Вижу, заволновался мой ассистент. Не знает, какое решение принять.
– А вы с магнитофоном справитесь? – спрашивает.
– Да я с пулеметом, с автоматом справляюсь, с другой техникой… – отвечаю. – Справлюсь и с магнитофоном. Только бы шофер точно по адресам возил.
Еле уговорил ассистента. Ох, и до чего же беспокойная дивчина!
Поехал я. Ближайший адрес – высотный дом на набережной. Поглядел на вершину этого дома, и чуть фуражка с моей головы не свалилась. Ну, зачем в небо жилье людей поднимать? Неужели им на земле места мало?
И вот я уже звоню в квартиру народного артиста Михаила Ивановича Огнева. Никто не отвечает. Звоню еще, потом толкаю дверь. Открылась. Захожу. В передней – ни души. А из соседней комнаты, в которую приоткрыта дверь, доносится голос. Да это же голос Михаила Ивановича! Включаю магнитофон.
– Нет, нет! Лучше уж мне вязать носки, штопать их и надставлять пятки, чем вести такую собачью жизнь! – шумит на кого-то народный артист. – Чума на вас всех, трусов!.. Мальчишка, подай мне кружку хереса, малый!.. Хереса какого-то требует… И ругает кого-то… Вот не вовремя пришел…
– Подай мне кружку хереса, негодяй!
Я даже подпрыгнул. Не голос, а гром… Может, это на меня кричит?.. Где же он, херес тот?.. Наверное, в том кувшинчике на столе.
И только я сделал шаг с места…
– Ах ты плут!.. – даже занавеска на стеклянных дверях сдвинулась, и я увидел усатое, как у нашего полковника, лицо Михаила Ивановича Огнева.
– Виноват, товарищ народный артист, – извиняюсь, виноват…
– Позвольте, позвольте, позвольте. Что вы тут делаете? – И товарищ Огнев выходит в переднюю прямо
ко мне. – Кто вы такой?
– Я… военный, – отвечаю. – Вот по делу, к народному артисту, вот к вам…
– Ах, по делу, ах, к народному! – вроде обрадовался мне Михаил Иванович и усы подкрутил. – Слушайте, вы ко мне по делу? Вот и чудесно! Дорогой мой, очень кстати! Дома никого нет… Слушайте, как вас величать?
– Максим Перепелица, – отвечаю с тревогой в голосе: чувствую, что народный артист сейчас какую-то работу мне даст. Наверное, в магазин пошлет… Так и есть!..
– Слушайте, Максим Перепелица, вы же мне очень нужны! – и хлопает меня по плечу. – Вы станете сейчас принцем Генрихом, сыном английского короля Генриха четвертого. Берите книжку и читайте.
Беру огромную книжищу. Вижу – Шекспир. На открытом месте читаю: «Король Генрих IV». Историческая хроника.
А Михаил Иванович Огнев уже объяснения мне дает:
– Место действия – Англия, начало пятнадцатого века, сцена происходит в трактире «Кабанья голова». Итак, вы не Перепелица, а принц Генрих, а я не Огнев. Перед вами сложный тип – забулдыга и ловкач сэр Джон Фальстаф, который сейчас будет изображать вашего отца – английского короля Генриха Четвертого.
– Ха-ха, – смеюсь. – Да мой батька – Кондрат Перепелица – колхозный кузнец!
– Слушайте, какой вы непонятливый!.. – сердится народный артист.
– Нет, я понимаю, – успокаиваю его. – Это дело мне знакомо. В драмкружке участвовал. Но смешно! Максим не Максим, а принц, а батько мой не кузнец, а король…
– Ничего не поделаешь, – разводит руками Михаил Иванович. – Искусство требует жертв. Так слушайте внимательно. Принц Генрих после многих разгульных ночей, проведенных с Фальстафом, должен вернуться домой во дворец, и они знают, что король будет принца ругать. Так вот Фальстаф изображает перед Генрихом, как король-отец будет с ним разговаривать. Понятно?
– Да, понятно, – отвечаю
– Значит, читайте вот отсюда, – и товарищ Огнев становится передо мной на колени и начинает говорить за этого самого Фальстафа:
– Расступитесь, рыцари, и дайте мне кружку хереса, чтобы у меня покраснели глаза и можно было бы подумать, что я плакал.
– Михаил Иванович, а где его взять, хереса-то? Может, горилочки? – смеюсь я.
– Перепелица, нельзя от классика отступать, – хмурит брови народный артист. – Горилка так горилка, херес так херес. Читайте!
И начали мы репетировать. Долго мне пришлось выслушивать Михаила Ивановича, затем самому по книжке читать. Даже взмок я. И наконец, кончили.
Задумался о чем-то народный артист и даже песенку про себя напевает.
Знакомая песня. Где-то я ее слышал? Может, попросить народного артиста, чтоб в полный голос спел – для концерта?.. Нет, по-моему, интереснее будет, если передать по радио, как мы с ним короля и принца изображали…
Но все же обращаюсь к народному артисту:
– Михаил Иванович! Что это за песня? Вот бы мне слова ее достать да в самодеятельности нашей выступить!
– А это очень просто, – отвечает он. – Надо мной, этажом выше, композитор живет. Он эту песню сочинил и каждый день на рояле играет. У меня уже зубы болят от нее.
И тут я слышу – сверху доносится знакомая музыка.
– Во! Слышите?.. Эгей! Никита! – кричит Михаил Иванович. – Никитушка, голубчик! Перестань!.. Не слышит. Сейчас я ему по телефону, – набирает номер и начинает говорить прямо с нежностью:
– Привет, Никиточка!.. Да, я. Никита, дорогой! Весь век буду тебе благодарен. Не играй больше. У меня дети спят. Сейчас к тебе зайдет солдат Максим Перепелица. Дай ему слова этой замечательной песни, дай и забудь ее. Не играй больше. Хорошо? Ну, спасибо, мой дорогой, спасибо.
Прощаюсь я с народным артистом, благодарю его и извиняюсь за беспокойство. Потом спешу на этаж выше.
И вот я уже в квартире композитора.
– Так, значит, вы эту песню написали? – спрашиваю, когда он проводил меня из передней комнаты в кабинет и усадил в мягкое кресло.
– Я… А что? Не нравится? – насторожился композитор. Сам невысоконький, лицо выбрито, глаза хитрющие.
– Нет. Очень даже нравится, – отвечаю. – А вам?..
– Мне не очень, – говорит.
Странный человек. Спрашиваю:
– Так чего ж лучшую не написали?
– Не написалось… – разводит руками. – А чего вы так смотрите на меня?
Смешной вопрос. Вроде не понятно, что я первый раз в жизни композитора вижу. Объясняю ему это.
– И вы за тем ко мне пришли? – удивляется.
– Нет, не только за этим, – отвечаю. – Вам же говорил товарищ Огнев. Мы с ним сейчас Шекспира репетировали. Мне бы слова вот этой песни записать. Хочу на концерте солдатской самодеятельности выступить.
– А вы поете? – оживился композитор.
– Да у нас все в роте поют.
Тут композитор без лишних слов ведет меня к роялю и дает в руки лист бумаги с текстом песни.
– Послушаем, – говорит.
– А товарищ Огнев не того?.. – осторожно спрашиваю я. – Не станет утюгом в потолок стучать? Слышно там все.
– А, ничего, – машет рукой композитор. – Пусть привыкает…
Пришлось мне петь. За компанию и композитор пел. А когда кончил, говорит он мне:
– Не плохо поете, – так и сказал.
Мне неловко стало. Сам композитор похвалил.
– Петь нечего, – жалуюсь ему. – Мало новых песен, особенно солдатских. А солдату без хлеба легче прожить, чем без песни. Напишите, товарищ композитор… А то все «Тачанку» поем. Конечно, хорошая песня. Но ехать в бронетранспортере или на броне танка и, глядя на реактивные самолеты, петь про тачанку в четыре колеса – не очень подходяще.
– Это верно, – соглашается композитор. – В долгу мы перед солдатами.
И пообещал-таки написать музыку для солдатской песни.
Поблагодарил я его и распрощался. Молча спускаюсь на скоростном лифте вниз. Страшновато за магнитофон. С такой высоты сорваться – щепки не соберешь. Но спустился благополучно. Выхожу на улицу и о Марусе опять думаю. Беда прямо. Как останешься сам с собой, так сразу стопудовый камень на сердце ложится. Что ж это получается? Вроде отставку она Максиму дает?
Ноги прямо без спросу сами поворачивают к телефонной будке. Нужно позвонить в академию. Может, Людмила Васильевна, – ассистент мой, уже разведала обстановку. Но не тут-то было. В кабину забрался какой-то гражданин. Лица его из-под шляпы и очков почти не видно. Только усы торчат, как у таракана. Жду терпеливо, пока он кончит разговор…
– Или «да», или «нет»! – доносится требовательный голос из будки. – Я человек принципиальный. Что?.. Вам смешно? Не шутите! В вопросах любви надо быть только принципиальным!
Ишь ты, старый, а тоже от любви страдает. Стучу ему монетой по стеклу:
– Гражданин, уговаривайте скорее!
А он так и ощетинился:
– Вы что, товарищ военный, безобразничаете?! – кричит.
– Больше же трех минут не полагается телефон занимать, – объясняю ему.
– Вы мне не указывайте! – сердито отвечает. А потом в трубку сладеньким голоском: – Нет, это я не вам! Нет, нет, Верочка. Это я одного индивидуума к порядку призываю. Так вот. Как же мне понимать вашу позицию? Да или нет? Позвольте… Позвольте… Вы же знаете, что я люблю вас нежно… И нужно только принципиально.
Я, как конь перед скачками, топчусь на месте и сгораю от нетерпения.
– Товарищ гражданин! – и чуть приоткрываю дверь телефонной будки. – А ну, принципиально закругляйтесь. А то милиционера позову.
А он уже и внимания не обращает, как глухарь во время тока.
– Верочка… Ну, я умоляю вас, Верочка, – стонет. – Вопрос жизни и смерти. Отвечайте, а то я опаздываю. Жена послала за лекарством… Нет, нет, нет! – поперхнулся гражданин. – Не моя жена, не моя! Жена соседа. Я же холостой, Верочка! Алло!.. Алло!..
Видать, Верочка повесила трубку, и шляпа в очках с кислым видом вымелась из будки. Ишь прохвост! Тут люди один раз и на всю жизнь пожениться не могут, а он уже спешит второй раз, если не в третий…
Когда ушел из телефонной будки этот «принципиальный жених», позвонил я в сельскохозяйственную академию швейцару. Отвечает швейцар, что Людмила Васильевна ушла с товарищем Марией Козак в лекционный зал. А если я хочу, то может пригласить к телефону дедушку агронома Олешко – Мусия Платоновича. Он вернулся из планетария и дожидается своих.
– Как? Дед Мусий тоже в Москве? – даже подскочил я. – Так что ж это такое?! Целая бригада из Яблонивки в столицу прибыла, что ли?
Не буду я говорить с дедом Мусием по телефону, а прямо поеду к нему. Он-то уж мне про внука своего – Федьку Олешко – все расскажет!
Начал я уговаривать шофера заехать в академию, чтобы с дедом Мусием встретиться. Согласился. Опять шумная улица Горького. Троллейбусы один за одним спешат. И каждый с двумя удочками на крыше. Ток для мотора удят.
Подъезжаем к знакомому месту – к академии. Захожу в дом и сразу натыкаюсь на деда Мусия. Стоит он рядом со швейцаром, важно поглаживает бороду, смотрит на свои юфтовые сапоги, густо смазанные дегтем, и затягивается папиросой. А швейцар что-то рассказывает деду.
– Здравия желаю, диду Мусию! – обращаюсь по-военному
– И-и-и! Максим!.. – чуть не задохнулся дед Мусий. – Максим Кондратьевич!
– Он самый, – говорю.
– Откуда? Откуда ты, хлопче, взялся?.. – вроде своим глазам не верит дед. – Что ты скажешь! И в самой Москве наших яблоничан полно!
– Выполняю задание здесь одно, диду, – объясняю ему.
Дед Мусий с любопытством осматривает меня, щупает на мне мундир и языком прищелкивает. Вижу, нравится ему моя солдатская форма. Потом хитро щурит глаза и спрашивает:
– А чего ж не интересуешься, как я сюда попал?
– Знаю, – отвечаю ему. – Федя взял вас с собой на Москву поглядеть.
– Верно! – удивляется дед. – Все он знает! Вот что значит военный человек!
Беру я Мусия за рукав и отвожу в сторону.
– Так, значит, жените вашего Федю? – спрашиваю.
– И об этом знаешь?! – еще больше удивился дед. – Ты, Максим, прямо живая разведка. Верно говоришь, повезем мы отсюда Федю женатым человеком. Славной невесткой бог наградил.
Оборвалось у меня все внутри. Холодок в груди пробежал, в ушах колокольчики запели.
– Хватит, диду, – с трудом выговариваю. – У меня вопросов больше нет… Нет у меня вопросов…
– А чего ты такой невеселый? – всполошился Мусий. – Вроде гроши потерял…
– Да… потерял… – отвечаю.
– Много?!
– Не пытайте меня, диду!.. Ничего не спрашивайте… – и беру себя в руки. – Вы не видели здесь моего ассистента – дивчину, такую чернявую?
– Это та, наверно, которая расспрашивала меня про Федю да про Марусю? В зал ее пропустили, на лекцию, – отвечает Мусий.
– Тогда я поехал, – говорю. – Не могу времени терять. Да, скажите этой самой дивчине, ассистенту моему, пусть она тоже больше времени здесь зря не тратит. Все ясно.
Но тут как привязался ко мне дед Мусий: куда и зачем я спешу. А когда узнал – еще больше прилип, как репей: возьми с собой, и точка. Хочу, говорит, на живого артиста московского поглядеть, и еще очень заинтересовала его та машина, которая голос записывает.
Ну пришлось взять. Мне теперь все равно. Выполню задание и вернусь в часть. Нет больше для меня Маруси. И писем ее больше нет. Но не хочется верить… Не могу верить! Не может того быть, чтоб разлюбила меня Маруся! Пока сама не скажет, никому не поверю…
Приехали мы с дедом Мусием к заслуженной артистке республики Вере Васильковой. Встречает нас ее соседка и показывает, в какую дверь надо идти.
Стучимся и заходим. Небольшая комната. Вижу, сидит на шкафу какой-то парняга в полосатых штанах и таком же полосатом пиджаке и цепляет на крючок в потолке новенький абажур.
– Здравствуйте! – хором здороваемся.
А парняга этот даже головы к нам не поворачивает – делом занят. Но все же отвечает:
– Здравствуйте! И можете идти обратно.
– Это почему же? – насторожился я.
– Электромонтер больше не требуется.
Вздохнул я с облегчением и поясняю:
– Да не-е… Вы, товарищ, нас не за тех принимаете.
– Ой, извините! – поворачивается к нам парняга. – Я думала – из домоуправления пришли, три дня назад просила их монтера прислать. И вот сама…
«Сама?» – недоумеваю. И тут же спрашиваю:
– Скажите, а заслуженной артистки Васильковой нет дома?
– А зачем она вам?
Тут дед Мусий не вытерпел и в разговор вступил.
– По делу мы к ней, – говорит. – Я, конечно, за компанию…
– Ну, я – Василькова.
Приглядываюсь к этому парняге. Не шутит ли он? Нет, правда, Василькова. Из-под косынки волосы выбиваются… Славная дивчина… Глаза синие, а на щеках ямочки, когда улыбается.
– Тогда, – говорю, – слезайте, пожалуйста, со шкафа, – и подставляю стул, подаю руку. А когда слезла, обращаюсь к ней официально:
– Товарищ заслуженная артистка! Я из Н-ского четырежды орденоносного полка. Очень просят солдаты, чтобы вы по радио выступили. Мы сейчас и запишем вас на пленочку.
– Подожди, подожди, Максим, – прерывает меня дед Мусий и подступается ближе к артистке. – Где-то я видел вас, гражданочка…
– Диду! – дергаю я его за полу пиджака. – Да что вы, ослепли?!.
– Не перебивай старших! – отмахивается от меня дед и опять к Васильковой: – Вы, бува, не из Степанивки?
– Нет, – отвечает заслуженная артистка. – Я из Сухого Ручья. Такое село есть.
Чтоб положить конец этому недоразумению, я иду напрямик.
– Да, диду же! В кино вы ее бачили! – говорю.
– Шо ты говоришь? – Мусий даже рот раскрыл от удивления. – Правильно! А я, старый дурень, забыл.
А заслуженная артистка смеется и успокаивает его:
– Ничего, бывает.
Но это же дед Мусий! Его только бабка Параска усмирить может и то кочергой!
– Помнится мне, – морщит он лоб и обращается к Васильковой, – что в одной картине вы выходили замуж за шофера. Плечистый такой хлопец!
– Да, – подтверждает артистка.
– Ага, было, значит? – и такой у деда ехидненький смешок, что мне не по себе. – А как же понимать, – спрашивает он, – в другом фильме вы вторично замуж выходили!
– Совпадение, – смеется Василькова.
– Диду!.. – не выдержал я. Чувствую, что схвачу его сейчас за плечи и на лестницу вытолкну. Что же он и меня и себя позорит перед артисткой заслуженной?
А дед в ответ как гаркнет:
– Молчи! – И опять к Васильковой: – Куда ж ваши батьки смотрят? И как вам разводы дают?
Вижу, Василькова смутилась, с недоумением смотрит на Мусия. Потом говорит ему:
– Если вы, дедусю, шутите, то это действительно смешна. Но мне кажется…
– Диду Мусию! – спешу я на помощь заслуженной артистке. – Да шо вы балакаете?! Если так судить, то в кинофильме «Чук и Гек», в котором товарищ, Василькова играла…
А Мусий опять как топнет ногой:
– Молчи! А то як гекну, так этот чук из твоего носа выскочит! Я про то и балакаю, – говорит, – что в «Чуке с Геком» там уже не шофер и не бригадир у нее был. Там уж третий…
Схватился я тут за голову и чуть не плачу от досады.
– Диду! – кричу. – Вы же мне номер срываете!.. – И обращаюсь к Васильковой: – Извините его, товарищ заслуженная артистка! Он что в кино видит – за чистую правду принимает!
– А ты хочешь сказать, что там брехня? – поймал меня на слове дед. – Да за такие слова!..
На выручку мне поспешила товарищ Василькова. Начала она объяснять деду Мусию, что и к чему. А он смеется. Наверное, и сам, старый, понимает все…
– Ну, а раз такая история, – похохатывает дед,: – то звиняйте, товарищ артистка. Значит, ни в том, ни в другом, ни в третьем месте вы не выходили замуж?
– Ни в четвертом, – смеется Василькова.
– Вы не замужем? – заинтересовался я.
– А что? – сверкнула ямочками на щеках артистка.
– Да так, ничего, – замялся я. – Может, начнем магнитофон настраивать?..
Взяла заслуженная артистка гитару и такую песню про ожидание спела, что у меня сердце зашлось! Сами понимаете, почему…
Ушел я от нее совсем скисшим. А когда сели в машину, чтоб к народному артисту республики Кривцову ехать, напустился я на деда Мусия.
– Ну, як вы могли так? – говорю ему. – Это же заслуженная артистка, ее миллионы людей знают! А вы «куда ваши батьки смотрят, как вам разводы дают»?! Что за шутки? Я чуть сам из себя не выскочил!
Но дед тут же перешел в контратаку:
– А шо ты за указчик такой?! – сердито спрашивает. – А як заслуженная, так шо? Пошутить нельзя? Я вчера, может, с самим академиком беседовал! Федьке и Марусе и рта раскрыть не дал, сам об их опыте все рассказал. И про семена и про гречиху…
– Да язык без костей, – машу рукой. – Говорить можно.
– Гляди, який ты разумный! – щурит глаза Мусий. – Да если хочешь знать, меня этот самый академик в помощники к себе приглашал! Сказал, шо, если я ему подмогну, мы такие дела сотворим – ахнешь!
– И вы не согласились? – смеюсь.
Я ще покумекаю, – отвечает. – Вот с артистом посоветуюсь, к которому мы едем.
Ну, беда! – думаю я. – Ох, любит прихвастнуть дед! Если и с товарищем Кривцовым он затеет разговор, я ж ничего сегодня не успею сделать. Надо как-то отделываться от него. И тут как раз дед Мусий заметил кнопки на радиоприемнике, вмонтированном в приборный щит автомобиля. Заерзал он от любопытства на месте и спрашивает у шофера:
– Скажите, будь ласка, зачем вот те пальчики торчат? И огоньки поблескивают?
– Это, дедушка… – начал шофер.
Но тут я его толкнул под бок, незаметно моргнул глазом и попросил:
– Позвольте, я объясню.
И начал.
– Это, диду, – говорю, – такой хитрый прибор, – и опять толкаю шофера под бок, – это такой прибор, который называется брехоуловителем. Стоит вам что-нибудь сбрехать и…
– И что?.. – испуганно вскинулся Мусий.
– Засечет он брехню и начнет облучать.
– Как облучать?
– Очень просто, – отвечаю. – Через полчаса, как кто-нибудь скажет неправду, брехоуловитель направляет специальные лучи, и вся одежда брехуна превращается в пыль. И остается он в чем мать родила.
Дед Мусий даже с места своего сорвался.
– Голый? – спрашивает. – Да такого аппарата еще не придумали!
– Как не придумали? – возмущаюсь я. – Вот он, перед вами. Раз придумали телевизор, рентгеновский аппарат, придумали прибор, через который в самую темную ночь все кругом видно, почему же не могли брехоуловитель придумать?
Притих дед Мусий, точно мышь в норке. Сидит, сопит, соображает. Потом спрашивает:
– Э… э… А скажи… скажи, зачем он тут нужен, в автомобиле?
Я пожал плечами.
– Неужели не ясно? Собьет машина человека на пешеходной дорожке, а шофер отказывается. Вот тут-то брехоуловитель и сработает.
Опять молчит дед, думает. Потом снова подает голос, – немощный такой:
– Через полчаса, кажешь, одежда в пыль рассыплется?
– Эге, – подтверждаю. – Если в машине оставаться
– Да-а… – вздыхает Мусий. – До чего только не додумаются люди… Максим, я тут, когда про академика говорил, немного того… Чуть-чуть. И даже не чуть-чуть… А скажи, если потом правду сказать, он назад сработает?
– Нет, – категорически заявляю. – Вот до этого еще не додумались.
Дед Мусий вдруг забеспокоился:
– Товарищ… товарищ шофер, остановите, будь ласка, машину.
– Зачем? – страшно удивляюсь я.
– Пойду я лучше по магазинам похожу. Хочу купить бабке Параске платок. Чего мне с тобой ездить?
– Как хотите, – вздыхаю, вроде мне очень жаль с дедом расставаться. – Остановите машину, товарищ шофер.
Проворненько выскочил дед Мусий из машины, потом говорит мне:
– Заходи, Максим, вечером к нам в гостиницу. Сердце мое так и стиснулось от этих слов. Прийти в гостиницу? Прийти посмотреть на Федино счастье? Пожалуй, стоит. Хочу от Маруси слово услышать и в глаза ее поглядеть.
– Хорошо, диду, приду.
– Только стерегись, – предупреждает меня Мусий, – чтоб этот радиоприемник не облучил тебя. Больно много ты набрехал сегодня, – и хохочет, старый.
Что ты скажешь! Не удалось деда обхитрить. Ох и дед….
Подался я искать квартиру народного артиста Кривцова Алексея Филипповича. Еле проталкивается вперед наша «победа» среди машин. Вот, наконец, и дом, в котором народный артист проживает.
Поднимаюсь лифтом на тот самый этаж. И вдруг замечаю: на двери квартиры товарища Кривцова висит табличка: «В квартире корь».
Не думаю, чтобы сам народный артист заболел, но факт остается фактом. Потоптался я на лестничной площадке и все же поднял руку к звонку.
Приоткрывается чуть-чуть дверь; вижу – женщина. Объясняю все по порядку и извиняюсь, что по случаю кори не могу зайти. Прошу ее взять магнитофон и сделать все, что нужно. Ушла спрашивать народного артиста. Согласился. Унесла мою машину и закрыла дверь. Я тем временем на ступеньку присел. Отдыхаю и сам про себя смеюсь: заболеет, думаю, мой магнитофон корью…
А тут, слышу, топает кто-то сверху по лестнице. Оглядываюсь. Идет старушка лет под сто и ведет на цепочке крохотную собачонку. Цуценя настоящее. На голове у старушки шляпа с пером, на руках – черные перчатки. Я чуть подвигаюсь к стенке – боюсь, как бы это цуценя не цапнуло меня зубами. А то махнешь рукой, убьешь нечаянно, потом отвечай.
Собачка заметила меня и залилась лаем. Так и рвется с цепочки. А старушка уговаривает ее.
– Мэри, перестаньте! Прекратите, Мэри, прошу вас.
Ишь ты! На «вы» к цуценяти…
– Вот так, – и старушка нагнулась, чтоб погладить утихшую собаку. – Умница. Не бойтесь, молодой человек, она у меня послушная.
– А я и не боюсь, – отвечаю.
Поровнявшись со мной, старушка остановилась.
– О чем это вы задумались, молодой человек? – кокетливо спрашивает.
– Да так… о разном, – вздыхаю я.
– О! Понимаю, – бабка многозначительно подняла вверх палец. – И грусть на вашем лице понятна. О любви, стало быть, размышляете, сударь.
– А что, разве на лестнице об этом думать нельзя?
– Везде можно. И нужно!.. – отвечает старушка. – На свете нет более святого чувства, чем любовь. Разумеется, настоящая любовь. И это чувство великое не часто посещает человека. И если вы поверили, что вас полюбили всем сердцем, не торопитесь отвергать любовь, если даже ваше сердце не откликнулось на нее.
– А если, скажем, к примеру… – перебиваю ее.
– Выслушайте меня, молодой человек! – сердится старушка. – Так вот… Бережно, очень бережно отнеситесь к этой несравненной драгоценности. Ибо поистине, нет таких драгоценностей, которые могли бы сравниться с любовью.
Безрассудство бросать бриллианты в воду, чтобы насладиться бульканьем воды. Тем более великое безрассудство легкомысленно относиться к любви. Любовь – самое высокое проявление жизнедеятельности человека… Запомните это, молодой человек. Прощайте, – и потопала вниз, вслед за своей Мэри.
– Да-а, разумна жинка. Видать, собаку съела в вопросах любви…
Наконец, выносят мне мою машину. А тут как раз лифт остановился. Вышел из него какой то человек в шляпе, и я занял его место. Нажимаю кнопку, которая вниз везет. Нырнул вниз, проехал этаж, второй, и вдруг лифт застрял прямо между этажами, и ни туда ни сюда.
– Эгей! – кричу и на кнопку звонка нажимаю. – Кто там внизу есть! Застрял!
– А? – доносится снизу женский голос. Это – лифтерша. – Нажмите по очереди все кнопки!
– Да я нажимал! Ничего не помогает!
– Вот окаянная машина! – начинает ругаться лифтерша. – Опять испортилась… Посидите, механика позову.
– А долго сидеть? – интересуюсь.
– Нет. Часика полтора, – отвечает она таким тоном, вроде разговор идет о двух минутах. – Домоуправ его услал куда-то.
Тут я вскипел.
– Слухайте! – кричу. – Мне не до шуток! Выпускайте скорее!
– А что же я сделаю? – сердится лифтерша. – Машина она и есть машина! Захочет – везет, не захочет– стоит.
Вот попался! И ничего не придумаешь. Ну, как тигр, сижу в клетке. Да еще клетка висит между небом и землей… Решил не терять времени. Нужно пока прослушать, что тут наспевал в магнитофон товарищ Кривцов. Осматриваюсь. Но розетки нигде не видно. А-а… Солдатская смекалка выручит. Прилаживаю штепсель к патрону электролампы и включаю магнитофон.
И такая, скажу вам, полилась песня, что я позабыл обо всем на свете. Ох, и голос у народного артиста! Прямо дивизией командовать можно. Слушаешь и вроде себя не чувствуешь. Нет тебя. Есть только песня и сердце твое.
Но тут мой слух уловил какую-то возню внизу. Чуть-чуть поворачиваю рычажок, приглушаю песню и слышу, что лифтерша курицей кудахчет.
– Ой ты, горе мое! – голосит. – Алексей Филиппович в лифте застрял, – и кого-то быстро за механиком посылает.
Я опять песню погромче даю. Вскоре прилетел механик. Лифтерша лопочет ему что-то, а он отговаривается:
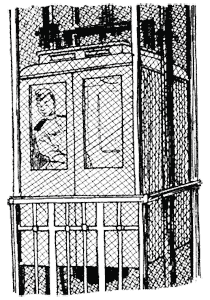
– Я же выходной сегодня. Костюм новый вымажу.
– Сердится очень Алексей Филиппович, – убеждает его лифтерша. – Ругался уже.
– Ругался?.. Ох, и попадет мне! Давайте ключ!.
Взялся-таки механик лифт ремонтировать. Здорово действует товарищ Кривцов.
И только песня утихла, докладывает механик:
– Ф-фу! Готово! Вызывайте лифт
– Вызываю, Алексей Филиппович!.. – добрым голоском кричит лифтерша.
И вот я уже внизу, щелкаю дверью. Мне навстречу кидается механик – долговязый мужчина в новом сером костюме, на котором виднеются свежие масляные пятна.
– Пожалуйста, Алексей Филиппович, – приглашает выходить. – Извините, что задержал вас. И за песню спасибо. Давайте ваш чемоданчик.
– Какой чемоданчик? – строго спрашиваю. – Во первых, я не Алексей Филиппович, а Максим Кондратьевич, и во-вторых, лифт надо в порядке содержать!
– Батюшки! Военный! – ахнула лифтерша. – А где же Алексей Филиппович?
– Как… Это вы пели? – спрашивает механик и смотрит на меня глазами, круглыми, как головки подсолнухов.
– А что? Плохо? – смеюсь я.
И тут заныл механик.
– Ой!.. Костюм!.. Новый костюм из-за вас испортил!
– Так зато какую песню послушали, – успокаиваю его.
А лифтерша все удивляется:
– Батюшки!.. – и хлопает руками об полы. – Голос точь-в-точь как у Алексея Филипповича.
– Безобразие! – перебивает ее механик. – Людей от работы отрывают! Меня там люди… Сегодня я не дежурю!
– Ничего, ничего, а костюмчик бензинчиком, – и, захватив магнитофон, прощаюсь. – До свиданья!
Открываю выходную дверь и ради шутки пробую затянуть песню, какую народный артист пел. Слышу, шутка в точку попала. Лифтерша еще сильнее закудахтала вслед мне.
– Батюшки! – лопочет она. – Семьдесят годков живу, а такого не видывала. Вот это артист! Как голоса умеет менять!
Большое удовольствие доставила мне история с лифтом.
Выхожу на улицу и оглядываюсь по сторонам. Вот и телефонная будка. Набираю номер. Отвечает швейцар. Спрашиваю у него про своего ассистента. Говорит, что уже никого нет. Видел он, что появился с большим букетом цветов агроном товарищ Олешко и увел с собой Марию Козак и Людмилу Васильевну.
Куда же они с цветами? Может, в загс?.. Так, дело ясное… Крепись, Максим! Ничто не помешает тебе выполнить задание!
…Приехали, наконец, мы на радио. Прощаюсь я с шофером и захожу в вестибюль. Останавливаюсь у будочки: там сидит гражданочка и пропуска выписывает. Говорю ей:
– Перепелице – пропуск.
– Сейчас посмотрим… Так… Олешко уже прошел… Товарищ Козак Мария прошла.
Прямо подпрыгнул я на месте:
– Маруся Козак и агроном Олешко здесь?!
– А чего вы удивляетесь? – отвечает мне гражданочка. – У нас разные люди бывают. Вот и их, видать, пригласили по радио выступить…
Взбежал я на второй этаж… Надо вначале найти Марусю и Федора. Подхожу к первой двери.
И вдруг слышу:
– Ой!.. Ой!.. помогите!.. На помощь! На помощь! Мавр госпожу убил… На помощь! Сюда, сюда…
– Что это? Кого убили? Эй! – начинаю стучать в дверь, откуда крик доносится. – Откройте! Откроите, говорю! Откройте!
Вдруг распахивается дверь и оттуда вылетает черноокая дивчина – недовольная и даже, я бы сказал, сердитая.
– В чем дело?! – набрасывается она на меня. – Что случилось? Что вам надо? Почему стучите? – миллион вопросов в секунду.
– Что это у вас там? – опешил я. – Почему кричат?
– Ничего особенного. «Отелло» режут.
– Что? – У меня глаза на лоб полезли.
– Кто вы такой? – строго допрашивает дивчина.
– Кого режут, спрашиваю?! – отмахиваюсь я от ее вопроса.
Тут дивчина вдруг так расхохоталась, что мне неловко стало.
– Я же говорю: «Отелло» режут! – объясняет: – Ну, пленку режут! Монтируем шекспировскую передачу!
– Фу!.. А я напугался. Думал, убийство.
Дивчина же все хохочет:
– Ой, смешной какой!.. А кто вы такой?
Объясняю ей, кто я и зачем здесь. А она, не дослушав до конца, берет меня за руку, поворачивает в сторону коридора и говорит, как горохом сыплет:
– Вон дверь в самом конце. Там надпись есть. И не врывайтесь в аппаратные, кто бы там ни кричал!..
Пошел я по коридору. А за каждой дверью… Наверное, тоже передачи готовят. То песня гремит, то визжит Буратино, то про футбол рассказывают, то раздаются команды для утренней гимнастики, то детский хор «Угадайку» поет.
Ну и коридор! Гауптвахту бы сюда переселить. Лучшего наказания не придумаешь.
И вот я остановился перед дверью. Но над ней огнем горит надпись: «Не входить. Идет запись». Открываю соседнюю дверь. А это не комната, а небольшая полутемная кабина. Спиной ко мне сидит за столиком женщина и какие-то рычажки руками трогает. Столик упирается в стеклянную стенку. Глянул я сквозь эту стенку, за которой – огромная светлая комната, и обомлел, Маруся… Да-да, Маруся. На стуле сидит Федор Олешко, а Маруся подходит к нему и садится рядом.
Среди комнаты на длинной ножке стоит микрофон. А у микрофона какой-то парень с листом бумаги в руках.
И вдруг, вижу, этот парень что-то говорит в микрофон, а в кабине, где я стою, гремят из репродуктора его слова:
– Вы слушали выступление передовиков сельского хозяйства агронома Федора Олешко и колхозницы Марии Козак. Ваши отзывы о передаче…
Диктор еще что-то говорит, а я трогаю за плечо женщину.
– Позовите, пожалуйста, вон ту дивчину, Марусю Козак.
– Сейчас нельзя, – отвечает она. – Запись передачи еще не закончена. Посидите в комнате напротив; как товарищ Козак освободится – я пришлю ее к вам.
Словом, состоялась встреча с Марусей… Да и с Федором. Первым делом Федор на свадьбу меня пригласил. А чего удивляться? Женится хлопец! Женится на девушке-москвичке, с которой вместе академию кончал. И увозит ее в нашу Яблонивку.
Допросил я Марусю и насчет того, что в академии случилось. Почему, мол, она не вышла тогда и зачем десять рублей передала? Об этом можно и не говорить. Конечно, мало ли что бывает? Впрочем, скажу.
Оказывается, та женщина в очках сказала Марусе, что ее милиционер спрашивает. А Маруся как раз улицу перебегала в неположенном месте, в лекторий спешила, где ее студенты ждали. Вот и решила, что за штрафом милиционер пришел… Что значит человек из деревни. Не знает даже, что сейчас за это уже не штрафуют.
Итак, встретился я с Марусей… Ну и, конечно, задание выполнил. В воскресенье вечером состоялся радиоконцерт по заявкам воинов нашего полка.
Хороший концерт! Еще бы! Ведь это я, Максим Перепелица, принимал участие в его подготовке.
ЗАКОН БОЯ
Проснулись мы перед самым восходом солнца. И не в казарме, а в березовой роще, где заночевала наша рота после большого марша. А солдатская постель в походе известно какая – под голову вещмешок, на себя и под себя – шинель. Вроде только-только устроился я на земле под кустом орешника между земляком и другом моим младшим сержантом Левадой и Али Таскировым, как горнист заиграл «Подъем». Вскочил я на ноги, разминаю их, потягиваюсь, шинель снимаю, чтобы умыться. Свежевато. А вокруг красота какая! Воздух чист и прозрачен, даже звенит. Ни одна ветка на деревьях не шелохнется. На что березы говорливы по своей натуре, но и те стоят, как воды в рот понабрали.
Говорю Степану Леваде:
– Нет лучше времени, чем утро. Смотри, как хорошо. Каждая росинка тебе в глаза заглядывает. Все вокруг вроде заново родилось. Вон сколько сил у меня сейчас, не то что вчера вечером, после похода, – и показываю товарищам на свои мускулы.
Али Таскиров даже подошел и пощупал их.
– Уй-бай! – говорит. – Хорошо, Максим, силы много имеешь. Давай бороться будем, вместо физзарядки.
Но Максим Перепелица себе цену знает. Сил у меня много, на турнике любое упражнение кручу, двухпудовую гирю двенадцать раз подряд выжимаю,
но бороться с Таскировым – не-е… Враз на обе лопатки положит. Ведь силища-то у него какая! Не зря до службы в армии Али табунщиком был.
Несподручно Перепелице мериться силами с Таскировым. Только оконфузишься.
Отвечаю я на его предложение:
– Не хочется мне бороться, боюсь тебе шею ненароком свернуть. А вот давай попробуем, кто быстрее на березку залезет.
А березы вокруг высокие, стройные. Верхушки их уже солнце увидели, огнем загорелись.
Не знаю, чем бы спор закончился, но тут подошел наш командир взвода, лейтенант Фомин. Утирается он полотенцем, умылся только, и говорит:
– Ловок, Перепелица! Если силой нельзя, так хитростью верх хочет одержать. Она вещь полезная. Посмотрим, как вы ее сегодня на учениях проявлять будете.
– Обхитрим, кого хотите, – отвечаю ему.
– Леваду не обхитрите, – усмехается лейтенант, – он же из вашего села, из Яблонивки!
Думаю, как бы лучше ответить лейтенанту Фомину.
– Дело тут не в Ябленивке. Левада ведь тоже в вашем взводе служит, поэтому и обхитрить его трудно, – и смеюсь. Все солдаты тоже смеются. Каждому известно, что лейтенант Фомин всегда учит нас военной смекалке. Опытный он воин, не зря два ордена имеет. В его биографии столько боевых дел числится, что на весь наш взвод хватило бы. Говорят, в боях под Яссами Фомин, служивший тогда рядовым разведчиком, так обманул фашистов, что диву дашься. Сумел целехонького немецкого «тигра» привести в расположение части…
Боевой у нас командир.
Понял лейтенант, на что я намекаю, засмеялся и тут же прикрикнул:
– А ну-ка быстрее поворачиваться! Кухня давно дожидается.
Всем отделением побежали мы к ручью умываться. Умываюсь я и все думаю о словах лейтенанта.
Да, на войне нужна хитрость.
Это я узнал давно – еще когда хлопчиком у яблонивской школы играл с товарищами в «красных» и «белых», в «лапту». Бывало, мчишься на вороном коне из ясеневой ветки и представляешь, что ты Чапаев или Пархоменко, Щорс или Котовский, что рубишь врага саблей и военной сметкой. Ведь каждый в нашем селе читал книги про этих героев, ходил в клуб смотреть кинокартины.
А еще больше понял, что за штука военная хитрость, из книг, из рассказов, из кинофильмов о Великой Отечественной войне.
Каких только случаев не бывает в бою!..
Но то же бой, война. А как провести неприятеля, если он лишь на занятиях называется «противником», а так – шагает с тобой в одном строю, из одного котла ест и, главное, одну с тобой военную науку постигает?
И, представьте себе, обхитрить можно! Можно потому, что нет границ находчивости. Кто-нибудь да сумеет шире раскинуть свои мысли, глубже оценить обстановку, лучше использовать обстоятельства. К тому же военная хитрость – это закон боя. Не будешь придерживаться этого закона – задание командира не выполнишь. А где же найдешь у нас такого солдата, чтобы он не стремился как можно лучше приказ командира выполнить?
В березовой роще мы долго не задерживались. После завтрака наш взвод, назначенный в головную походную заставу, первым вышел на дорогу. Скорой встречи с «противником» не предвиделось, – он где-то по ту сторону реки. А раз «противник» далеко, то к реке можно приближаться смело. Вот почему и удивились мы, когда через несколько часов марша дозорные головного дозора вдруг подали сигнал, что на высоте «Тыква» замечены солдаты. Откуда они могли там взяться?!
Командир нашего взвода лейтенант Фомин – тут как тут. Выдвинулся в головной дозор, залег и из канавы в бинокль смотрит, решение принимает.
Видит, что дозорные не ошиблись. «Тыква» и вправду окопами утыкана, и в окопах виднеются головы солдат. Кое-где, полусогнувшись, еще продолжают рыть землю. Значит, не ожидают нашего появления. Но что за наваждение? Откуда «противник»? Ведь он должен быть, по данным разведки, далеко за рекой.
Хмурится наш лейтенант. Да и как тут не задумаешься? «Противник» перед нами бывалый. Командует им лейтенант Курганов – офицер не менее опытный, чем наш командир взвода.
Времени терять нельзя. Пока не ожидает он нас, нужно бить по «Тыкве» с ходу, – такое решение принял лейтенант Фомин, хотя наверняка опасался каверзы со стороны Курганова.
Передает лейтенант Фомин приказание – всем отделениям скрытно сосредоточиться в лощине, по дну которой течет Сухой ручей.
Ручей этот высоту «Тыква» огибает, и более удобного подхода к «противнику» не найдешь.
Втянулись наши отделения в лощину, а на дороге как никого и не бывало. Только ветер поднимает пыль, вихрит ее и несет в сторону «противника».
Подобрались мы незаметно поближе к этой «Тыкве», выдвинули на фланги все свои огневые средства и так стремительно атаковали, смотреть любо! Солдаты нашего отделения кричали «ура» до колик в животе. А когда ворвались мы на высоту, сразу же онемели. «Тыква» пуста. Ни одной живой души. Правда, окопов много – свежевырытые. Па брустверах укреплены фигуры касок, вырезанные из фанеры, картона или сплетены из лозы. Прямо застонали мы от досады. На одном бруствере я увидел… даже говорить стыдно – высохший коровий кизяк. И его заставили служить для обмана. Дует ветер со стороны дороги, и все эти фигуры шевелятся, наклоняются, маячат. А «противник», устроив всю эту пакость, отошел, как только мы в атаку поднялись.
Вот какой конфуз случился. Свои же ребята, – палатки наши по соседству расположены, – а так бессердечно провели. Спускаемся мы с этой проклятой «Тыквы» в лощину и друг другу в глаза посмотреть не можем. Дали одурачить себя. А что впереди ожидает, наверное одному командиру полка известно. Но если «противник» заставил нас развернуться на «Тыкве» и показать свои силы, значит он окопался где-то недалеко.
Так и оказалось. Разведка донесла, что на этом берегу речки «противник» занял небольшой плацдарм на плоских высотках, а в его тылу саперное подразделение спешно наводит через речку понтонный мост. Знать, серьезные бои предстоят за этот плацдарм.
Лейтенант Фомин хмурый, как ночь. Ведь придется атаковать «противника» второй раз. А это уже не та музыка: внезапности не достигнешь, стремительного удара не нанесешь.
Очень еще тот понтонный мост беспокоил нашего командира взвода. Если на захваченный «противником» плацдарм подоспеют новые его силы, выиграть бой будет нелегко.
Медлить нельзя, нужно действовать. Воспользовались мы тем, что ветер дул в сторону реки, и зажгли на широком фронте дымовые шашки. Через несколько минут перед нами выросла чуть желтоватая стена дыма. И только поднялась она над полем и поползла к плоским высоткам, как цепочки отделений, пригнувшись, побежали вправо. Задумал командир стянуть на правый край дымовой завесы все подразделение и оттуда через некоторое время, опять же прикрываясь дымом, бросить все силы на правый фланг «противника».
А наше отделение получило особую задачу. Командир взвода приказал младшему сержанту Степану Леваде слева обогнуть плоские высотки и выйти к реке у села Кувшиново. На лодке переплыть на другой берег, по берегу подобраться к понтонному мосту «противника» и уничтожить его. В крайнем случае, огнем задержать переброску на плацдарм новых сил «неприятеля», если они появятся.
Передал нам Левада слово в слово приказ лейтенанта, а от себя только добавил:
– Обстановку выясним на месте. За мной!
Побежали мы влево вдоль дымовой завесы, уползавшей к плоским высоткам. Нелегким был тот бросок. Ведь, кроме оружия и снаряжения, имели мы при себе взрывпакеты, бикфордов шнур, дымовые шашки и прочие принадлежности.
…Добрались до Кувшинова, переправились на другой берег и по кустарнику, разбросанному вдоль реки, стали подбираться к понтонному мосту «противника». Подобрались, насколько можно было, и рассматриваем из зарослей, как на воде покачиваются резиновые понтоны, на которых настил лежит. По мосту два сапера прохаживаются, а на этом и противоположном берегу, у моста, уже окопы вырыты, солдаты мост охраняют.
Стало нам ясно, что к понтонам не подобраться. Думаю я себе: «Был бы перед нами подлинный противник, соорудили бы плот, облили бы его бензином, зажгли, и пусть плывет к мосту. А вокруг плота еще бы нефти с бочку на воду разлить – пусть и она горит. В момент сожрал бы огонь мост!..»
И тут другая думка: «А нельзя ли так сделать, чтобы взрывчатка сама подплыла к понтонам?»
Обрадовался я этой мысли. Сразу и план созрел у меня в голове. Говорю Степану Леваде:
– Разрешите, товарищ младший сержант, лодку из села к изгибу речки пригнать. Наложим туда взрывпакетов, я на дно ее лягу и поплыву по течению. А как лодка причалит к мосту, зажгу взрывпакеты.
Поглядел мне Левада в глаза и отвечает:
– Идея правильная. Только лодка в этом деле не годится. На мосту догадаются и выловят ее прежде, чем она к понтонам подплывет. Давай еще подумаем.
И стали думать, уточнять мой план. Отползли немного назад – за изгиб реки. Отсюда до моста метров двести пятьдесят. Нашли в кустах сухую корягу и столкнули ее в воду, чтобы проследить, как долго она будет плыть к мосту и не прибьет ли ее к берегу.
Коряга медленно выбралась на середину реки и важно последовала прямо к понтонам. Саперы, дежурившие там, заметили корягу, подцепили ее с моста багром и вытащили из воды на отмель.
Тут Левада отдал приказ:
– Перепелице и Ежикову – бегом в Кувшиново. Видели, когда реку переплывали, бондарную мастерскую на берегу? Бочки там в воде отмачивали. Одолжите в мастерской одну деревянную бочку, желательно негодную или с подпиленным верхним дном. Через пятнадцать минут быть здесь.
Поняли мы замысел командира. Сняли с себя лишний груз и что есть духу побежали в деревню. Бочку нам дали без лишних разговоров. Колхозники понимают, что раз солдатам нужно, значит для дела.
Катили мы эту бочку по траве, а где на руках несли, чтобы не гремела, и через двенадцать минут уже были в знакомом кустарнике.
Отделение сразу же взялось за дело. Вынули мы верхнее дно бочки, которое держалось, как говорят, на честном слове, и насыпали в нее ведра четыре песку – взамен взрывчатки. Потом далеко за изгибом пустили бочку по течению реки. Левада глядел на часы и подсчитывал, сколько метров проплывет бочка за одну минуту.
Подсчитал и приказал Таскирову выловить ее и немного отсыпать песку. А сам лопаткой начал отмеривать бикфордов шнур. Это не трудно было сделать, раз известно, сколько времени будет плыть наш «гостинец» от изгиба реки до понтонов.
Затем в бочку втиснули пять взрывпакетов, ловко, точно рукой хирурга, присоединенных к бикфордову шнуру, а потом – и сам шнур.
Работа шла быстро, бесшумно, под прикрытием залегших на краю кустарника у изгиба реки стрелков, автоматчиков и пулеметчика.
Все готово. Бочку, начиненную песком и взрывпакетами, закрыли и осторожно перенесли к тому месту, где заняли позицию основные силы отделения. Здесь младший сержант Левада зажег торчавший из щелки конец бикфордова шнура и втолкнул его внутрь. Потом столкнул бочку в воду…
Лежу я на краю кустарника и смотрю, как уплывает наша хитрая «мина». И уже мне боязно, а вдруг бочка взорвется, не доплыв до моста? Руки точно вросли в автомат, тело как струна напряглось; кажется, тронь его, и зазвенит.
Оглядываюсь на товарищей. И такие у всех окаменелые лица, прямо смех! Вроде извержения вулкана ожидают. Ежиков вытаращил очи и с испугом смотрит на бочку. Таскиров Али в комок весь сжался, вроде собирается метнуть аркан на дикого скакуна.
Особенно комичная поза у Петра Володина. Вытянул он свою шею, словно дальше хочет заглянуть, вздернутый нос побледнел, каска набок сползла. Не замечает даже, что ему на щеку здоровенная муха села.
А бочка все плывет. Заметили ее с моста, забеспокоились. Два солдата спустили на воду надувную лодку. Неужели неудача? К лодке подошел еще один солдат. Слышим, говорит:
– Хозяйка небось вымачивать ее поставила, а она уплыла.
А другой отвечает:
– А дымовая завеса тоже от хозяйкиной печки? – и показывает рукой через речку.
Мы невольно посмотрели за реку и увидели, что плоские высотки окутаны дымом. Несомненно, это наше подразделение готовится к атаке и маскирует направление своего главного удара. А может, и успели подойти основные силы…
Отчалила резиновая лодка от берега и поплыла навстречу бочке.
И вдруг младший сержант Левада, сдерживая голос, командует:
– Подготовиться к атаке!
И тут же громко:
– Огонь! В атаку, за мной!
С ходу ударили мы из автоматов, карабинов и ручного пулемета по надувной лодке, а сами с криком «ура» бросились к окопам, которые вырыты по бокам у входа на мост. «Противник» не сразу понял, что произошло. Начал, конечно, сопротивляться. Но через мост прибежал посредник с белой повязкой на рукаве, завернул лодку с реки, а солдатам в окопах приказал выйти из боя, так как наша атака оказалась, по его мнению, неотразимой.
Вскочили мы в окопчики, вырытые «противником», и оружие на другой берег повернули. Оттуда уже успехи открыть огонь. Но нас не выковырнешь из земли. Стреляем по противоположному берегу и за бочкой смотрим. Вот-вот она подплывет к мосту.
Но тут еще происшествие. Один сапер, который дежурил на понтонах, вдруг бросился в воду и поплыл навстречу бочке.
Стреляем мы по нему, а он плывет. Мы на посредника глаза косим, а тот только улыбается.
– Плохо, – говорит, – стреляете!
Подплыл сапер к бочке, ухватился за ее верх и… увидел, что бочка закупорена со всех сторон. А он надеялся, хитрец, успеть выдернуть бикфордов шнур. Не вышло! Не вздумал бы только верхнее дно поднимать.
Но солдат начал толкать бочку к берегу. Тогда посредник ему крикнул: «Вы убиты!»
А мы все стреляем по окопам «противника». Пулеметчик уже второй диск холостых патронов дожигает. Наконец, бочка наша подплыла к понтонам, потерлась о резиновый бок большой надувной лодки, стукнулась о деревянный настил и как ахнет! Сработали все наши пакеты. Верхнее дно бочки подпрыгнуло – и в воду. А в небо – туча дыма и песку.
После взрыва из-за реки донеслось протяжное «ура!». Это наши перешли в атаку.
И в самый раз. Увидели мы, что к понтонному мосту, который считается взорванным, приближается колонна пехоты «противника». Даже пыль столбом, так спешит она. Но какой толк? На тот берег ей теперь не попасть, к атаке не успеть.
А нам как быть? Ясное дело – отходить вдоль берега. Ведь свою задачу выполнили, обхитрили – победили.
ТРЕТЬЯ ВСТРЕЧА
Первый раз встретился я с ним при таких обстоятельствах…
Заканчивалась лагерная учеба. В поле уже было скучно. Убраны хлеба, местами поднята зябь, сиротливо мокло под дождем жнивье. А у солдат продолжалась страдная пора: учения, походы, стрельбы.
Наша рота заночевала в долине Сухого ручья. Я спал, как и все, на земле, одетый в шинель, подняв воротник, а кисти рук спрятал в рукава. Подушкой служил вещмешок.
Казалось, не успел я как следует улечься, а чья-то рука уже тормошит меня.
– Перепелица, твоя очередь заступать на пост, – узнал я голос Али Таскирова.
Вскочил я на ноги, поежился. Затянул потуже ремень, расправил под ним складки шинели и взял лежавший у козел свой автомат.
Рассветало.
Осматриваюсь. Справа по лощине темнеет лес. В той стороне где-то полевой караул от нашей роты. Чего доброго, из леса «противник» может нагрянуть. Слева лощина раздваивается. Один конец ее загибает на север, другой – пологий – переходит в широкую равнину, убегающую в серую муть.
Я обратил внимание на то, что серое небо перед восходом солнца предвещает добрую погоду. От этого даже настроение поднялось.
Хожу, караулю спящих товарищей и их оружие. По ту сторону козел с оружием бродят часовые из соседних взводов. Вдалеке, на равнине, покрытой стерней, замечаю всадника. И куда несет человека в такую рань, да еще не по дороге? Провожаю его взглядом, пока он не скрывается из виду за скатом долины.
Время от времени поглядываю на ручные часы. А часы, когда на посту стоишь да зябнешь, не торопятся. Но как бы ни ленились часы, а время идет. Вижу, стрелка к четырем тридцати подкралась. Сигналист играет подъем.
Миг, и солдаты на ногах.
С подъемом моя служба на посту закончилась.
В походе распорядок известный. Первым делом умыться, затем крепко позавтракать, попить чаю.
Мы с младшим сержантом Левадой из одного котелка едим…
Хорошо завтракать и смотреть, как выплывает из-за серой каймы горизонта слепящее солнце. Красивый восход. Застывшие на небе тучи огнем вспыхивают. А стерня точно битым стеклом усеяна: это роса на ней загорается серебряными искрами. Серебрятся также капельки влаги на нитках паутины «бабьего лета», которой стерня опутана.
Сидим мы со Степаном Левадой, уминаем кашу с мясом и глаз не отрываем от всей этой красоты. Не заметили даже, как ложки о дно котелка заскребли.
После каши – сладкий чай с сухарями. А потом – самое неинтересное – котелки чистить.
Иду вдоль Сухого ручья, выбираю, где песок получше, чтобы в минуту посуду свою надраить. Нашел такое место – тут же за изгибом оврага. Присел, «Путь далек…» насвистываю и чищу алюминий. Вдруг слышу, гупнуло что-то о землю, точно конь ногой. Оглядываюсь… Действительно, из-за недалекого куста виден круп рыжей лошади.
– Кто там? – спрашиваю.
– Свои! – отвечает хрипловатый голос, а потом к лошади: – Ну, пошла, чтоб тебе! Поела листьев, и хватит.
Вижу, всадник, наверное тот, которого я на рассвете заметил. Подъезжает ко мне.
– Чи не видели вы случайно моей коровы? – спрашивает. – Вчера вечером, окаянная, отбилась от стада и как сквозь землю провалилась!
– Не видел, – отвечаю и разглядываю всадника. Передо мной человек лет тридцати пяти, широкий в плечах и животик выпирает из-под туго подпоясанной телогрейки, вроде дядька этот поваром в ресторане работает. Сам чернявый, лицо полное, нос немного горбатый, а глаза чуть навыкате. И такой смешливый! Говорит:
– Вот беда. Сказала жена, что если коровы не найду, чтоб домой не возвращался. Как же быть? Может, в солдаты записаться? Примете? – А сам: «хо-хо-хо» да «хе-хе-хе».
– Куда уж вам в солдаты с таким хозяйством? – говорю я ему и показываю на живот. – Из-за него никакого равнения в строю не будет.
– А я, – говорит, – спиной наперед встану. Чай, не горбатый.
Потом вдруг сделал испуганные глаза и спрашивает:
– А не сварил ли ты, солдат, мою корову в котелке? Я засмеялся, сполоснул котелок водой из ручья и к роте иду. Дядька за мной едет и охает, как ему теперь на глаза жинке показаться. Просит:
– Разузнай у товарищей, может кто из них мою корову где заприметил.
Раз просит, спрашиваю у солдат. А Василий Ежиков (колючий же парень!) отвечает:
– Не эта ли случайно «корова» интересует вас? – и указывает на брезент, которым покрыто орудие.
Дядька метнул взгляд на брезент и говорит:
– Эта штучка мне знакома. Аль, думаете, я не солдат? Ого-го. Три года с фашистами воевал. Еще кое-кого из вас могу поучить, как с ружьем управляться.
– А паспорт у вас есть? – неожиданно спрашивает. Ежиков.
Дядька засмеялся и сказал:
– Шутник солдат. Кто же в поле с паспортом ходит? Но у меня как раз есть. Вчера ездил в город за запасными частями для колхозного двигателя. А там документ нужен был. Вот смотри, – и полез рукой под фуфайку.
Поглядел Ежиков в паспорт, потом Леваде дал полистать и вернул дядьке. А тот засмеялся, спрятал документ и хлестнул своего рыжего коня. Уже на ходу крикнул:
– Если увидите бурую корову – выгоните ее на дорогу. Сама домой придет.
Переглянулись мы с Ежиковым. Вижу, недоволен Василий, косится на младшего сержанта Леваду – что тот скажет. А Степан говорит:
– Не нравится мне этот балагур, хоть документы его в порядке. Если еще раз появится близко, задержать нужно.
В это время на гребне ската показались наши офицеры. Видно, командир роты ставил им задачу. Мы заторопились. Ведь нет ничего хуже, когда солдат не готов выполнить команду: «Становись!»
С тех пор прошло, может, с неделю, может, с полторы. Перед возвращением из лагерей заступила наша рота в гарнизонный караул. Мне выпало нести службу возле очень важного объекта – склада. И вот какой произошел случай.
Днем это было. Заступил я на пост. Прохаживаюсь между стеной склада и высокой каменной оградой. Слышу, на улице мотоцикл трещит. Увидеть же его не могу. Думаю себе: чего он пыхтит здесь, почему не едет? А мотоцикл уже под самой оградой. Проехал он по улице и свернул вправо, в переулок, который огибает склад. От переулка он только колючей проволокой отгорожен, сквозь нее все видно. Заехал мотоцикл в переулок и начал в нем разворачиваться. Караулю я склад и за мотоциклом слежу. Мало ли что может быть! Повернул он мотоцикл передним колесом к складу, и тут я узнал дядьку, который искал в поле корову. Отворачиваюсь и снова двенадцать шагов вперед, двенадцать шагов назад. Не сообразил я тогда, что мне надо незаметно для дядьки нажать кнопку сигнализации, а самому усилить наблюдение.
Думаю себе: «И чего его в будний день в город понесло за сорок километров?» А мотоцикл: «тыр-тыр» – и заглох.
Дядька сошел с него и заохал:
– Что ж ты капризничаешь? Чи совести у тебя нет?..
Заводит мотор и так смешно приговаривает:
– Ну, миленький, р-ра-з!.. Эх-ма! Осечка. Еще, р-ра-з! Так-так-так!..
Мотоцикл зачихал и зататакал, как пулемет. Я успел заметить, как дядька тронул рукой ключ зажигания. Ясное дело, мотоцикл опять заглох. А дядька хлопочет:
– Вот нечистая сила!..
Потом кинул взгляд в мою сторону, и точно током меня от этого взгляда ударило. Уловил я в глазах этого «дядьки» страх и понял, что неспроста он здесь с мотоциклом возится. Оглянулся я вокруг и бросился к углу склада. Командую:
– Стой, ни с места! Стрелять буду!
Дядька вскинулся всем телом, но делает вид, что не слышит моего окрика. Тронул рукой ключ зажигания, и мотоцикл опять затарахтел. Теперь мне кричи не кричи, ничего не слышно. Я поднял автомат и дал одиночный выстрел в воздух. Это подействовало. Дядька оглянулся и застыл на месте. Но тут, как на грех, грузовая машина по переулку едет. Шофер ничего не замечает и газует так, что проволока, которой склад обнесен, дрожит. Я и сообразить не успел, а машина уже заслонила дядьку. А он не зевал. Вскочил на мотоцикл и ходу! Но от меня не уйдешь.
– Стой! Стреляю! – опять кричу. И тут же присел да под машину из автомата – прямо по колесам мотоцикла. Дядька кубарем на землю. А шофер грузовика услышал, что я стреляю, решил, что это по скатам его машины. Так затормозил с перепугу, что грузовик завизжал и целую тучу пыли поднял.
Подбежал я к проволоке и опять командую:
– Стой!
А шофер поднял руки вверх в кабине и вопит:
– Да я ж стою, не стреляй больше…
– Держи, – кричу ему, – мотоциклиста!..
А мотоциклиста и след простыл.
Будто растаял вместе с тучей пыли.
Только мотоцикл на дороге валяется.
Говорю шоферу (он из нашей части):
– Газуй на улицу, может поймаешь этого типа! – а сам сигналю в караульное помещение. Но какой толк! Шофер с машиной вернулся, когда уже наряд караула прибыл. Нигде не видно дядьки. Сиганул куда-то во двор. Не пожалел даже свой мотоцикл бросить.
И знали б вы, что то был за мотоцикл!.. Оказалось, в передней
его фаре фотоаппарат вмонтирован. Когда проявили пленку, увидели на ней склад, подходы к складу и… Максима Перепелицу на посту!
Одним словом, прославился Перепелица. Спать не мог после этого случая. Попробуй усни, когда в тебя каждый пальцем тычет: шпиона упустил.
Конечно, всем ясно, что положение мое было трудным. Ведь переулок тот не закрытый. Мало ли за день по нему людей пройдет, машин проедет. И дядька тот не перешагнул же запретной границы. Но, с другой стороны, на то ты часовой, чтобы не дать себя одурачить, на то и задержание шпиона подвигом называют, раз дело это нелегкое. Да и с умом устав нужно выполнять, а не только «двенадцать шагов вперед, двенадцать шагов назад»…
Потом меня вызвал капитан из штаба. Фотоснимок показывает и спрашивает:
– Он?
Вглядываюсь в карточку и с трудом узнаю на ней дядьку. С усами, с бородой, в шляпе, в кожаном пальто. Ничего не понимаю. А капитан смеется. Говорит:
– Эту птицу мы знаем. Вот только след ее потеряли. Но найдем…
Даже во сне стал я дядьку видеть. Черный да горбоносый, смеется надо мной. И так обозлился я! Иду по улице и прохожим в лицо заглядываю: вдруг встречу его. А сколько мечтал о том, как буду действовать, когда столкнусь я с дядькой. Но все получилось не так, как мечтал.
Известно, что некоторых солдат хлебом не корми, а дай сфотографироваться и карточку домой послать. Признаться, такой слабостью и я страдаю. Как прохожу мимо фотографии, так и тянет туда завернуть. И тем более повод появился к фотографу наведаться – из лагерей мы возвратились загорелые, возмужалые.
Начал я уговаривать своего друга Степана Леваду поддержать компанию. Степан согласился. Тут я ему ставлю условие: сниматься будем у одного старичка фотографа. Хвалят его хлопцы. Да я и видел: как сделает карточку, ахнешь! И похож на себя, и так красив, что любая девушка заглядится. Да еще и приловчился этот старичок на фотографии портупею командирскую дорисовывать, если кто пожелает. А один солдат явился к нему в пилотке, ему же хотелось в фуражке на карточке красоваться. Так фотограф и фуражку сделал. Вот до чего умелый человек!
Степан отвечает:
– Веди куда знаешь. Только я сниматься буду в той форме, какую ношу.
– Это твое дело, – говорю ему, – а Перепелице и ремни через плечо не помешают. Больше серьезности в лице будет.
Фотография эта находится в такой кривой уличке, что и отыскать ее трудно. Заходим. Две тесные комнаты. В одной зеркало большое, в другой – коробка на треноге стоит – фотоаппарат. Встречает нас сам знаменитый фотограф – неказистый такой старичишка, в клеенчатом фартуке. Рыжая козлиная бородка, такие же рыжие усики, лысина во всю голову. Лицо хоть и в морщинах, но розовенькое. Одним словом, бодрый старичок. А язык у него точно мельница. Уж на что я поговорить люблю, но до него мне далеко.
– Уважаю, – говорит, – военных клиентов. Орлами на снимках получаются. Только девушкам такие карточки дарить. Вы небось, – на меня указывает, – хотите увидеть себя на фотографии с портупеей и в фуражке.
Степан, на что серьезный хлопец, и то рассмеялся. Ведь так раскусил мои мысли этот старик!
Сфотографировались мы, расплатились и ушли.
В следующее воскресенье за фотографиями иду я один. Степана Леваду дела задержали. Встречает меня фотограф, как старого знакомого.
– Получайте свои снимки, – говорит, – и товарищей ко мне присылайте. Глядите, какой герой!
Смотрю, действительно геройский у меня вид на фотокарточке. Ремень через плечо, весь подтянутый. В самый раз Марусе Козак такую карточку послать.
Говорю фотографу:
– Давайте карточки моего дружка, Левады. Вот его квитанция.
– Пожалуйста, – отвечает старик. – Предъявите служебную книжку, чтобы я знал, кому вручил свою работу.
Подумал я и говорю:
– Книжку показать не могу, а фамилию мою запишите, если нужно.
Лицо фотографа вдруг сделалось официальным.
– Молодой человек, вы получили свои снимки? Идите. Ваш товарищ сам явится. Или предъявите документ.
Меня даже потом прошибло от такой категоричности. Зачем, думаю, ему документ мой понадобился? Не потому ли, что в нем номер войсковой части указан?
В это время зашли две девушки, и фотограф начал рыться в ворохе снимков, отыскивая их фотографии.
– Куда они запропастились? – ворчал старик. Потом хлопнул себя рукой по лысине и приоткрыл дверь в соседнюю комнатку, где, как оказалось, художник-ретушер работал.
– Борис, не у тебя ли копии этих двух красавиц? Борис загремел стулом и высунулся в дверь, чтобы взглянуть на девушек.
– На столе, готовые, – ответил он хрипловатым голосом.
У меня точно оборвалось все внутри. В художнике я узнал «дядьку». Только теперь он был не черный, а рыжий, как и старый фотограф. Но тот же голос, то же полное лицо с горбатым носом и выпученными глазами.
Пока старик отыскивал снимки девушек, я выскользнул на улицу. Ну, думаю, теперь маху не дам… А сам за угол к телефонной будке. Быстро набираю номер коммутатора нашей части, связываюсь с дежурным. Так и так, говорю, нашел я человека, который склад фотографировал. Доложил – и сам опять к фотографии. Стою недалеко от ее дверей и дожидаюсь.
Не прошло и десяти минут, как примчались на грузовике солдаты во главе с капитаном, который мне фотографию «дядьки» показывал.
Захожу я с капитаном в комнату, где художник-ретушер работает. Вижу, сидит «дядька» над стеклом каким-то и ножичком царапает.
– Здравствуйте, – говорю ему. – Скажите, нашли вы тогда свою корову или не нашли?
Вскочил «дядька», смотрит на меня очумелыми глазами. А когда заметил капитана и двух автоматчиков в дверях, побледнел, съежился.
Вижу, есть тут работа капитану. А я свое дело сделал. Мне пора в роту.
Так прошла моя третья встреча с «дядькой». Понял я, что нужно было бы закончить знакомство с ним на первой. Прав был тогда Василий Ежиков.
СЛАВА СОЛДАТСКАЯ
Кто из нас, солдат, не мечтает о боевой славе? Верное слово – каждый. Всяк хотел бы совершить подвиг.
Но слава, она не каждому солдату дается. Если ленцой ты страдаешь или прячешься за спину товарища, не видать тебе славы. Не видать! И в бою она не подружится с нерадивым солдатом и обойдет его в мирные дни. Это – закон, и никакая сила не изменит его.
Но если ты всю душу будешь вкладывать в свои солдатские дела, если служба и учеба станут сердцевиной твоей жизни – честь и слава тебе!
Эту истину узнал я на собственном опыте. А ведь раньше считал Максим Перепелица, что для подвига имеется место только в бою. Но то раньше было…
Наша жизнь полна интереснейших событий! Вот, к примеру, одна только ночь прошла (не день, заметьте, а ночь!), но какая перемена в судьбе Перепелицы наступила! Лег спать рядовым, а утро встретил уже без пяти минут сержантом. Не подумайте только, что приснилось это Максиму. Утро-то встретил я не в постели, а далеко от казармы – в поле.
Вот как все произошло. Среди ночи, когда солдаты спали крепким сном, вдруг раздалась команда:
– Подъе-е-м! Тревога!..
Ничто не может так подстегнуть нашего брата-солдата, как слово «тревога». Услышал я это слово сквозь сон, и точно кто в мою постель кипятком плеснул. Один миг – и Перепелица на ногах. Еле успеваю портянки намотать, а ноги уже в сапоги рвутся, потом несусь к вешалке за шинелью. Гимнастерку на ходу надеваю.
А вокруг что делается! Не суетня, нет. Если кто посторонний заглянул бы в такую минуту в казарму, то подумал бы, что скоро должен потолок рухнуть и поэтому все вылетают на улицу. Но солдат не просто выбегает из казармы, а лишь после того, когда на его поясном ремне займут свое место лопатка, подсумки с обоймами или чехлы с магазинами, а за плечи усядется вещмешок. Само собой разумеется, и оружие должно быть в руках.
Но по этой «тревоге» одним оружием, видно, не обойтись. Дежурный по роте объявляет:
– Строиться с лыжами! Взять маскировочные костюмы.
Значит, тревога серьезная. А может, что-нибудь случилось?.. Эта неизвестность еще больше подстегивает.
Не прошло и четырех минут, как я в полной боевой готовности, с лыжами в руках, выбегаю из казармы.
На улице такой мороз, что в ноздрях закололо. Тишина небывалая. Вроде все вокруг вымерло. От этого, наверное, снег не скрипит под ногами, а прямо кричит, как живой. Сделаешь шаг, и земля звенит. И звон тот до самых звезд достигает. А им, звездам, мороз нипочем. Перемаргиваются, точно подсмеиваются над нами, что спешим мы закрыть уши от холода – торопливо отвертываем свои шапки. Может, звездам весело оттого, что солдаты не знают, какое дело предстоит им в эту глухую ночь?..
Двери в казарму уже не закрываются. Оттуда народ валом валит.
Замечаю, что командир роты и командиры взводов уже здесь. Офицерам нашим тоже нет покоя. Всегда начеку.
Старший лейтенант Куприянов подает команду:
– Рота, в линию взводных колонн, по четыре – становись!
Построились мы в колонну и побежали через плац к артиллерийскому парку. За парком, где начинается наше учебное поле, стали на лыжи и двинулись к Муравьиному яру – месту сосредоточения по тревоге.
Вот и Муравьиный яр. Его покрытое кустарником дно прячется в потемках. Темно так, что от головы ротной колонны трудно разглядеть замыкающие ряды.
Спустились мы по склону яра к заснеженным кустарникам, и здесь началась проверка готовности взводов к маршу. Командиры дотошно осматривают каждого солдата: все ли из оружия и снаряжения имеется налицо, не сунул ли кто случайно ноги в сапоги без портянок… Всякое может быть.
Потом лейтенант Фомин подозвал командиров отделений своего взвода, чтобы отдать приказ. А между нами, солдатами, уже пронесся слух, что где-то в двадцати километрах к северо-востоку от города «противник» высадил авиадесант. Придется с ним повозиться, и каждому интересно, как оно все там будет.
Надеваем мы белые маскировочные костюмы, осматриваем крепления лыж. Возбуждены, даже мороза никто не замечает.
Подошли сержанты. Левада отвел наше отделение в сторону и начал объяснять задачу. Оказывается, задача нелегкая. Будем действовать мелкими группами. Младший сержант Левада говорит, что успех зависит от умения владеть компасом. Ведь нашему отделению предстоит пройти по прямой, по бездорожью восемнадцать километров. Легко сказать – восемнадцать! И это через заснеженные поля, кустарники, овраги… К восходу солнца нужно сосредоточиться на южных скатах высоты с тригонометрической вышкой. К этой же высоте, только с разных сторон, подойдут другие отделения нашего взвода.
Закрепляем мы визиры своих компасов на заданный азимут. Теперь никакая карта не нужна. Впрочем, карт на этот раз нам и не дали.
И только приготовились тронуться в путь, как старший лейтенант Куприянов вдруг крикнул:
– Воздух!
Мы замерли на месте. «Почему командир роты тревожится? Ведь темно. Пусть сто самолетов в небе, нам что до них?»
В это время в чаще кустарника кто-то пальнул из ракетницы. Не успела ракета разгореться над яром, как все мы, не сходя с лыж, кувырнулись в снег. И если бы оказался в небе настоящий противник, вряд ли ему удалось бы рассмотреть что-нибудь на дне Муравьиного яра.
Но все вышло по-иному. Близ нас стали рваться взрывпакеты – началась «бомбежка». Я даже не разглядел, кто те пакеты бросил. Наверное, командиры взводов.
Когда взрывы прекратились, командир роты дал такую вводную:
– Взвод лейтенанта Фомина понес потери! Выведены из строя командиры второго и третьего отделений и пулеметный расчет первого отделения! Самолеты «противника» делают новый заход для «бомбежки»! Нужно рассредоточиться. Каждое отделение действует самостоятельно.
Справа и слева послышались команды. Это сержанты уводят своих подчиненных из-под «удара». А наше отделение лежит, хотя в небе вот-вот опять может вспыхнуть ракета.
И тут только я смекнул, что мы остались без командира: наш Левада-то зачислен в «убитые».
Вскакиваю на ноги и подаю голос:
– Второе отделение, слушай мою команду! Встать!.. За мной, бегом – марш!
Пустилось наше отделение по дну яра к его северному отрогу. А когда достигли расщелины, остановились и залегли.
Рядом со мной лежит в снегу Василий Ежиков и шепчет:
– Молодец, Максим, здорово у тебя получилось, как в боевой обстановке.
Я наклонился к Ежикову и отвечаю:
– Товарищ рядовой Ежиков! На занятиях никаких Максимов! Есть заменивший командира рядовой Перепелица, есть рядовой Ежиков! Ясно?
Ежиков шмыгнул носом и ответил:
– Ясно…
Замечаю, что к расщелине подходит лыжник. Узнаю в нем лейтенанта Фомина. Подъехал он и говорит:
– Рядовой Перепелица, постройте отделение. С лыж не сходить.
Подал я как положено, команду, выровнял строй и доложил командиру взвода. А он спрашивает:
– Задачу отделения знаете?
– Так точно, – отвечаю.
– Действуйте. Время не терпит.
Я тут немного растерялся.
– Как, – спрашиваю, – действовать? Вести отделение по азимуту?
– Не только вести, – говорит лейтенант. – Кто в бою заменяет выбывшего командира, тот берет на себя полную ответственность за выполнение всей задачи. Командуйте.
Приказано – никуда не денешься. Но ведь впереди возможен бой с «противником». А чтобы командовать в бою, большое умение требуется. Командовать без умения – все равно что слепому грибы собирать.
Но тут же подбадриваю себя: «Не робей. Перепелица, не зря тебя столько учили. Лейтенант знает, кому доверил отделение».
– Слушаюсь, – ответил я.
…Поднялись мы из Муравьиного яра, прошли заводской поселок и оказались на окраине города. Отсюда определен азимут на высоту с тригонометрической вышкой. Здесь, так сказать, печка, от которой танцевать начнем.
Вскоре цепочка отделения достигла железнодорожной насыпи. По ту сторону железной дороги перед нами раскинулся заснеженный простор. Но этот простор только угадывался. Над полем стояча ночь.
Назначаю Ежикова и Самуся дозорными и приказываю им двигаться впереди отделения.
– Только не отрывайтесь далеко, – напоминаю солдатам, – будьте на виду.
В ответ Ежиков кинул на меня колючий взгляд. Зачем, мол, учишь ученых? Каждому солдату известно, что если дозор не имеет связи с ядром, то от него мало толку. Наткнется на противника, а просигналить не сумеет. Разве только шум поднимет. Но напомнить обязанность дозорных – не лишнее. Суть всякого учения – в повторении. Повторишь лишний раз, крепче в мозгу засечется.
…Идут Ежиков с Самусем впереди, лыжню прокладывают, а я по этой лыжне веду отделение. Мороз все крепчает, лютует. Дерет щеки, нос. Капюшон маскировочного костюма около подбородка ледяной коркой покрылся. Иней серебрит брови солдат. Но шагаем легко. Наст твердый, припорошенный мягким снежком. Лыжи хорошо скользят по нему, даже посвистывают.
Вокруг мгла. Время от времени из этой мглы выступают кустарники, деревья да овраги встают на пути.
Причудливым все выглядит ночью. Каждый куст надел на себя снежную шапку и сидит под ней, не шелохнется. Приближаешься к нему, и мерещится, что впереди вздыбился какой-то здоровенный зверь. Глядишь и думаешь, что он от тебя далеко, но сделаешь шаг-другой, и уже вровень с ним. Одно слово – зимняя ночь. Только на фоне неба очень хорошо видны деревья – близкие и далекие.
Но мне некогда ими любоваться. Дозорные собьются с направления – кто в ответе будет? Ведь в такую ночь пройдешь мимо этой высоты с вышкой и не подумаешь, что она рядом. Вот и надо Перепелице сходить с лыжни, останавливаться на несколько секунд и подносить к глазам руку с компасом. И тут не просто нужно взглянуть на компас. Требуется точно совместить светящиеся стрелки, указывающие на Юг и на Север, с этими же надписями на циферблате и проверить, не отклоняемся ли мы от азимута, на который указывает визир компаса. А чтобы точнее выдерживать направление и реже сходить с лыжни, засекаю ориентиры. Подниму компас к глазам и по линии визира прицеливаюсь далеко вперед, на какое-либо дерево, выделяющееся на фоне неба. Потом повернусь кругом и в тылу засекаю приметное дерево. Вот и движемся по линии между этими ориентирами, потом новые засекаем.
Вроде и немудреное дело – идти по компасу, особенно когда он тебе не впервые в руки попал да местность ровная. Но попробуй не потеряй направление, если то и дело приходится петлять: то кустарник, сквозь который не продерешься, обходи, то обрывистый овраг. Тут надо точнее засекать ориентиры, потом, не упуская их из виду, брать в сторону. А как препятствие останется позади, опять выходить на линию между ориентирами.
Ох, эти овраги! Кажется, сколько ни есть их, все на нашем маршруте. А ночью даже дно поганой канавы трудно разглядеть, не то что глубину оврага. А вдруг он обрывистый? Сорвешься в прорву и шею свернешь, в лучшем случае лыжи сломаешь. Или помчишься на лыжах вниз, а там – колючий кустарник, каких здесь много. Врежешься в него и так себя разукрасишь, что мать родная не узнает. Да мало ли какие неожиданности подстерегают лыжника, который, летит по крутому склону, не видя ничего впереди!
Но солдат на то и солдат, чтобы любая неожиданность была ему нипочем. Попадется овраг, седлаем свои палки от лыж и несемся вниз, во все глаза вперед смотрим. Заметил опасность – сигнал товарищам и нажим на палки (даже садишься на них, если нужно). Тормоз работает безотказно, не зевай только.
Так и двигались…
Через полтора часа на нашем пути оказалась дорога. Это, наверное, та, которая идет из села Кувшиново в город. А проверить не могу – нет карты.
Приблизились наши дозорные к дороге и вдруг сигналят – поднимают над головой автоматы. Приказываю отделению залечь, а сам быстро выдвигаюсь вперед.
– Машина с пушкой, – докладывает Ежиков.
Действительно, слева на дороге виднеется машина. Возле нее толпятся люди. Можно, конечно, тихо перемахнуть через дорогу и двигаться дальше. У нас своя задача. Но что за люди? Шепчу Ежикову:
– Подползем.
Так и сделали. Рядом оказался кустарник, и мы, укрываясь в нем, подобрались к машине совсем близко.
Различаю перед машиной мост. Значит, верно, эта дорога – на Кувшиново, а мост – через Сухой ручей. Группа солдат стоит перед мостом и кого-то уговаривает. Слышу голос:
– И где же твоя сознательность? Мы же на задание едем.
– Сказано, мост взорван, проезда нет. Приказано никого из полка не пропускать, кроме одной машины с офицерами.
– Это ошибка, – убеждает тот же голос, – наверное, приказано нашу машину пропустить.
– Нет, не приказано…
Ежиков наклоняется ко мне и шепчет:
– Да это наши соседи-артиллеристы. Их тоже по тревоге подняли.
Я уже и сам об этом догадался.
А раз перед нами свои – чего скрываться? Поднимаемся с Ежиковым и выходим на дорогу.
– В чем дело? – спрашиваю.
Артиллеристы притихли, удивились нашему появлению.
– Саперы бузят, – отвечает потом командир орудия – высокий такой сержант, фамилии его не знаю. – Мы
едем по своему маршруту, а здесь, оказывается, мост «взорвали».
Догадался я, что не зря «бомбили» нас в Муравьином яру, не случайно «выведены» из строя два командира отделения. Не зря и саперов послали на эту дорогу и мост перекрыли. Шевели, мол, солдат мозгами, смекай. Боевая обстановка и не такие гостинцы может приготовить. Ищи выход.
Смекаю. Допустим, думаю, снег в стороне от моста по обе стороны реки можно расчистить. Но через реку как переберешься? Лед-то выдержит машину с пушкой, но спуститься на него с крутого берега метровой высоты не легко, а подняться на другой берег совсем невозможно. И речушка не широкая – каких-нибудь пять метров! Но выход все же есть.
Отозвал я в сторону сержанта артиллериста и спрашиваю, был ли он на прошлой неделе в клубе на вечере встречи с фронтовиками. Сержант, оказывается, был там, но никак не поймет, к чему я веду разговор.
– А помните, – говорю, – как один офицер рассказывал насчет переправы? Автоколонна доставляла боеприпасы и наткнулась на разбомбленный мост. Вот так же зимой. Понимаете?
Тут сержант хлопнул себя рукой по лбу и кричит:
– Идея!
Потом говорит:
– Не зря командир взвода приказал взрывчатку, ломы и лопаты на всякий случай захватить. Сам небось знал, что нас ждет. А я-то!.. Минут сорок топчемся здесь.
– Эх, а еще артиллеристы! – не удержался я, чтобы не упрекнуть сержанта.
– Братцы, помогите! – обращается ко мне командир орудия. – В долгу не останемся, отплатим.
– При чем тут, – говорю, – плата? Взаимная выручка – закон солдата. Но уж разрешите мне здесь распоряжаться. У меня людей больше.
– Сделайте милость, товарищ, не знаю, кто вы по званию и как фамилия, – отвечает артиллерист. Погонов-то моих под маскхалатом не видно.
– Командир отделения Перепелица, рядовой, – представляюсь.
Сержант с удивлением посмотрел на меня, вроде заколебался, но ничего не сказал.
Приказываю Ежикову вызвать к мосту отделение и намечаю план действий; мы расчищаем для машины дорогу по обе стороны реки, трамбуем снег в кюветах, а артиллеристы подальше от моста взрывают лед и из его кусков выкладывают на льду новый «мост» – вровень с берегами настил. К этой работе и мое отделение потом подключилось.
Содрали с реки целый участок льда и рядом со «взорванным» мостом выложили из него ледяной мост. А чтобы он крепким был, двумя брезентовыми ведрами, которые оказались в машине, и банкой из-под бензина носили из проруби воду и поливали ледяное сооружение. Мороз же свое дело делал. Вода замерзала и намертво схватывала куски льда. Даже колесоотбойные бровки сделали по краям моста, чтобы машина не соскользнула.
Наконец, все хозяйство артиллеристов оказалось на противоположном берегу. Но сколько времени утеряно! Небо на востоке совсем покраснело – до восхода солнца недалеко. Зато не близко до высоты с вышкой. Придется нам бежать что есть духу.
Сержант артиллерист подошел к нам и говорит:
– Теперь мы вас выручим. Залезайте в машину. Прямо к тригонометрической вышке доставим.
Кое-кто из моих солдат уже кинулся к грузовику.
– Назад! – скомандовал я. – Ишь какие прыткие пассажиры!.. Забыли приказ: добраться на лыжах?
Я официально отдал честь сержанту: «Езжайте, мол», – и подал отделению команду:
– Становись!
Артиллеристы уехали, а я повел солдат по азимуту. Изо всех сил работали палками, спешили.
В поле уже рассвело, и можно было без опаски стрелой нестись в самый глубокий овраг. Даже ветер, подувший вдруг со стороны города, помогал нам, точно беспокоился, как бы не опоздали солдаты.
Мороз к утру еще злее стал, а нам жарко. Знаю об усталости солдат, но прибавляю шагу. Беспокоюсь, что получим замечание, а командир взвода нехорошо подумает об отделении и обо мне, конечно: плутали, скажет, не умеют еще ходить по азимуту.
Но как ни спешили, а солнце опередило нас. Издалека увидели, как золотые лучи коснулись деревянной вышки, как красный отблеск упал на вершины холмов. Заметил я также, что к высоте с разных направлений подходят цепочки лыжников – это те, кто имел ломаный маршрут.
Горько стало Перепелице. Ведь путь наш был наиболее коротким, а подходим к цели последними.
У тригонометрической вышки собралось много народу. Видать, никакого боя не предстоит – десант, о котором говорили, условный. А мне и солдатам всего нашего отделения невесело – последними ведь подходим.
Но что это? Все, кто стоял у вышки, идут нам навстречу. Насторожился я. Всматриваюсь в идущих и узнаю старшего лейтенанта Куприянова, лейтенанта Фомина. Здесь же и младший сержант Левада (наверное, на машине вместе с начальством прикатил). Рядом с Левадой сержант артиллерист, которого выручали мы сегодня.
Встретились. Доложил я старшему лейтенанту Куприянову о прибытии отделения и хотел было объяснить причину нашей задержки.
– Все ясно, – перебил меня командир роты.
У меня даже сердце дрогнуло. Но раз улыбается старший лейтенант… Вижу, и у Степана Левады лицо светится – вот-вот кинется меня обнимать А командир роты продолжает
– Слава вам, товарищ Перепелица, что отлично владеете солдатской наукой Раз любая задача вам по плечу, буду ходатайствовать о присвоении сержантского звания…
…До самой весны рядом с деревянным мостом через Сухой ручей держался и наш ледяной мост. И солдаты, проезжая мимо него, шутили: «То мост имени Максима Перепелицы».
Против такой шутки я возражения не имею…
«ДУРНЫЕ» ПРИМЕТЫ
Еще солнце не успело сколько-нибудь подняться над горизонтом, а мы уже шагали далеко за городом по асфальтированной дороге. Справа и слева, на обочинах зеленела молодая травка, вспыхивали синие и белые цветочки подснежников. Одним словом, весна! Опять наступает лагерная пора, пора жарких, трудных солдатских будней.
Мы шли в расположение своего будущего лагеря, чтобы подготовить там гнезда для палаток своей роты. Взводную колонну возглавляло отделение, которым командую я – сержант Максим Перепелица. И скажу я вам, приятно шагать в голове колонны, когда перед тобой стелется широкая, гладкая дорога. Идешь по ней и мечтаешь, о чем мечтается.
А впереди виднелась одинокая фигура Янко Сокора – солдата из моего отделения. Он шел с красным флажком в руке и должен был на перекрестках дорог, каких здесь много, останавливать машины и открывать путь нашей походной колонне.
И вдруг я заметил, да и многие солдаты увидели, как впереди Сокора пулей пролетел через шоссе кургузый зайчишка, уши прижал, а сам, как шарик. Миг, и след его простыл среди молодых елочек.
Кто-то из солдат бросил шутку насчет трусливой натуры зайца, но мне не до шуток. Вижу, что с Янко Сокором что-то неладное творится. Оглядывается по сторонам и все топчется на месте, вроде колонну поджидает. Тут только вспомнилось мне, что Сокор верит в дурные приметы. Родился же он и вырос в Закарпатской Украине, при буржуазном строе; некоторые пережитки старого сидят еще в нем. Вот сейчас: перебежал заяц дорогу, и Янко трусит, считает, что это не иначе к беде какой-то. Поэтому не решается первым перешагнуть место, где пробежал заяц.
Когда приблизился строй к Сокору, я кричу ему:
– На каблуки наступим! Почему дистанцию не выдерживаете?
Янко виновато покосился на меня и нерешительно пошел вперед.
Целый день трудились мы в лагере. И из головы моей не выходила мысль о Янко. Как выкурить из него такую дурь? Ведь командир я. А какой из Сокора солдат, если он как пугливая ворона? Все ждет, что беда приключится.
Ночевать остались мы в лагере. Разбили палатку, поужинали и, выставив часового, улеглись под ней на сене, которое еще в прошлом году заготовили для солдатских матрацев. Сладко ныли натруженные за день руки и ноги. Разговаривать не хотелось, и мы лежали молча, прислушиваясь к шагам рядового Казашвили, который первым заступил на пост. И вдруг на недалеком дереве страшным голосом заголосила какая-то птаха. Лежавший рядом со мной Янко Сокор всем телом вздрогнул от этого крика и хотел от испуга на ноги вскочить.
– Что, – спрашиваю у него, – шкрябнул за душу такой голосок?
Тут птица опять закагукала, и Сокор даже дышать перестал. Потом тихо сказал:
– Ой, не к добру это. У нас в селе после таких криков пожары бывают. Или помирает кто-нибудь.
– Да неужели?! – удивился я. – А у нас в Яблонивке, – говорю, – однажды сова покричала на крыше хаты дядьки Мусия, так он на второй день с самим чертом встречу имел – на кладбище.
– Гляди ты! – воскликнул Янко, придвигаясь ближе ко мне. – Как же это?..
– А вот послушай.
И чувствую, как насторожились от любопытства мои солдаты. Перестал ворочаться в углу на сене Симаков, притихли Панков и Митичкин. Даже шаги часового Казашвили умолкли близ палатки.
Я дождался, пока Казашвили отойдет к грибку, и начал рассказ:
– В нашем селе Яблонивке когда-то из-за девчат мира не было. Если ты парубок, то ищи себе подружку на своей улице, ну – еще на соседней; словом, на своем кутку, как у нас говорят. Но не вздумай присоседиться к девчатам, которые на другом конце села живут. Поймают тебя тамошние хлопцы и…
– Повесят? – нетерпеливо спросил Янко.
– Еще хуже, – отвечаю. – Добре, если только бока наломают. А то еще заставят спичкой дорогу мерить.
– Как это? – заерзал на сене Сокор.
– Вот тебе дивно? А было такое время, когда в селе ни клуба, ни кино не знали, вот и развлекались по-старорежимному. Поймают хлопцы чужого парня, дадут в руки спичку и заставят всю улицу, где живет дивчина, к которой он ходил, промерить. Не подчиняешься – бьют. Меришь, а они ржут, как кони. Ошибешься в счете – начинай сначала.
– И вам приходилось мерить? – опять не утерпел Сокор.
– Ну, нет! Это не на моей памяти было. А вот батька мой, Кондратий Филиппович, мерил. Правда, редко: ноги у него длинные. Через любой плетень он мог одним духом перемахнуть. А в огородах его не поймаешь. Вот и махнул однажды. А хлопцы знали эту его привычку через плетень прыгать и подкараулили. Но он бежал с такой страшной силой, что удержать не сумели – попадали. Но потом догонять стали. Напугался мой батька. «Раз так караулили его да еще не удержали, значит крепко обозлились. Если поймают, то такое учинят, что потом среди людей не показывайся – засмеют.
Вот и удирал он что было сил. А за огородами начиналось кладбище. Там среди могилок спрятаться легко. Ведь поздний вечер – темно.
Перелетел через канаву, которая кладбище от левады отделяет, вроде благополучно, если не считать, что яйцо об кусты ободрал да клок рубахи на рукаве выхватил. Но слышит, что и хлопцы не отстают: так трещит сзади него кустарник, что в селе собаки гавкают.
Начал мой батька петлять меж могил, крестов и искать местечко, где лучше спрятаться. Но как спрячешься, раз рубашка на нем белая – заметят. Носился он так по кладбищу и вдруг… под ногами не оказалось земли! Как махнул куда-то вниз, дух захватило. От страха и память отшибло. Пришел он в себя, осмотрелся. Увидел над головой небо, звездами усыпанное. Все ясно: в яму угодил. И тут только вспомнил он, что дед Захар умер и это для него могилу приготовили.
Могила так могила. Лишь бы от хлопцев сховаться. Сидит батька на сырой земле, притаился. Но погони не слышит. Видать, парубки дальше побежали. А может, в могиле давненько он пролежал, пока память его вернулась, кто знает. Но что это?.. Слышит он, что совсем рядом за его спиной что-то дышит, как собака в жаркий день. Похолодел батька. «А может, почудилось?» – думает. Нет! Дышит!..
Как вскочил он на ноги, то об одну стенку, то о другую. Пытался руками за верх ухватиться. Но куда там! У нас такие глубокие могилы копают, что даже с самыми длинными ногами не выбраться из них. Кажется, от страха завопил мой Кондратий Перепелица. И когда он закричал, услышал, что и оно, то, что громко дышало, тоже крикнуло как-то по-телячьи или козлячьи. А видать – ничего не видно. Яма же, могила одним словом…
– Вот сочиняет командир! – послышался у палатки голос рядового Казашвили. – Что же, черт, по-вашему, в той могиле сидел?
– Товарищ Казашвили, – отвечаю, – не отвлекайтесь от службы.
Казашвили неохотно отошел от палатки, а я продолжаю рассказ.
– А может, и черт, – говорю. – Откуда батька мог знать? Тогда в нашей Яблонивке и в черта верили. А тем более, когда батька еще раз попытался вылезть из ямы, сорвался и упал на что-то мягкое, в шерсти все. Как боднуло оно его в живот рогами, прямо зашипел он от боли. В глазах искры засверкали. И, может, от тех искр в его мозгу просветлело. Догадался батька, что сидит он в одной яме с обыкновенным бараном.
Смеются мои солдаты, но мое дело рассказывать. Вот и продолжаю:
– Пощупал батька барана руками, погладил, а он так жалобно: «Ме-э-э-э… М-э-э-э…» Бедняга, тоже случайно в могилу влетел. Дорога-то в двух шагах от кладбища.
Сидит батька в этой могиле вместе с бараном и думает, как ему теперь жить? Узнают люди – смеху на все село будет. А узнают обязательно. Сам же он не мог выбраться из такой глубины.
Думал, думал горькую думу и задремал. И вдруг сквозь сон слышит – телега скрипит на дороге. А дорога, как я говорил, рядом с кладбищем проходит. Вскочил он на ноги, прислушался к голосам на телеге и узнал, что это сосед дядька Мусий и его спрягач косой Василь от мельницы возвращаются. Спрягач – значит, лошадей спрягал. Мусий и Василь имели по одной коняке. А на одном коне далеко не уедешь. Вот и объединились они. О колхозах тогда, конечно, и слыхом не слыхали.
Кричит им мой батька:
– Дядьку Мусий? Дядьку Василь!.. Телега перестала скрипеть – остановилась. На ней – молчок. Потом дядько Мусий спрашивает у Василия:
– Почудилось или нет?
– Нет. Я тоже слышал, – отвечает Василь. – С кладбища голос… Никак, душа Ерофея Серомахи зовет. На той же неделе его похоронили.
– Дядьку Мусию! – снова кричит батька. – Это я. Вытяните меня из могилы!
И как только сказал это, не выдержали нервы у стариков. Ударили они по лошадям – и ходу.
Но на околице села страх у них немного прошел. Остановились.
– А не подсмеялся ли над нами какой-нибудь хлопчага? – спрашивает дядька Мусий и скребет рукой затылок. – Конечно, подсмеялся! Поймать бы этого шутника да батогов надавать! Может, пойдем? Изловим сукиного сына?!
И вот Мусий и Василь крадутся к кладбищу. Часто останавливаются, подталкивают друг друга вперед. Каждый норовит идти сзади. А коней на дороге остановили.
– Эгей! – кричит Мусий. – Кто там звал?!
– Та цэ я! Кондрат, сын Филиппа! Шел вечером через кладбище и в могилу влетел.
– А ты не брешешь, что ты Кондрат?
– Ей-богу, я!
– Тогда скажи, как звать моего цуцика.
– Цуцика – Ушастик. Только никакой он не цуцик, раз штаны на людях рвет…
– Верно, его голос! – обрадовался Василь.
– Он! – согласился Мусий. – Святую правду про моего цуцика сказал, – и хитренько подмаргивает своему спрягачу. – Та не-е… Какой же ты Кондрат? Ты размазня. Такой хлопец, как Кондрат, в яму не попадет.
– Да я же! – со слезами доказывает мой Кондраша.
– А если ты, так скажи еще, чем славится мой садок? – спрашивает Мусий.
– Чем-чем! Да ранней грушей-макоржаткой!
– А не знаешь ли ты, часом, кто ее обломал?
– Ну я! Но когда это было!
– Ух ты сукин сын! Так цэ, значит, ты ее обломал?! До сих пор груша не родит! Сейчас я тебе крапивой по стыдному месту нашмагаю!..
И Мусий подошел к самой яме. Разглядел в темноте голову Кондрата и довольно засмеялся.
Тем временем дядька Василь побежал к повозке, чтобы вожжи отвязать – иначе вытащить из ямы человека невозможно. А батька все упрашивает Мусия, чтобы он никому в селе не рассказывал, обещает пляшку горилки принести. Но дядька Мусий и слушать не хочет: ходит вокруг ямы и крапиву рвет. Да еще приговаривает:
– Добрая крапивка! До костей продирает.
Вернулся и Василь с вожжами.
– Быстрее же! – торопит Кондрат.
– А штаны снял? – въедливо спрашивает Мусий.
– Снял, не беспокойтесь.
– Добре. Сейчас всыплем.
Наконец, вожжи опущены в яму.
– Готов?
– Готов!
Потянули дядьки к себе вожжи и тут… увидели, что над ямой показалась голова с рогами… Чуть не умерли от страха. Бросили барана на голову моего батьки, завопили и что есть духу с кладбища. Бежали до самой церкви, и все время кричали, и про коней своих позабыли.
Тут мне пришлось свой рассказ прервать, потому что Янко Сокор икать от смеха начал…
– Одним словом, было дело. Примчались Мусий и Василь к церкви и давай лупить в колокола – как на пожар. Прибежал поп, люди начали сбегаться. Но пойти ночью на кладбище никто так и не осмелился.
А батька воспользовался тем, что в яму вместе с бараном упали вожжи, вывязал на одном конце большой узел и начал закидывать его на вишню, что росла над ямой. Наконец, узел застрял между стволом дерева и веткой, и батька выбрался наверх, потом барана вытащил.
Утром все село во главе с попом пошло на кладбище. Поп – с кадилом, молитвой, «святой водой». А в воскресенье попы всего уезда съехались в нашу Яблонивку. Целую неделю читали молитвы, кладбище высвячивали, проповеди говорили. Люди молились, несли в церковь приношения, лишь бы умилостивить бога, который за какие-то прегрешенья послал на село кару.
А мой батька, Кондратий Филиппович, сидел дома и посмеивался. Года два никому не сознавался, что это он тогда в яме сидел, что «чудо» на кладбище – его рук дело.
Так-то было. Долго помнили в селе эту историю и считали, что это сова накричала дядьке Мусию и косому Василию такую беду.
Посмеялись солдаты. А потом Янко Сокор говорит:
– С совой, конечно, верно – враки. Ничего она не накричит. А вот если заяц дорогу перебежал или, скажем, черная кошка – никуда не денешься. Будет неудача, а то и хуже.
Сказал я Сокору, что все это чепуха, но убедить не сумел. Так и уснул он с мыслью, что ждет его беда.
А на рассвете заступил Сокор на пост.
Приближалось утро. На высоте, где меж долговязыми елями будет разбит наш лагерь, гулял ветерок, а у ее подножья над речкою – туман стелился.
Янко Сокор прохаживался вокруг палатки, где спало отделение, возле сложенных у погребка инструментов – топоров, пил, лопат, кирок-мотыг, ломов; выходил на линейку. Словом – патрулировал.
И вдруг его внимание привлек человек. Он точно вынырнул из тумана, клубившегося над речкой. Вначале шел человек уверенно, зорко осматриваясь вокруг. Янко, как и положено в таком случае, залег; залег меж приготовленных для палаток гнезд.
И тут человек увидел натянутую брезентовую палатку. Остановился. Потом попятился к ближайшему кусту и спрятался за ним. Оттуда долго наблюдал за палаткой. А когда решил, что она не охраняется, осторожно, от дерева к дереву, выбрался на тыльную линейку лагеря, но от палатки держался на почтительном расстоянии.
Человек стал внимательно всматриваться в ту сторону, где начинался левый край палаточных гнезд, а потом перебежал глазами на палатку, затем на гнезда, тянувшиеся в несколько рядов от нее к правому краю лагеря.
Янко догадался: человек считает палаточные гнезда. Зачем?! Зачем это ему нужно?..
А человек тем временем удалялся, считая гнезда.
Мгновенье Янко колебался. Как поступить? Поднять по тревоге отделение, но тогда неизвестный, заслышав шум, сиганет в кусты; поймать его там трудно. А нужно сказать, что у Сокора из оружия имелся только кинжал. Ни автоматов, ни винтовок мы с собой в лагерь не захватили: шли ведь на работу.
Янко Сокор быстро снял с себя шинель, выхватил из ножен кинжал и, зажав его холодное лезвие меж зубов, на четвереньках, как кошка, начал быстро пробираться вдоль передней линейки наперехват человеку.
Потом, таким же манером пробираясь между гнездами, пересек расстояние, разделявшее переднюю и тыльную линейку. Человек оказался впереди него шагах в двадцати.
Сокор решил сбить неизвестного с ног, чтобы легче было с ним справиться. Но человек успел обернуться прежде, чем Янко настиг его. Миг – и человек выхватил из кармана пистолет. Грохнул выстрел. Но пуля прошла мимо…
Когда мы подоспели Янко на помощь, он уже сидел верхом на неизвестном, приставив к его горлу нож.
А через неделю, после того как генерал вручил Янко Сокору именные часы, награду за задержание шпиона, я спросил у него:
– Что, Янко, большая беда – золотые часы иметь?
Он не понял моего намека. Тогда я напомнил о зайце, перебежавшем ему дорогу. Янко смущенно улыбнулся и ответил:
– Больше я в дурные приметы не верю.
СОЛДАТУ НЕТ ПРЕГРАД
Не могу сказать о себе, что я трусоват. Уже не помню случая, когда бы моя душа пряталась в пятки. Да кого хотите спросите, и всякий скажет – Максим Перепелица не из робкого десятка.
Ну, конечно, если не вспоминать случаев из моей доармейской жизни. Иногда, бывало, в Яблонивке идешь по улице, замечтаешься, и вдруг цап тебя за штанину! Собака! И залает, проклятая, не своим голосом. Разумеется, от такой неожиданности похолодеешь и так заорешь, что собака с перепугу кубарем в ров катится и потом полдня скулит от страха.
Или, бывало, поймает тебя дед Мусий в своем садочке, схватит одной рукой за шиворот, а в другой – целый сноп крапивы держит. Да еще допрашивает: «Как тебя, бесов сын, парить? Вдоль или поперек?! Как тебе больше нравится?» Нельзя похвалиться, что при такой ситуации чувствуешь себя героем.
Всякое бывало. Но бывало это давно и в расчет его можно не брать. Сейчас я не тот Максим, и нервы у меня не те. Ей-ей, не хвалюсь. Даже когда нас, солдат, первый раз бросали с самолетов, и то я… Правда, страшновато было. Но это же первый раз! Да и самолет очень высоко поднялся. Вдруг, думалось, парашют не раскроется. Шлепнешься на землю и, как пить дать, печенки отобьешь. Однако никто не заметил, что такие думки были у Максима в голове. Даже наоборот. Как командир отделения, держал фасон и еще попросил у лейтенанта Борисова разрешения затяжным пойти к земле.
Словом, хватает у меня выдержки.
А вот сегодня случилось вдруг такое, что сердце мое не на шутку дрогнуло. Честно скажу – испугался Максим Перепелица… Не то, чтоб сильно испугался, но…
Лучше расскажу все по порядку.
Каждому известно, что период учений – самое трудное для солдата время, но и самое интересное. Сегодня учения закончились у нас рано. Солнце стояло еще высоко, а батальоны нашего полка уже атаковали кухни, что дымились вдоль всей опушки соснового леса. Как всегда во время обеда, настроение у солдат бодрое. Звенят котелки и ложки, кругом слышен смех, разговоры, шутки.
Мое отделение благодаря заботам своего командира, это меня значит, пообедало раньше всех. Потом быстро вымыли и высушили котелки и принялись за чистку оружия.
Сидим мы на травке, разложив перед собой паклю, масленки, ружейные приборы, и ведем разговор – обсуждаем сегодняшнюю десантную операцию.
– А в других отделениях оружие уже вычищено, – неожиданно раздается сзади меня голос.
Узнаю нашего командира взвода лейтенанта Борисова и проворно вскакиваю на ноги.
– Зато они еще не пообедали, – оправдываюсь.
– Первая забота солдата – об оружии, – говорит лейтенант и недовольно хмурит брови.
Хотел я ему тут высказать свое мнение, что живой человек, мол, прежде всего. Но смолчал, потому как знал – лейтенант ответит: жизнь солдата на войне в первую очередь зависит от исправности его оружия. Смолчал еще и по другой причине: Борисов тут же сообщил мне такое!..
– Ладно, – говорит и улыбается. – После будем толковать об оружии. А сейчас бегите вон на ту высотку, где вертолет стоит. Генерал вас ждет. Он вам сейчас лично объяснит, что главнейшее в солдатском деле.
Стою я ни живой ни мертвый. Чем же я провинился, что к самому генералу меня вызывают?
Перебираю в голове все свои последние грехи и промашки. Вроде ничего такого не натворил.
– Бегом! – торопит меня лейтенант Борисов.
Бегу. Бегу и продолжаю думать. Может, старшина Саблин нажаловался? Вчера на привале поспорил я с ним, что могу кого угодно связать палкой. Не поверил старшина: думал – шутит Перепелица. И согласился, чтоб я его связал.
– Обижаться не будете? – спросил я у старшины.
– Никакой обиды, – ответил он.
Раз так, вырубил я длинную толстую палку, расстегнул на гимнастерке Саблина две нижние пуговицы и предложил ему засунуть обе руки за пазуху. Когда он это сделал, я протянул палку у него под мышками так, чтоб она оказалась на груди, над кистями засунутых в пазуху рук. Потом неожиданно дал старшине подножку. Он свалился на спину, даже ноги задрал. Этого мне и нужно. Палка, продетая под руки, торчит по бокам Саблина, как длинная ось. И я ловко закидываю за эту «ось» вначале одну, а потом другую ноги старшины.
Скорченный, он лежит, беспомощный. Ноги раскинул, как подбитый воробей крылья. С недоумением на меня глаза таращит и силится руки из-за гимнастерки выдернуть.
– Ну как? – спрашиваю у Саблина и помогаю ему сесть.
– Черт! – хрипит Саблин и тужится, чтобы на носки привстать.
Пожалуйста, я даже помогу. Беру его под мышки и приподнимаю. Приподнял на носки и отпустил. Старшина тут же и клюнул носом в траву. Лежит, раскорячившись, спиной и всеми другими местами к небу, и кричит:
– Развяжи!
А я не спешу, тем более что вся рота собралась на такое диво глядеть. Ведь сам старшина пощады у Перепелицы просит.
– Ну, как, – спрашиваю, – теперь верите, что палкой связать можно?
А он знай одно заладил: «Развяжи».
Подошел командир роты и как увидел своего старшину в таком неприглядном виде, так и покатился со смеху.
Вижу, из других рот солдаты сбегаются. Надо развязывать. Развязал.
– Кто выиграл пари? – спрашиваю.
– Что за глупые шутки! – сердито отвечает Саблин, вытирая со лба пот и на солдат оглядываясь. – Зачем же носом в землю?
Так вот, могло случиться, что нажаловался Саблин. Мол, скомпрометировал его, старшину, сержант Перепелица… Ох, и попадет от генерала! Плакал тогда мой отпуск. А командир роты твердо обещал: «Кончатся учения – поедете, Перепелица, на десять дней домой».
Не несут меня ноги. До высотки, где вертолет генерала приземлился, далековато. Бежать бы надо. А в ногах моих слабость.
Вдруг из лощинки, навстречу мне, вынырнул старшина Саблин.
– Куда спешите, Перепелица? – дружелюбно спрашивает. И никакой обиды на его лице не замечаю.
– Генерал зачем-то требует.
– Генерал? Лично вас? – удивился Саблин.
– Лично, – отвечаю и вздыхаю с облегчением: значит, Саблин здесь ни при чем.
Иду дальше. А в голове аж треск стоит от разных мыслей. «Зачем я нужен генералу?» Наверное, сегодня что-нибудь не так сделал. А может, наоборот? Может, похвалить хочет? Действовали же мы неплохо. Но тоже вряд ли. Откуда генералу знать, как наступало отделение Перепелицы?
Перебираю в голове все события сегодняшнего дня…
С рассветом доставили нас грузовики на аэродром. Началась обычная возня со снаряжением и амуницией: скатку закрепи на чехол запасного парашюта, лопатку подвяжи черенком вверх, спрячь в карман пилотку и шлем напяль на голову, зачехли оружие. Потом пока подвесную систему подгонишь, и уже звучит команда на посадку.
Совсем немного времени прошло, а мы уже в воздухе.
Сижу я у самого люка (мне первым прыгать придется) и поглядываю на пристегнутый к тянущемуся через всю кабину стальному тросу замок полуавтомата. Это такой замыкающийся крючок, от которого идет бечевка к моему основному парашюту. Когда я прыгну, она должна парашют раскрыть. Вижу – там полный порядок. Поворачиваюсь к окну. Совсем близко от нашего самолета плывет целая армада тяжелых машин. И в каждой, как зерен в огурце, полно солдат. Внушительная армада! Фюзеляжи и хвосты самолетов окрашены в розовый цвет лучами только что взошедшего солнца. А далекая земля еще в тени, еще солнце не кинуло на нее своего взгляда.
Ниже и в стороне идут звенья вертолетов. Смешные машины! Но сильные. Каждая пушку или тягача с орудийным расчетом несет в своем брюхе.
Вдруг совсем близко от нас проносится пара реактивных истребителей, затем вторая, третья. Охраняют нашего брата…
Тихо в кабине. Все солдаты моего отделения к окнам приникли и наблюдают. Кое-кому страшновато прыгать.
Толкаю локтем сидящего рядом Симакова Мишу.
– Ну как? – спрашиваю.
– Курить охота, – отвечает.
– Курить? – удивляюсь. – Эх ты, культурный человек! Токарь пятого разряда, а не знаешь, что никотин отражается на нервах. – Солдаты зашевелились, поворачивают к нам головы. А я продолжаю: – Помню, в селе нашем Василь Худотеплый бросил курить и… умер. Только, кажется, он вначале умер, а потом бросил курить…
Раздается трель звонка – сигнал начала выброски. Штурман – молодой лейтенант – отдраивает люк и командует:
– Пошел!
Эта команда царапнула меня за сердце: ко мне ведь относится. Бодро подхожу к люку.
– Эх-ма! – весело кричу. – Подтолкни, Симаков!
Симаков легонько толкает меня в спину, и я, ради шутки, с криком «ура!» шагаю за борт.
Напряженные секунды… Рывок, хлопок полотна раскрывающегося парашюта. И болтается Максим Перепелица между небом и землей.
Иные думают, что парашют плавненько, осторожненько сажает солдата на землю. Ничего подобного! Если зазеваешься, не развернешься по ветру и чуть не согнешь сомкнутые ноги, то имеешь шансы поломать ребра, отбить печенки или еще что-нибудь сделать. Значит, с умом надо приземляться.
Вот я и иду к земле, как того наставление требует. А вокруг – сотни других парашютистов спускаются. Все небо усеяно ими! Похоже, что Млечный Путь падает на нашу землю.
Приземлился, как положено, погасил купол, отстегнулся от подвесной системы и привожу себя в боевое состояние: автомат из чехла долой, скатку через плечо, пилотку на голову.
Рядом со мной Михаил Симаков – ухватился за нижние стропы и упирается, как бычок. Хочет купол погасить.
– Здоров, кум! – кричу ему. – Белье сменить не треба?
– Никак нет, товарищ сержант! – отвечает. – Полный порядок!
Даю два свистка – сигнал для сбора своего отделения. Со всех сторон подбегают ко мне солдаты. Еще через некоторое время поле, усеянное белыми пятнами парашютов, остается позади, а мы, вытянувшись в цепочку, лежим на песчаной осыпи старой траншеи и всматриваемся вперед. Там, на холмах, за густой и высокой сеткой спиральных колючих заграждений, засел «противник», и нам предстоит атаковать его.
Позади грохочут танки, прорвавшиеся в «тыл неприятеля». Приказано, видать, танкистам поддержать действия пехоты, выброшенной с воздуха. На флангах артиллеристы устанавливают пушки, выгрузившиеся из вертолетов.
Словом, начинается обыкновенный бой.
Первое слово за артиллерией. Сзади нас бахают пушки, а далеко впереди вскидываются вверх столбы земли и дыма. Тем временем танки втягиваются в проходы, оставленные для них пехотой. И когда между двумя красными флажками в цепи нашего отделения тоже проползает танк, я замечаю вспыхнувшие в небе зеленые ракеты.
– В атаку! За мной! – поднимаю солдат и устремляюсь за танком. – Не отставать от трактористов!
Справа и слева бегут цепи соседних отделений и взводов. Строчат пулеметы и автоматы, трещат выстрелы карабинов. Танки ведут огонь с хода. Бой как бой.
Стена проволочных заграждений все ближе и ближе. А перед ней – мелководный ручеек; препятствие пустячное, но задержка из-за него может быть. И точно: только шедший впереди нас танк влетел в ручей, облив водой с ног до головы забежавшего вперед Янко Сокора, как тут же у гусеницы взметнулся взрыв. Танк заглох и остановился, не дотянув какой-то метр до проволочных заграждений.
А нам же проход нужен!
– Эгей, трактористы! – кричу я и стучу по броне танка. – Давай вперед!
Откуда-то вдруг появился посредник – майор с белой повязкой на рукаве.
– Танк выведен из строя! – объявляет он командиру танка, который из башни высунулся.
– А воевать как?! – возмущаюсь я, обращаясь к посреднику.
Но что ему до нас? Улыбается и руками разводит.
– Действовать надо, – говорит.
Эх, не вовремя! Как теперь без танка через проволоку проберешься. Три же рулона колючки выше человеческого роста!
Нужно принимать вправо или влево, на участки соседей. Но отстанем! Такое боевое отделение и вдруг в хвосте будет плестись!
Тут замечаю я, что пушка танка вздыбилась прямо над проволокой.
– Давай ствол ниже! – кричу танкистам.
Послушались. Ствол пушки лег над заграждением. Радостно мне стало, что смекнул удачно.
– За мной! – командую отделению и влезаю на танк.
С башни ступаю на пушку и бегом по стволу вперед. Пять быстрых шагов, и спрыгиваю на землю по ту сторону проволоки. Следом за мной – Симаков, Казашвили, Сокор, Панков и все отделение. Каждому пригодилось умение по буму ходить. Не зря обучал я этому солдат.
Оглядываюсь назад и замечаю: майор-посредник даже за голову руками ухватился. Потом сам на танк забирается. Видать, понравились ему наши действия.
«Знай Перепелицу», – думаю.
А впереди новое препятствие – глубокий противотанковый ров. Танкисты, вижу, уже берут его. Один танк сполз на дно рва, а по его башне ползут на ту сторону другие танки. Хороший пример!
Сваливаюсь в ров и подставляю спину Симакову.
– Дуй наверх! – кричу.
А моим солдатам долго растолковывать не приходится. Только Симаков взобрался по спине моей на насыпь рва и подал мне руку, как вижу, Сокор оседлал Казашвили, Панков – Митичкина. Все вверх карабкаются. Оцэ дило!
– Не отставать! – подаю голос и бегу вперед. На ходу веду огонь из автомата по амбразуре дзота, в которой сверкают пулеметные вспышки.
– Сержант! – вдруг останавливает меня голос. – Отделение несет потери от пулеметного огня «противника».
Оглядываюсь: майор-посредник. Как он догнал? Но раздумывать нет времени.
– Стой! – командую отделению.
Солдаты, бежавшие слева от меня развернутой цепью, залегают.
Положить отделение, конечно, не трудно. Но как его вперед продвинуть? Как заставить замолчать тот проклятый пулемет в дзоте?
Кидаю взгляд по сторонам, прощупываю глазами кочки, ложбинки… Подобраться можно, но не к самому дзоту. И вдруг принимаю решение.
– Ручному пулемету! – командую. – По амбразуре дзота, три, огонь! Отделению окопаться! Рядовой Симаков остается за меня!
После этого, что есть сил, отползаю по ложбинке в сторону. Отполз, плюнул на палец и проверил, с какого направления ветер дует. Определил. А нужно мне было знать это вот для чего: на жнивье, по которому мы наступали, кое-где лежали кучки бросовой прелой соломы. Вот и нацелился я на одну из них. Подобрался к ней и рукой в карман за спичками. И-и-и… нет спичек! Кто-то взял прикуривать и не вернул. Что делать? Еще минуту промедлить, и можно считать, что атака моему отделению не удалась.
Вдруг вспомнился один случай. Летом, на занятиях по тактике, один солдат из соседнего взвода дал очередь из автомата у стога сена. И не успел опомниться, как стог вспыхнул. В минуту копна сгорела. А командиру пришлось потом уплатить за нее деньги.
Вспомнил я этот случай и ствол автомата в солому наставил. Нажал спуск. Очередь. И солома загорелась. Потянулся желтый дымок, потом гуще, гуще и покатился прямо на дзот. А мне этого и нужно. Вскочил я на ноги и, маскируясь в дыму, стрелой мчусь к дзоту.
Через минуту все было кончено. Майор-посредник вывел «неприятельских» пулеметчиков из боя.
После взятия дзота и траншеи, как и полагается, поддержали мы огнем соседей, а затем устремились дальше. И только отбежали метров пятьдесят от траншеи, как нам навстречу выполз из лощины танк с белыми полосами на броне. «Противник»! Выполз и чешет из пулемета по пехоте, а из пушки по танкам, которые, преодолев ров, атакуют справа.
Передо мной оказался одиночный окоп. Свалился я в него, и тут же мне на голову еще кто-то плюхнулся. Смотрю – Симаков Миша. Остальные солдаты отделения в траншею отхлынули.
А танк все ползет. Эх, были бы гранаты! Но мы их при захвате дзота и траншеи израсходовали.
Слышу – посредник что-то кричит. Наверное, хочет танкистов предупредить, что в окопе люди. Но танкисты не слышат посредника, а нам не хочется себя выдавать.
Танк уже рядом. Земля дрожит как в лихорадке. С бруствера срываются и падают за шиворот сухие комочки глины. А мы с Симаковым все теснее ко дну окопа прижимаемся.
Вдруг в окопе стало темно. Дохнуло жаром, и танк прогрохотал над нами.
– За мной, Миша! – крикнул я не по-уставному и прямо из окопа швырнул на броню танка свою скатку. Тут же выбираюсь наверх и бегом за скаткой. Догнал танк, стал ногой на буксирный крюк и на броню. Только руку чуть-чуть обжег – за выхлопную трубу ухватился. А можно было и не хвататься.
Взял скатку и, придерживаясь за десантные скобы, вдоль башни пробираюсь к переднему люку. Подобрался и удобно одел скатку на оба передние смотровые прибора. И сам сверху уселся. Теперь механик-водитель ослеплен.
А башню тем временем Миша Симаков «обрабатывает». Развернул он скатку и все приборы прикрыл шинелью. Сам же уселся на крышку люка командирской башни.
Танк, разумеется, остановился. Слепой же!
– Что случилось? – слышу из-под брони голос.
Тут им посредник и объяснил:
– Танк выведен из строя.
Раз мы дело свое сделали, кричу своему отделению привычное слово: «Вперед!» А у Симакова спрашиваю:
– Закурим, Миша?
– Вы же говорили – вредно! На нервах отражается!
– Так то ж в воздухе! – смеюсь я. – А на земле можно…
Вскоре после этого закончились учения. Чем же может быть недоволен генерал? Возможно, танкисты жалобу подали? Наверное, считают, что не по правилам ослепил их. Или что другое?
Раздумывал я так, раздумывал и дошел, наконец, до высотки, на которой вертолет стоит. Генерала заметил сразу. Сидит он в кругу офицеров, разговаривает. Представительный такой, могучий. Из-под фуражки белые виски выглядывают.
Докладываю:
– Товарищ генерал, сержант Перепелица по вашему вызову явился!
Он поднял глаза и смотрит с недоумением.
«Неужели разыграли? – мелькнула у меня мысль. – Вот смеху будет! На всю роту!..»
– Кто вы такой? – недовольно спрашивает генерал.
– Командир первого отделения, первого взвода…
Но тут меня перебивает кто-то из группы офицеров.
– Это я вам докладывал, товарищ генерал…
Кошу туда глаза и узнаю майора-посредника.
– А-а, – заулыбался генерал и встал на ноги, отряхнулся. – Рад познакомиться с героем, – и крепко пожал мне руку.
К моему языку точно колоду привесили. Шевельнуть не могу им. Только по-дурацки улыбаюсь – рад, что генерал не ругать вызвал.
– Любопытно, любопытно вы воюете, – продолжает генерал. – Молодец. И за ствол над проволочными заграждениями и за ослепление танка хвалю. Вы еще раз показали, что нашему солдату нет преград.
Потом помолчал генерал, посмотрел на меня и начал совсем другим тоном.
– То, что личным примером ведете солдат в бой, – хорошо. Но то, что забываете о своей роли командира, – плохо! Да, да, плохо! Ослеплять дзот нужно было послать кого-нибудь из подчиненных. Нельзя быть таким жадным! – и опять заулыбался генерал. – Нужно и другим давать отличаться, командовать нужно… А в общем молодец! От лица службы объявляю вам и вашему отделению благодарность.
– Служу Советскому Союзу! – гаркнул я в ответ.
НА ПОБЫВКЕ
Эх… любовь!..
Скажите, кто имеет что-нибудь против любви?.. Никто! Нет, по моему мнению, человека на земле, который бы сказал, что любовь, мол, пустячное дело и такое прочее. Ничего не имею против любви и я, сержант Советской Армии, Максим Перепелица.
А вот если спросить у кого-либо из вас, что такое любовь? Ответить, конечно, можно, но очень приблизительно, потому что точных слов для этого люди еще не придумали. И у меня нет таких слов, которые можно сложить в рядочек, поглядеть на них и узнать эту вроде и разгаданную, но все еще тайну.
Но есть у меня другое. Есть у меня понимание, что любовь, кроме счастья и радости, приносит человеку немало таких минут, которые горше самой старой полыни, самой желтой хины. Впрочем, все об этом знают, и, несмотря ни на что, все готовы за любовь по целой скирде полыни сжевать и проглотить по мешку хины, потому что без любви не прожить человеку на белом свете.
Однако слова – еще не факт. А наш брат военный привык разговаривать языком фактов, чтобы в каждом слове была суть. Вот я и перейду к факсам.
Вы уже знаете, и это, конечно, никого не удивит, что у меня, сержанта Максима Перепелицы, есть на Винничине дивчина Маруся, по фамилии Козак. Одним словом, люблю я Марусю, да так люблю, что не только словом – песней об этом не скажешь! Скоро два года будет, как служу в армии, и за это время много пришлось почте поработать: часто обменивались мы с Марусей письмами, и в тех письмах каждая строчка, каждая буква любовью дышала.
И вот мне и моему другу земляку, тоже сержанту, Степану Леваде предоставил командир полка краткосрочный отпуск на побывку домой. Поехали мы. Всю дорогу только и говорили, что про полк да про нашу Яблонивку. Как оно в селе? Ведь давненько мы там не были. Душа кричит – так хочется домой Ну, конечно, и о наших девушках говорили Степан – о Василинке Остапенковой, а я – о Марусе Козак. Степан, правда, больше слушал да думал. Любит он подумать; лишнего слова не скажет. Да кто не знает Степана Левады? Учителем бы ему быть, до того он рассудительный.
В Винницу поезд пришел на рассвете. Отсюда до Яблонивки рукой подать. Какой-нибудь час узкоколейным поездом проехать да еще часочек пешком пройтись.
Но поезд узкоколейный отходит не скоро. В самый раз времени хватит, чтобы привести себя в порядок. Дорога-то позади не близкая – запылились, обмундирование на нас поизмялось. А разве может солдат появиться среди людей, а тем более в родном селе, в помятом мундире?..
Вот и направились мы в комнату бытового обслуживания при новом вокзале. Часа два утюжили там нас, пуговицы чистили, свежие подворотнички к мундирам пришивали. Вышли мы из той комнаты, как женихи, нарядные.
Наконец, Перепелица и Левада заняли места в вагоне узкоколейного поезда. Значит, мы почти дома.
Оглядываемся со Степаном на людей – может, кого из Яблонивки увидим. Но разве в такую пору кто уедет из села? Весенние работы в разгаре! Однако в соседнем купе замечаю знакомлю жинку в белой хустынке. Да это же тетка Явдоха!
Так и рванулся я к ней.
– День добрый, титко Явдохо! – говорю.
А она глядит на меня и не узнает. Потом всплеснула руками и отвечает:
– И-и-и, Максим Кондратов! Неужто ты? Своим очам не верю!
– Он самый, – отвечаю.
– Хлопчик мой славный! Ой, який же ты став! Сидай со мной рядом да дай поглядеть на тебя! Ни за что не признаешь, изменился, вырос. А похорошел как!.. – и запела, запела. Не голосок у тетки Явдохи, а прямо мед. Умеет человеку приветливое слово сказать.
– Остановитесь, титко! – говорю ей. – Хватит слов. Нам цветы треба, шампанского!
Дробный смешок Явдохи по всему вагону рассыпается.
– Хватит, – говорит, – что я тебя, дурная баба, провожала цветами.
– Ну тогда, – отвечаю, – отпустите трохи гарных слов для Степана. Смотрите, какой вон генерал у окна сидит, – и указываю ей на Степана.
– И правда! – всплеснула руками Явдоха. – Батеньку мой, правда. Степан!.. Степанэ! Степаночку! Ходи сюда!
– Иди, иди, Степан, не важничай, – поддерживаю я. – Это же титка Явдоха. Не узнаешь? Кажись, не узнает.
– Узнаю, – отвечает Степан и подходит к нам. – Здравствуйте, титко! Хорошо, что встретили вас. Про село нам расскажите. В курс яблонивских новостей введите. Ну, как живете?
– Сами побачите, – отвечает. – Живем, беды не знаем. А я вот возила своей Оленьке трохи пирогов да яичек. Студентка она у меня, на учительницу учится. А вас и не ожидают дома, не знают, что гости дорогие едут. Оцэ радость батькам! Оцэ счастье яке! – снова запела тетка Явдоха. – А вас на станции не встречают?
– Нет, – говорю, – хотим неожиданно нагрянуть.
– А так, так, – соглашается Явдоха, – неожиданно, неожиданно. От станции машиной нашей подъедем. Сегодня Иван Твердохлеб возит удобрения в колхоз.
– Как он там, Иван? – интересуюсь.
– Ничего. Хату ставит, женится. Слышала – скоро свадьба.
Ого! Люблю оперативность.
– А кто невеста? – спрашиваю. – Яблонивская?
– Эге ж, наша, сельская, – отвечает Явдоха. – Славная дивчина, хоть и вертлявая трохи – Маруся Козак…
Своим ушам я не поверил.
– Маруся Козак?! – переспрашиваю у тетки.
– Эге ж, Маруся… – и вдруг голос тетки Явдохи осекся. Всполошилась она и затараторила: – Ой, що ж я балакаю! Брешут люди, а я, дурна баба, передаю вам. Не может того буты! Сам побачишь, Максимэ, что все это брехня чистая! Люди и не то еще могут наговорить…
Одеревенел Максим Перепелица. Ни рукой, ни ногой, ни языком не могу пошевельнуть. Тетка Явдоха еще что-то говорит, а я оглох. Уставил глаза в окно и света белого не вижу. «Неужели Маруся дурачила меня все время? А письма какие писала, обещала ждать Максима…»
Эх, Маруся, Маруся! Вот и колеса вагона вроде выбивают: «Маруся-Маруся-Маруся… Обманула-обманула-обманула…» Проклятые колеса!
Чувствую, Степан трясет меня за плечо.
– Пойдем, – говорит, – постоим на площадке, курить хочется.
Вышли. Степан даже в лицо мне боится глянуть. Спрашивает:
– Выдержишь, Максим?
Я заскрипел зубами, вздохнул тяжело и твердо, со злостью, сказал:
– Выдержу! Еще и на свадьбу к Марусе пойду…
Но, скажу я вам, такой обиды еще никто в жизни не наносил Максиму Перепелице. Да и не только в обиде дело. А с сердцем мне что делать? Не выбросишь же его! Прямо огонь в груди горит. Но никуда не денешься. Припоминаю, что Иван Твердохлеб – хлопец действительно красивый, боевой, в армии служил. Знать, Максиму далеко до него, раз Маруся забыла Максима…
Когда на нашей станции сошли мы с поезда, тетка Явдоха предлагает:
– Поедемте к складам, там машина…
– Нет, – перебиваю ее, – нам хочется на поля яблонивские поглядеть. Пешком пройдемся, у нас чемоданы не тяжелые.
– Верно говоришь, Максим. Пошли, – поддерживает меня Степан.
– Ой, разве так можно?! – всполошилась Явдоха. – Вроде и домой не спешите. Возьмите хоть семечек на дорогу, чтоб не скучно было. Вон их у меня сколько в кошелке осталось. Гарбузовые! Небось забыли там, в армии, какие они, гарбузы, есть? А парубкам нельзя про гарбуза забывать, – и тетка Явдоха уже на ходу сняла с меня фуражку и насыпала в нее тыквенных семечек – крупных, поджаренных. Степан выгребает из своей фуражки семечки в карман, а я гляжу на свою порцию и закипаю от злости. Не намекнула ли мне этим тетка Явдоха?.. Конечно, намек! Забыл, мол, Максим, что такое гарбуз, так не забывай…
Как махнул я из фуражки семечки на землю, Степан даже свистнул от удивления. А потом горько усмехнулся, вспомнив обычай наших девчат подносить нелюбому парубку, который сватается, тыкву в знак отказа. Поэтому яблонивские парубки больше смерти боятся тыквы. Подцепить хлопцу гарбуза – хуже чем солдату наступить на мину!
И вот, кажется, тетка Явдоха намекнула мне про гарбуз. Но это мы еще посмотрим! Может, Маруся и не дождется, чтобы я сватов к ней засылал!
Идем мы со Степаном вдоль железнодорожного пути к тропинке, которая напрямик к Яблонивке ведет. А солнце так ярко светит с безоблачного неба, вроде ему и дела нет до моей беды. За кюветом в траве синими огоньками фиалки горят, золотится лютик и козлобородник. А вон одинокая вишенка вся белым цветом облеплена, нарядная, как невеста. Гм… невеста…
«Держись, Перепелица, – думаю, – дашь сердцу волю – раскиснешь».
Об этом и Левада начал толковать, когда мы свернули с железнодорожного пути на тропинку, отделявшую засеянное поле от луга:
– Не жалей и не убивайся. Не стоит она того. Презирай!
Ну что ж, попробую презирать.
Осматриваюсь вокруг. Все знакомо – каждый бугорок, куст. Не одно лето провел я на этих полях, когда хлопчиком был и коров пас. Но замечаю и изменения. Далеко в стороне тянется дорога. Вдоль нее бегут телефонные столбы. Это новость! Значит, Яблонивка уже с телефоном. А может, и телеграф есть? Спрашиваю у Степана, но он пожимает плечами и на другое мне указывает пальцем.
– Видишь, – говорит, – ольховский ров-то исчез!
И правда, раньше к самой Мокрой балке подступала глубокая канава, заросшая лебедой. Она отделяла нашу землю от Ольховской. А теперь поле ровное, без единой морщинки. Вот где раздолье для трактора или комбайна!
Уже и село впереди показалось. Хат не видно – только белые клубы цветущих садов и зелень левад. Кажется, слышно, как в яблонивских садах пчелы гудут, и чудится запах вишневого цвета. И еще заметны над садами высокая радиомачта да ветряной двигатель, поднявший в небо на длинной шее круглую, как подсолнух, голову. А над полем струится, точно прозрачный ручей, горячий воздух. Значит, земля добре на солнце прогрелась.
Прибавляем шагу. Эх, были бы крылья… Вроде посветлело вокруг при виде родного села.
Но что же мне все-таки с сердцем делать?! Так щемит, что хочется самому себе голову откусить!.. Ох, Маруся, Маруся!
Когда пришли в Яблонивку, солнце склонилось уже к Федюнинскому лесу. Степан Левада повернул в свою улицу, а я – в свою. Иду с чемоданом в руках и на обе стороны улицы раскланиваюсь – с односельчанами здороваюсь.
Вот уже и садок наш виден. Прямо бежать к нему хочется. Но не побежишь – сержант ведь, не солидно. А тут еще дед Мусий стоит у своих ворот – жиденькая бородка, рыжеусый, в капелюхе соломенном. Раскуривает трубку и с хитрецой на меня посматривает.
– На побывку, Максим Кондратьевич? – спрашивает.
– Так точно! На побывку! – отвечаю по-военному и спешу побыстрее пройти мимо деда. Уж очень говорлив он. А мне не до разговоров.
Но не так просто отвязаться от Мусия.
– Постой, постой, Максим! – просит дед и, прищурив глаза, к моим погонам присматривается. – Это что, командирские?
– Сержантские, – отвечаю и на минутку ставлю чемодан. – А вы, я вижу, весь двор свой обновляете? И ворота новые и заборы. – На колодец тоже указываю, где вместо деревянного сруба цементный круг стоит.
– Э-э, Максим, – смеется старый Мусий, – и вправду ты давно в селе не был, раз такое спрашиваешь. Всем колхозом решили, чтобы село в порядок привести. Вот и приводим.
Оглядываюсь вокруг. Точно: село вроде новую рубашку надело.
– Ты на свою хату погляди, – предлагает Мусий. – Иди сюда, здесь виднее.
Подхожу к Мусию и за садом вижу свою хату. Но в первую минуту никак не могу понять, что с ней случилось. Не та хата! Ни соломенной крыши, ни зубчатой стрехи. Вот так батька! Нарочно не писал, что хату железом покрыл. Пусть, мол, Максим ахнет от удовольствия.
– Да-а, – покачал я головой.
– Вот тебе и «да», – трясет бороденкой дед Мусий. – А Иван Твердохлеб вон какие палаты вымахал! Посмотри… Правда, женится хлопец. Треба, чтоб было куда молодую жинку привести.
По всем нервам стегануло меня упоминание о Твердохлебе. Схватил я чемодан и ходу. Но Мусий за рукав мундира поймал. Поймал и допрашивает:
– Не спеши, Максим. Скажи, погоны такие, как у тебя на плечах, продаются где-нибудь?..
– А как же. Продаются, – отвечаю.
– По документу чи свободно?
– Свободно.
Чувствую, что начинаю злиться. Но виду нельзя подать. Старый же человек со мной разговаривает.
– Так-так, свободно значит?
– Да свободно ж! – повторяю ему. – Можете и вы себе купить – хоть генеральские!
Засмеялся дед Мусий ехидненько и уже вдогонку мне колючий вопрос задает:
– А у тебя что, на генеральские грошей не хватило?.. Хе-хе-хе…
Махнул я рукой и зашагал быстрее. Не верит дед Мусий, что из недавнего ветрогона, от которого «все село плакало», сделали в армии человека. Ну и пусть. Поверит!
А дома уже дожидаются Максима. Тетка Явдоха раньше нас добралась к Яблонивке (ясное дело – на машине!) и по всему селу раззвонила, что с вокзала идут Степан да Максим.
На пороге хаты стоит мать и слезы утирает, а отец спешит навстречу.
Обнялись, почеломкались.
– Ну, покажись, який ты став, – говорит отец и по плечам меня хлопает. Широкий, мол.
…Одним словом, приехал я домой. А в хате на столе уже всякая всячина стоит (и когда только успела мать наготовить?). Отец наливает в чарки сливянку, мать придвигает ко мне поближе тарелки с яичницей, салом, колбасой домашней, с капустой, с жареным мясом со сливами. Тут же соленые огурцы, квашеные помидоры, яблоки свежие. Стол даже потрескивает, так нагрузили его.
Мать глаз не сводит с Максима и в то же время приглашает к столу соседку Ганну, которая пришла что-то позычить и не решается переступить порог. Отец охмелел от второй чарки. Говорит, что душно, и открывает окно во двор, а сам небось думает – пусть все село знает, что к Кондратию Перепелице сын из армии приехал…
После обеда вышел я во двор. Хожу вокруг хаты, заглядываю в садок, щупаю рукой молодой орех, посаженный когда-то матерью мне «на счастье». Даже не верится, что я дома.
Сажусь на порог хаты. На дворе уже смеркается. Первая звезда с неба смотрит, хрущи в садку гудят, мимо ворот коровы с пастбища возвращаются, пыль ногами поднимают. От соседской хаты дымком тянет: знать, вечерю варят. И привычное все, знакомое. Спокойно живут люди. Даже не верится, что такая счастливая жизнь может быть на планете, которая несется сломя голову в бесконечном пространстве, отсчитывает годы, десятилетия, века.
Но что мне до веков? Что мне из того, что земля – планета, занята только своим полетом? Ведь до любви ей, до сердца моего дела нет!
Вдруг скрипнула калитка. Вижу – бежит к хате Галя, младшая сестрица Маруси Козак. Увидела меня, покраснела, глаза потупила, но «здравствуй!» сказала бойко. У меня почему-то сердце забилось так, вроде встретил саму Марусю.
– Ой, какая ж ты, Галю, большая стала! – говорю ей. – Наверное, хлопцы уже сохнут по тебе.
– Ов-ва, нужны мне твои хлопцы! – точно отрезала. А потом спрашивает: – Дядька Кондрат дома?
– Дома, – отвечаю.
– Пришла позычить маленькое сверло – батьке зачем-то потребовалось.
«Так я и поверю, что тебе сверло нужно, – думаю про себя, – за сверлом не бежала бы через все село…»
– Иди в хату, попроси, если нужно, – говорю Гале, – а Марусе передай, пусть не забудет пригласить Максима на свадьбу.
Тут Галя уставилась на меня своими большими оченятами, такими же красивыми, как и у Маруси, сердито свела над ними крутые тоненькие брови, потом повернулась, мотнула длинными косичками и выбежала со двора. О сверле даже не вспомнила.
А вечером уговорил меня отец пойти в клуб на колхозное собрание. Надо же на людях показаться. Да и Степан, наверное, будет там.
Пришли мы в клуб, собрание уже началось. Еще из дверей заметил я, что на сцене в президиуме восседает Степан Левада. Важный такой. Председательствует сам голова колхоза. Завидел он меня с отцом и вдруг говорит:
– Товарищи! Имеется предложение доизбрать в президиум собрания нашего дорогого гостя сержанта Советской Армии Максима Кондратьевича Перепелицу!
В ответ весь зал загремел от рукоплесканий. Люди оборачиваются, смотрят в мою сторону, улыбаются приветливо. Мне даже жарко стало. А отец толкает под бок и шепчет:
– Иди, не заставляй себя просить, – а сам аж светится от горд ости.
Пробрался я в президиум и уселся за столом рядом со Степаном. Разглядываю знакомые лица яблоничан. Слева в третьем ряду узнаю Василинку Остапенкову. То-то Степан все время туда глазами стреляет. Еле заметно киваю Василинке.
«А где Маруся? – думаю. – Наверняка с Твердохлебом где-то рядышком сидят». И уже настороженно смотрю в зал, боюсь увидеть ее очи. Заметят тогда люди, что Максиму не по себе!..
Вдруг из боковой двери входит в зал Иван Твердохлеб и вносит стул. Расфранченный – в сером костюме, при галстуке, волосы аккуратно причесаны. А на лице такая самоуверенность у Ивана, что смотреть на него не хочется.
Зачем ему стул понадобился? Ведь свободных мест хватает… Пробрался Твердохлеб по центральному проходу ко второму ряду и здесь пристроил свой стул. Только теперь увидел я, что с краю второго ряда сидит Маруся Козак. Подсел к ней Иван, а она даже бровью не повела. Вроде это ее не касается. Сидит и смотрит на меня в упор своими бесстыжими глазами. Ох, что то за глаза!..
Почувствовал Максим, как загорелось его лицо, и наклонил голову к столу.
Не знаю, на самом деле или показалось мне, что в эту минуту в клубе вроде тише стало и докладчик – агроном наш – на миг замер на полуслове.
Наверное, показалось. Откуда же людям знать, что делается в душе Максима? Ведь когда был Перепелица ветрогоном, разве могли они догадаться, какая девушка ему нравится?..
Но это ж Яблонивка! Здесь дядько идет ночью по улице и знает, какой сон его соседу снится!
Чтобы прийти в себя, смотрю на агронома и вслушиваюсь в его доклад. Предлагает агроном расширить посевную площадь. Дельное предложение. Оказывается, если на Зеленой косе выкорчевать кустарник, который тянется от леса до Мокрой балки, добрый клин земли прибавится у колхоза.
– Его же за три года не выкорчуешь! – бросил кто-то из зала.
– Дело, конечно, не легкое, – отвечает агроном. – Кустарник на Зеленой косе густой, колючий, но зато мелкий, и повозиться с ним стоит.
Я наклонился к председателю колхоза и говорю:
– А чего с ним возиться? Выжечь его – и баста! А потом трактор с плугом пустить. Все коренья наверху окажутся.
Председатель посмотрел на меня внимательно, подумал и, написав записочку, передал ее агроному. А тот возьми да и зачитай эту записочку всему собранию:
«Максим Кондратьевич предлагает выжечь кустарник, потом пустить трактор с усиленным плугом, а затем расчищать почву от кореньев».
Прочитал, повернулся ко мне и говорит:
– Правильное предложение, Максим Кондратьевич! Этим мы сразу и землю удобрим. Пеплу же сколько получит почва!
В зале начали аплодировать.
Потом выступали ораторы. Одни соглашались, другие не соглашались с предложением Максима, но все же порешили – опылить кустарник горючей смесью и сжечь. Но прежде нужно отделить его от леса – расчистить широкую полосу. Это работы на полдня, если дружно взяться. Значит, завтра и за дело, несмотря на то, что воскресный день. Время не терпит.
Кончилось собрание, а я больше ни разу не взглянул на Марусю. Хлопцы и девчата расходятся из клуба парами, а я один, даже без батьки. Выдержал-таки характер! Пусть знает Маруся, что Максим Перепелица и без нее не плохо себя чувствует.
На улице тихо-тихо, даже собственные шаги слышно. И светло от луны, которая золотой тарелкой прямо над селом повисла. Иду и прислушиваюсь, как где-то в зелени ясеней стрекочет кузнечик, а в чьем-то садку соловей точно молоточком по колокольчикам бьет… Из-за околицы вдруг донеслась песня, с другого конца села откликнулась вторая: поют девчата. Кто-то так тонко выводит, что голос, кажется, к луне долетает. Даже соловей в садку притих, заслушался.
А на второй день, как только взошло солнце, вышел я из дому, сунув за свой солдатский ремень топор. Направился к Зеленой косе. Иду вкруговую, по-за огородами. Хочу посмотреть, что в поле делается.
Роса под ногами серебрится. В небе жаворонок звенит, слышен птичий гомон в левадах. Хорошо! Вроде бодро шагаю, нивами любуюсь и песню под нос мурлычу:
Сыдыть голуб на бэрэзи, голубка – на вышни;
Скажы, скажы, мое серцэ, що маешь на мысли!
Он ты ж мэни обищалась любыты, як душу,
– Тэпэр мэнэ покидаешь, я плакаты мушу…
Что-то не то пою! И откуда такие слова? Сердце раздирают. Ть-фу! Даже рассердился на себя. Но не заметил, как другую песню затянул:
…Вычды, Марусю, вынды, сэрдэнько,
Тай выйды, таи выйды, —
Тай выйды, сэрдэнько,
Тай выйды, рыбонько,
Тай выйды!
Эх, тяжело!.. Разве для того я домой приехал, чтоб сердце свое разрывать? Сожми его в кулак, Максим Перепелица, и помалкивай! Терпи!
Когда пришел я к Зеленой косе, там уже собралось много народу. Немедля взялись за дело. Разделились на две группы и с двух сторон начали вгрызаться в кустарник: хлопцы рубили все, что на пути попадалось, а девчата подбирали ветви и волокли их к одной куче. Иван Твердохлеб рубил в той группе, где была Маруся.
А Маруся – веселая, озорная, то и дело песню затевает, смеется. Но не тот смех у Маруси, какой всегда за душу Максима щипал. И лицо ее усталое, глаза ввалились. Да оно и ясно, – наверное, всю ночь простояла с Иваном у ворот.
Здорово я потрудился. Все горе свое вложил в руку с топором.
И вот возвращаемся домой. Еще рано, солнце высоко. По небу табунами плывут белые тучки, а по полю легкий ветерок гуляет, точно заигрывает с нами. Я иду в компании наших хлопцев, рассказываю о службе в армии и посматриваю на стайку девчат, которые идут чуть впереди.
Вдруг там вспыхивает озорная песня:
Милый мой, хороший мой,
Мы расстанемся с тобой,
Не грусти и не скучай,
И совсем не приезжай!..
– Кто это запевает? Никак Маруся? – спрашиваю у хлопцев.
– Она, – отвечает кто-то.
Трудно передать то, что чувствовал в эту минуту Максим Перепелица. Почти возненавидел я Марусю. Как она может? Изменила мне да еще насмехается!
– Перепоем их, хлопцы? – предлагаю.
– Перепоем! – дружно отвечают.
И я запеваю:
В деревеньке Яблонивке
Ты была, моя любовь,
Хлопцы подхватывают:
А теперь ты откатилась,
Как вода от берегов.
Замолчали девчата. Молчит и Маруся. Но не долго молчит. Опять ее знакомый голосок, как кнутом, хлестнул меня по ушам:
Ты, крапива, не шатайся,
Не скосить бы в сенокосе.
Паренек, не зазнавайся
Поклониться б не пришлось.
Не выдержал я. Командую хлопцам идти напрямик, к цегельне, чтоб на те места поглядеть. И сворачиваем с дороги.
А Маруся с девчатами провожает нас новой частушкой:
С неба звездочка упала
На сиреневый кусток.
Я от милого отстала,
Как от дерева листок!
Идем напрямик по полю и к песне девчат прислушиваемся. Горько мне. И тут замечаю, что вместе с нами идет Галя – сестрица Маруси. И все возле меня вертится. Нарочно отстаю немного от хлопцев. Отстает и Галя, но на меня не смотрит. Вроде ей и дела нет до Максима Перепелицы. С грустью спрашиваю у нее:
– И ты, Галюсю, с нами идешь?
Галя метнула на меня свой лучистый взгляд и, отвернувшись, отвечает:
– Куда хочу, туда и иду! Не запретишь.
– А ты, Галинка, больно сердитая стала. Чем это я не угодил тебе? – и за плечи ее обнимаю.
– Не лезь, обнимака! – отрезала и вывернулась из-под моей руки.
Потом посмотрела на меня с упреком и спрашивает:
– А ты, что же, Максим, к нам дорогу позабыл?
– Приду, серденько мое, приду, – отвечаю Гале. А сам думаю: «Что если взаправду зайти к Марусе домой? Хоть на одну минуту… Посмотреть ей в глаза и уйти. Глаза не обманут».
Опять обнимаю Галю за плечи. Она больше не уворачивается, а вопросительно смотрит мне в глаза. Говорю ей:
– Передай Марусе, что Максим заглянет сегодня под вечер. Скажи – свататься придет Максим, – и смеюсь.
Галя даже носом повела – не пахнет ли насмешкой. Убедилась, что нет, и обеими руками поймала на своем плече мою руку. Стиснула ее и щекой прижалась, даже взвизгнула тихонько. Потом выскользнула из-под моей руки, вертнула своими косичками и убежала. До чего же шустрое девчатко!
Пришел я домой и начал слоняться из угла в угол, дожидаясь вечера. Мать дважды спрашивала, не захворал ли я, еще чего-то хотела сказать, но не решилась. А я все ходил да думал; и было о чем думать. В такую сложную обстановку Максим еще не попадал. Это тебе не тактические учения. Тут ни военной хитростью, ни умением не добьешься своего. Да и добиваться я не намерен. Силой мил не будешь. Вот только в глаза Марусе хочется взглянуть. Почему она писала мне такие письма? Неужели насмехалась над Максимом?..
Когда начало вечереть, начистил я свои сапоги до черного огня, заправил обмундирование как следует и пошел к Марусе. Пошел через сады, чтобы меньше видели. Вот и садочек, в котором хата Маруси стоит. Белым-бело от вишневого цвета! Пробираюсь по стежке, а ноги не слушаются, точно чужие. Дошел до плетня, но перемахнуть через него не решаюсь.
Вдруг слышу, скрипнула дверь. На пороге показалась Маруся – в новом платье, в туфельках на высоком каблуке. Торопливо пробежала через двор к погребу. Я даже не успел позвать ее. И тут же возвращается она обратно.
Увидел Максим Марусю, и точно пощечину ему влепили – Маруся тащила в хату большущего гарбуза! Наверняка меня гарбузом встречать будет. Дернул же меня нечистый сказать Гале в шутку, что свататься приду!..
Маруся скрылась в хате, а я оглядываюсь по сторонам, не видел ли кто меня, и решаю, куда бы мне… Но тут опять дверь заскрипела. Что я вижу?! Из двери выскочил Иван Твердохлеб, а за ним еще два хлопца яблонивских. На ходу шапки одевают, торопятся. Замечаю, Иван так взволнован, что ничего не видит перед собой. Выхватил из кармана бутылку горилки и бац ею об камень – вдрызг!
– Иван! Гарбуза, гарбуза от Маруси захвати! – кричит ему вслед Галя и катит по двору тыкву.
Понял, наконец, я, что это сваты вылетели из Марусиной хаты. Не знаю, какая сила перенесла меня через плетень. Одним духом перемахнул. А навстречу уже бежит Маруся. Раскраснелась, глаза горят и, скажу я вам, горят гневом. Подбежала ко мне, бледная, задыхается.
– Уходи! – говорит. – Уходи, Максим, чтоб очи мои тебя не бачили! Кому ты поверил?!. Как мог подумать обо мне такое?..
– Ругай!.. Серденько мое… Ругай меня, дурака! Побей даже – не обижусь. На – бей! – и склоняю перед Марусей свою глупую голову.
– Как же ты мог, Максим?.. – спрашивает она таким голосом, что и мне плакать хочется. – Я целую весну на улицу из-за Ивана не хожу. А ты… ты… – и на грудь мне упала.
– Забудь, Маруся, – молю ее. – Не плачь. Прости Максима. Ведь еще не такая беда могла быть. Когда увидел я, что несешь в хату гарбуз, подумал – для меня. Уже в огород сигануть собрался.
Не хватило-таки характера у Маруси. Подняла голову, улыбнулась, и точно посветлело вокруг.
– Тебе гарбуза? – спрашивает. – Ой, Максимэ! Да я тебе вышитыми рушниками дорожку в хату выстелю…
Ну, а потом дело пошло на лад! Каждую ночь гуляли мы с Марусей по улицам. Нет, наверное, такой скамеечки у ворот, где бы мы не посидели. А песен сколько пропели…
И еще скажу про гарбузы. Когда я возвращался из отпуска и Маруся провожала меня на станцию, попросил я ее припасти целую подводу гарбузов разных калибров: должно же хватить их для всех сватов, пока я службу не закончу!..
Такая-то история с гарбузами. Но суть, конечно, не в гарбузах. Узнал, что такое любовь. Узнал, да словами об этом не скажешь. Только сердце может найти подходящие слова. Но, видать, потому оно и немое, сердце-то мое, что еще нет таких слов. А если кто вам скажет, что есть, – стоит верить! Да, да, нужно верить! Как знать, может у кого-нибудь сердце уже и словами заговорило! А может, песней. В песне тоже смысл бывает. А в песне сердца – тем более!
И не забывайте, что все это сказал вам я, Максим Перепелица. Не забывайте и к своему сердцу прислушивайтесь. Может, оно уже говорит или поет?

Оглавление
СТО БЕД НА ОДНУ ГОЛОВУ
НА ПОРОГЕ СЛУЖБЫ
«ЛУЧШЕ НА ГАУПТВАХТУ…»
КИЛО ХАЛВЫ
У ИСТОКОВ СОЛДАТСКОЙ МУДРОСТИ
«СПАСИБО, ТОВАРИЩ!»
ТРУДНАЯ ФАМИЛИЯ
ДРУГ КОМАНДИРА
ВАЖНЫЙ ФАКТОР
ДУША СОЛДАТА
НЕМОКНУЩИЕ СПИЧКИ
БАТЬКОВА НАУКА
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ
ЗАКОН БОЯ
ТРЕТЬЯ ВСТРЕЧА
СЛАВА СОЛДАТСКАЯ
«ДУРНЫЕ» ПРИМЕТЫ
СОЛДАТУ НЕТ ПРЕГРАД
НА ПОБЫВКЕ

 У своего батьки, колхозного кузнеца, Кондрата Перепелицы, и матери Оксаны я, Максим, единственный сын. Да вот дела до этого никому нет в нашем селе Яблонивке, что на Винничине. Не очень нравлюсь я людям. Говорят – ветерок у меня в голове посвистывает.
Но я с этим не согласен. Ну, действительно, Максим Перепелица – не как все хлопцы. Люблю я порассуждать, люблю везде первым быть. Нравится мне, когда я у всех на виду. Шутки всякие мне по душе. Так что в этом плохого? Почему же прозвали люди меня ветрогоном? И так прилипла ко мне эта дурная кличка, что даже на комсомольском собрании не стесняются обзывать ею Максима Перепелицу, если критикуют за поведение.
Но должен сказать, что критикуют за сущие пустяки. Подумаешь, яблоки обнес в садку деда Мусия! Или по-собачьи залаял среди ночи под окном тетки Явдохи. Так кто же не знает Мусия? Более сварливого деда во всей области не найти. А Явдоха? Это же явная спекулянтка! Она умеет наторговать денег даже за капустные листья, которыми масло обвертывает, когда несет на базар!
Посмеиваются надо мной в селе еще и потому, что не понимают толку в значках различных. Сдал я, например, нормы «Готов к труду и обороне». Привесил себе значок. А рядом с ним примостил значок альпиниста, который нашел в Виннице на вокзале. Так это ж в шутку – в честь того, что я раз в неделю покупаю себе дорогие папиросы «Казбек»!
Значки спортсменские дело, конечно, не пустяковое. Но это ничто по сравнению с тем, чего можно добиться на военной службе. Вот уйду в армию, там покажу себя! В Яблонивке еще увидят, каков есть Максим Перепелица!
Долго дожидался я этого счастливого дня. И вот он не за горами: завтра уезжаю служить в пехоту. Эх, быстрее бы завтрашний день! Быстрее бы военную форму надеть!
И тут случилось такое… Страшно даже подумать… Не видать мне армии, как ушей на своей дурной голове! И это Максиму Перепелице – первому парубку на всю Яблонивку!.. Нет, где же правда? Где совесть людская? Почему никто не беспокоится, что я могу не перенести этого?!
А произошло все вот как.
Сегодня на работу в колхоз я уже не ходил – по случаю отъезда. Раз так, решил пораньше выйти на гулянку. Ведь последний вечер в родном селе!..
Оделся во все новое, значки свои к пиджаку привинтил – и за порог. А хата наша стоит на пригорке, у всего села на виду. Осматриваюсь… Хороший вечер! По ту сторону Бродка (так наша речка называется) садится над лесом большое красное солнце. Такое красное!.. Прямо похоже на горящую бочку. И вроде в эту бочку полным-полно малинового сока налили. Катится бочка по небу и яркий сок расплескивает – на облака, на стены сельских хат, на сады яблонивские. Даже вода в Бродке не убереглась, не укрылась в тени кучерявых верб. И ее окрасил малиновый сок.
Да-а, красота какая вокруг. А вон в садку виднеется хата Маруси Козак. Во всем селе лучшей хаты нет! Еще бы. Там же моя Маруся живет!
Славная дивчина Маруся. Многие удивляются, как могла она полюбить такого хлопца, как я, – ветрогона и хвастуна. Но Маруся умеет разбираться в людях. Знает она цену Максиму Перепелице. Еще бы! Кто в селе лучше меня пляшет? Никто! А поет? Тоже. И не лентяй Максим. Работаю в колхозе исправно. В основном, конечно, исправно. Но дело не в этом.
Смотрю я на Марусину хату, на садок Марусин, и так в груди моей защемило! Должен я сегодня проститься с Марусей на три года. Не шутка – на три года! Дождется ли меня Маруся? Уж больно красивая она, и многие хлопцы засматриваются на нее. А вдруг не дождется?.. Не будет тогда мне жизни на белом свете без Маруси!
Задумался я крепко. Маруся, конечно, обещает ждать меня, даже честное комсомольское слово дала. Но три года!..
И тут вдруг пришла мне в голову одна смешная идея. Даже расхохотался я, – так мне весело стало от нее.
В основу своей идеи положил я проделку с обыкновенной тыквой. На Украине тыкву гарбузом называют. Растут они у нас всевозможных размеров и самых причудливых раскрасок. Огромные, продолговатые, как поросята, они бывают желтые или зеленые, белые или оранжевые, зеленые в желтую крапинку или желтые в зеленую крапинку. Словом, узорчатые на разный манер.
Добрый харч для скота эти гарбузы! Сырые, печеные или вареные, они по вкусу даже самой привередливой корове, не говоря о свиньях и другой скотине. А кто не пробовал поджаренных тыквенных семечек? Хороши! Без них даже самая малая вечеринка в Яблонивке не обходится.
Для разного дела гарбуз может пригодиться. Я, Максим Перепелица, когда еще хлопчиком был, не один раз выдалбливал из гарбуза лодку, корабль; или чем плохо усесться посреди огорода на большую гарбузину, точно на лошадь, раскачиваться и во всю мочь песни спивать?
И вот этот обыкновенный гарбуз решил я использовать в своих сердечных делах…
Когда-то в Яблонивке придерживались такого обычая. Если парень (а по-нашему – парубок) собирался жениться, он засылал к дивчине, которая ему полюбилась, сватов. Иногда и сам шел со сватами.
Сваты несли с собой буханку хлеба и, придя в хату невесты, клали хлеб на стол. Дивчина, если она согласна выйти замуж, ставила рядом свою буханку. Это значило, что дело на мази.
Ну, а если она не любила хлопца, не хотела стать его женой? Сказать об этом напрямик при всех как-то неловко. Тогда она бежала в погреб (а летом – на огород) и выбирала там гарбуз побольше. Затем вносила его в хату и клала на стол рядом с буханкой неудачливого жениха. Сваты и жених, завидев гарбуз, хватали свои шапки и пятились к порогу. Для них все становилось ясным… А на селе после этого начинались суды-пересуды.
Старинный это обычай. Сейчас его никто не придерживается. Теперь ведь другие женихи пошли, да и невесты не те. Прежде чем свататься к девушке, каждый парубок заранее заручается ее согласием.
Но бывают же девчата с характером козы! Никак с ней не сговоришься. Ни да ни нет хлопцу не скажет, а все хиханьки да хаханьки. Парень томится, мучается, а потом – была не была – идет свататься. И тут тебе – получай! Здоровенную гарбузину подносит дивчина, а если и не подносит, а просто отказывает, то на селе все равно говорят: «Поднесла парубку гарбуза».
И вот я прикинул в своей голове, кто из наших хлопцев может ухаживать за Марусей в мое отсутствие, и решил каждому из них поднести от ее имени гарбуза. Так сказать – отказ всем вероятным женихам в аванс! Поможет или не поможет, но проделка веселая. Будет же смеху на все село! А это я люблю.
Нужно бежать до моего дружка Степана Левады. Мы с ним вместе на военную службу едем. Правда, друзья мы со Степаном не очень большие. Характеры у нас разные. Я поговорить люблю, а он молчит. Молчит, даже когда свою Василинку – есть у нас одна такая быстроглазая дивчина – домой провожает. Молчит, и точка. Да и неповоротлив он. Плясать стесняется. Раз прихожу к нему домой и со двора слышу, как хата Степанова гудит. Что за чудо? Подхожу к окну и вижу… Степан сам себе на губе играет и гопака отбивает. Чуть не умер я от смеха. Оказалось, тренировался дружок мой. Но дальше тренировки дело не пошло. Так и не плясал он ни на улице, ни в клубе.
Вспомнил я все это и решил, что Степан не подходит для такой операции, как доставка гарбузов на дом парубкам. Пришлось обратиться к своим малолетним друзьям – хлопчикам.
Решено – сделано. Вышел я на улицу, заложил пальцы в рот, свистнул три раза. Вначале собаки по всему селу загавкали, потом хлопчики-подростки начали сбегаться.
Поставил я хлопчикам задачу, для верности дал на каждых трех по значку «Готов к санитарной обороне» (благо, завезли их дюжину в нашу лавку, и я оптом купил), и машина закрутилась.
Через полчаса во рву за колхозным огородом появилась гора тыкв. На каждой я выцарапал ножом соответствующую надпись, и ребята начали разносить по селу гарбузы, развешивая их на воротах адресатов.
А я – руки в брюки, папиросу в зубы – и следом. Надо же посмотреть, как хлопчики выполнили мое задание.
Иду по улице, важный, задумчивый, вроде мне и дела нет до всего, что вокруг делается. Вижу, у ворот двора тракториста Миколы Поцапая собралась толпа хлопцев и девчат. Хохочут все. Только подхожу к ним, как из калитки сам Микола показывается. Разодетый, в сапогах хромовых, чуб из-под кепки ниже уха спадает.
– Над чем смеемся? – добродушно спрашивает Микола и затягивается дорогой папиросой. И вдруг он увидел на своих воротах тыкву. Как коршун на куропатку, бросился на нее. Сорвал и смотрит, точно на гадюку. А на тыкве нацарапано: «Парубку Миколе Поцапаю от Маруси Козак».
– Чего ржете?! – сердито спрашивает Микола. – Не видите – мать повесила сушиться!
– А надпись тоже мать сделала? – поддеваю его.
– Та то куры поклевали, – все еще не сдается Микола. Тут всех хватил такой приступ смеха, что я даже испугался. Вижу – Василинка Остапенкова, невеста Степана Левады, так хохочет, даже руками за голову держится и к земле приседает.
– Ты подумай, какие грамотные куры! – давится она от смеха.
– И чего тем девчатам треба, – сочувственно замечаю я, глядя на Миколу, и обращаюсь к девчатам. – Вы посмотрите на него! Гарный, як намалеванный. С его лица воду можно пить! А она ему – гарбуза.
Опять хохот. А Микола изо всей силы тыквой о землю.
Иду дальше, довольный, веселый. Приближаюсь ко двору бабки Горпины, у которой квартирует Иван Твердохлеб. Это нового шофера прислали в Яблонивку. Симпатичный, видать, он хлопец, если девчата очень засматриваются на него.
Вдруг вижу, со двора выбежала старая Горпина, накинула на ворота платок и сама сверху вроде распялась на них.
– Что такое, бабушка? – спрашиваю.
– Иди, иди, Максимэ, своей дорогой, – отвечает. – Это я… Да уходи, тебе говорят!
Пожимаю плечами, прохожу мимо и тут же за куст бузины, который рядом с воротами во рву растет, прячусь.
– Иванэ! Иванэ! – кричит бабка. – Ходи сюда! Бегом!
Иван Твердохлеб умывается возле порога. С работы только пришел.
– Что случилось? – спрашивает он, берясь за полотенце.
– Т-с-с… Помоги снять! – шепчет ему бабка.
Иван никак в толк не возьмет. Подходит ближе.
– А что такое? – спрашивает.
– Не пытай!.. Беда!.. Снимай скорее.
Иван снимает с ворот тыкву, а бабка оглядывается по сторонам и за плетень его толкает. За плетнем, слышу, шепчутся:
– Слава богу, ни одна живая душа не бачила.
– Ничего не понимаю, – отвечает бабке Иван.
– Сразу видно, что недавно ты в селе, – говорит Горпина и растолковывает Ивану про обычай яблонивских девчат гарбуза женихам подносить.
– Так я ж не сватался к Марусе! – доказывает ей Иван.
– Говори, – посмеивается Горпина. – Приглянулась она тебе?
– А разве Маруся дуже гарна?
– Ой, як яблочко!..
Иван некоторое время молчит, а потом отвечает, да такое, что у меня даже в носу засвербело.
– Ну что ж, – говорит он. – Треба присмотреться к Марусе. Это она мне, наверное, знак подала, что нравлюсь ей.
Хотел я тут выскочить со рва да растолковать Ивану, что к Марусе ему дорога заказана, да он ушел в хату.
Испортил мне настроение этот Твердохлеб. И зачем я послал ему гарбуза? Выходит, что сам я заставил его обратить внимание на Марусю?..
Да-а… Иду дальше по улице, и уже не весело мне, уже не хочется ни о чем думать, кроме как о расставании с Марусей.
Вдруг замечаю – через плетень с огорода деда Мусия, как хмель, вьется тыквенный стебель. На нем – маленькие тыквы. А на самом конце стебля, упавшего в лопухи под плетень, – огромнейшая гарбузина! Я со злом пихнул ее ногой, а она оторвалась от стебля и покатилась по тропинке. Тьфу! Новая забота. Увидит дед Мусий – крику на все село будет.
Куда ее деть? Забросить? Жалко.
Взял я тыкву в руки и надел на кол в плетне. Отошел, оглянулся на нее, а она так хорошо сидит – на самом видном месте. Нельзя такой случай упустить.
Вернулся я к тыкве и ножом нацарапал на ней:
«Парубку Мусию от (?)». Вот, думаю себе, будет комедия, если бабка Параска, жена Мусия, увидит. Но на плетне может не заметить. И пришлось перевесить тыкву на ворота Мусия.
– Зачем это ты, Максим?! – окликает меня голос. Я даже подпрыгнул от испуга. Оглядываюсь – Галя, младшая сестра моей Маруси. Выбежала она из переулка и смотрит на меня.
Гарное дивчатко эта Галя. Очень на Марусю похожа. Две косички с бантами, глазищи большие, круглые, брови черные, крутые. На загорелом лице пробиваются маковки веснушек.
– Галюсю! – обращаюсь к ней и по-военному становлюсь в положение «смирно». – Слушай, Галю, приказ боевой! Пулей лети домой и скажи Марусе: через десять минут ноль-ноль пусть выходит к липе. Только маме ни-ни. Военная тайна.
– Сама знаю, – смеется Галя. – Мама каждый день Марусю из-за тебя ругает.
– Не хотят, чтобы я был вашим зятем?
– Нет, не хотят. Говорят, ветрогон ты.
– И ты веришь, Галюсю? – спрашиваю.
– Нет, – отвечает Галя. – А где ты, Максим, такой цветок взял? – и притрагивается к георгину, который я на козырек фуражки прикрепил. – Мне его Володька дал – сын тетки Явдохи.
– Нравится? – спрашиваю у Гали.
– Очень! – отвечает она, направляясь в переулок, чтобы бежать домой.
– А Маруся любит такие цветы?
– У нас вкусы схожи! – смеется Галя и, мотнув косичками, скрывается в переулке.
Итак, в моем распоряжении десять минут. Удастся ли Марусе за это время вырваться из дому? Очень уж строгая у нее мать. И меня считает непутевым парнем. Но у Маруси тоже характер твердый. Захочет – придет.
Эх, Маруся, Маруся! А что, если на прощанье я ей букет цветов преподнесу? Сказала же Галя, что Марусе георгины нравятся. Надо завернуть к тетке Явдохе. У нее цветник большой: для продажи цветы разводит.
И вот я уже у ее двора. Но заходить в калитку не хочется. У порога хаты лежит на цепи рыжий пес, очень похожий на тигра.
Окликнул я дважды тетку Явдоху. Не отзывается. А время идет. Ладно, нарву цветов без спросу – не будет же она ругать завтрашнего солдата.
Перемахиваю через плетень в цветник и торопливо срываю цветы, какие побольше и покрасивее. Еще один-два, и букет будет готов.
Вдруг слышу – скрипнула в хате дверь. Я так и присел: на пороге появилась Явдоха с двумя пустыми ведрами и коромыслом.
– Володя, Володенька! – зовет она и осматривается. – Сходи, сынку, воды принеси!
Голова моя прямо сама в плечи влезла. Хотя б не заметила…
– Володенька, не ховайся, я вижу! – Явдоха ставит на землю ведра и с коромыслом направляется к цветнику. Ясно, увидела мою спину.
– Ой, это ты, Максим?!
– Я, – отвечаю хриплым голосом и, бросив букет на землю, выпрямляюсь. Пытаюсь даже улыбнуться.
А Явдоха почему-то широко раскрытыми глазами смотрит на мою фуражку, и лицо ее краснеет, делается сердитым. Я перепугано хватаюсь за козырек… Ясно: георгин свой узнала.
– А-а, так вот зачем ты по чужим огородам шляешься! – пошла в атаку тетка Явдоха. – Для чего сорвал?! Это же чистые гроши!
Ну, думаю, если она за один цветок такой тарарам поднимает, что же будет… И подальше отталкиваю ногой сорванные цветы. Но от глаз Явдохи ничто не скроется. Заметила-таки. Даже дыхание у нее перехватило.
– Держите его, люди добрые! – начала орать. – Ой, что наделал! Чтоб у тебя руки поотсыхали, чтоб у тебя пальцы отвалились! По миру меня пустил, разбойник! Да за такой букет пять рублей выторговать можно!..
– Не кричите, титко, – пытаюсь я ее успокоить, и каждая извилина в моем мозгу напрягается. Как найти выход из трудного положения? – Перестаньте! Вам за это заплатят!
В ответ свистнуло в воздухе коромысло и огрело меня по руке.
– Кто заплатит?! – голосит Явдоха. – Кто?! Ты, червивый?!
Набираю я дистанцию, чтобы второй контузии от коромысла не получить, и даже не слышу, что мой дурной язык лепечет:
– Да не бейтесь! Голова колхоза заплатит, – и сам удивляюсь: при чем тут председатель колхоза?
– Ты брехать еще будешь? – опять замахивается коромыслом Явдоха. – Зачем голове цветы?!
– Артистам! – сболтнул я, соображая, как увернуться от второго удара. – Артисты в село приезжают.
И так обрадовался этой мысли. И уже смелее гляжу на Явдоху.
– Так пусть голова свои рвет, – бушует она. Но мне уже не страшно. Сейчас я ее взнуздаю.
– У него не хватило, – говорю. – Послал по селу искать. Ведь по двадцать копеек за каждый георгин будут платить. А вы еще деретесь! – и перехожу в решительное наступление. – Возьмите свои цветы! – отшвыриваю их ногой. – В другом месте найдем. А за оскорбление и побои перед судом ответите! Насидитесь в тюрьме.
Вижу, клюнуло. Явдоха в панике. А я сдвинул фуражку набок, руки в карманы и к плетню.
– Постой, Максим! – опомнилась Явдоха. – Ой, боже! Я ж тебя легонько!.. Постой!.. А много артистов приедет?
– Человек тридцать, – отвечаю ей и собираюсь перемахнуть на улицу.
Но как тут перемахнешь? Чувствую, что поразил тетку Явдоху в самое сердце. Интересно, как она теперь будет вести себя?
– Тридцать?! – Явдоха всплеснула руками и даже присела. – У меня на всех хватит… Максим, хлопчик мои славный! Прости меня, дурную бабу! Не ходи больше никуда! Я пошутила.
Добрые шутки. Рука у меня огнем горит. Такой синячище выше локтя выскочил, что фуражкой его не закроешь. А Явдоха не отстает. До чего ж хитрая жинка! Подхватила с земли цветы, в один миг собрала их в букет и ко мне:
– Возьми, возьми, Максим!
Чего ж не взять, раз просит? Беру.
– Вот спасибо, вот спасибо! – благодарит меня Явдоха. – Здесь на пять рублей. Давай еще нарву.
– Хватит, не донесу. – И перебираюсь через плетень
Надо спешить. Если приду к липе, что над речкой, позже Маруси, – чуб оборвет мне моя милая. Но только вышел за поворот улицы, как тут новая история. У двора деда Мусия целое представление. Вначале я даже не понял, что случилось. Вижу, что собралось много народу, все смеются, а бабка Параска подступается к Мусию и кричит:
– Ах ты старый веник, кочерга блудливая! Как назначили начальником над колхозной пасекой, так я уже не пара тебе стала?!
Я заметил, что в руках старой Параски тыква, и все понял. Интересно. Подхожу ближе, на людей осматриваюсь. Здесь и вездесущий Марко Муха – сельский почтарь, и Опанас Дацюк – самый рассудительный старик в селе и умеющий поддеть кого угодно словцом острым, как бритва; здесь же Микола Поцапай, Иван Твердохлеб, Серега (они сами получили по гарбузу и поэтому особенно довольны происходящим).
А бабка Параска не унимается.
– Внуков бы наших постыдился! – кричит она. – А ну сознавайся, к кому ходил?
У деда Мусия такой несчастный вид, что мне даже жалко его стало. Он опасливо отступает от бабки и молит ее:
– Парасю, опомнись!.. Это охальник какой то подшутил…
– Не бреши! Сознавайся! – И бабка тычет в нос деда тыкву. На ней ясно нацарапано моей рукой «Парубку Мусию от (?)»
Трудно приходится деду. Надо знать бабку Параску, чтобы понять, как трудно. Слышал я однажды, как Параска у колодца доказывала соседкам, что есть люди, которые могут перенести все – голод, холод, пожар и любое другое несчастье. Только одного не могут перенести: назначения на должность начальника. Тогда, мол, такие люди начинают ведрами пить горилку и менять жен, как цыган коней… А тут как раз поручили деду Мусию заведовать колхозной пасекой – вроде в начальники он выбился. Вот и допрашивает его бабка с пристрастием.
– К кому?!
– Не ходил, побей меня гром, ни к кому не ходил! – оправдывается Мусий и обращается к Опанасу Дацюку: – Опанасэ, хоть ты ей скажи…
Опанас поглаживает рукой бороду и хитро улыбается.
– А чего? – вполне серьезно говорит он. – Любви все возрасты покорны.
Точно раскаленной солью плеснули в лицо бабке Параски. Ох, и заголосила ж она.
– Любви?! – кричит. – Тебя уже ноги не носят, а ты любви захотел?!
Меня все больше совесть начинает мучить. Ну, зачем я выставил деда Мусия на такое посмешище? А дед тоже хорош: не может ничего придумать, чтобы прервать эту комедию. Обращается к почтарю Мухе и чуть не плачет:
– Марко… ну, ты объясни…
Марко – известный мастер зубы скалить.
– Трудно, диду, объяснить, – смеется он. – А чего это вы на прошлой неделе ходили по огороду вдовы Наталки?
– Да то я порося искал! – взвыл Мусии не своим голосом. Но тут бабка Параска как из пушки стрельнула в него:
– Развод!..
Это слово, точно гром, поразило Мусия. Он как-то обмяк и сделался еще более жалким. Что делать? Сейчас же при всех людях сознаюсь, что гарбузы на воротах – моих рук проделка. Да, но что скажут Микола Поцапай, Иван Твердохлеб, Серега? Они могут нечаянно на месте меня прикончить. А мне завтра в армию идти. И все же решился я. Уже рот раскрыл, чтобы слово сказать, да так и остался с раскрытым ртом. Дед Мусий вдруг… сознался, что он виноват:
– Парасю, смилуйся! Во всех грехах покаюсь тебе…
Бабка Параска ухватилась за голову. Она, видать, еще надеялась, что все это недоразумение, а теперь…
– А-а-а!… – заголосила она. – Нагрешил, теперь каяться!..
– Какой же это грех? – стонет Мусий. – На прошлой неделе стеклил окно в хате Варвары… Пригласила потом зайти в хату…
– Заходил? – Глаза у бабки стали круглыми, как единственная пуговица на штанах Мусия.
– Заходил, – сознается дед, – миску ряженки съел… и…
– Ну! – грозно топает ногой Параска.
– …и два пирога… – еле выдавил из себя Мусий.
– Развод! – снова стрельнула Параска.
Не знаю, удержался ли дед на ногах после нового залпа, но я лично упал на дорогу и засовал ногами, как подстреленный заяц. От смеха даже букет цветов из моих рук вывалился. И вдруг… Галя! К Мусию подбежала Галя – сестра моей Маруси – и затараторила:
– Это Максим! Я сама видела! Максим гарбуза на ворота повесил.
И не успел я опомниться, как дед Мусий уже летел на меня с огромнейшей палкой.
Подхватил я свои цветы и, сколько было сил, начал удирать. Стыдно, конечно, но это же ради деда Мусия! Еще покалечит меня, и отвечать ему придется перед судом. Не-ет, лучше убегу. Тем более – спешить мне надо: Маруся наверняка давно под липой на скамеечке сидит и сердито на тропинку посматривает.
Выбегаю на берег речки, петляю меж кустами и держу направление к липе. Вроде отстал дед Мусий. Прибегаю к липе, оглядываюсь – пусто. Сажусь на скамеечку, чтобы отдышаться. И вдруг чья-то рука смахнула с моей головы фуражку и цап за волосы! Даже похолодел я.
– Не опаздывай! Не опаздывай! Не опаздывай! – услышал знакомый голос. И от этого голосочка сердце мое сладко-сладко заныло.
Оказывается, Маруся забралась на пологую ветку липы, устроилась там и подстерегла меня. Треплет за волосы и хохочет.
– Ой, Марусь! Понимаешь, – подбираю я слова в свое оправдание. И вдруг где-то за кустами раздается голос деда Мусия:
– А-а, гром бы тебя побил!.. Ветрогон проклятый!..
Одним духом взлетел я на липу к Марусе и рот ей ладонью зажал, чтоб не выдала меня. И во-время. Дед, как молодой козел, пронесся по тропинке мимо липы.
– Ну, погоди! – уже где-то в стороне кричал он. – Я тебя из-под земли достану! Я тебя…
И тут сразу же вступила в прокурорские права Маруся.
– Опять? Чего натворил?! – и смотрит она на меня своими зеленоватыми оченятами так строго, что брови над ними почти узелком связались и ямочки на щеках исчезли. Трудно перед Марусей что-либо сбрехать. Но тут, на счастье, заметила она в моей руке букет.
– А цветы кому?!
– Угадай! А ну, угадай! – оживился я, стараясь перевести разговор на цветы.
– Мне! – выпалила Маруся и так радостно улыбнулась, так сверкнула на меня глазами, что я чуть-чуть не ослеп.
– Ага, – отвечаю, – тебе, – и улыбаюсь, как дурак. Тут же надо снова про любовь говорить, а я «агакаю».
А она прижимает цветы к груди и говорит:
– Ой, Максимка!.. Мне еще никто никогда цветов не дарил.
– Значит, я первый?
– Угу… Спасибо тебе…
Если б в эту минуту Маруся приказала луну с неба достать, я, наверное, постарался б. И так мне захотелось, чтобы она поверила, что для нее я готов в огонь и в воду!..
– Какие красивые, – любуется Маруся букетом. – И где ты достал? Я такие в оранжерее видела, в райцентре.
В эту секунду я возненавидел себя, что не сбегал в райцентр, в оранжерею, и не притащил оттуда охапку самых лучших цветов. А так, что я отвечу Марусе? Она же смотрит на меня ласково-ласково и ждет ответа.
– Оттуда и есть! Из оранжереи! – выпалил я и отвел в сторону глаза.
– Из райцентра?! – Маруся смотрит с недоверием. А недоверие в такую минуту для меня ровно что нагайка для коня.
– Из райцентра, – подтверждаю вполне уверенно.
– Так туда ж двадцать километров! – недоумевает Маруся.
– А что для меня лично двадцать километров? – спрашиваю. – Встал пораньше и сбегал.
– Пешком?
– Напрямик. На гати еще упал, руку зашиб. – И, подвернув рукав, показываю огромный синяк – след от коромысла Явдохи.
Маруся посмотрела на мою руку, потом вдруг… чмок меня в щеку! От неожиданности я чуть с липы не слетел. Еле успел за ветку ухватиться
– Давай слезем, – смеется Маруся, – а то упадешь, и… в армию тебя не возьмут.
Я первым соскакиваю на землю, подставляю руки Марусе. Снял ее с ветки, а сажать на скамеечку не хочется. Так бы век и держал на руках. Тем более за шею она меня обняла
Опустила Маруся руки с моей шеи, и я бережно посадил ее на скамейку.
– Ты рад, что в армию уезжаешь? – спрашивает.
– Ой, еще как! – отвечаю.
– Рад, что от меня уезжаешь?!
– Да что ты, Марусь! – испугался я. – Как ты могла подумать?
– Ну ладно, верю, – Маруся придвигается ближе ко мне и запускает руку в мою шевелюру. – Только волосы там не стриги.
– Нельзя, не положено, – объясняю ей.
– А ты все равно не стриги! – настаивает. – Некрасиво!.. Хотя, впрочем… Стриги! – и с таким лукавством поглядела на меня. – Стриги, стриги!.. И смотри там…
– Ты о чем? – спрашиваю.
– Ни о чем, – и уже на значки мои смотрит. – Для чего столько нацепил? На петуха похож…
– Чтоб знали. Человек заслуженный.
– Заслуженный? Ха! Небось половину выменял!
Ох, и язычок у Маруси. Никакой деликатности.
– Ну да, – отвечаю. – Придумаешь еще!
– Конечно! Ну, откуда у тебя значок парашютиста, например? – и ухватилась за значок; того и гляди оторвет.
– Как откуда? Отпусти.
– Ну, откуда? Ты что, прыгал?
– Прыгал, – сердито отвечаю. И как она не понимает, если я и не прыгал, то могу хоть сто раз прыгнуть! Я же все книжки о парашютистах перечитал!
– С дерева. Ясно, – засмеялась Маруся.
Если бы она не засмеялась, я бы смолчал. А тут…
– Ничего тебе не ясно! – говорю. – Вот уеду в армию, еще услышишь обо мне!
Ну, слово за слово, и пошло…
– Максим! – Маруся уже смотрит на меня волчонком. – Если ты не отучишься хвастаться, вечно брехать… то…
– Что «то»?
– То.
– Подумаешь, учительница выискалась! Я тебе почтя никогда не вру.
– А что толку? А другим? У тебя вечно язык свербит!
– А ты всегда правду говоришь? – ставлю ей вопрос ребром.
– Конечно, – отвечает.
– Конечно… Небось матери сказала, что в клуб пошла, а не на свидание с Максимом
– Эх, ты!.. Во-первых, если хочешь знать, я ей ничего не сказала, так утекла. А во-вторых – это же для тебя!..
– И я для тебя…
– Для меня? – в глазах Маруси опять насмешливые чертики запрыгали. – Зачем за тобой Мусий гнался? Говори!
– Так… – отвечаю, – разминка. Тренируется дед.
– Вот видишь, и мне врешь… Самый настоящий брехун!
Вроде пощечину мне влепила.
– Я брехун? – и вскакиваю со скамейки.
– Брехун, – спокойно отвечает Маруся.
– Брехун?
– Угу… – и еще при этом кокетливо косит на меня глаза.
– Так чего ж ты тогда со мной встречаешься?! – Мне даже чуть-чуть смешно стало. Что она ответит на такой вопрос?
– Да так, из жалости, – безразлично, не моргнув глазом бросила Маруся. – Кому ты еще такой нужен?..
Я даже взопрел.
– Ах, не нужен? – переспрашиваю.
– Не нужен, – подтверждает и еще усмехается.
– Не нужен, значит?.. А-а… а думаешь, ты мне очень нужна?.. Да я только свистну, и девчата табунами за мной побегут…
О! Попал в самую точку. Уже не улыбается Маруся. Вскочила с места, впилась в меня своими глазами-колючками и даже побледнела.
– Ну и свисти… свистун, – сказала тихо, спокойно, а букетом так залепила в лицо, что у меня, кажется, и память отшибло. Когда пришел в себя, Маруси и след простыл…
Вот тебе и последний вечер!.. Вот и простились называется… Ну, что мне делать?.. Пойду в клуб. Маруся перекипит и наверняка туда прибежит.
Осторожно шагаю по тропинке, что через огороды ведет к клубу. Осматриваюсь: как бы на деда Мусия не нарваться… В вестибюле клуба замечаю высокую худую фигуру. Это мой дружок – Степан Левада. Повернулся он ко мне и смотрит, вроде впервые увидел. Ясно, сейчас что-то спросит: у него такая привычка.
– Что, поругались с Марусей? – задает Степан вопрос и подходит ко мне.
– Да так, – неопределенно отвечаю я. – Чи ты Маруси не знаешь? Зашипела, як шкварка, и все. Сейчас прибежит.
Говорю я так Степану, а сам смотрю на людей, идущих через вестибюль в зал. Над дверью захлебывается электрический звонок – оповещает, что собрание начинается. Собрание сегодня не простое: посвящено проводам новобранцев – значит, и мне посвящено и Степану. Но мне не до собрания. Придет Маруся или не придет?
Из зала вдруг выскочила Василинка Остапенкова. Увидела Степана, обрадовалась и тут же приняла строгий вид. Глядит на него, вроде бить собирается. А Степан на меня смотрит – боится без моего разрешения уходить к Василинке.
– Ну ладно, иди, – позволяю я ему. И Степан вместе с Василинкой убегают в зал.
Вижу, вслед за ними спешит через вестибюль Иван Твердохлеб. Я за деревянную колонну, в тень отступаю. Тем более, остановился Иван – шнурок на ботинке завязывает.
Вдруг Маруся влетела в вестибюль. Я к ней. А она сердито повела глазами и отвернулась. Остановилась возле Твердохлеба и сладеньким голоском здоровается с ним:
– Здравствуй, Иванушка!
– Да ты вроде уже поприветствовала меня сегодня, – отвечает Твердохлеб.
– Что-то не помню, – говорит Маруся. – А ты чего ищешь?
– Сердце, Марусенька, потерял, – Твердохлеб выпрямляется и так, дьявол, смотрит Марусе в глаза, что у меня даже кулаки зачесались.
– Да ну? – удивляется Маруся. – Так без сердца и ходишь? – и прикладывает к его груди руку. – А где твой значок парашютиста? – спрашивает.
Тут мне приходится еще глубже в тень ховаться.
– Внук бабки Горпины стянул, – говорит Иван. – А Максим выменял у него на свисток. Ты не видела Максима?
Я думал – Маруся сейчас укажет ему в мою сторону, а она даже не повернулась. Только презрительно бросила.
– Очень нужен мне этот свистун!..
– А кто тебе нужен, Марусенька? – спрашивает Твердохлеб и берет ее за руку.
А она не отнимает руку, нет, а кокетливо поводит плечами, лукаво смотрит на Ивана и отвечает:
– Мало ли гарных хлопцев в селе?..
Все ясно… Маруся с Иваном ушла в зал, а я прикипел к месту и весь огнем горю. Неужели Маруся могла в один вечер разлюбить Максима? Не верю!
Хоть и не чувствую под собой ног, иду в зал. Народу! Как галушек в миске! Вперед не протискиваюсь, а останавливаюсь у задней скамейки, на которой уселись рядом Маруся и Твердохлеб. Стараюсь прислушаться, что говорит с трибуны наш голова колхоза. Но слова его, точно горох от стенки, отскакивают от меня. Вижу, за столом президиума и мой батько, Кондрат Филиппович, сидит. Сидит и грозно в оркестровую яму, где расселись музыканты, смотрит. Он же у меня на скрипке играет и сельским струнным оркестром руководит.
– …Мы провожаем на службу в родную Советскую Армию наших лучших хлопцев!.. – дошли, наконец, до меня слова головы колхоза.
Вот это правильно. Но Маруся разве поймет? Даже не смотрит в мою сторону.
И вдруг по залу точно ветер прокатился. Голова колхоза на трибуне умолк. Все почему-то поворачиваются, смотрят на входную дверь. Поворачиваю голову и я… Ой, горе мое! Увидел я тетку Явдоху и ее сына Володьку. Полные корзины цветов несут в клуб. Это же для «артистов», о которых я наврал Явдохе, когда она меня в цветнике поймала!..
Что за день сегодня? Разве один человек сразу столько бед вынесет?
А народ переговаривается между собой:
– Вот тебе и Явдоха!..
– Это что? Новобранцам притащила?..
– А говорили – за грош повесится!
– Всем девчатам нос утерла!..
Кто-то захлопал в ладоши. Начал аплодировать и голова на трибуне. И весь зал точно с ума сошел: такие рукоплескания, аж окна звенят. Потом батька мой из-за стола президиума махнул рукой оркестру и грянул туш.
Явдоха и Володька пробираются к сцене, а я проталкиваюсь в обратную сторону. У выхода останавливаюсь. Что же будет дальше?
Вижу, Явдоха уже подает корзины голове колхоза и сама взбирается на сцену.
– Вот это по-нашему! – радостно говорит ей голова.
– А как же?! Мы порядок знаем, – отвечает Явдоха и, поставив корзины на стулья, усаживается за столом президиума.
Замолк, наконец, оркестр, и голова опять вышел на трибуну.
– Завтра уезжает от нас в пехоту, – продолжает он речь, – комсомолец Степан Левада!..
Люди опять начинают хлопать в ладоши, оркестр играет туш, а Степан, вижу, сидит рядом с Василинкой и не знает, что делать. Неловко ему, чудаку. Его со всех сторон толкают, заставляют подняться.
– Сюда! Сюда, Степан! – зовет голова и берет у Явдохи букет цветов.
Василинка толкнула Степана под ребра, и он поплелся к сцене.
«Что же будет делать Явдоха? – думаю себе. – Неужели сознательности у нее ни на грош?»
Вижу, шепчет она что-то на ухо голове.
– Какие артисты? – отвечает тот во весь голос. – Конечно, для хлопцев!
– Так побольше давай, чтоб не осталось! – говорит Явдоха и, сложив из двух букетов один, тоже подает Степану цветы.
Голова улыбается, аплодирует Явдохе. Небось сам удивляется, что такой отсталый элемент вдруг в сознание пришел. Аплодируют и в зале. А Явдоха важно раскланивается во все стороны и новую охапку цветов готовит. Это – для Трофима Яковенко, которого выкликал голова после Степана. Тут, вижу, Явдоха снова что-то шепчет ему на ухо. Председатель пожимает плечами и говорит:
– Зачем же их считать? – и на цветы указывает.
– И то правда, – соглашается Явдоха.
Дальше председатель объявляет:
– В пехоту идет комсомолец Максим Перепелица!.. Я, чтоб подальше от греха, выскальзываю в вестибюль и останавливаюсь у двери, прислушиваюсь. Аплодисменты не сказал бы чтоб сильные. А оркестр играет туш ничего, – видать, батька мой постарался.
– Максим Перепелица! – повысив голос, повторяет голова, когда оркестр и аплодисменты затихли.
Слышу, ему отвечает Явдоха:
– Максим уже свое получил, не беспокойся.
– Когда ж он успел? – удивляется голова.
– А когда ты до мэнэ его присылал.
– Я? Зачем?
Тут Явдоха, видать, недоброе учуяла и повысила голос:
– За цветами! Ай запамятовал? По два гривенника за штуку!
В зале вроде что-то треснуло и загремел стоголосый хохот. А я, чтоб не слышать его, кинулся на улицу.
Но не зря говорят, что беда одна не приходит. В дверях сталкиваюсь… с кем бы вы думаете? С дедом Мусием!.. Так и метнулся я в сторону, под лестницу, которая на галерку ведет. А дед посеменил в зал. Заметил я, что понес он с собой тыкву, чтоб ее корова съела! И от самых дверей заорал:
– Дозволь слово, голова!..
Вышел я уже не спеша на улицу, закурил папиросу и стою, точно чучело на огороде. А чего стою? Утекать надо. Осрамился же! Как пить дать – отберут теперь комсомольский билет у меня.
Но уйдешь разве? В зале же осталась Маруся! И еще Твердохлеба этого черти подбросили. Эх… Если сегодня не помирюсь с Марусей, значит точка. Ведь это последний вечер… Нет!.. Что-нибудь соображу! Надо вызвать ее, объяснить.
И только подумал это, как Маруся сама, без вызова моего, пулей вылетела из клуба.
– Коза смоленая! – слышу, кричит ей вслед дед Мусий.
Увидела меня Маруся, остановилась, сверкнула потемневшими глазами и… бац Максима по морде.
– Вот тебе оранжерея! – задыхаясь, шепчет она и тут же на другой моей щеке припечатывает руку. – Вот тебе гарбузы от Маруси!
Не успел я, как у нас говорят, облизаться, а Маруся исчезла, точно сквозняком ее сдуло. Но не такой Максим Перепелица! Догоню! Догоню и подставлю ей свою дурную голову. Пусть еще бьет, раз заслужил. Пусть бьет, только знает, что никто на белом свете крепче любить ее не будет, чем я.
Но побежать вслед за Марусей мне не удалось. Из клуба вырвалась толпа хлопчиков-подростков и в момент взяла меня в кольцо.
– Максим! Скорее! – кричит один.
– Не пускают!
– Решили не посылать! – галдят другие.
– Чего болтаете? – спрашиваю. – Кого не посылать?
– В армию решили не посылать тебя! – объясняют. Ну, это уж слишком! Даже зло взяло.
– Что?! – ору на ребят. – Меня в армию не брать? Прав таких не имеют! – и галопом в клуб.
А в клубе что делается – передать невозможно. Шум, крик, смех. Останавливаюсь в дверях, слушаю. Нужно же сориентироваться.
– Не пускать! – кричит дед Мусий и потрясает над головой тыквой.
От него не отстает Явдоха:
– Правильно! Не пускать!
– Пусть знает! – хохочет Микола Поцапай.
Вижу, объединились все мои противники. А сколько их еще голос не подает?! Ведь больше дюжины тыкв по селу развешано.
Из-за стола президиума поднимается мой батька.
– Это почему же не посылать?! – грозно спрашивает он у Мусия.
– А ты что, хочешь, чтоб он всю Яблонивку нашу там осрамил?! – сердито отвечает дед. – Писать прошение воинскому начальнику! Не место таким в армии!
– Товарищи! Позвольте! – вдруг раздался голос Ивана Твердохлеба. – Как это не пускать?
Я даже рот раскрыл от удивления: Иван вдруг мою сторону взял!..
– Пусть едет! – кричит Твердохлеб и проталкивается к выходу. – В армии из него человека сделают!
А-а, понимаю. Иван спешит вслед за Марусей и заодно старается меня из села выпихнуть, чтоб не мешал ему.
Слышу, тетка Явдоха на полную мощность свою тонкоголосую артиллерию в ход пускает:
– А чтоб ему язык отвалился! В такие убытки меня ввел, брехун! – и поспешно складывает в корзину оставшиеся цветы. – Нехай убирается из села!
– Недостоин! Честь солдатскую запятнает! – дед Мусий даже охрип от крика. – Он всех парубков опозорил! Гарбузов на ворота понавешал!
Я замечаю, что многие в зале хохочут, даже голова колхоза улыбается. Значит, не принимает всерьез болтовню Мусия да Явдохи. И решаюсь перейти в контратаку.
– Каких гарбузов? Кому?! – громко спрашиваю, не отходя от дверей. – Хлопцы, кто сегодня гарбуза получил? Прошу поднять руки!
Ага! Вижу – прячут хлопцы глаза, головы за соседей ховают. Никто не хочет сознаться.
– Вот видите! – с возмущением обращаюсь к Мусию. – Нет таких!
Дед онемел от изумления.
– Как нет?! – наконец, взвизгнул он. – Никто не получил? А я?.. Я получил гарбуза!
– А разве вы парубок? – с удивлением спрашиваю и, видя, что весь зал покатился со смеху, продвигаюсь от дверей метров на пять вперед. – А о вас, титко, – обращаюсь к Явдохе, – говорят, что вы спекулянтка! Так это ж брехня.
– А брехня, брехня, – соглашается Явдоха и спускается вместе с корзинами со сцены.
Опять хохочет зал. А дед Мусий не унимается:
– Не пускать поганца! Пусть дома сидит!
– Не имеете права! – ору ему через весь зал. Голова колхоза застучал карандашом по пустому графину, и, наконец, наступила тишина
Что ты там говоришь? – спрашивает он, обращаясь ко мне. – Иди сюда, чтоб люди тебя видели.
– Мне и здесь неплохо.
Вдруг мой батька срывается с места, бьет кулаком по столу и кричит:
– Иди, стервец! Народ тебя требует!..
Что поделаешь? Раз отец приказывает – надо идти. Снимаю фуражку и плетусь по проходу между скамейками. По ступенькам взбираюсь на сцену.
– Ну, что ты хотел сказать? – спрашивает голова и насмешливо улыбается.
Не терплю я насмешек. Поэтому отвечаю сердито:
– Не имеете права нарушать конституцию!
– А мы не нарушаем, – говорит голова. – Помнишь, как в конституции сказано?
Конституцию я знаю и цитирую без запинки:
– Служба в армии – почетная обязанность каждого советского гражданина
– Вот видишь, почетная! – серьезно говорит мне голова. – А люди считают, что ты такого почета недостоин. Армия наша народная, и народ имеет право решать: посылать тебя на военную службу или не посылать.
– Не посылать! – орут какие-то дурни из зала и хохочут.
Им смех, а мне уже не до смеха. Вдруг правда – решат и не пустят меня в армию? Завтра голова колхоза позвонит по телефону в военкомат, и точка… Даже мурашки забегали по спине. С тревогой смотрю на голову, хочу что то сказать ему, но не могу. Не слушается язык, и в горле пересохло.
– Тов… товарищ голова. – еле выдавил я из себя.
А он отворачивается и улыбается.
– Батьку! – обращаюсь я к отцу. Он даже глаз не подымает
– Люди добрые! – с надеждой смотрю в зал. – За что?.. За что такое наказание?
А в зале тишина, слышно даже, как дед Мусий сопит в усы. Вижу, опустил голову Степан, блестят слезы на глазах у Василинки. На галерке онемели ребята.
– Я же комсомолец! – хватаюсь за последнюю соломинку.
– Выкинуть тебя из комсомола! – подпрыгнул на месте дед Мусий.
– Ну, были промашки, – оправдываюсь. – Глупости были… Так я ж исправлюсь! С места этого не сойти мне – исправлюсь! Клянусь вам, что в армии…
– Дурака будешь валять! – выкрикивает Микола, но тут же на него почему-то цыкает Мусий.
– Товарищ голова! – обращаюсь к президиуму. – Поверьте!.. Что хотите со мной делайте, только не…
– Ты людям, людям говори! – голова указывает на притихший зал.
Но как тут говорить, раз слезы душат меня?
– Никогда дурного обо мне не услышите, – уже шепотом произношу я и умолкаю.
С трудом поднимаю глаза и с надеждой смотрю на голову колхоза. Улыбается, замечаю
– Ну как, товарищи? – спрашивает он у собрания. – Поверим?
Ивдруг собрание в один голос отвечает:
– Поверим!..
Только дед Мусий добавил:
– Сбрешет, пусть в село не возвращается. Выгоним!
Так и посчастливилось уехать мне на службу в армию. А вот с Марусей помириться так и не удалось.
У своего батьки, колхозного кузнеца, Кондрата Перепелицы, и матери Оксаны я, Максим, единственный сын. Да вот дела до этого никому нет в нашем селе Яблонивке, что на Винничине. Не очень нравлюсь я людям. Говорят – ветерок у меня в голове посвистывает.
Но я с этим не согласен. Ну, действительно, Максим Перепелица – не как все хлопцы. Люблю я порассуждать, люблю везде первым быть. Нравится мне, когда я у всех на виду. Шутки всякие мне по душе. Так что в этом плохого? Почему же прозвали люди меня ветрогоном? И так прилипла ко мне эта дурная кличка, что даже на комсомольском собрании не стесняются обзывать ею Максима Перепелицу, если критикуют за поведение.
Но должен сказать, что критикуют за сущие пустяки. Подумаешь, яблоки обнес в садку деда Мусия! Или по-собачьи залаял среди ночи под окном тетки Явдохи. Так кто же не знает Мусия? Более сварливого деда во всей области не найти. А Явдоха? Это же явная спекулянтка! Она умеет наторговать денег даже за капустные листья, которыми масло обвертывает, когда несет на базар!
Посмеиваются надо мной в селе еще и потому, что не понимают толку в значках различных. Сдал я, например, нормы «Готов к труду и обороне». Привесил себе значок. А рядом с ним примостил значок альпиниста, который нашел в Виннице на вокзале. Так это ж в шутку – в честь того, что я раз в неделю покупаю себе дорогие папиросы «Казбек»!
Значки спортсменские дело, конечно, не пустяковое. Но это ничто по сравнению с тем, чего можно добиться на военной службе. Вот уйду в армию, там покажу себя! В Яблонивке еще увидят, каков есть Максим Перепелица!
Долго дожидался я этого счастливого дня. И вот он не за горами: завтра уезжаю служить в пехоту. Эх, быстрее бы завтрашний день! Быстрее бы военную форму надеть!
И тут случилось такое… Страшно даже подумать… Не видать мне армии, как ушей на своей дурной голове! И это Максиму Перепелице – первому парубку на всю Яблонивку!.. Нет, где же правда? Где совесть людская? Почему никто не беспокоится, что я могу не перенести этого?!
А произошло все вот как.
Сегодня на работу в колхоз я уже не ходил – по случаю отъезда. Раз так, решил пораньше выйти на гулянку. Ведь последний вечер в родном селе!..
Оделся во все новое, значки свои к пиджаку привинтил – и за порог. А хата наша стоит на пригорке, у всего села на виду. Осматриваюсь… Хороший вечер! По ту сторону Бродка (так наша речка называется) садится над лесом большое красное солнце. Такое красное!.. Прямо похоже на горящую бочку. И вроде в эту бочку полным-полно малинового сока налили. Катится бочка по небу и яркий сок расплескивает – на облака, на стены сельских хат, на сады яблонивские. Даже вода в Бродке не убереглась, не укрылась в тени кучерявых верб. И ее окрасил малиновый сок.
Да-а, красота какая вокруг. А вон в садку виднеется хата Маруси Козак. Во всем селе лучшей хаты нет! Еще бы. Там же моя Маруся живет!
Славная дивчина Маруся. Многие удивляются, как могла она полюбить такого хлопца, как я, – ветрогона и хвастуна. Но Маруся умеет разбираться в людях. Знает она цену Максиму Перепелице. Еще бы! Кто в селе лучше меня пляшет? Никто! А поет? Тоже. И не лентяй Максим. Работаю в колхозе исправно. В основном, конечно, исправно. Но дело не в этом.
Смотрю я на Марусину хату, на садок Марусин, и так в груди моей защемило! Должен я сегодня проститься с Марусей на три года. Не шутка – на три года! Дождется ли меня Маруся? Уж больно красивая она, и многие хлопцы засматриваются на нее. А вдруг не дождется?.. Не будет тогда мне жизни на белом свете без Маруси!
Задумался я крепко. Маруся, конечно, обещает ждать меня, даже честное комсомольское слово дала. Но три года!..
И тут вдруг пришла мне в голову одна смешная идея. Даже расхохотался я, – так мне весело стало от нее.
В основу своей идеи положил я проделку с обыкновенной тыквой. На Украине тыкву гарбузом называют. Растут они у нас всевозможных размеров и самых причудливых раскрасок. Огромные, продолговатые, как поросята, они бывают желтые или зеленые, белые или оранжевые, зеленые в желтую крапинку или желтые в зеленую крапинку. Словом, узорчатые на разный манер.
Добрый харч для скота эти гарбузы! Сырые, печеные или вареные, они по вкусу даже самой привередливой корове, не говоря о свиньях и другой скотине. А кто не пробовал поджаренных тыквенных семечек? Хороши! Без них даже самая малая вечеринка в Яблонивке не обходится.
Для разного дела гарбуз может пригодиться. Я, Максим Перепелица, когда еще хлопчиком был, не один раз выдалбливал из гарбуза лодку, корабль; или чем плохо усесться посреди огорода на большую гарбузину, точно на лошадь, раскачиваться и во всю мочь песни спивать?
И вот этот обыкновенный гарбуз решил я использовать в своих сердечных делах…
Когда-то в Яблонивке придерживались такого обычая. Если парень (а по-нашему – парубок) собирался жениться, он засылал к дивчине, которая ему полюбилась, сватов. Иногда и сам шел со сватами.
Сваты несли с собой буханку хлеба и, придя в хату невесты, клали хлеб на стол. Дивчина, если она согласна выйти замуж, ставила рядом свою буханку. Это значило, что дело на мази.
Ну, а если она не любила хлопца, не хотела стать его женой? Сказать об этом напрямик при всех как-то неловко. Тогда она бежала в погреб (а летом – на огород) и выбирала там гарбуз побольше. Затем вносила его в хату и клала на стол рядом с буханкой неудачливого жениха. Сваты и жених, завидев гарбуз, хватали свои шапки и пятились к порогу. Для них все становилось ясным… А на селе после этого начинались суды-пересуды.
Старинный это обычай. Сейчас его никто не придерживается. Теперь ведь другие женихи пошли, да и невесты не те. Прежде чем свататься к девушке, каждый парубок заранее заручается ее согласием.
Но бывают же девчата с характером козы! Никак с ней не сговоришься. Ни да ни нет хлопцу не скажет, а все хиханьки да хаханьки. Парень томится, мучается, а потом – была не была – идет свататься. И тут тебе – получай! Здоровенную гарбузину подносит дивчина, а если и не подносит, а просто отказывает, то на селе все равно говорят: «Поднесла парубку гарбуза».
И вот я прикинул в своей голове, кто из наших хлопцев может ухаживать за Марусей в мое отсутствие, и решил каждому из них поднести от ее имени гарбуза. Так сказать – отказ всем вероятным женихам в аванс! Поможет или не поможет, но проделка веселая. Будет же смеху на все село! А это я люблю.
Нужно бежать до моего дружка Степана Левады. Мы с ним вместе на военную службу едем. Правда, друзья мы со Степаном не очень большие. Характеры у нас разные. Я поговорить люблю, а он молчит. Молчит, даже когда свою Василинку – есть у нас одна такая быстроглазая дивчина – домой провожает. Молчит, и точка. Да и неповоротлив он. Плясать стесняется. Раз прихожу к нему домой и со двора слышу, как хата Степанова гудит. Что за чудо? Подхожу к окну и вижу… Степан сам себе на губе играет и гопака отбивает. Чуть не умер я от смеха. Оказалось, тренировался дружок мой. Но дальше тренировки дело не пошло. Так и не плясал он ни на улице, ни в клубе.
Вспомнил я все это и решил, что Степан не подходит для такой операции, как доставка гарбузов на дом парубкам. Пришлось обратиться к своим малолетним друзьям – хлопчикам.
Решено – сделано. Вышел я на улицу, заложил пальцы в рот, свистнул три раза. Вначале собаки по всему селу загавкали, потом хлопчики-подростки начали сбегаться.
Поставил я хлопчикам задачу, для верности дал на каждых трех по значку «Готов к санитарной обороне» (благо, завезли их дюжину в нашу лавку, и я оптом купил), и машина закрутилась.
Через полчаса во рву за колхозным огородом появилась гора тыкв. На каждой я выцарапал ножом соответствующую надпись, и ребята начали разносить по селу гарбузы, развешивая их на воротах адресатов.
А я – руки в брюки, папиросу в зубы – и следом. Надо же посмотреть, как хлопчики выполнили мое задание.
Иду по улице, важный, задумчивый, вроде мне и дела нет до всего, что вокруг делается. Вижу, у ворот двора тракториста Миколы Поцапая собралась толпа хлопцев и девчат. Хохочут все. Только подхожу к ним, как из калитки сам Микола показывается. Разодетый, в сапогах хромовых, чуб из-под кепки ниже уха спадает.
– Над чем смеемся? – добродушно спрашивает Микола и затягивается дорогой папиросой. И вдруг он увидел на своих воротах тыкву. Как коршун на куропатку, бросился на нее. Сорвал и смотрит, точно на гадюку. А на тыкве нацарапано: «Парубку Миколе Поцапаю от Маруси Козак».
– Чего ржете?! – сердито спрашивает Микола. – Не видите – мать повесила сушиться!
– А надпись тоже мать сделала? – поддеваю его.
– Та то куры поклевали, – все еще не сдается Микола. Тут всех хватил такой приступ смеха, что я даже испугался. Вижу – Василинка Остапенкова, невеста Степана Левады, так хохочет, даже руками за голову держится и к земле приседает.
– Ты подумай, какие грамотные куры! – давится она от смеха.
– И чего тем девчатам треба, – сочувственно замечаю я, глядя на Миколу, и обращаюсь к девчатам. – Вы посмотрите на него! Гарный, як намалеванный. С его лица воду можно пить! А она ему – гарбуза.
Опять хохот. А Микола изо всей силы тыквой о землю.
Иду дальше, довольный, веселый. Приближаюсь ко двору бабки Горпины, у которой квартирует Иван Твердохлеб. Это нового шофера прислали в Яблонивку. Симпатичный, видать, он хлопец, если девчата очень засматриваются на него.
Вдруг вижу, со двора выбежала старая Горпина, накинула на ворота платок и сама сверху вроде распялась на них.
– Что такое, бабушка? – спрашиваю.
– Иди, иди, Максимэ, своей дорогой, – отвечает. – Это я… Да уходи, тебе говорят!
Пожимаю плечами, прохожу мимо и тут же за куст бузины, который рядом с воротами во рву растет, прячусь.
– Иванэ! Иванэ! – кричит бабка. – Ходи сюда! Бегом!
Иван Твердохлеб умывается возле порога. С работы только пришел.
– Что случилось? – спрашивает он, берясь за полотенце.
– Т-с-с… Помоги снять! – шепчет ему бабка.
Иван никак в толк не возьмет. Подходит ближе.
– А что такое? – спрашивает.
– Не пытай!.. Беда!.. Снимай скорее.
Иван снимает с ворот тыкву, а бабка оглядывается по сторонам и за плетень его толкает. За плетнем, слышу, шепчутся:
– Слава богу, ни одна живая душа не бачила.
– Ничего не понимаю, – отвечает бабке Иван.
– Сразу видно, что недавно ты в селе, – говорит Горпина и растолковывает Ивану про обычай яблонивских девчат гарбуза женихам подносить.
– Так я ж не сватался к Марусе! – доказывает ей Иван.
– Говори, – посмеивается Горпина. – Приглянулась она тебе?
– А разве Маруся дуже гарна?
– Ой, як яблочко!..
Иван некоторое время молчит, а потом отвечает, да такое, что у меня даже в носу засвербело.
– Ну что ж, – говорит он. – Треба присмотреться к Марусе. Это она мне, наверное, знак подала, что нравлюсь ей.
Хотел я тут выскочить со рва да растолковать Ивану, что к Марусе ему дорога заказана, да он ушел в хату.
Испортил мне настроение этот Твердохлеб. И зачем я послал ему гарбуза? Выходит, что сам я заставил его обратить внимание на Марусю?..
Да-а… Иду дальше по улице, и уже не весело мне, уже не хочется ни о чем думать, кроме как о расставании с Марусей.
Вдруг замечаю – через плетень с огорода деда Мусия, как хмель, вьется тыквенный стебель. На нем – маленькие тыквы. А на самом конце стебля, упавшего в лопухи под плетень, – огромнейшая гарбузина! Я со злом пихнул ее ногой, а она оторвалась от стебля и покатилась по тропинке. Тьфу! Новая забота. Увидит дед Мусий – крику на все село будет.
Куда ее деть? Забросить? Жалко.
Взял я тыкву в руки и надел на кол в плетне. Отошел, оглянулся на нее, а она так хорошо сидит – на самом видном месте. Нельзя такой случай упустить.
Вернулся я к тыкве и ножом нацарапал на ней:
«Парубку Мусию от (?)». Вот, думаю себе, будет комедия, если бабка Параска, жена Мусия, увидит. Но на плетне может не заметить. И пришлось перевесить тыкву на ворота Мусия.
– Зачем это ты, Максим?! – окликает меня голос. Я даже подпрыгнул от испуга. Оглядываюсь – Галя, младшая сестра моей Маруси. Выбежала она из переулка и смотрит на меня.
Гарное дивчатко эта Галя. Очень на Марусю похожа. Две косички с бантами, глазищи большие, круглые, брови черные, крутые. На загорелом лице пробиваются маковки веснушек.
– Галюсю! – обращаюсь к ней и по-военному становлюсь в положение «смирно». – Слушай, Галю, приказ боевой! Пулей лети домой и скажи Марусе: через десять минут ноль-ноль пусть выходит к липе. Только маме ни-ни. Военная тайна.
– Сама знаю, – смеется Галя. – Мама каждый день Марусю из-за тебя ругает.
– Не хотят, чтобы я был вашим зятем?
– Нет, не хотят. Говорят, ветрогон ты.
– И ты веришь, Галюсю? – спрашиваю.
– Нет, – отвечает Галя. – А где ты, Максим, такой цветок взял? – и притрагивается к георгину, который я на козырек фуражки прикрепил. – Мне его Володька дал – сын тетки Явдохи.
– Нравится? – спрашиваю у Гали.
– Очень! – отвечает она, направляясь в переулок, чтобы бежать домой.
– А Маруся любит такие цветы?
– У нас вкусы схожи! – смеется Галя и, мотнув косичками, скрывается в переулке.
Итак, в моем распоряжении десять минут. Удастся ли Марусе за это время вырваться из дому? Очень уж строгая у нее мать. И меня считает непутевым парнем. Но у Маруси тоже характер твердый. Захочет – придет.
Эх, Маруся, Маруся! А что, если на прощанье я ей букет цветов преподнесу? Сказала же Галя, что Марусе георгины нравятся. Надо завернуть к тетке Явдохе. У нее цветник большой: для продажи цветы разводит.
И вот я уже у ее двора. Но заходить в калитку не хочется. У порога хаты лежит на цепи рыжий пес, очень похожий на тигра.
Окликнул я дважды тетку Явдоху. Не отзывается. А время идет. Ладно, нарву цветов без спросу – не будет же она ругать завтрашнего солдата.
Перемахиваю через плетень в цветник и торопливо срываю цветы, какие побольше и покрасивее. Еще один-два, и букет будет готов.
Вдруг слышу – скрипнула в хате дверь. Я так и присел: на пороге появилась Явдоха с двумя пустыми ведрами и коромыслом.
– Володя, Володенька! – зовет она и осматривается. – Сходи, сынку, воды принеси!
Голова моя прямо сама в плечи влезла. Хотя б не заметила…
– Володенька, не ховайся, я вижу! – Явдоха ставит на землю ведра и с коромыслом направляется к цветнику. Ясно, увидела мою спину.
– Ой, это ты, Максим?!
– Я, – отвечаю хриплым голосом и, бросив букет на землю, выпрямляюсь. Пытаюсь даже улыбнуться.
А Явдоха почему-то широко раскрытыми глазами смотрит на мою фуражку, и лицо ее краснеет, делается сердитым. Я перепугано хватаюсь за козырек… Ясно: георгин свой узнала.
– А-а, так вот зачем ты по чужим огородам шляешься! – пошла в атаку тетка Явдоха. – Для чего сорвал?! Это же чистые гроши!
Ну, думаю, если она за один цветок такой тарарам поднимает, что же будет… И подальше отталкиваю ногой сорванные цветы. Но от глаз Явдохи ничто не скроется. Заметила-таки. Даже дыхание у нее перехватило.
– Держите его, люди добрые! – начала орать. – Ой, что наделал! Чтоб у тебя руки поотсыхали, чтоб у тебя пальцы отвалились! По миру меня пустил, разбойник! Да за такой букет пять рублей выторговать можно!..
– Не кричите, титко, – пытаюсь я ее успокоить, и каждая извилина в моем мозгу напрягается. Как найти выход из трудного положения? – Перестаньте! Вам за это заплатят!
В ответ свистнуло в воздухе коромысло и огрело меня по руке.
– Кто заплатит?! – голосит Явдоха. – Кто?! Ты, червивый?!
Набираю я дистанцию, чтобы второй контузии от коромысла не получить, и даже не слышу, что мой дурной язык лепечет:
– Да не бейтесь! Голова колхоза заплатит, – и сам удивляюсь: при чем тут председатель колхоза?
– Ты брехать еще будешь? – опять замахивается коромыслом Явдоха. – Зачем голове цветы?!
– Артистам! – сболтнул я, соображая, как увернуться от второго удара. – Артисты в село приезжают.
И так обрадовался этой мысли. И уже смелее гляжу на Явдоху.
– Так пусть голова свои рвет, – бушует она. Но мне уже не страшно. Сейчас я ее взнуздаю.
– У него не хватило, – говорю. – Послал по селу искать. Ведь по двадцать копеек за каждый георгин будут платить. А вы еще деретесь! – и перехожу в решительное наступление. – Возьмите свои цветы! – отшвыриваю их ногой. – В другом месте найдем. А за оскорбление и побои перед судом ответите! Насидитесь в тюрьме.
Вижу, клюнуло. Явдоха в панике. А я сдвинул фуражку набок, руки в карманы и к плетню.
– Постой, Максим! – опомнилась Явдоха. – Ой, боже! Я ж тебя легонько!.. Постой!.. А много артистов приедет?
– Человек тридцать, – отвечаю ей и собираюсь перемахнуть на улицу.
Но как тут перемахнешь? Чувствую, что поразил тетку Явдоху в самое сердце. Интересно, как она теперь будет вести себя?
– Тридцать?! – Явдоха всплеснула руками и даже присела. – У меня на всех хватит… Максим, хлопчик мои славный! Прости меня, дурную бабу! Не ходи больше никуда! Я пошутила.
Добрые шутки. Рука у меня огнем горит. Такой синячище выше локтя выскочил, что фуражкой его не закроешь. А Явдоха не отстает. До чего ж хитрая жинка! Подхватила с земли цветы, в один миг собрала их в букет и ко мне:
– Возьми, возьми, Максим!
Чего ж не взять, раз просит? Беру.
– Вот спасибо, вот спасибо! – благодарит меня Явдоха. – Здесь на пять рублей. Давай еще нарву.
– Хватит, не донесу. – И перебираюсь через плетень
Надо спешить. Если приду к липе, что над речкой, позже Маруси, – чуб оборвет мне моя милая. Но только вышел за поворот улицы, как тут новая история. У двора деда Мусия целое представление. Вначале я даже не понял, что случилось. Вижу, что собралось много народу, все смеются, а бабка Параска подступается к Мусию и кричит:
– Ах ты старый веник, кочерга блудливая! Как назначили начальником над колхозной пасекой, так я уже не пара тебе стала?!
Я заметил, что в руках старой Параски тыква, и все понял. Интересно. Подхожу ближе, на людей осматриваюсь. Здесь и вездесущий Марко Муха – сельский почтарь, и Опанас Дацюк – самый рассудительный старик в селе и умеющий поддеть кого угодно словцом острым, как бритва; здесь же Микола Поцапай, Иван Твердохлеб, Серега (они сами получили по гарбузу и поэтому особенно довольны происходящим).
А бабка Параска не унимается.
– Внуков бы наших постыдился! – кричит она. – А ну сознавайся, к кому ходил?
У деда Мусия такой несчастный вид, что мне даже жалко его стало. Он опасливо отступает от бабки и молит ее:
– Парасю, опомнись!.. Это охальник какой то подшутил…
– Не бреши! Сознавайся! – И бабка тычет в нос деда тыкву. На ней ясно нацарапано моей рукой «Парубку Мусию от (?)»
Трудно приходится деду. Надо знать бабку Параску, чтобы понять, как трудно. Слышал я однажды, как Параска у колодца доказывала соседкам, что есть люди, которые могут перенести все – голод, холод, пожар и любое другое несчастье. Только одного не могут перенести: назначения на должность начальника. Тогда, мол, такие люди начинают ведрами пить горилку и менять жен, как цыган коней… А тут как раз поручили деду Мусию заведовать колхозной пасекой – вроде в начальники он выбился. Вот и допрашивает его бабка с пристрастием.
– К кому?!
– Не ходил, побей меня гром, ни к кому не ходил! – оправдывается Мусий и обращается к Опанасу Дацюку: – Опанасэ, хоть ты ей скажи…
Опанас поглаживает рукой бороду и хитро улыбается.
– А чего? – вполне серьезно говорит он. – Любви все возрасты покорны.
Точно раскаленной солью плеснули в лицо бабке Параски. Ох, и заголосила ж она.
– Любви?! – кричит. – Тебя уже ноги не носят, а ты любви захотел?!
Меня все больше совесть начинает мучить. Ну, зачем я выставил деда Мусия на такое посмешище? А дед тоже хорош: не может ничего придумать, чтобы прервать эту комедию. Обращается к почтарю Мухе и чуть не плачет:
– Марко… ну, ты объясни…
Марко – известный мастер зубы скалить.
– Трудно, диду, объяснить, – смеется он. – А чего это вы на прошлой неделе ходили по огороду вдовы Наталки?
– Да то я порося искал! – взвыл Мусии не своим голосом. Но тут бабка Параска как из пушки стрельнула в него:
– Развод!..
Это слово, точно гром, поразило Мусия. Он как-то обмяк и сделался еще более жалким. Что делать? Сейчас же при всех людях сознаюсь, что гарбузы на воротах – моих рук проделка. Да, но что скажут Микола Поцапай, Иван Твердохлеб, Серега? Они могут нечаянно на месте меня прикончить. А мне завтра в армию идти. И все же решился я. Уже рот раскрыл, чтобы слово сказать, да так и остался с раскрытым ртом. Дед Мусий вдруг… сознался, что он виноват:
– Парасю, смилуйся! Во всех грехах покаюсь тебе…
Бабка Параска ухватилась за голову. Она, видать, еще надеялась, что все это недоразумение, а теперь…
– А-а-а!… – заголосила она. – Нагрешил, теперь каяться!..
– Какой же это грех? – стонет Мусий. – На прошлой неделе стеклил окно в хате Варвары… Пригласила потом зайти в хату…
– Заходил? – Глаза у бабки стали круглыми, как единственная пуговица на штанах Мусия.
– Заходил, – сознается дед, – миску ряженки съел… и…
– Ну! – грозно топает ногой Параска.
– …и два пирога… – еле выдавил из себя Мусий.
– Развод! – снова стрельнула Параска.
Не знаю, удержался ли дед на ногах после нового залпа, но я лично упал на дорогу и засовал ногами, как подстреленный заяц. От смеха даже букет цветов из моих рук вывалился. И вдруг… Галя! К Мусию подбежала Галя – сестра моей Маруси – и затараторила:
– Это Максим! Я сама видела! Максим гарбуза на ворота повесил.
И не успел я опомниться, как дед Мусий уже летел на меня с огромнейшей палкой.
Подхватил я свои цветы и, сколько было сил, начал удирать. Стыдно, конечно, но это же ради деда Мусия! Еще покалечит меня, и отвечать ему придется перед судом. Не-ет, лучше убегу. Тем более – спешить мне надо: Маруся наверняка давно под липой на скамеечке сидит и сердито на тропинку посматривает.
Выбегаю на берег речки, петляю меж кустами и держу направление к липе. Вроде отстал дед Мусий. Прибегаю к липе, оглядываюсь – пусто. Сажусь на скамеечку, чтобы отдышаться. И вдруг чья-то рука смахнула с моей головы фуражку и цап за волосы! Даже похолодел я.
– Не опаздывай! Не опаздывай! Не опаздывай! – услышал знакомый голос. И от этого голосочка сердце мое сладко-сладко заныло.
Оказывается, Маруся забралась на пологую ветку липы, устроилась там и подстерегла меня. Треплет за волосы и хохочет.
– Ой, Марусь! Понимаешь, – подбираю я слова в свое оправдание. И вдруг где-то за кустами раздается голос деда Мусия:
– А-а, гром бы тебя побил!.. Ветрогон проклятый!..
Одним духом взлетел я на липу к Марусе и рот ей ладонью зажал, чтоб не выдала меня. И во-время. Дед, как молодой козел, пронесся по тропинке мимо липы.
– Ну, погоди! – уже где-то в стороне кричал он. – Я тебя из-под земли достану! Я тебя…
И тут сразу же вступила в прокурорские права Маруся.
– Опять? Чего натворил?! – и смотрит она на меня своими зеленоватыми оченятами так строго, что брови над ними почти узелком связались и ямочки на щеках исчезли. Трудно перед Марусей что-либо сбрехать. Но тут, на счастье, заметила она в моей руке букет.
– А цветы кому?!
– Угадай! А ну, угадай! – оживился я, стараясь перевести разговор на цветы.
– Мне! – выпалила Маруся и так радостно улыбнулась, так сверкнула на меня глазами, что я чуть-чуть не ослеп.
– Ага, – отвечаю, – тебе, – и улыбаюсь, как дурак. Тут же надо снова про любовь говорить, а я «агакаю».
А она прижимает цветы к груди и говорит:
– Ой, Максимка!.. Мне еще никто никогда цветов не дарил.
– Значит, я первый?
– Угу… Спасибо тебе…
Если б в эту минуту Маруся приказала луну с неба достать, я, наверное, постарался б. И так мне захотелось, чтобы она поверила, что для нее я готов в огонь и в воду!..
– Какие красивые, – любуется Маруся букетом. – И где ты достал? Я такие в оранжерее видела, в райцентре.
В эту секунду я возненавидел себя, что не сбегал в райцентр, в оранжерею, и не притащил оттуда охапку самых лучших цветов. А так, что я отвечу Марусе? Она же смотрит на меня ласково-ласково и ждет ответа.
– Оттуда и есть! Из оранжереи! – выпалил я и отвел в сторону глаза.
– Из райцентра?! – Маруся смотрит с недоверием. А недоверие в такую минуту для меня ровно что нагайка для коня.
– Из райцентра, – подтверждаю вполне уверенно.
– Так туда ж двадцать километров! – недоумевает Маруся.
– А что для меня лично двадцать километров? – спрашиваю. – Встал пораньше и сбегал.
– Пешком?
– Напрямик. На гати еще упал, руку зашиб. – И, подвернув рукав, показываю огромный синяк – след от коромысла Явдохи.
Маруся посмотрела на мою руку, потом вдруг… чмок меня в щеку! От неожиданности я чуть с липы не слетел. Еле успел за ветку ухватиться
– Давай слезем, – смеется Маруся, – а то упадешь, и… в армию тебя не возьмут.
Я первым соскакиваю на землю, подставляю руки Марусе. Снял ее с ветки, а сажать на скамеечку не хочется. Так бы век и держал на руках. Тем более за шею она меня обняла
Опустила Маруся руки с моей шеи, и я бережно посадил ее на скамейку.
– Ты рад, что в армию уезжаешь? – спрашивает.
– Ой, еще как! – отвечаю.
– Рад, что от меня уезжаешь?!
– Да что ты, Марусь! – испугался я. – Как ты могла подумать?
– Ну ладно, верю, – Маруся придвигается ближе ко мне и запускает руку в мою шевелюру. – Только волосы там не стриги.
– Нельзя, не положено, – объясняю ей.
– А ты все равно не стриги! – настаивает. – Некрасиво!.. Хотя, впрочем… Стриги! – и с таким лукавством поглядела на меня. – Стриги, стриги!.. И смотри там…
– Ты о чем? – спрашиваю.
– Ни о чем, – и уже на значки мои смотрит. – Для чего столько нацепил? На петуха похож…
– Чтоб знали. Человек заслуженный.
– Заслуженный? Ха! Небось половину выменял!
Ох, и язычок у Маруси. Никакой деликатности.
– Ну да, – отвечаю. – Придумаешь еще!
– Конечно! Ну, откуда у тебя значок парашютиста, например? – и ухватилась за значок; того и гляди оторвет.
– Как откуда? Отпусти.
– Ну, откуда? Ты что, прыгал?
– Прыгал, – сердито отвечаю. И как она не понимает, если я и не прыгал, то могу хоть сто раз прыгнуть! Я же все книжки о парашютистах перечитал!
– С дерева. Ясно, – засмеялась Маруся.
Если бы она не засмеялась, я бы смолчал. А тут…
– Ничего тебе не ясно! – говорю. – Вот уеду в армию, еще услышишь обо мне!
Ну, слово за слово, и пошло…
– Максим! – Маруся уже смотрит на меня волчонком. – Если ты не отучишься хвастаться, вечно брехать… то…
– Что «то»?
– То.
– Подумаешь, учительница выискалась! Я тебе почтя никогда не вру.
– А что толку? А другим? У тебя вечно язык свербит!
– А ты всегда правду говоришь? – ставлю ей вопрос ребром.
– Конечно, – отвечает.
– Конечно… Небось матери сказала, что в клуб пошла, а не на свидание с Максимом
– Эх, ты!.. Во-первых, если хочешь знать, я ей ничего не сказала, так утекла. А во-вторых – это же для тебя!..
– И я для тебя…
– Для меня? – в глазах Маруси опять насмешливые чертики запрыгали. – Зачем за тобой Мусий гнался? Говори!
– Так… – отвечаю, – разминка. Тренируется дед.
– Вот видишь, и мне врешь… Самый настоящий брехун!
Вроде пощечину мне влепила.
– Я брехун? – и вскакиваю со скамейки.
– Брехун, – спокойно отвечает Маруся.
– Брехун?
– Угу… – и еще при этом кокетливо косит на меня глаза.
– Так чего ж ты тогда со мной встречаешься?! – Мне даже чуть-чуть смешно стало. Что она ответит на такой вопрос?
– Да так, из жалости, – безразлично, не моргнув глазом бросила Маруся. – Кому ты еще такой нужен?..
Я даже взопрел.
– Ах, не нужен? – переспрашиваю.
– Не нужен, – подтверждает и еще усмехается.
– Не нужен, значит?.. А-а… а думаешь, ты мне очень нужна?.. Да я только свистну, и девчата табунами за мной побегут…
О! Попал в самую точку. Уже не улыбается Маруся. Вскочила с места, впилась в меня своими глазами-колючками и даже побледнела.
– Ну и свисти… свистун, – сказала тихо, спокойно, а букетом так залепила в лицо, что у меня, кажется, и память отшибло. Когда пришел в себя, Маруси и след простыл…
Вот тебе и последний вечер!.. Вот и простились называется… Ну, что мне делать?.. Пойду в клуб. Маруся перекипит и наверняка туда прибежит.
Осторожно шагаю по тропинке, что через огороды ведет к клубу. Осматриваюсь: как бы на деда Мусия не нарваться… В вестибюле клуба замечаю высокую худую фигуру. Это мой дружок – Степан Левада. Повернулся он ко мне и смотрит, вроде впервые увидел. Ясно, сейчас что-то спросит: у него такая привычка.
– Что, поругались с Марусей? – задает Степан вопрос и подходит ко мне.
– Да так, – неопределенно отвечаю я. – Чи ты Маруси не знаешь? Зашипела, як шкварка, и все. Сейчас прибежит.
Говорю я так Степану, а сам смотрю на людей, идущих через вестибюль в зал. Над дверью захлебывается электрический звонок – оповещает, что собрание начинается. Собрание сегодня не простое: посвящено проводам новобранцев – значит, и мне посвящено и Степану. Но мне не до собрания. Придет Маруся или не придет?
Из зала вдруг выскочила Василинка Остапенкова. Увидела Степана, обрадовалась и тут же приняла строгий вид. Глядит на него, вроде бить собирается. А Степан на меня смотрит – боится без моего разрешения уходить к Василинке.
– Ну ладно, иди, – позволяю я ему. И Степан вместе с Василинкой убегают в зал.
Вижу, вслед за ними спешит через вестибюль Иван Твердохлеб. Я за деревянную колонну, в тень отступаю. Тем более, остановился Иван – шнурок на ботинке завязывает.
Вдруг Маруся влетела в вестибюль. Я к ней. А она сердито повела глазами и отвернулась. Остановилась возле Твердохлеба и сладеньким голоском здоровается с ним:
– Здравствуй, Иванушка!
– Да ты вроде уже поприветствовала меня сегодня, – отвечает Твердохлеб.
– Что-то не помню, – говорит Маруся. – А ты чего ищешь?
– Сердце, Марусенька, потерял, – Твердохлеб выпрямляется и так, дьявол, смотрит Марусе в глаза, что у меня даже кулаки зачесались.
– Да ну? – удивляется Маруся. – Так без сердца и ходишь? – и прикладывает к его груди руку. – А где твой значок парашютиста? – спрашивает.
Тут мне приходится еще глубже в тень ховаться.
– Внук бабки Горпины стянул, – говорит Иван. – А Максим выменял у него на свисток. Ты не видела Максима?
Я думал – Маруся сейчас укажет ему в мою сторону, а она даже не повернулась. Только презрительно бросила.
– Очень нужен мне этот свистун!..
– А кто тебе нужен, Марусенька? – спрашивает Твердохлеб и берет ее за руку.
А она не отнимает руку, нет, а кокетливо поводит плечами, лукаво смотрит на Ивана и отвечает:
– Мало ли гарных хлопцев в селе?..
Все ясно… Маруся с Иваном ушла в зал, а я прикипел к месту и весь огнем горю. Неужели Маруся могла в один вечер разлюбить Максима? Не верю!
Хоть и не чувствую под собой ног, иду в зал. Народу! Как галушек в миске! Вперед не протискиваюсь, а останавливаюсь у задней скамейки, на которой уселись рядом Маруся и Твердохлеб. Стараюсь прислушаться, что говорит с трибуны наш голова колхоза. Но слова его, точно горох от стенки, отскакивают от меня. Вижу, за столом президиума и мой батько, Кондрат Филиппович, сидит. Сидит и грозно в оркестровую яму, где расселись музыканты, смотрит. Он же у меня на скрипке играет и сельским струнным оркестром руководит.
– …Мы провожаем на службу в родную Советскую Армию наших лучших хлопцев!.. – дошли, наконец, до меня слова головы колхоза.
Вот это правильно. Но Маруся разве поймет? Даже не смотрит в мою сторону.
И вдруг по залу точно ветер прокатился. Голова колхоза на трибуне умолк. Все почему-то поворачиваются, смотрят на входную дверь. Поворачиваю голову и я… Ой, горе мое! Увидел я тетку Явдоху и ее сына Володьку. Полные корзины цветов несут в клуб. Это же для «артистов», о которых я наврал Явдохе, когда она меня в цветнике поймала!..
Что за день сегодня? Разве один человек сразу столько бед вынесет?
А народ переговаривается между собой:
– Вот тебе и Явдоха!..
– Это что? Новобранцам притащила?..
– А говорили – за грош повесится!
– Всем девчатам нос утерла!..
Кто-то захлопал в ладоши. Начал аплодировать и голова на трибуне. И весь зал точно с ума сошел: такие рукоплескания, аж окна звенят. Потом батька мой из-за стола президиума махнул рукой оркестру и грянул туш.
Явдоха и Володька пробираются к сцене, а я проталкиваюсь в обратную сторону. У выхода останавливаюсь. Что же будет дальше?
Вижу, Явдоха уже подает корзины голове колхоза и сама взбирается на сцену.
– Вот это по-нашему! – радостно говорит ей голова.
– А как же?! Мы порядок знаем, – отвечает Явдоха и, поставив корзины на стулья, усаживается за столом президиума.
Замолк, наконец, оркестр, и голова опять вышел на трибуну.
– Завтра уезжает от нас в пехоту, – продолжает он речь, – комсомолец Степан Левада!..
Люди опять начинают хлопать в ладоши, оркестр играет туш, а Степан, вижу, сидит рядом с Василинкой и не знает, что делать. Неловко ему, чудаку. Его со всех сторон толкают, заставляют подняться.
– Сюда! Сюда, Степан! – зовет голова и берет у Явдохи букет цветов.
Василинка толкнула Степана под ребра, и он поплелся к сцене.
«Что же будет делать Явдоха? – думаю себе. – Неужели сознательности у нее ни на грош?»
Вижу, шепчет она что-то на ухо голове.
– Какие артисты? – отвечает тот во весь голос. – Конечно, для хлопцев!
– Так побольше давай, чтоб не осталось! – говорит Явдоха и, сложив из двух букетов один, тоже подает Степану цветы.
Голова улыбается, аплодирует Явдохе. Небось сам удивляется, что такой отсталый элемент вдруг в сознание пришел. Аплодируют и в зале. А Явдоха важно раскланивается во все стороны и новую охапку цветов готовит. Это – для Трофима Яковенко, которого выкликал голова после Степана. Тут, вижу, Явдоха снова что-то шепчет ему на ухо. Председатель пожимает плечами и говорит:
– Зачем же их считать? – и на цветы указывает.
– И то правда, – соглашается Явдоха.
Дальше председатель объявляет:
– В пехоту идет комсомолец Максим Перепелица!.. Я, чтоб подальше от греха, выскальзываю в вестибюль и останавливаюсь у двери, прислушиваюсь. Аплодисменты не сказал бы чтоб сильные. А оркестр играет туш ничего, – видать, батька мой постарался.
– Максим Перепелица! – повысив голос, повторяет голова, когда оркестр и аплодисменты затихли.
Слышу, ему отвечает Явдоха:
– Максим уже свое получил, не беспокойся.
– Когда ж он успел? – удивляется голова.
– А когда ты до мэнэ его присылал.
– Я? Зачем?
Тут Явдоха, видать, недоброе учуяла и повысила голос:
– За цветами! Ай запамятовал? По два гривенника за штуку!
В зале вроде что-то треснуло и загремел стоголосый хохот. А я, чтоб не слышать его, кинулся на улицу.
Но не зря говорят, что беда одна не приходит. В дверях сталкиваюсь… с кем бы вы думаете? С дедом Мусием!.. Так и метнулся я в сторону, под лестницу, которая на галерку ведет. А дед посеменил в зал. Заметил я, что понес он с собой тыкву, чтоб ее корова съела! И от самых дверей заорал:
– Дозволь слово, голова!..
Вышел я уже не спеша на улицу, закурил папиросу и стою, точно чучело на огороде. А чего стою? Утекать надо. Осрамился же! Как пить дать – отберут теперь комсомольский билет у меня.
Но уйдешь разве? В зале же осталась Маруся! И еще Твердохлеба этого черти подбросили. Эх… Если сегодня не помирюсь с Марусей, значит точка. Ведь это последний вечер… Нет!.. Что-нибудь соображу! Надо вызвать ее, объяснить.
И только подумал это, как Маруся сама, без вызова моего, пулей вылетела из клуба.
– Коза смоленая! – слышу, кричит ей вслед дед Мусий.
Увидела меня Маруся, остановилась, сверкнула потемневшими глазами и… бац Максима по морде.
– Вот тебе оранжерея! – задыхаясь, шепчет она и тут же на другой моей щеке припечатывает руку. – Вот тебе гарбузы от Маруси!
Не успел я, как у нас говорят, облизаться, а Маруся исчезла, точно сквозняком ее сдуло. Но не такой Максим Перепелица! Догоню! Догоню и подставлю ей свою дурную голову. Пусть еще бьет, раз заслужил. Пусть бьет, только знает, что никто на белом свете крепче любить ее не будет, чем я.
Но побежать вслед за Марусей мне не удалось. Из клуба вырвалась толпа хлопчиков-подростков и в момент взяла меня в кольцо.
– Максим! Скорее! – кричит один.
– Не пускают!
– Решили не посылать! – галдят другие.
– Чего болтаете? – спрашиваю. – Кого не посылать?
– В армию решили не посылать тебя! – объясняют. Ну, это уж слишком! Даже зло взяло.
– Что?! – ору на ребят. – Меня в армию не брать? Прав таких не имеют! – и галопом в клуб.
А в клубе что делается – передать невозможно. Шум, крик, смех. Останавливаюсь в дверях, слушаю. Нужно же сориентироваться.
– Не пускать! – кричит дед Мусий и потрясает над головой тыквой.
От него не отстает Явдоха:
– Правильно! Не пускать!
– Пусть знает! – хохочет Микола Поцапай.
Вижу, объединились все мои противники. А сколько их еще голос не подает?! Ведь больше дюжины тыкв по селу развешано.
Из-за стола президиума поднимается мой батька.
– Это почему же не посылать?! – грозно спрашивает он у Мусия.
– А ты что, хочешь, чтоб он всю Яблонивку нашу там осрамил?! – сердито отвечает дед. – Писать прошение воинскому начальнику! Не место таким в армии!
– Товарищи! Позвольте! – вдруг раздался голос Ивана Твердохлеба. – Как это не пускать?
Я даже рот раскрыл от удивления: Иван вдруг мою сторону взял!..
– Пусть едет! – кричит Твердохлеб и проталкивается к выходу. – В армии из него человека сделают!
А-а, понимаю. Иван спешит вслед за Марусей и заодно старается меня из села выпихнуть, чтоб не мешал ему.
Слышу, тетка Явдоха на полную мощность свою тонкоголосую артиллерию в ход пускает:
– А чтоб ему язык отвалился! В такие убытки меня ввел, брехун! – и поспешно складывает в корзину оставшиеся цветы. – Нехай убирается из села!
– Недостоин! Честь солдатскую запятнает! – дед Мусий даже охрип от крика. – Он всех парубков опозорил! Гарбузов на ворота понавешал!
Я замечаю, что многие в зале хохочут, даже голова колхоза улыбается. Значит, не принимает всерьез болтовню Мусия да Явдохи. И решаюсь перейти в контратаку.
– Каких гарбузов? Кому?! – громко спрашиваю, не отходя от дверей. – Хлопцы, кто сегодня гарбуза получил? Прошу поднять руки!
Ага! Вижу – прячут хлопцы глаза, головы за соседей ховают. Никто не хочет сознаться.
– Вот видите! – с возмущением обращаюсь к Мусию. – Нет таких!
Дед онемел от изумления.
– Как нет?! – наконец, взвизгнул он. – Никто не получил? А я?.. Я получил гарбуза!
– А разве вы парубок? – с удивлением спрашиваю и, видя, что весь зал покатился со смеху, продвигаюсь от дверей метров на пять вперед. – А о вас, титко, – обращаюсь к Явдохе, – говорят, что вы спекулянтка! Так это ж брехня.
– А брехня, брехня, – соглашается Явдоха и спускается вместе с корзинами со сцены.
Опять хохочет зал. А дед Мусий не унимается:
– Не пускать поганца! Пусть дома сидит!
– Не имеете права! – ору ему через весь зал. Голова колхоза застучал карандашом по пустому графину, и, наконец, наступила тишина
Что ты там говоришь? – спрашивает он, обращаясь ко мне. – Иди сюда, чтоб люди тебя видели.
– Мне и здесь неплохо.
Вдруг мой батька срывается с места, бьет кулаком по столу и кричит:
– Иди, стервец! Народ тебя требует!..
Что поделаешь? Раз отец приказывает – надо идти. Снимаю фуражку и плетусь по проходу между скамейками. По ступенькам взбираюсь на сцену.
– Ну, что ты хотел сказать? – спрашивает голова и насмешливо улыбается.
Не терплю я насмешек. Поэтому отвечаю сердито:
– Не имеете права нарушать конституцию!
– А мы не нарушаем, – говорит голова. – Помнишь, как в конституции сказано?
Конституцию я знаю и цитирую без запинки:
– Служба в армии – почетная обязанность каждого советского гражданина
– Вот видишь, почетная! – серьезно говорит мне голова. – А люди считают, что ты такого почета недостоин. Армия наша народная, и народ имеет право решать: посылать тебя на военную службу или не посылать.
– Не посылать! – орут какие-то дурни из зала и хохочут.
Им смех, а мне уже не до смеха. Вдруг правда – решат и не пустят меня в армию? Завтра голова колхоза позвонит по телефону в военкомат, и точка… Даже мурашки забегали по спине. С тревогой смотрю на голову, хочу что то сказать ему, но не могу. Не слушается язык, и в горле пересохло.
– Тов… товарищ голова. – еле выдавил я из себя.
А он отворачивается и улыбается.
– Батьку! – обращаюсь я к отцу. Он даже глаз не подымает
– Люди добрые! – с надеждой смотрю в зал. – За что?.. За что такое наказание?
А в зале тишина, слышно даже, как дед Мусий сопит в усы. Вижу, опустил голову Степан, блестят слезы на глазах у Василинки. На галерке онемели ребята.
– Я же комсомолец! – хватаюсь за последнюю соломинку.
– Выкинуть тебя из комсомола! – подпрыгнул на месте дед Мусий.
– Ну, были промашки, – оправдываюсь. – Глупости были… Так я ж исправлюсь! С места этого не сойти мне – исправлюсь! Клянусь вам, что в армии…
– Дурака будешь валять! – выкрикивает Микола, но тут же на него почему-то цыкает Мусий.
– Товарищ голова! – обращаюсь к президиуму. – Поверьте!.. Что хотите со мной делайте, только не…
– Ты людям, людям говори! – голова указывает на притихший зал.
Но как тут говорить, раз слезы душат меня?
– Никогда дурного обо мне не услышите, – уже шепотом произношу я и умолкаю.
С трудом поднимаю глаза и с надеждой смотрю на голову колхоза. Улыбается, замечаю
– Ну как, товарищи? – спрашивает он у собрания. – Поверим?
Ивдруг собрание в один голос отвечает:
– Поверим!..
Только дед Мусий добавил:
– Сбрешет, пусть в село не возвращается. Выгоним!
Так и посчастливилось уехать мне на службу в армию. А вот с Марусей помириться так и не удалось.
 – Речку-то успел разведать или дальше этой лужи не был?
– Речку разведал, – буркнул Ежиков.
Что делать? Быстро отстегиваю от своего автомата один конец ремня и бросаю его Василию. Но подняться на ноги нельзя – на высоте «противник». Да и думается мне, что там старший лейтенант Куприянов находится. Наверняка наблюдает, как отделение Реброва задачу выполняет. Вот увидел бы он этого красавца Ежикова в болоте!..
Сажусь лицом к Ежикову и, упираясь ногами в кочки, начинаю тянуть ремень, за который ухватился Василий. Тяну и чувствую, как проваливается подо мной почва. И до чего же коварное это болото! Как схватит тебя за ноги – не отобьешься.
Дела плохи. Надо менять позицию.
Вытаскиваю ноги из тины и отползаю немного в сторону. Отсюда ремень еще достает до Ежикова. Опять сажусь лицом к Василию. Новая позиция вроде удачнее. Почва хоть и гнется подо мной, как доска тонкая, но пока держит. Ежиков придумал пристегнуть конец ремня от моего автомата к своему поясному ремню, чтобы руки свои освободить. Правильно сделал.
Потянул я сколько сил было. Ежиков руками начал помогать. Еще поднатужились, и одну ногу, облепленную черным густым месивом, Василий вытащил. Но нужно же было ему затем поторопиться! Приподнялся он на руках и высвободившуюся ногу под себя подтянул, чтобы опереться на нее. И только он это сделал, как мшистая корка треснула и Ежиков по пояс окунулся в трясину.
Стиснул я зубы и молчу. А ругать Василия страсть как хочется! Ведь там, за пригорком, сержант Ребров из себя выходит. Наверное, скоро сам поползет речку разведывать…
– Держись крепче! – со злом говорю Ежикозу.
Чувствую, как ноги мои рвут сплетения корней осоки и вместе с кочками все глубже уходят в болото. Чем сильнее тяну, тем больше меня засасывает. Но зато Ежиков вот-вот выскользнет из трясины. Еще рывок, и Василий свободен. Точно тюлень на льдине, лежит он на моховом покрывале, под которым трясина прячется. Лежит и по сторонам оглядывается, боится, как бы опять не провалиться.
– Ползи на меня! – командую ему.
Подполз он и ахнул, когда разглядел, что я по пояс увяз. Кинул Ежиков взгляд в одно, другое место – ищет, где бы ему укрепиться, чтоб теперь мне помочь. Но время не терпит.
– Ползи к отделению, – говорю я ему. – Сержант давно тебя дожидается.
– А ты? – спрашивает с удивлением он.
– А я посижу, пока все наши не подоспеют сюда. Будут форсировать речку, заодно и Максима из болота выдернут. Только отделение пусть держит направление на кривую березку. Там почва крепкая.
Пришлось Ежикову подчиниться. Ведь лучшего ничего не придумаешь.
Занятия закончились: речушка форсирована, высота «Круглая» взята. Разбор действий взвода командир перенес на послеобеденное время. Кажется мне, что не совсем понравилось ему, как вели мы бой в глубине обороны «противника». Очень вперед все рвались. А одна огневая точка, встретившаяся на пути нашего отделения, по-настоящему не была блокирована. Бухнули в ее амбразуру гранату и пошли дальше. Но, может, и одной гранаты для нее достаточно? Хотя нет. Перед концом занятий ожила эта точка и с тыла ударила по отделению. Не зря старший лейтенант Куприянов так брови хмурил. Значит, после обеденного перерыва атаковать высоту будем заново. Тогда и разбор занятий состоится.
Но, несмотря ни на что, в расположение части шли мы с песнями. Пели, как всегда, с задором. А солдатам задора у соседа занимать не приходится. Тем более что обед впереди. И всякому известно, что отсутствием аппетита солдат не страдает. Еще бы! Поползаешь в поле целый день (а там форточки открывать не нужно, воздуха хватает), перепашешь малой саперной лопатой добрую сотку земли (если меньше, то не намного), и никаких тебе капель для аппетита не нужно. К тому же обед какой! Ей-ей, такой наваристый, вкусный борщ, какой готовит наш повар Тихон Васильевич Сухомокрый, умеет готовить, может, еще только одна моя мать. А жирный какой! Если ты неряха и капнешь им на гимнастерку, вовек пятна не выведешь.
Но таких котлет с соусом, с гречневой кашей и мать моя не приготовит. Оно и понятно. Мать моя курсов по поварской части не проходила. А Тихон Сухомокрый, прежде чем заложить в котел продукты, в книгу смотрит да с врачом совет держит. По-научному обед варит. Когда был я в наряде на кухне, своими глазами видел это.
Но дело не только в обеде. Вообще у солдат настроение бодрое. Очень занятия всем понравились. Настоящий был бой, захватывающий. Наступаешь на «противника» и не знаешь, что подстерегает тебя впереди. Каждая неожиданность требует от солдата ловкости, сноровки, умения пользоваться оружием. А кому не интересно испытать свою находчивость, сообразительность?..
Запевала наш затягивает песню. Весь взвод подхватывает ее. Я пою и в то же время кошу глаза в сторону Василия Ежикова. Как-то чувствует он себя? Вижу, не отстает от всех, поет с азартом. Но Перепелицу не проведешь – притворяется Василий. Кисло ему небось, что перед Максимом оконфузился, в болоте искупался. Теперь наверняка все наоборот повернет. Ведь не его, а меня товарищи вытаскивали из болота…
Вечером в комнате политпросветработы нашей роты вывесили очередной номер стенгазеты. Мне даже и подходить к ней не хотелось. Еще утром просмотрел все заметки. И тут слышу, кто-то из солдат выкрикнул:
– Про Перепелицу опять пишут. Везет же человеку!
Меня точно кто в спину кулаками двинул. Подлетел я к товарищам, протолкался к стенгазете, а у самого, чувствую, глаза потемнели от недовольства. «Чем, думаю, я еще провинился?»
Протиснулся к стенгазете, нашел заметку, в которой обо мне говорилось, и первым долгом на подпись гляжу:
«Рядовой В. Ежиков». Опять он!..
Читаю:
«Сегодня на тактике выполнял я задание командира: разведывал брод. И когда после разведки возвращался с докладом, допустил оплошность – не сумел найти дорогу через болото и попал в трясину. И если бы не рядовой Перепелица, наше отделение не форсировало бы речку в назначенное время…»
Дальше рассказывались все подробности о находчивости Максима Перепелицы, о взаимной выручке солдат.
А над заметкой красными буквами выведен заголовок: «Спасибо, товарищ!»
– Речку-то успел разведать или дальше этой лужи не был?
– Речку разведал, – буркнул Ежиков.
Что делать? Быстро отстегиваю от своего автомата один конец ремня и бросаю его Василию. Но подняться на ноги нельзя – на высоте «противник». Да и думается мне, что там старший лейтенант Куприянов находится. Наверняка наблюдает, как отделение Реброва задачу выполняет. Вот увидел бы он этого красавца Ежикова в болоте!..
Сажусь лицом к Ежикову и, упираясь ногами в кочки, начинаю тянуть ремень, за который ухватился Василий. Тяну и чувствую, как проваливается подо мной почва. И до чего же коварное это болото! Как схватит тебя за ноги – не отобьешься.
Дела плохи. Надо менять позицию.
Вытаскиваю ноги из тины и отползаю немного в сторону. Отсюда ремень еще достает до Ежикова. Опять сажусь лицом к Василию. Новая позиция вроде удачнее. Почва хоть и гнется подо мной, как доска тонкая, но пока держит. Ежиков придумал пристегнуть конец ремня от моего автомата к своему поясному ремню, чтобы руки свои освободить. Правильно сделал.
Потянул я сколько сил было. Ежиков руками начал помогать. Еще поднатужились, и одну ногу, облепленную черным густым месивом, Василий вытащил. Но нужно же было ему затем поторопиться! Приподнялся он на руках и высвободившуюся ногу под себя подтянул, чтобы опереться на нее. И только он это сделал, как мшистая корка треснула и Ежиков по пояс окунулся в трясину.
Стиснул я зубы и молчу. А ругать Василия страсть как хочется! Ведь там, за пригорком, сержант Ребров из себя выходит. Наверное, скоро сам поползет речку разведывать…
– Держись крепче! – со злом говорю Ежикозу.
Чувствую, как ноги мои рвут сплетения корней осоки и вместе с кочками все глубже уходят в болото. Чем сильнее тяну, тем больше меня засасывает. Но зато Ежиков вот-вот выскользнет из трясины. Еще рывок, и Василий свободен. Точно тюлень на льдине, лежит он на моховом покрывале, под которым трясина прячется. Лежит и по сторонам оглядывается, боится, как бы опять не провалиться.
– Ползи на меня! – командую ему.
Подполз он и ахнул, когда разглядел, что я по пояс увяз. Кинул Ежиков взгляд в одно, другое место – ищет, где бы ему укрепиться, чтоб теперь мне помочь. Но время не терпит.
– Ползи к отделению, – говорю я ему. – Сержант давно тебя дожидается.
– А ты? – спрашивает с удивлением он.
– А я посижу, пока все наши не подоспеют сюда. Будут форсировать речку, заодно и Максима из болота выдернут. Только отделение пусть держит направление на кривую березку. Там почва крепкая.
Пришлось Ежикову подчиниться. Ведь лучшего ничего не придумаешь.
Занятия закончились: речушка форсирована, высота «Круглая» взята. Разбор действий взвода командир перенес на послеобеденное время. Кажется мне, что не совсем понравилось ему, как вели мы бой в глубине обороны «противника». Очень вперед все рвались. А одна огневая точка, встретившаяся на пути нашего отделения, по-настоящему не была блокирована. Бухнули в ее амбразуру гранату и пошли дальше. Но, может, и одной гранаты для нее достаточно? Хотя нет. Перед концом занятий ожила эта точка и с тыла ударила по отделению. Не зря старший лейтенант Куприянов так брови хмурил. Значит, после обеденного перерыва атаковать высоту будем заново. Тогда и разбор занятий состоится.
Но, несмотря ни на что, в расположение части шли мы с песнями. Пели, как всегда, с задором. А солдатам задора у соседа занимать не приходится. Тем более что обед впереди. И всякому известно, что отсутствием аппетита солдат не страдает. Еще бы! Поползаешь в поле целый день (а там форточки открывать не нужно, воздуха хватает), перепашешь малой саперной лопатой добрую сотку земли (если меньше, то не намного), и никаких тебе капель для аппетита не нужно. К тому же обед какой! Ей-ей, такой наваристый, вкусный борщ, какой готовит наш повар Тихон Васильевич Сухомокрый, умеет готовить, может, еще только одна моя мать. А жирный какой! Если ты неряха и капнешь им на гимнастерку, вовек пятна не выведешь.
Но таких котлет с соусом, с гречневой кашей и мать моя не приготовит. Оно и понятно. Мать моя курсов по поварской части не проходила. А Тихон Сухомокрый, прежде чем заложить в котел продукты, в книгу смотрит да с врачом совет держит. По-научному обед варит. Когда был я в наряде на кухне, своими глазами видел это.
Но дело не только в обеде. Вообще у солдат настроение бодрое. Очень занятия всем понравились. Настоящий был бой, захватывающий. Наступаешь на «противника» и не знаешь, что подстерегает тебя впереди. Каждая неожиданность требует от солдата ловкости, сноровки, умения пользоваться оружием. А кому не интересно испытать свою находчивость, сообразительность?..
Запевала наш затягивает песню. Весь взвод подхватывает ее. Я пою и в то же время кошу глаза в сторону Василия Ежикова. Как-то чувствует он себя? Вижу, не отстает от всех, поет с азартом. Но Перепелицу не проведешь – притворяется Василий. Кисло ему небось, что перед Максимом оконфузился, в болоте искупался. Теперь наверняка все наоборот повернет. Ведь не его, а меня товарищи вытаскивали из болота…
Вечером в комнате политпросветработы нашей роты вывесили очередной номер стенгазеты. Мне даже и подходить к ней не хотелось. Еще утром просмотрел все заметки. И тут слышу, кто-то из солдат выкрикнул:
– Про Перепелицу опять пишут. Везет же человеку!
Меня точно кто в спину кулаками двинул. Подлетел я к товарищам, протолкался к стенгазете, а у самого, чувствую, глаза потемнели от недовольства. «Чем, думаю, я еще провинился?»
Протиснулся к стенгазете, нашел заметку, в которой обо мне говорилось, и первым долгом на подпись гляжу:
«Рядовой В. Ежиков». Опять он!..
Читаю:
«Сегодня на тактике выполнял я задание командира: разведывал брод. И когда после разведки возвращался с докладом, допустил оплошность – не сумел найти дорогу через болото и попал в трясину. И если бы не рядовой Перепелица, наше отделение не форсировало бы речку в назначенное время…»
Дальше рассказывались все подробности о находчивости Максима Перепелицы, о взаимной выручке солдат.
А над заметкой красными буквами выведен заголовок: «Спасибо, товарищ!»
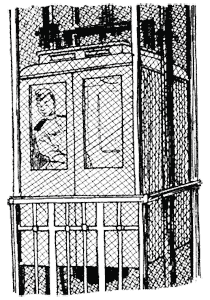 – Я же выходной сегодня. Костюм новый вымажу.
– Сердится очень Алексей Филиппович, – убеждает его лифтерша. – Ругался уже.
– Ругался?.. Ох, и попадет мне! Давайте ключ!.
Взялся-таки механик лифт ремонтировать. Здорово действует товарищ Кривцов.
И только песня утихла, докладывает механик:
– Ф-фу! Готово! Вызывайте лифт
– Вызываю, Алексей Филиппович!.. – добрым голоском кричит лифтерша.
И вот я уже внизу, щелкаю дверью. Мне навстречу кидается механик – долговязый мужчина в новом сером костюме, на котором виднеются свежие масляные пятна.
– Пожалуйста, Алексей Филиппович, – приглашает выходить. – Извините, что задержал вас. И за песню спасибо. Давайте ваш чемоданчик.
– Какой чемоданчик? – строго спрашиваю. – Во первых, я не Алексей Филиппович, а Максим Кондратьевич, и во-вторых, лифт надо в порядке содержать!
– Батюшки! Военный! – ахнула лифтерша. – А где же Алексей Филиппович?
– Как… Это вы пели? – спрашивает механик и смотрит на меня глазами, круглыми, как головки подсолнухов.
– А что? Плохо? – смеюсь я.
И тут заныл механик.
– Ой!.. Костюм!.. Новый костюм из-за вас испортил!
– Так зато какую песню послушали, – успокаиваю его.
А лифтерша все удивляется:
– Батюшки!.. – и хлопает руками об полы. – Голос точь-в-точь как у Алексея Филипповича.
– Безобразие! – перебивает ее механик. – Людей от работы отрывают! Меня там люди… Сегодня я не дежурю!
– Ничего, ничего, а костюмчик бензинчиком, – и, захватив магнитофон, прощаюсь. – До свиданья!
Открываю выходную дверь и ради шутки пробую затянуть песню, какую народный артист пел. Слышу, шутка в точку попала. Лифтерша еще сильнее закудахтала вслед мне.
– Батюшки! – лопочет она. – Семьдесят годков живу, а такого не видывала. Вот это артист! Как голоса умеет менять!
Большое удовольствие доставила мне история с лифтом.
Выхожу на улицу и оглядываюсь по сторонам. Вот и телефонная будка. Набираю номер. Отвечает швейцар. Спрашиваю у него про своего ассистента. Говорит, что уже никого нет. Видел он, что появился с большим букетом цветов агроном товарищ Олешко и увел с собой Марию Козак и Людмилу Васильевну.
Куда же они с цветами? Может, в загс?.. Так, дело ясное… Крепись, Максим! Ничто не помешает тебе выполнить задание!
…Приехали, наконец, мы на радио. Прощаюсь я с шофером и захожу в вестибюль. Останавливаюсь у будочки: там сидит гражданочка и пропуска выписывает. Говорю ей:
– Перепелице – пропуск.
– Сейчас посмотрим… Так… Олешко уже прошел… Товарищ Козак Мария прошла.
Прямо подпрыгнул я на месте:
– Маруся Козак и агроном Олешко здесь?!
– А чего вы удивляетесь? – отвечает мне гражданочка. – У нас разные люди бывают. Вот и их, видать, пригласили по радио выступить…
Взбежал я на второй этаж… Надо вначале найти Марусю и Федора. Подхожу к первой двери.
И вдруг слышу:
– Ой!.. Ой!.. помогите!.. На помощь! На помощь! Мавр госпожу убил… На помощь! Сюда, сюда…
– Что это? Кого убили? Эй! – начинаю стучать в дверь, откуда крик доносится. – Откройте! Откроите, говорю! Откройте!
Вдруг распахивается дверь и оттуда вылетает черноокая дивчина – недовольная и даже, я бы сказал, сердитая.
– В чем дело?! – набрасывается она на меня. – Что случилось? Что вам надо? Почему стучите? – миллион вопросов в секунду.
– Что это у вас там? – опешил я. – Почему кричат?
– Ничего особенного. «Отелло» режут.
– Что? – У меня глаза на лоб полезли.
– Кто вы такой? – строго допрашивает дивчина.
– Кого режут, спрашиваю?! – отмахиваюсь я от ее вопроса.
Тут дивчина вдруг так расхохоталась, что мне неловко стало.
– Я же говорю: «Отелло» режут! – объясняет: – Ну, пленку режут! Монтируем шекспировскую передачу!
– Фу!.. А я напугался. Думал, убийство.
Дивчина же все хохочет:
– Ой, смешной какой!.. А кто вы такой?
Объясняю ей, кто я и зачем здесь. А она, не дослушав до конца, берет меня за руку, поворачивает в сторону коридора и говорит, как горохом сыплет:
– Вон дверь в самом конце. Там надпись есть. И не врывайтесь в аппаратные, кто бы там ни кричал!..
Пошел я по коридору. А за каждой дверью… Наверное, тоже передачи готовят. То песня гремит, то визжит Буратино, то про футбол рассказывают, то раздаются команды для утренней гимнастики, то детский хор «Угадайку» поет.
Ну и коридор! Гауптвахту бы сюда переселить. Лучшего наказания не придумаешь.
И вот я остановился перед дверью. Но над ней огнем горит надпись: «Не входить. Идет запись». Открываю соседнюю дверь. А это не комната, а небольшая полутемная кабина. Спиной ко мне сидит за столиком женщина и какие-то рычажки руками трогает. Столик упирается в стеклянную стенку. Глянул я сквозь эту стенку, за которой – огромная светлая комната, и обомлел, Маруся… Да-да, Маруся. На стуле сидит Федор Олешко, а Маруся подходит к нему и садится рядом.
Среди комнаты на длинной ножке стоит микрофон. А у микрофона какой-то парень с листом бумаги в руках.
И вдруг, вижу, этот парень что-то говорит в микрофон, а в кабине, где я стою, гремят из репродуктора его слова:
– Вы слушали выступление передовиков сельского хозяйства агронома Федора Олешко и колхозницы Марии Козак. Ваши отзывы о передаче…
Диктор еще что-то говорит, а я трогаю за плечо женщину.
– Позовите, пожалуйста, вон ту дивчину, Марусю Козак.
– Сейчас нельзя, – отвечает она. – Запись передачи еще не закончена. Посидите в комнате напротив; как товарищ Козак освободится – я пришлю ее к вам.
Словом, состоялась встреча с Марусей… Да и с Федором. Первым делом Федор на свадьбу меня пригласил. А чего удивляться? Женится хлопец! Женится на девушке-москвичке, с которой вместе академию кончал. И увозит ее в нашу Яблонивку.
Допросил я Марусю и насчет того, что в академии случилось. Почему, мол, она не вышла тогда и зачем десять рублей передала? Об этом можно и не говорить. Конечно, мало ли что бывает? Впрочем, скажу.
Оказывается, та женщина в очках сказала Марусе, что ее милиционер спрашивает. А Маруся как раз улицу перебегала в неположенном месте, в лекторий спешила, где ее студенты ждали. Вот и решила, что за штрафом милиционер пришел… Что значит человек из деревни. Не знает даже, что сейчас за это уже не штрафуют.
Итак, встретился я с Марусей… Ну и, конечно, задание выполнил. В воскресенье вечером состоялся радиоконцерт по заявкам воинов нашего полка.
Хороший концерт! Еще бы! Ведь это я, Максим Перепелица, принимал участие в его подготовке.
– Я же выходной сегодня. Костюм новый вымажу.
– Сердится очень Алексей Филиппович, – убеждает его лифтерша. – Ругался уже.
– Ругался?.. Ох, и попадет мне! Давайте ключ!.
Взялся-таки механик лифт ремонтировать. Здорово действует товарищ Кривцов.
И только песня утихла, докладывает механик:
– Ф-фу! Готово! Вызывайте лифт
– Вызываю, Алексей Филиппович!.. – добрым голоском кричит лифтерша.
И вот я уже внизу, щелкаю дверью. Мне навстречу кидается механик – долговязый мужчина в новом сером костюме, на котором виднеются свежие масляные пятна.
– Пожалуйста, Алексей Филиппович, – приглашает выходить. – Извините, что задержал вас. И за песню спасибо. Давайте ваш чемоданчик.
– Какой чемоданчик? – строго спрашиваю. – Во первых, я не Алексей Филиппович, а Максим Кондратьевич, и во-вторых, лифт надо в порядке содержать!
– Батюшки! Военный! – ахнула лифтерша. – А где же Алексей Филиппович?
– Как… Это вы пели? – спрашивает механик и смотрит на меня глазами, круглыми, как головки подсолнухов.
– А что? Плохо? – смеюсь я.
И тут заныл механик.
– Ой!.. Костюм!.. Новый костюм из-за вас испортил!
– Так зато какую песню послушали, – успокаиваю его.
А лифтерша все удивляется:
– Батюшки!.. – и хлопает руками об полы. – Голос точь-в-точь как у Алексея Филипповича.
– Безобразие! – перебивает ее механик. – Людей от работы отрывают! Меня там люди… Сегодня я не дежурю!
– Ничего, ничего, а костюмчик бензинчиком, – и, захватив магнитофон, прощаюсь. – До свиданья!
Открываю выходную дверь и ради шутки пробую затянуть песню, какую народный артист пел. Слышу, шутка в точку попала. Лифтерша еще сильнее закудахтала вслед мне.
– Батюшки! – лопочет она. – Семьдесят годков живу, а такого не видывала. Вот это артист! Как голоса умеет менять!
Большое удовольствие доставила мне история с лифтом.
Выхожу на улицу и оглядываюсь по сторонам. Вот и телефонная будка. Набираю номер. Отвечает швейцар. Спрашиваю у него про своего ассистента. Говорит, что уже никого нет. Видел он, что появился с большим букетом цветов агроном товарищ Олешко и увел с собой Марию Козак и Людмилу Васильевну.
Куда же они с цветами? Может, в загс?.. Так, дело ясное… Крепись, Максим! Ничто не помешает тебе выполнить задание!
…Приехали, наконец, мы на радио. Прощаюсь я с шофером и захожу в вестибюль. Останавливаюсь у будочки: там сидит гражданочка и пропуска выписывает. Говорю ей:
– Перепелице – пропуск.
– Сейчас посмотрим… Так… Олешко уже прошел… Товарищ Козак Мария прошла.
Прямо подпрыгнул я на месте:
– Маруся Козак и агроном Олешко здесь?!
– А чего вы удивляетесь? – отвечает мне гражданочка. – У нас разные люди бывают. Вот и их, видать, пригласили по радио выступить…
Взбежал я на второй этаж… Надо вначале найти Марусю и Федора. Подхожу к первой двери.
И вдруг слышу:
– Ой!.. Ой!.. помогите!.. На помощь! На помощь! Мавр госпожу убил… На помощь! Сюда, сюда…
– Что это? Кого убили? Эй! – начинаю стучать в дверь, откуда крик доносится. – Откройте! Откроите, говорю! Откройте!
Вдруг распахивается дверь и оттуда вылетает черноокая дивчина – недовольная и даже, я бы сказал, сердитая.
– В чем дело?! – набрасывается она на меня. – Что случилось? Что вам надо? Почему стучите? – миллион вопросов в секунду.
– Что это у вас там? – опешил я. – Почему кричат?
– Ничего особенного. «Отелло» режут.
– Что? – У меня глаза на лоб полезли.
– Кто вы такой? – строго допрашивает дивчина.
– Кого режут, спрашиваю?! – отмахиваюсь я от ее вопроса.
Тут дивчина вдруг так расхохоталась, что мне неловко стало.
– Я же говорю: «Отелло» режут! – объясняет: – Ну, пленку режут! Монтируем шекспировскую передачу!
– Фу!.. А я напугался. Думал, убийство.
Дивчина же все хохочет:
– Ой, смешной какой!.. А кто вы такой?
Объясняю ей, кто я и зачем здесь. А она, не дослушав до конца, берет меня за руку, поворачивает в сторону коридора и говорит, как горохом сыплет:
– Вон дверь в самом конце. Там надпись есть. И не врывайтесь в аппаратные, кто бы там ни кричал!..
Пошел я по коридору. А за каждой дверью… Наверное, тоже передачи готовят. То песня гремит, то визжит Буратино, то про футбол рассказывают, то раздаются команды для утренней гимнастики, то детский хор «Угадайку» поет.
Ну и коридор! Гауптвахту бы сюда переселить. Лучшего наказания не придумаешь.
И вот я остановился перед дверью. Но над ней огнем горит надпись: «Не входить. Идет запись». Открываю соседнюю дверь. А это не комната, а небольшая полутемная кабина. Спиной ко мне сидит за столиком женщина и какие-то рычажки руками трогает. Столик упирается в стеклянную стенку. Глянул я сквозь эту стенку, за которой – огромная светлая комната, и обомлел, Маруся… Да-да, Маруся. На стуле сидит Федор Олешко, а Маруся подходит к нему и садится рядом.
Среди комнаты на длинной ножке стоит микрофон. А у микрофона какой-то парень с листом бумаги в руках.
И вдруг, вижу, этот парень что-то говорит в микрофон, а в кабине, где я стою, гремят из репродуктора его слова:
– Вы слушали выступление передовиков сельского хозяйства агронома Федора Олешко и колхозницы Марии Козак. Ваши отзывы о передаче…
Диктор еще что-то говорит, а я трогаю за плечо женщину.
– Позовите, пожалуйста, вон ту дивчину, Марусю Козак.
– Сейчас нельзя, – отвечает она. – Запись передачи еще не закончена. Посидите в комнате напротив; как товарищ Козак освободится – я пришлю ее к вам.
Словом, состоялась встреча с Марусей… Да и с Федором. Первым делом Федор на свадьбу меня пригласил. А чего удивляться? Женится хлопец! Женится на девушке-москвичке, с которой вместе академию кончал. И увозит ее в нашу Яблонивку.
Допросил я Марусю и насчет того, что в академии случилось. Почему, мол, она не вышла тогда и зачем десять рублей передала? Об этом можно и не говорить. Конечно, мало ли что бывает? Впрочем, скажу.
Оказывается, та женщина в очках сказала Марусе, что ее милиционер спрашивает. А Маруся как раз улицу перебегала в неположенном месте, в лекторий спешила, где ее студенты ждали. Вот и решила, что за штрафом милиционер пришел… Что значит человек из деревни. Не знает даже, что сейчас за это уже не штрафуют.
Итак, встретился я с Марусей… Ну и, конечно, задание выполнил. В воскресенье вечером состоялся радиоконцерт по заявкам воинов нашего полка.
Хороший концерт! Еще бы! Ведь это я, Максим Перепелица, принимал участие в его подготовке.
