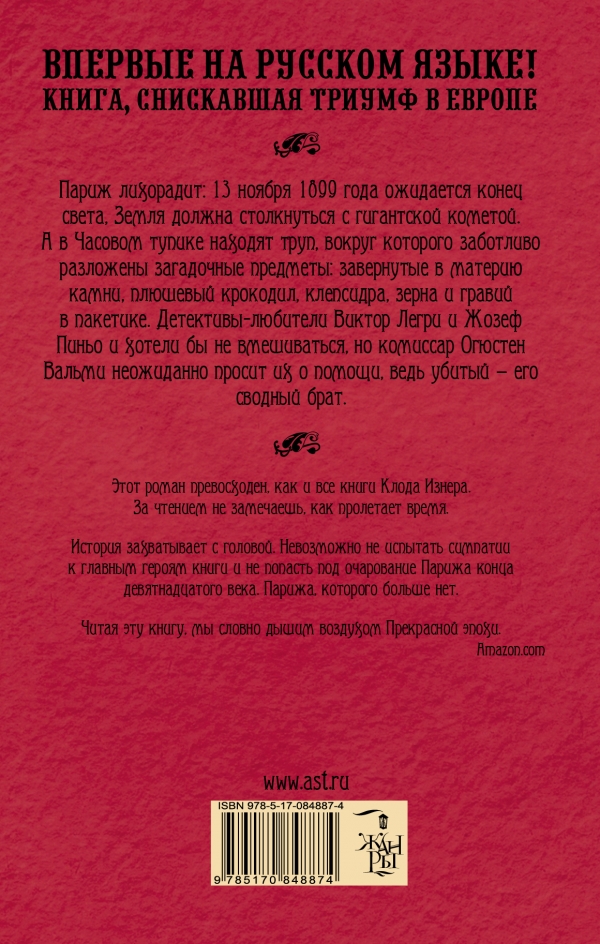Клод Изнер
«Убийство на Эйфелевой башне»
Посвящается Этья и Морису, Хайме и Бернару, Джонатану и Давиду, Рашели
Длинной пугливой жирафой
Вытянув к небу шею,
Высится Эйфеля башня:
Столько вокруг привидений,
Что вечерами ей страшно.
Пьер Мак Орлан. Таким был Париж
ПРОЛОГ
12 мая 1889 года
Тяжелые грозовые тучи плыли над продуваемым всеми ветрами пустырем, приютившимся между домами и грузовым вокзалом Батиньоль. От широкого поля пожухлой травы тянуло затхлым душком городской клоаки. Столпившись у двухколесных мусорных тележек, старьевщики крючьями выравнивали горы отбросов, поднимая облака пыли. Вдали был виден поезд, медленно приближаясь, он превращался в железную громаду. С холмов сбегала ватага мальчишек, оравших:
— Вон он, вон! Буффало Билл прибывает!
Жан Меренга выпрямился, подбоченился и прогнулся назад, разминая усталое тело. Улов был удачным: трехногий стул, распотрошенная детская лошадка, старый зонтик, солдатский погон, осколок тарелки с золотой каемкой. Он обернулся к Анри Капюсу, тщедушному низенькому старичку с выцветшей бородой.
— Хочу взглянуть на краснокожих, пойдешь со мной? — спросил он, поправляя плетеную ивовую корзину, перекинутую через плечо.
Он подхватил стул, обогнал машины агентства «Кук» и смешался с толпой зевак, штурмовавших подступы к вокзалу: тут были и рабочие, и мелкие торговцы, и люди высшего света, приехавшие в фиакрах.
Свистя во всю мочь, локомотив, тянувший нескончаемый эшелон вагонов, весь окутанный паром, уже тормозил при въезде на перрон. Жан Меренга наблюдал, как в накрытом брезентом вагоне переступали с ноги на ногу обезумевшие лошади с всклокоченной гривой, а из-за занавесок выглядывали почерневшие от солнца люди в широкополых шляпах, индейцы с раскрашенными лицами и плюмажем на головах. Началась давка. Жан Меренга вдруг схватился за шею, почувствовав, как его что-то кольнуло. На заплетающихся ногах отошел в сторонку, пошатнулся и едва не упал на какую-то женщину. Та вскинулась и стала вопить, что нечего по улицам шляться, коли напился. Ноги подкашивались, стул из-под него ускользнул, он упал вначале на колени, а потом опрокинулся на землю. Попытался поднять голову, но сил уже не хватило. Словно издалека донесся голос Анри Капюса:
— Что случилось, старина? Держись, сейчас тебе помогу. Что-нибудь не так?
Он захрипел, пытаясь что-то сказать:
— П..ч… чела…
Из невидящих глаз потекли слезы. Неужели такое крепкое тело, как его, из плоти и крови ростом метр семьдесят три может за несколько минут превратиться в тряпку?! Он больше не чувствовал его, а воздуху не хватало, но он никак не мог вдохнуть поглубже. В последний миг до него дошло, что он вот-вот умрет. Он еще цеплялся за жизнь, но на него надвигалась пропасть, и он начал падать: все ниже… ниже… еще ниже… Последнее, что он увидел, был распустившийся меж камнями мостовой цветок одуванчика, желтый, как солнце.
В газете «Фигаро», 13 мая 1889 на странице 4 появилась заметка:
Странная смерть старьевщика
Собиратель тряпья с улицы Паршеминери умер от пчелиного укуса. Это произошло вчера утром на вокзале Батиньоль во время прибытия в Париж труппы Буффало Билла. Оказавшиеся рядом люди предпринимали тщетные попытки вернуть несчастного к жизни. Следствием установлено, что речь идет о Жане Меренга, сорока двух лет, бывшем коммунаре, депортированном в Новую Каледонию и вернувшемся в Париж по амнистии 1880 года.
Чьи-то руки грубо скомкали газету и бросили в корзинку для бумаг.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Среда 22 июня
Затянутая в новый корсет, при каждом шаге издававший треск, Эжени Патино вышла на авеню Пёплие. Она чувствовала усталость, хотя день, обещавший изнуряющую жару, едва начался. Позволив назойливым детишкам уломать себя, она с сожалением рассталась с прохладой веранды. И хотя ее осанка оставляла впечатление изящного достоинства, внутри она ощущала полное неблагополучие: легкие сдавлены, желудок опущен, непривычное покалывание где-то в области ляжки и, в довершение ко всему, сердцебиение.
— Не бегите, Мари-Амели! Эктор, прекратите свистеть, это дурно!
— Тетушка, мы сейчас на омнибус опоздаем! Мы с Эктором хотим на второй этаж. Вы билеты-то не забыли?
Эжени остановилась, открыла сумочку, убедилась, что билеты, купленные заранее свояком, на месте.
— Быстрее же, тетя! — торопила Мари-Амели.
Эжени бросила на нее хмурый взгляд. У девчонки был талант выводить ее из себя. Не намного лучше и Эктор, маленький капризный петушок. Вполне сносным был только старший, Гонтран, и то пока молчал.
На остановке на улице Отей ждала дюжина пассажиров. Эжени узнала Луизу Вернь, горничную семейства Массой. Подмышкой у нее была корзина, она тащила белье в прачечную, должно быть, на улицу Мирабо. Ничуть не стесняясь, она обтирала бледное лицо огромным, как полотенце, носовым платком. Избежать встречи было невозможно. Эжени подавила раздражение: эта служанка воображала, что ровня ей, а она никак не соберется с духом напомнить ей о приличиях.
— Ах, мадам Патино, ну и июнь! Откуда такое пекло?
«Не похоже, чтоб ты расплавилась», — процедила Эжени себе под нос.
— Далече собрались, мадам Патино?
— На выставку. Эти три чертенка умолили сестру их туда отвести.
— Ох, и не повезло же вам, такая нагрузка! А не боитесь? Все эти иностранцы… Мне-то хочется посмотреть цирк Буффало Билла в Нейи. Там настоящие краснокожие, и стреляют настоящими стрелами!
— Эктор, хватит! Боже, он надел разные носки, один белый, другой серый, что за растяпа!
— Он едет, тетя, едет!
С впряженными в него тремя меланхоличными лошадками омнибус «А» двигался вдоль мостовой. Эктор с сестрой устремились на второй этаж.
— У тебя штанишки видно! — крикнул Эктор.
— Плевать я хотела! Наверху так здорово! — возразила девочка.
Сидя рядом с Гонтраном, который крепко держал ее за руку, Эжени думала, что самые худшие минуты ее жизни проходят в общественном транспорте. Ей была ненавистна мысль, что ее, одинокую, никому не нужную, куда-то везут, как опавший лист влечется против своей воли по малейшему дуновению ветра.
— Вы купили новое платье? — спросила Луиза Вернь.
Коварство вопроса не укрылось от Эжени.
— Это подарок сестры, — сухо ответила она, разглаживая складки на красном шелке, обтянувшем ее, точно лионскую колбасу.
Она предпочла не уточнять, что сестра уже носила это платье два сезона, и медовым голоском добавила:
— Внимательней, моя милая, вы пропустите вашу остановку!
Заткнув рот невеже, она открыла портмоне и сосчитала деньги, довольная, что предпочла ехать в омнибусе, а не в фиакре. Ради такой экономии можно и потерпеть.
Луиза Вернь встала, надутая, как оскорбленная дуэнья.
— Будь я на вашем месте, я бы спрятала сумочку подальше, похоже, все лондонские карманники сейчас перебрались на Марсово поле! — бросила она, прежде чем выйти.
Эстафету тут же принял Гонтран.
— А знаете, в мастерских Леваллуа-Перре пришлось изготовить девятнадцать тысяч деталей, и чтобы возвести башню, наняли две сотни рабочих. Предсказывали, что она обрушится, когда построят двести двадцать восемь метров, а она все стоит!
«Ну все, прорвало», — подумала Эжени.
— О чем это вы?
— Да о башне же, ну!
— Держитесь прямее и вытрите нос, у вас сопля.
— Если ее придется куда-нибудь перевозить, понадобится десять тысяч лошадей, — продолжал Гонтран, утерев нос.
С верхнего этажа скатились Эктор и Мари-Амели.
— Смотрите, приехали!
На другой стороне Сены, воздетая к небу, сияла бронзового цвета башня Гюстава Эйфеля, словно увенчанный золотой короной гигантский уличный фонарь. В смятении Эжени искала повод не взбираться наверх, но ничего не смогла придумать и приложила руку к сердцу, припустившему во всю прыть. «Если я выйду оттуда живой, — обещала она себе, — пятьдесят раз прочту „Отче наш“ в Нотр-Дам-де-Нейи».
Омнибус остановился у освещенного газовыми фонарями дворца Трокадеро, башни которого столь похожи на минареты. Далеко внизу, за серой лентой усеянной корабликами реки, раскинулись пятьдесят гектаров Всемирной выставки.
Судорожно вцепившись в сумочку и не спуская глаз с детей, Эжени начала схождение в ад. Ускорив шаг, она скатилась с холма Шайо, прошла, не обратив никакого внимания, мимо витрины с плодами всех мыслимых краев света, извивающихся карликовых деревьев в японском саду, темного провала, куда следовало спускаться для «Путешествия к центру земли». Косточки корсета впивались в бока, ноги молили о пощаде, но она шла, не замедляя шаг. Скорей, скорей покончить с этим, добраться туда, где рельеф поровнее…
На входе она предъявила билеты и подтолкнула детей под крытый навес Иенского моста.
— Слушайте меня внимательно, — громко и по складам сказала она. — Если вы отбежите от меня хоть на сантиметр, я сказала, хоть на сантиметр, мы возвращаемся домой!
И шагнула в сущий бедлам. Среди разноцветных киосков все население подлунного мира работало локтями, прокладывая себе путь. Человеческое море бурлило: французы, иностранцы, чернокожие, белые, желтолицые. Толпа ряженых с Лейсестер-сквер с намазанными золой рожами вовлекла их в свою ритмическую пляску под аккомпанемент банджо, утащив на левый берег.
С упавшим сердцем, оглушенная, Эжени повисла на Гонтране, который один оставался невозмутимым посреди всей этой неразберихи. Выставка буквально обрушилась на них со всех сторон. Шарахаясь от бродячих торговцев, аннамитского тира на передвижной тележке, египетских погонщиков мулов, они наконец добрались до очереди, стоявшей у южной опоры башни.
Уже ничего не желая на этом свете, Эжени украдкой поглядывала на элегантных девиц, удобно устроившихся в креслах на колесиках, которые везли лакеи в фуражках. «Вот бы мне так…»
— Тетя, ну видели, видели?
Подняв голову, она узрела целый лес поперечных балок и бруса, внутри которых скользил лифт. Ее охватило неукротимое желание бежать отсюда так быстро и так далеко, как только усталые ноги могли унести. Сквозь бумажную перегородку ей было слышно, как бубнит Гонтран:
— Триста метров… прямо сразу на второй этаж… четыре подъемника… Отис, Комбалюзье…
Отис, Комбалюзье. Эти иностранные имена вдруг представились ей в ядрах-вагонах из романа Жюля Верна, название которого она забыла.
— Тем, кто предпочтет подниматься пешком и пройти тысячу семьсот десять ступеней, понадобится не менее часа…
Ну да, конечно:
«С Земли на Луну!» А вдруг тросы не выдержат?..
— Тетя, тетя, я хочу шарик! Шарик, надутый газом! Голубой! Всего одно су, тетя, только су!
«По физиономии бы тебе, вот чего!»
Она овладела собой. Бедной родственнице, которую приютили из чистого милосердия, не пристало давать волю сиюминутным чувствам. Она с сожалением протянула Эктору су. Гонтран все так же невозмутимо вслух читал карманный путеводитель по выставке.
— …В день в среднем одиннадцать тысяч посетителей, а башня может вместить десять тысяч человек за раз…
Он вдруг осекся, почувствовав ледяной взгляд, коим окатил его человек, стоявший впереди, — одетый с иголочки весьма пожилой японец. Не мигая,
он сверлил его взглядом, пока
тот не опустил глаза, и только тогда, довольный, отвернулся.
Когда наконец подошли к окошку кассы, Эжени была уже в такой панике, что не смогла проронить ни слова. Мари-Амели толкнула ее под локоть, приподнялась на цыпочках и громко возвестила:
— Четыре входных на вторую платформу, будьте добры!
— Зачем так высоко, хватило бы и первой! — пролепетала Эжени.
— Мы должны расписаться в «Золотой книге гостей» в павильоне газеты «Фигаро», вы разве забыли? Ей ведь владеет папа, он хочет прочесть наши имена в газете, платите же, тетя!
Протиснувшись в глубину лифта и оказавшись нос к носу с японцем, на лице которого застыло выражение детского восхищения, она рухнула на деревянную скамейку, препоручив Богу душу. Ее вниманием неожиданно целиком завладела реклама, увиденная в «Журнале мод»: «У вас анемия, хлороз, вам не хватает железа? Железо фирмы Бравэ улучшает кровь страдающих анемией».
— Бравэ, Бравэ, Бравэ, — тихонько твердила она.
Шок. С сердцем, ушедшим в пятки, она видела, как сами собой раздвинулись красные решетки вольера. Она не успела подумать: «Как меня сюда занесло?!», как лифт уже застыл на втором этаже, в 115,73 метрах над поверхностью земли.
Прислонившись к решетчатой ограде первого этажа башни, Виктор Легри следил за движением лифтов. Компаньон назначил ему встречу между фламандским рестораном и англо-американским баром. Народу в галерее было битком, всюду чувствовалось возбуждение, женщины то и дело издавали короткие нервные смешки, мужчины вели оживленные дискуссии. У тех, кто попадал сюда не в первый раз, на физиономиях читалась пресыщенность. Лифты останавливались, освобождались от груза, снова загружались и уезжали. На лестницах была разношерстная публика. Виктор ослабил узел галстука, расстегнул ворот рубашки. Солнце палило нещадно, его мучила жажда. Держа в руке шляпу, он пробился к сувенирной лавке. Голубой шарик стукнул его по лбу, и кто-то недовольно прокричал:
— Говорю же вам, это был ковбой! Он расписался в «Золотой книге гостей» после вас, а прибыл из Нью-Йорка!
Виктор увидел двух мальчиков и девчушку, прилипшую носом к витрине.
— Вот что красиво так красиво! Брошь, а на ней Эйфелева башня, и веера, и вышитые платки…
— Почему вы мне никогда не верите? — не унимался мальчуган с воздушным шариком. — Уверен, он из труппы Буффало Билла!
— Скукота твой Буффало Билл, а вот тут красиво, идите-ка сюда! — Старший из мальчиков показывал пальцем за горизонт. — Представляете, отсюда виден Шартр! Сто двадцать километров. Там Нотр-Дам, а вон Сен-Сюльпис. И еще Пантеон, Валь-де-Грас, у, как классно, да они гигантские, как в «Гулливере»!
— А это что за яйца всмятку, большие какие?
— Обсерватория. Дальше Монмартр, где базилику строят.
— Всего-то кусок пемзы, — проворчал малыш. — А скажи, Гонтран, если я отпущу шарик, он до Америки долетит?
«Хотелось бы мне сейчас быть в их возрасте, — подумал Виктор. — Проживи они еще хоть полсотни лет, такого воодушевления им никогда уже не испытать».
Он заметил собственное отражение в витрине лавки: мужчина среднего роста, худощавый, лет тридцати, лицо расстроенное, усы густые.
«Неужели это я? Почему у меня такой хмурый вид?»
Он подошел к решетчатой ограде, бросил взгляд вниз, на муравейник вокруг Дворца изящных искусств, на людской поток, стремительно бегущий на Каирскую улицу, с разбегу штурмующий крошечный поезд на Декавиль и плотнеющий вокруг необъятного Дворца промышленности. Внезапно он почувствовал, что окружен врагами.
— Тетя, подержите мой шарик!
Прилипшая к скамейке, как моллюск к скале, Эжени боялась пошевелиться. Не возражая, она позволила Эктору привязать шарик за ниточку к ее запястью. Легкий ветерок колыхал гирлянды на вывеске фламандского ресторанчика, усиливая ее головокружение. Ей вспомнился куплет песенки:
Ах, ветер, жизни краткой дни
Любовью нежной осени…
Она почувствовала, что ее сейчас вырвет от омерзения.
— Мари-Амели, останьтесь со мной!
— Но, тетя, так нельзя! Почему мальчикам…
— Извольте слушаться!
Это бесконечное ожидание на втором этаже, пока гости перестанут толпиться у «Золотой книги», совсем ее доконало. С побагровевшими щеками и дрожью в руках она думала, откуда ей взять силы в третий раз пережить переезд в лифте. Эжени неловко поправила высунувшуюся из-под шляпы полуседую прядь. Кто-то сел рядом, потом встал, оступился, навалившись всей тяжестью ей на плечо и не подумав извиниться. Она коротко вскрикнула, что-то ее кольнуло у основания шеи. Пчела? Точно, пчела! Она с гадливостью замахала руками, вскочила, потеряла равновесие, ноги стали как ватные. Ей так хотелось опять присесть. По телу медленно растекалось оцепенение, дышать получалось с трудом. Безвольно пошатываясь, она прошла вперед, держась за решетчатые перегородки галереи. Уснуть. Забыть страх, усталость. Уже теряя сознание, вспомнила, что сказал кюре, когда умер ее ребенок: «Жизнь земная не больше чем прелюдия, так написано в Библии, а Библия — книга, в которой Слово Божие». Она еще увидела, как убегает, исчезая в густой людской сутолоке, Мари-Амели, но позвать ее не было сил, на грудь давила неимоверная тяжесть. Перед слезящимися глазами в беспечной тарантелле кружилась толпа, смыкавшаяся вокруг, все ближе и ближе…
Обмахиваясь шляпой у входа в англо-американский бар, Виктор пытался различить своего друга Мариуса Бонне среди темных рединготов и светлых платьев. Кто-то хлопнул его по спине, он обернулся и увидел низенького пухлощекого человечка лет сорока, прятавшего явную лысину под панамой, надвинутой по самые уши.
— Ну скажи мне, Мариус, ты совсем спятил? Чего тебе прикипело назначать встречу в таком месте? С какой стати? Я ничего не понял в твоем послании.
— Оставь уныние, сверху мир кажется ничтожным, это укрепляет дух. Где твой компаньон?
— Сейчас придет. Да ты-то объясни, о чем речь?
— Мы спрыскиваем пятидесятый номер моей газеты. Она родилась 4 мая, накануне празднования столетия открытия Генеральных штатов в Версале. Ну, а я любуюсь на эту трехсотметровую башню, и душа моя жаждет устроить вам праздник.
— Так ты больше не репортер газеты «Время»?
— «Время» я бросил. С тех пор как последний раз был в книжной лавке, произошло так много! Ты забыл о нашем споре?
— Признаюсь, я не принял твоих планов всерьез.
— Ну так вот, старина, я тебя сейчас удивлю. Если бы я приступил к делам, мне мог бы быть весьма полезен твой компаньон.
— Кэндзи?
— Да, господин Мори задел меня за живое своими насмешками. Я совершил рывок — и сейчас перед тобой директор и главный редактор ежедневной газеты «Пасс-парту», у которой блестящее будущее. И еще я готов сделать предложение, которое тебя озолотит.
Виктор с сомнением поглядел на сияющее круглое лицо Мариуса. Он познакомился с ним у художника Мейсонье и поддался очарованию этого неугомонного южанина. Мариус обладал энергией и смекалкой, а свою речь уснащал литературными цитатами. Покорял и мужчин и женщин притворным простодушием, но мог показаться и острым как бритва, поскольку без обиняков произносил вслух то, что каждый привык держать при себе.
— Приходи, познакомишься с моей командой. Народу у нас немного, и соперничать с «Фигаро», тираж которой восемьдесят тысяч экземпляров, нам пока не под силу, но ведь и Александр Великий был маленького роста!
Они протолкнулись к столику, за которым потягивали напитки четверо, два мужчины и две женщины.
— Дети мои, это Виктор Легри, книжный друг, о котором я говорил, эрудит, его сотрудничество драгоценно для нас. Виктор, представляю тебе мадемуазель Эдокси Аллар, бесценную секретаршу, бухгалтера, сочинительницу и утешительницу.
Эдокси Аллар, томная блондинка с длинными ресницами, окинув его взглядом с головы до ног, удостоверилась, что никакого интереса, кроме профессионального, этот человек для нее не представляет, и послала ему кисло-сладкую улыбку.
— Этот парняга, разряженный как денди, — Антонен Клюзель, ас по части информации! — продолжал Мариус. — Да ведь ты его знаешь, я уже приходил с ним в книжную лавку. Выставляешь его за дверь — так он влезает в окно.
Виктор взглянул на молодого человека дружелюбного вида, белокурого, со свернутым влево носом. Толстый неприятный тип рядом с ним, вытаращив глаза, созерцал собственный бокал.
— Справа от него Исидор Гувье, перебежчик из префектуры полиции, ведь нам открыты самые потайные уголки жизни. Наконец мадемуазель Таша Херсон, компатриотка Тургенева, иллюстраторша и карикатуристка.
Виктор пожал руки, но запомнил только имя иллюстраторши, девицы с миловидным личиком, лишенным и следов косметики, с рыжими кудрями, собранными в шиньон и спрятанными под маленькой шляпкой, украшенной маргаритками. Она посматривала на него приветливо; его словно окатило теплой волной. Он старался внимать разглагольствованиям Мариуса, но любое даже самое легкое движение девушки волновало куда больше.
Таша украдкой оглядывала его. У нее было смутное чувство, что он ей знаком. Он казался человеком, который всегда настороже, всегда сам по себе, и при этом и голос, и манеры свидетельствовали о том, что он обладал решительным характером. Где же она видела это лицо?
— Ну вот наконец и Кэндзи Мори! — возвестил Мариус.
Виктор поднялся, и тут Таша осенило: он напоминал ей персонажа одного из полотен братьев Ле Нейн.
— Сюда, господин Мори!
Вновь пришедший непринужденно раскланялся, пока Мариус его представлял. Дойдя до Эдокси и Таша, Мори снял котелок и поцеловал им ручки.
На мгновенье все умолкли. Мариус поинтересовался, любит ли тот шампанское, Кэндзи Мори ответил, что это шипучее пойло не идет ни в какое сравнение с сакэ, но он готов воздать должное и ему. Эдокси Аллар, на которую произвели впечатление манеры этого изысканно вежливого азиата, мгновенно отказалась от своих предрассудков. Другие сидели с таким видом, будто чего-то ждут, и именно от Кэндзи Мори, который, похоже, не догадывался, что нарушил их благодушное настроение.
— Компаньон моего друга Виктора, господин Мори, японец, — торжественно объявил Мариус.
Виктор поймал легкую улыбку Таша, их взгляды встретились, она увидела, как изменилось выражение его глаз. «А я, кажется, в его вкусе», — подумала она. Ей захотелось сделать с его лица набросок: «Рот интересный, чувственный…»
Эдокси, склоняясь к Кэндзи Мори, спросила:
— Вы были в японском павильоне?
— Я не люблю штучки в японском духе, производимые на конвейере, — ответил он с выражением дружелюбной приветливости.
— И все-таки там выставляют очень красивые вещи, — сказала Таша, — например эстампы…
— На Западе мало кто понимает в такой живописи, все это не более чем красивые экзотические открытки, которыми украшают салоны под Генриха II. Вы загромождаете свое жилище таким изобилием предметов, что в конце концов перестаете их замечать.
Таша живо возразила:
— Ошибаетесь! Зачем вы судите так обо всех? Мне посчастливилось видеть выставку японского крепона, организованную братьями Ван Гог. «Волна» Хокусая произвела на меня очень сильное впечатление.
— Кстати о сильных впечатлениях, вам не кажется, что мы находимся на мостике трансатлантического парохода? — зловеще изрек Исидор Гувье. — Не хватает лишь сильного волнения на море, чтобы свалить эту мачту, на которую вы заставили меня залезть.
Все расхохотались.
— Не ругайте Эйфелеву башню, — изрек Кэндзи Мори. — Лучше поймите, что ее семьсот тонн железа — это примерно столько же, сколько весит обычная стена высотой в десять метров.
— Если эта стена так же длинна, как Великая китайская, — ввернула Таша.
Воцарилось молчание. Виктор рассматривал рыженькую симпатяшку. Года двадцать два — двадцать три, не больше. Уверена в себе, это придает ей пикантность. Он почувствовал, как его сердце сперва быстро забилось, потом успокоилось. Антонен Клюзель встал, пробормотав:
— Пойду на галерею, покурю.
Мариус кашлянул, прочищая горло.
— Дети мои, выпьем же за будущее процветание «Пасс-парту» и за нашего нового литературного хроникера, Виктора Легри!
— Эге, погодите-ка, это ловушка, я еще должен подумать! — со смехом вскричал Виктор.
— Хозяин! Срочно!
Все повернулись к Антонену Клюзелю.
— Что стряслось?
— Снаружи, женщина. Умерла.
Мариус вскочил.
— За работу, детки! Таша, мне понадобятся твои рисунки, поживее! Эдокси, рысью в газету, готовим специальный выпуск. Живо, живо! Вы, Исидор, в префектуру, постарайтесь узнать точные причины смерти. Антонен, за мной!
Он повернулся к гостям.
— Господин Мори, Виктор, сожалею, информация ждать не любит. Подумайте над моим предложением! — крикнул он, уже выходя.
Лифт южной стороны неподвижно замер на этаже. Мариус Бонне, Антонен Клюзель и Таша Херсон локтями растолкали живой щит из зевак и наконец добрались до скамейки, на которой лежало распростертое тело женщины в красном платье, с открытым ртом на позеленевшем лице. Взгляд с расширившимися зрачками застыл на голубом воздушном шарике, болтавшемся на ниточке, привязанной к ее запястью. Словно повинуясь таинственному велению, Таша вытащила из сумочки блокнот и бегло зарисовала сценку — покойницу, ее упавшую на пол шляпку, опечаленные и заинтересованные физиономии столпившихся вокруг любопытных.
— Кто-нибудь что-нибудь видел? — спросил Мариус.
— Вы из полиции?
— Я журналист.
— Я, я видела! — закричала женщина приятной наружности. — Да уж это ли не горе-то, за сорок су смерть принять! Дороговато, мсье, два франка за то, чтобы подняться на второй этаж этой башни, особенно если учесть, что высота тут не больше, чем на крыше Нотр-Дам. А прибавьте к этому цену на саму выставку, получится сто су, целый день работы, и кончить вот так…
— Ваше имя?
Мариус захватил с собой записную книжку.
— Симона Ланглуа, портниха. Эту даму я приметила, еще когда она входила. Вид у нее был неважнецкий, у меня ведь тоже случаются головокружения, я и подумала, что, может, все не так уж и опасно, к тому же с ней шли ее детки…
— Ее детки?
— Да, двое мальчиков и девчонка. Самый младший дал ей подержать свой шарик. Я пошла в сувенирную лавку, просто посмотреть, там красиво, да дорого.
— Это они?
Мариус показал на троицу ребятишек, тесно прижимавшихся друг к другу. Симона закивала.
— Когда я вышла оттуда, женщина сидела на корточках. Малышка все трясла ее за плечо, хныкала: «Ну пойдем же наконец, я есть хочу, я помидор хочу!» А у той голова так и болтается — то вправо, то влево…
Портниха говорила с театральными жестами, явно довольная, что оказалась в центре внимания.
— Я подошла к ней, вдруг она и вправду больная. Только ее коснулась — а она уж носом вперед, так и рухнула, как кукла, набитая опилками. Я, кажется, даже заорала. Прибежали господа, подняли. Я как лицо ее увидела, мне дурно стало!
Антонен Клюзель присел, чтобы быть одного роста с детьми. Девчушка беззвучно плакала.
— Хочу к маме… к маме!
— Где ты живешь?
— Авеню Пёплие в Отей… Ее пчела укусила.
— Пчела? Ты уверена?
— Да, уверена, она сделала «ай!» и сказала: «Пчела, она укусила меня!»
— Как тебя зовут?
— Мари-Амели де Нантей, я хочу домой.
— Вы братья и сестра? — спросил Антонен у старшего.
— Да, мсье.
— Мы сообщим вашему отцу.
— Нет, он сейчас на работе в министерстве, это маме нужно сообщить.
Антонен остолбенело смотрел на труп. Мариус поспешил ему на выручку:
— Эта дама не ваша мама? Она ваша гувернантка?
— Это наша тетя Эжени, она с нами живет.
— Эжени де Нантей?
— Эжени Патино, сестра… была сестрой мамы, — пробормотал Гонтран, у которого увлажнились глаза.
— Расступитесь! Дорогу!
Толпа заволновалась, раздались восклицания. Скопление людей рассек городовой в сопровождении двух санитаров.
— Адрес я узнал, хозяин, — шепнул Антонен, только что допросивший Эктора.
— Мигом в фиакр, выспросишь у всей семьи, слуг допроси, собаку! Я хочу все знать о жертве, ее прошлое, связи, цвет ее юбок, выкручивайся как хочешь, но сделай репортаж на целую полосу! На сей раз газетой, первой получившей информацию, окажется не «Матэн»! Вперед, и поскорее!
Опираясь на перила террасы англо-американского бара, Виктор и Кэндзи смотрели сверху, как санитары поднимают тело женщины в красном платье.
— Боюсь, как бы нам не пришлось спускаться пешком, — заметил Кэндзи.
Виктора, который, перегнувшись через перила, был поглощен созерцанием бесцеремонной рыженькой симпатяшки, о чем-то спорившей с Мариусом Бонне, он застал врасплох.
— Пойдемте же, воспользуемся тем, что на лестницах пока немного народу, — нетерпеливо торопил Кэндзи. — Меня совсем не огорчило, что собрание закончилось раньше намеченного, эта художница малообразованна, а ваш друг журналист — хвастун. Вы и вправду собираетесь вести у него литературную хронику?
— Я ничего о них не знаю, — с рассеянным видом ответил Виктор. — Вам будет неприятно, если я побуду здесь еще немного?
— На башне? Неужели вас прельщает эта архитектура?
— Нет, нет, на выставке. Во Дворце изящных искусств есть секция фотографии, мне хочется посмотреть фотоаппараты последних моделей.
Они прошли через французский ресторан и взошли на эскалатор. Впереди отец семейства объяснял потомству, какой способ подъема был использован Гюставом Эйфелем.
— Помедленнее, дети, руки на перилах, вот так. А теперь качайтесь туда-сюда всем телом, не торопясь.
— Простите, простите, дорогу, — сказал Кэндзи, пробурчав сквозь зубы так, чтобы слышал один Виктор: — Вот ведь с ума посходили! Некоторые поднимаются, встав на колени, другие на цыпочках или пятясь задом.
Как раз когда они ступили на твердую почву, полицейские сержанты оттеснили толпу зевак, освобождая дорогу выходившим из лифта санитарам. Виктор успел мельком увидеть пальцы, высунувшиеся из-под простыни, которой было накрыто тело.
— Я возвращаюсь в книжную лавку, — бросил Кэндзи. — Не люблю, когда Жозеф остается предоставлен сам себе. Знаете, как он прозвал графиню де Салиньяк? Бабища. А ведь клиентка из самых лучших!
— Та, которая клянется именем Зенаиды Флерьо?
Они прошли садом во французском стиле, разбитым у подножия башни, усеянным водопадами и обсаженным рощицами. Виктор поднял голову, над Дворцом промышленности летел перевернутый восклицательный знак: голубой воздушный шарик.
— Кэндзи, минутку, вы не забыли?
— Что именно?
— Число: ведь сегодня 22 июня. Держите-ка, это вам.
Таинственно улыбаясь, он вручил ему маленький пакет. Удивленный Кэндзи развязал золотую нитку, под шелковой бумагой скрывались карманные часы.
— Мне подарила их мама, — объяснил Виктор, — это были часы моего отца, а теперь пусть будут ваши. С днем рождения!
— А я-то надеялся, что вы не вспомните! — со смехом отозвался Кэндзи. — Пятьдесят лет, вы посчитали верно!
Он отвернулся, рассматривая часы, не в силах сказать ни слова.
— Благодарю, — наконец выдавил он почти шепотом.
Сунув часы в карман жилетки, он быстрым шагом пошел прочь, не заметив, что у него из кармана выпала какая-то бумажка.
— Эй, Кэндзи, вы потеряли!..
Тот был уже далеко. Виктор улыбнулся, Кэндзи все такой же: стоит ему разволноваться, как он предпочитает спасаться бегством. Он нагнулся и поднял четырехполосную газету маленького формата.
Всемирная выставка 1889
ФИГАРО НА БАШНЕ
Специальное издание,
напечатанное на Эйфелевой башне
Этот номер был вручен лично господину Кэндзи Мори в память о посещении им Павильона «Фигаро» на втором этаже Эйфелевой башни на высоте 115,73 метра над уровнем Марсова поля.
Париж, 22 июня 1889 года
Виктор не смог сдержать улыбки: вот из-за чего Кэндзи опоздал в англо-американский бар! Он аккуратно сложил газету; надо будет тихонько подложить ее Кэндзи на стол, ни к чему, чтобы друг понял, что он проник в его маленькую тайну.
Он повернул к павильонам Центральной Америки, обогнул плантации экзотических растений Боливии и Чили. Худосочная англичанка, состоящая в Обществе трезвости, цепко схватила его за руку, призывая купить брошюру, клеймившую алкоголь как яд, изобретенный еретиками. Едва он сумел от нее отделаться, как человек-бутерброд сунул ему в руки проспект, анонсирующий «большой парад полковника Коди, знаменитого Буффало Билла». Отпихнув от себя докучные бумажки, он прошел через пышный вестибюль Дворца изящных искусств и принялся блуждать по лабиринту залов в надежде найти знаменитый фотоаппарат Джорджа Истмена.
«
Нажимаете кнопку — остальное за вас сделает Кодак! — это удачная реклама», говорил он себе, спускаясь по лестнице, как вдруг в ужасе отпрянул: вокруг были скальпели, ланцеты, троакары, акушерские щипцы. «Быстро отсюда!» Он ринулся на выход, опустив голову, стараясь не смотреть на таблицы, слишком реалистично изображавшие непоправимые последствия морфинизма. Вот и выход. Он запутался в дверях, попав в окружение муляжей, изготовленных с пугающей анатомической точностью. Виктор устремился к центральной ротонде и сразу остановился, увидев русскую художницу из «Пасс-парту», ее рука в кружевной перчатке сжимала блокнот. У него ускорился пульс. А она держит себя как дива! Наверное, эта малышка в серой юбке с бисером и ладно пригнанной курточке хочет, чтобы жизнь хрустела у нее на зубах так же лихо, как хрустит бумага под ее карандашом.
— Я потерялся, — признался он.
— Я тоже. Хотела полюбоваться на большую башню Авы, посвященную Будде, и вдруг оказалась в секции протезов. Вы его видели? — спросила она улыбаясь.
— Кого? Будду?
— Нет, зародыша с двумя головами! Спасайся кто может!
— Мороженое! Мороженое! Ванильное мороженое!
— Могу я угостить вас? — предложил он. — Должны же мы придти в себя.
— Я на работе и… мне бы попасть на Каирскую улицу.
— Тогда совершенно необходима двойная порция, в стране пирамид стоит немыслимая жара.
Вдоль авеню Сюффрен рядком выстроились китайский павильон, румынский ресторан и изба. Они прошли через марокканский квартал и без перехода оказались в самом сердце египетского базара.
— Так пробежать по планете — это немножко как сапоги всмятку, — заметил Виктор, у которого царившее вокруг оживление ничуть не убавило интереса к Таша.
Ростом она была ему по плечо и, чтобы не отставать, ей пришлось ускорить шаг. Они прошли сквозь вереницу осликов, стоявших маленьким стадом под решетчатыми балконами в восточном стиле. Ни с того ни с сего остановившись у выставки сигарет «Хедива», Таша вдруг вытащила блокнот и карандаш. Заглянув ей через плечо, Виктор увидел недавний эскиз — лежащее на скамейке тело, а вокруг трое детей с плаксивыми рожицами.
— А это что такое? — спросил он, искоса любуясь округлостью ее щечки.
Она с озабоченным видом захлопнула блокнот.
— Та женщина, на башне… Умереть на празднике!.. Мне надо идти.
— Я могу довезти вас? Я тоже ухожу.
— Где находится ваш магазин?
— Дом 18 по улице Сен-Пер, найти легко, там есть вывеска: «Эльзевир. Книги старинные и современные».
— Мне в другую сторону, на Нотр-Дам-де-Лоретт.
— Это очень кстати, у меня встреча на бульваре Оссман, — поспешно сказал он.
Она весело взглянула на него и, для виду поколебавшись, согласилась.
Виктор взял фиакр до авеню Сюффрен. Сидя вплотную друг к другу, они молчали. Виктор был смущен, уж очень эта девушка была непохожа на женщин, которых он хорошо знал! Вот бы ее разговорить…
— Давно в Париже?
— Скоро два года.
— Мне нравится ваш очаровательный говорок, в нем есть южный аромат.
Она повернула голову, чтобы рассмотреть Виктора в профиль, и еще немного помолчала, прежде чем ответить, нарочито выпячивая свой легкий акцент.
— Знаете, как говорят в Москве: ах, мадемуазель, так вы из Одессы! В Париже говорят примерно так же — ах, так она из Марселя!
Его, казалось, обескуражило это замечание; впрочем, он быстро подхватил разговор:
— Одесса, Крым, Малороссия, порт на Черном море, многонациональный город, воспетый Пушкиным. Дюк Ришелье, потомок знаменитого кардинала, в начале нашего века был его губернатором. Там стоит ему памятник, или я ошибся?
— Нет, все верно. Одетый римлянином, он возвышается на самом верху лестницы в сто девяносто две ступени, которая ведет из порта в верхний город. Мариус прав, вы и вправду кладезь знаний, мсье Легри, — констатировала она насмешливо.
Он ответил с напускной скромностью:
— Не судите строго эрудитов, я довольствуюсь лишь прочитанными рассказами о путешествиях, попадающимися под руку. Но вы-то, в таком совершенстве овладевшая всеми тонкостями языка Мольера, уж, наверное, у вас была гувернанткой француженка?
Она рассмеялась.
— Моя мать была дочерью французского негоцианта, а отец — сыном поселенца-англичанина, и я еще в колыбели научилась управляться с их родными языками как полагается.
— А давно ли вы работаете на Мариуса?
— Три месяца. Знакомству с мсье Бонне я обязана своим даром рисовать портреты-шаржи.
— Не хотите продемонстрировать? — сказал он, протягивая ей проспект с портретом Буффало Билла.
— Охотно, он мне не нравится.
Несколькими движениями карандаша она превратила элегантного полковника Коди в опереточного пикадора верхом на кляче, наставившего штык на бизона, умоляющего о пощаде.
— Да вы, черт подери, его изуродовали! — воскликнул он, неприятно пораженный.
Поскольку он не потребовал вернуть проспект, она сунула его в сумку, отрезав:
— Мне это доставило удовольствие, терпеть не могу этого мясника. Вы знаете, что в 1862 году в районе Миссури и Скалистых гор насчитывалось около девяти миллионов бизонов? Все они истреблены. А еще там было около двухсот тысяч индейцев сиу, и тех из них, кто выжил, отправили в резервации.
— Я, должно быть, идиот, — произнес Виктор, спеша переменить тему, — но мне никогда не понять, зачем нужны иллюстрации к романам, ведь они просто повторяют текст.
— Хороший рисунок иногда скажет больше обширной главы. Сейчас я иллюстрирую французский перевод трагедий Шекспира. Никак не могу найти модели для колдуний из «Макбета». Хирургическая выставка не очень-то в этом помогла! — заключила она со смехом.
— Вам надо увидеть «Капричос» Гойи.
— У вас они есть?
— Первое издание, великолепное ин-кварто, восемьдесят рисунков, и никаких рыжеватых пятен, — промурлыкал он, бросая на нее красноречивый взгляд.
Он только что разглядел ее округлые груди под белым корсажем. Она немного отодвинулась.
— Оно принадлежит моему другу Кэндзи, — закончил он, выпрямляясь.
— Японскому господину с такими устойчивыми суждениями?
— Будьте снисходительны, ему просто действует на нервы мода на японские художества.
— Вы, похоже, очень его любите.
— Он меня воспитал. Я потерял отца, когда мне было восемь. Мы жили в Лондоне. Не прояви Кэндзи такой самоотверженности, моя мать никогда бы не выбилась в люди, она совсем не умела вести дела.
— Давно это было?
— Хитрость, чтобы узнать, сколько лет хозяину?
— Двадцать один год назад.
— Я чувствую, что…
Она снова замкнулась в молчании.
— Когда придете в магазин? — спросил он как можно более развязно.
— Мне надо собраться с духом, у меня очень плотный график.
Он нахмурился. Мужчина? А может, и не один. Никогда не знаешь, чего ждать от женщин такого типа.
— Вы очень заняты… — констатировал он, притворившись, что его очень заинтересовал деревянный настил бульвара Капуцинок.
— Я продаю себя, чтобы заработать на жизнь.
Он резко от нее отпрянул.
— То, что греет душу, редко кормит. «Пасс-парту» и иллюстрации к книгам дают мне возможность прокормиться и вести самостоятельную жизнь.
— И что же греет вам душу?
— Живопись. Отец рано приобщил меня к искусству гравюры и акватинты, а мать научила акварели и рисунку. Они руководили самодеятельной школой искусств, это были настоящие художники. Отец рисовал и… — Она покачала головой. — Оставим прошлое в прошлом. Творчество — единственное, что ценно для меня. Уж не знаю, есть ли у меня талант, имею ли я счастье тронуть им хоть кого-то, но я не могу не рисовать, как алкоголик не может не пить. Вот что идет в счет, а цель — уже дело вторичное.
— Разумеется, — одобрил Виктор, вовсе не уверенный, что все понял правильно.
Он чувствовал пресыщение своей милой подружкой Одеттой с ее каникулами в Ульгате, новейшими туалетами, светской суетой. Ему вдруг стало досадно, что у него такая пошлая любовница. О, если бы она хотя бы немного походила на ту девушку!
— А вы?
— Я?
— Ну да, у вас-то есть страсть?
— Я люблю книги и… фотографию. В Лондоне я прошлой зимой купил «Акме», это миниатюрная ручная камера-обскура, ее еще называют глазом детектива, и вот… но я утомил вас.
— Нет, нет, уверяю вас, если я женщина, это вовсе не значит, что техника недоступна моему пониманию.
— Прекрасно, тогда я расскажу вам о пластинках с броможелатиновой эмульсией, которые скоро вытеснит гибкая пленка из целлулоида.
Ее позабавило, как он огорчен.
— Вы наблюдательны.
— Вовсе я не наблюдателен.
Уж не обиделась ли она? Ему хотелось исправиться.
— Как и ваше, мое времяпрепровождение содержит в себе некоторую толику теории, но, стремясь выражаться подобающими термина…
— Никакое не времяпрепровождение, — сухо перебила она.
— В каком смысле?
— Живопись. Это не времяпрепровождение. Когда рисую, я чувствую, что живу, каждая моя клеточка полна жизни. Это вам не… салфетки вышивать!
Она сжалась в углу, уставившись в окно. Он почувствовал себя так, словно получил пощечину.
— Вы рассердились? Простите, я был глуп.
Чтобы повернуться к нему и изобразить подобие улыбки, ей пришлось сделать над собой усилие.
— Я сейчас очень устала, все нервы наружу.
Фиакр, попавший в пробку на бульваре Клиши, довольно долго стоял на месте.
— Я выйду здесь, это совсем близко от моего дома, до свиданья! — бросила она, резко открывая дверцу.
— Подождите!
Он не успел удержать ее, она уже спрыгнула на шоссе. Кучер соседнего фиакра, щелкнув хлыстом, пустил ей вслед ругательство. Виктор поспешно расплатился и пошел за Таша, которая быстрыми шагами поднималась по улице Фонтэн. «Только бы она не оглянулась…» На краю тротуара она остановилась, и он спрятался за колонной Моррис. Она пошла дальше, пересекла улицу Пигаль, вышла на Нотр-Дам-де-Лоретт и там вошла в дверь массивного здания в восточном стиле.
Радость, что узнал ее адрес, сменилась тревогой: а вдруг в этом доме живет ее любовник? Надо расспросить Мариуса. Надо его повидать и принять предложение насчет хроники. «Завтра, завтра я приду сюда, и если она действительно здесь живет, пошлю ей цветы, чтобы заслужить прощение».
Прощение за что? Не ей ли впору перед ним извиниться? Ведь она даже не поблагодарила за то,
что он ее подвез. Он пожал плечами. Вечно у них на все свои резоны, у этих женщин!
Он прогуливался по улице Пелетье, воображая скорую встречу с Таша, как вдруг его толкнул продавец газет, размахивавший свежим специальным выпуском.
— Смерть за сорок су! Покупайте «Пасс-парту»! Загадочная смерть на первом этаже трехсотметровой башни! Все подробности за пять сантимов!
ГЛАВА ВТОРАЯ
Четверг 23 июня
Виктор шел по улице Круа-де-Пти-Шамп. Прежде чем решиться, он нашел время позавтракать в пивной на бульварах. Его выход на сцену был отточен до блеска: «Я тут проходил мимо, решил зайти обсудить твое предложение». Это был неплохой предлог, дававший возможность снова увидеть Таша и заключить с ней мир. Он набросал в общих чертах начало статьи, озаглавленной «Тип француза, каким его видит писатель», в которой не было пощады ни Бальзаку: «Полицейский комиссар задумчиво отвечал: „Вовсе она не сумасшедшая“ („Кузина Бетта“), ни Ламартину: „Растенья ног моих болят от желания выйти вместе с вами, Женевьева“ („Женевьева“), ни Виньи: „Старый лакей маршала д’Эффиа, что полгода как умер, летел как на крыльях“ („Сен-Map, или Заговор во времена Людовика XIII“)».
Он прошел редакцию газеты «Эклер» и направился в галерею Веро-Дода, озираясь в поисках вывески с надписью «Пасс-парту». Ее не было. Он вернулся назад, на всякий случай ткнувшись в решетчатые воротца, что вели сразу в несколько дворов. Где-то неподалеку звучала песня, пахло жимолостью и лошадиным навозом. Он обошел телегу, нагруженную фуражом и стоявшую перед складами с зерном, прошел вдоль конюшни и с минуту стоял, наблюдая, как двое мальчуганов пускают в канавке бумажный кораблик.
Редакция «Пасс-парту» ютилась в самом конце тупичка: в полуобвалившемся одноэтажном строении, зажатом между типографией и граверной мастерской. Он вошел, поднялся по винтовой лестнице и сразу наткнулся на Эдокси Аллар и Исидора Гувье, которые стояли у полуоткрытой двери.
— Рыжуха совсем нос задрала, — пробормотал Исидор, пожевывая во рту сигару и бросив на него взгляд.
— Рыжуха? — переспросил Виктор.
Эдокси обернулась и посмотрела на него безо всякого интереса.
— Что вам угодно?
— Могу я видеть мсье Бонне?
— Он занят, — ответила она.
— Э-э… А мадемуазель Таша?
— Ее нет. Но если вы можете подождать…
Она указала ему на низенький диванчик рядом с кипой газет. В замешательстве Виктор направился к нему, сел, закинул ногу на ногу и схватил экземпляр «Пасс-парту». Большую часть первой полосы занимал сатирический рисунок, на котором Эйфелева башня изображалась целомудренно одетой в юбку с оборочками. Огромная пчела угрожающе летала вокруг фонарика на самом верху, где красовалась украшенная перьями шляпка. Он не смог сдержать улыбки, увидев подпись: Таша X.
Опустив глаза, Виктор прочел набранный крупными буквами заголовок:
СМЕРТЬ:
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ИЛИ УБИЙСТВО?
В газету пришла анонимка:
Я скажу вам, — навострите ушки! —
Слишком много знают часто бедные простушки.
Не идет ли речь о пчеловоде-убийце, который сводит личные счеты через подставных перепончатокрылых смертоносиц? Вчера, под самый конец дня…
Виктор вздрогнул: в бюро Мариуса вдруг раздались громкие голоса.
— Предупреждаю, Бонне, еще одна статья такого рода, и…
— Да помилуйте, инспектор, свобода прессы, если не ошибаюсь, узаконена еще восемь лет назад!
— Вы хотите сорвать выставку? Рисунок на первой полосе просто омерзительный!
— Публика иного мнения. Знаете, сколько экземпляров мы продали с утра и сколько продадим до вечера, а потом завтра и послезавтра?
— Вы раздули до непомерных размеров банальное происшествие! Кто позволил вам утверждать, что кончина этой Патино подозрительна?
— Я ничего не утверждаю, только задаю вопрос!
— Это не так, Бонне, и вы прекрасно все понимаете! Полиция завалена анонимными письмами, в которых некие доброжелатели сообщают обо всех лицах, окочурившихся при необычных обстоятельствах. Дайте мне это послание!
— Оно опубликовано в «Эклер», и вам должно быть этого достаточно, я уже не помню, куда дел оригинал.
Дверь внезапно распахнулась, пропуская высоченного мужчину, который был вне себя от гнева. Исидор и Эдокси галопом устремились на свои места, Виктор же выпрямился, спрятав газету в карман.
— Инспектор! — кричал Мариус с порога своего кабинета. — Если эта дама скончалась от остановки дыхания, чего ж вам тогда приказали расследовать этот случай?.. О, Виктор, ты пришел! Ты все слышал?
— Почти. Кто это был?
— Инспектор Лекашер. Неплохой мужик, но несколько того, туповат. Читал последние новости?
— Нет.
— Газеты получили анонимное послание, в котором утверждается, что речь идет об убийстве, в то время как врачи дали заключение, что смерть была естественной.
— Ты про вчерашнюю даму там, на башне?
— Да. Одно из двух: либо эти скверные вирши написаны шутником, либо она была убита. Как? Загадка. Полиция наверняка знает больше нас, да не хочет сказать. Что же до мотивов… Эжени Патино, набожная и почтенная вдова… Может, она занималась шантажом. Или оказалась свидетельницей чего-то такого, чего не должна была видеть.
Мариус натянул жилет на брюшко, откусил конец у сигары и выплюнул его.
— Я поставил карикатуру Таша на первую полосу, тем самым противопоставив себя «серьезной» прессе, которая имеет обыкновение дудеть о своей беспристрастности и неподкупности! Я иду на чудовищный риск, но знаю, что прав. Пошли со мной, покажу, как я тут устроился. Осторожней, лестница трухлявая. Ты обдумал мое предложение?
— Я еще не решил. Если я начну писать все, что думаю, — боюсь, навлеку на тебя неприятности и распугаю читателей.
— Бог ты мой, главное — изобрети оригинальную манеру подачи мыслей, и тебя прочтут! Смотри, как работаю я, и отбрось сомнения. Видишь, газета — это однодневка: в конце концов все эти материалы оказываются на прилавках у рыбника, продавщицы фруктов или в отхожем месте. Что опубликовано сегодня, завтра канет в Лету. Любопытствующих необходимо кормить свежими новостями каждый день. Чего ждет читатель за свои кровные пять сантимов? Сюжетов самых заурядных — драм, скандалов, сентиментальных историй, убийств.
— Весьма печально.
— Тут никуда не денешься, старина, преступление и юмор — вот о чем вечно судачат, вот что пополняет кассу.
— Ну и циник же ты!
— Да вовсе нет, публике-то и этого мало. Смотри, чувствуешь разницу?
Мариус помахал номером «Пасс-парту», держа в другой руке выпуск «Голуа».
— Вот это и есть ежедневная газета без политических амбиций, а там — бульварный листок, начиненный церемонными, тщательно отредактированными формулировками. Взгляни, вот, статья про генерала Буланже, ради чего она здесь? Подготовленного им переворота республика уже не боится, и интерес к нему мигом угас. У французов ветреные сердца, они променяли своего белокурого идола на трехсотметровую башню. Публике, понимаешь ли, плевать на парламентскую газету, светские новости, финансовые обзоры. Она предпочитает пошлый фельетон, лишь бы ее держали в напряжении. Я руководствуюсь единственным правилом, приносящим доход: понравиться как можно большему числу читателей ради того, чтобы увеличить тираж. Флобер выразил это так: «Высоких тем не существует, король Ивето стоит Константинополя!»
Он провел Виктора за перегородку, где сидел человек, чьи пальцы оживленно бегали по клавиатуре странной машинки, работавшей на сжатом воздухе и плевавшейся клубами пара.
— Это маленькое чудо стоило мне целого состояния. Ее изобрел немец, эмигрировавший в Соединенные Штаты, Оттомар Мергенталер, запомни это имя, он гений! Она приехала прямым рейсом с той стороны Атлантики, и во всей Франции такой владею один я.
Он погладил машинку так, словно перед ним была любимая женщина.
— Славный линотип! У него клавиши с буковками, и он выдает типографскую строку, готовую к печати. Скорость, старина, скорость, в ней все дело! Я могу выпускать два, три номера в день! Скоро обоснуюсь вот на бульварах, расширю штат… В ближайшую неделю я открою серию: «День на выставке с…», это о светилах научного мира, знаменитостях литературы, изящных искусств, моды. Первым станет Саворньян де Брацца, он уже согласился. В наше время, когда из-за иммиграции многие скрежещут зубами, немаловажно напомнить, что тот, кто преподнес нам Конго, — итальянец, а французом он стал после того, как в 1870-е защитил цвета нашего флага. Налить стаканчик?
— Нет, благодарю, мне нужно сделать закупку книг.
— Не забудь о литературной хронике!
— Буду об этом думать. Я… я обещал одну книгу твоей иллюстраторше, Саша…
— Таша Херсон?
— Да. Хотел передать через посыльного, но не нашел ее адрес.
— Дом 60 по улице Нотр-Дам-де-Лоретт. Берегись хозяйки, эта очкастая немка — сущий цербер!
Виктор поспешил откланяться, он чувствовал облегчение, словно школьник, которому удалось избежать насмешек. Какие цветы ей преподнести? Розы? Лилии? Он прыгнул в фиакр на улице Риволи и закрыл глаза, чтобы лучше обдумать этот вопрос.
На улице Сен-Пер, перед больницей Шарите, остановился фиакр. Из него вышел человек средних лет, в цилиндре, облаченный в темный редингот. Он перешел улицу, немного постоял у магазинчика Дебов и Галлэ, фабрикантов
высококачественных и чистейших продуктов, и, прочтя назойливую рекламу
ветрогонного шоколада с цукатами, проглотил слюну. Пройдя улицей Жакоб, где располагались такие знаменитые издатели, как Фирмен-Дидо и Хетцель, он наконец остановился у дома 18, у книжной лавки «Эльзевир». За стеклами витрин, на деревянных панелях, оправленных в зеленую бронзу, выстроились в ряд в старинных переплетах и современных обложках романы Мопассана, Гюисманса, Поля Бурже и Жюля Верна, последнее творение которого, «Два года каникул», красовалось на самом видном месте.
Незнакомец из-под руки обвел взглядом внутреннее пространство магазина, где, кажется, не было ни души. Нет, в самом дальнем углу он наконец различил сидевшего за маленьким столиком Кэндзи Мори, который что-то писал. Окруженный этажерками, битком забитыми книгами, ожидавшими, когда их наконец расставят по полкам, он переписывал каталожные карточки, выводя каждую строчку со старательностью школяра. Время от времени, прервавшись, он задумчиво посматривал на бюст Мольера на камине из черного мрамора, потом вновь опускал голову и макал в чернильницу перо.
Незнакомец улыбнулся, пригладил остроконечную бородку и толкнул входную дверь. При звуке колокольчика Кэндзи Мори повернул голову, а из подсобки в этот же момент появился служащий в серой блузе.
— Мсье Франс! — вскричали оба в один голос.
Вошедший сделал приветственный жест и подошел к прямоугольному столу, покрытому зеленым сукном.
— А куда это разбежались все стулья? — спросил он с забавным выражением лица.
— Я их снова убрал, — проворчал Кэндзи Мори. — Виктор не понимает. Те, кто приходит сюда поболтать, только мешают и смущают настоящих покупателей.
— А я?
— О, вы другое дело! Жозеф, принесите из задней комнаты стул для мсье Франса!
— Сию минуту! — крикнул служащий.
Когда двое мужчин удобно уселись за столом и Кэндзи разложил приготовленные для именитого гостя прекрасные издания, Жозеф Пиньо — в просторечии Жожо — вновь удалился и уселся на приставную лесенку, стоявшую за кассой. Каждый день после завтрака с позволения хозяина у него был небольшой перерыв, который он посвящал чтению. Жожо был признателен Кэндзи Мори за то, что тот дает ему время на отдых, ведь он занят в магазине до самого вечера: разбирает тома, купленные несколькими днями ранее господином Легри, сортирует их для зала продаж или для особо ценных клиентов. А еще нужно обслуживать покупателей, упаковывать книги, бывает что и на дом отнести. Если работенки накапливалось слишком много, господин Мори заводил речь о том, что надо взять второго служащего, но Жозеф настаивал, что вполне справится один, не желая иметь соперника в этом бумажном царстве, которое он считал своим персональным раем.
Плод грешной любви зеленщицы и букиниста с набережной Вольтера, бедное горбатое дитя, которое мать воспитывала в строгости, ни на шаг от себя не отпуская, Жозеф до своего пятнадцатилетия питался исключительно яблоками и романами. Четыре года назад, в один осенний денек, мадам Эфросинья Пиньо принесла в книжную лавку «Эльзевир» груши и инжир, и буквально у нее на глазах старый служащий Эрнест Лабарт так и рухнул поперек стола — с ним случился удар. Оказав помощь смертельно побледневшему книготорговцу мсье Легри, то есть уложив мертвое тело на полу, она позволила себе намекнуть, что ее сын кое-что смыслит в книжном деле. И вскоре Жозеф был принят на работу.
Под тщедушной внешностью в этом молодом человеке таился драгоценный талант. Он все читал, обо всем помнил, был сущим всезнайкой не только в том, что касалось содержания произведений и времени их публикации, но и в том, каким тиражом они были опубликованы, сколько выдержали изданий на хорошей бумаге и у какого издателя. Его широкая, круглая голова под шапкой соломенных волос и с лицом простака таила столько разнообразных сведений, что они сыпались из него как горох. Мало того, он имел нахальство утверждать, будто его кроличьи, широко расставленные зубки приносят удачу. Да Виктор и сам обратил внимание, что с его появлением торговый оборот магазина вырос. Кэндзи, поначалу принявший мальчишку в штыки, быстро переменил к нему отношение и, хотя и был с ним несколько груб, души в нем не чаял, ибо мог упрекнуть его лишь в одном: тот никак не мог научиться завязывать веревку на кипах книг.
Жозеф погрузился в чтение — сейчас это было «На воде» Мопассана. Но буквы сливались перед глазами — он украдкой поглядывал на гостя, сидевшего рядом с Кэндзи. Жозеф сгорал от желания выразить свое восхищение его романами и литературно-критическими эссе, но не осмеливался подойти. Чтобы успокоиться, он раскрыл номер «Молнии». Верх первой полосы занимал крупно набранный заголовок:
ДРАМА НА БАШНЕ
Загадка остается неразгаданной
Вчера после полудня в редакцию нашей газеты было доставлено по почте таинственное послание. Оно касалось женщины, скончавшейся на первом этаже трехсотметровой башни на Всемирной выставке. Мы приводим его как оно есть:
Я скажу вам, — навострите ушки —
Слишком много знают часто бедные простушки.
Жозеф присвистнул.
— Это должно понравиться мсье Легри!
В магазин вошла величественная гранд-дама с седеющей гривой. Жозеф, сложив газету, поднялся.
— Госпожа графиня…
Она нетерпеливо махнула рукой.
— Не беспокойтесь! Я немного пороюсь в книгах, мне нужно купить что-нибудь для моей дурехи племянницы. Где вы прячете Жоржа Онэ?
— О, вы уверены, что это хороший выбор? У него в романах ошибка на ошибке. Писатель, способный приписать ребенку, рожденному в годы Первой империи, отца — сторожа железной дороги…
Графиня в упор посмотрела сквозь лорнет на Жозефа.
— Правда? Но тогда что же вы посоветуете?
— Знаете «Преступление Сильвестра Боннара»? — выдохнул он, снова косясь в сторону стола.
— Преступление? О нет, я не поклонница всей этой новомодной чепухи. И так уж газеты напичканы самыми мерзкими подробностями. Вы что-нибудь поняли о том, что случилось вчера на башне мсье Эйфеля?
— О, действительно я…
Он осекся, вдруг залюбовавшись миловидной рыжей красоткой, которая остановилась на обочине тротуара и с недоуменным видом осматривала магазин. Господин в цилиндре раскланялся с Кэндзи и направился к выходу, по пути дружески махнув рукой Жозефу. Когда он выходил, рыжая девушка наконец решилась войти, и он галантно уступил ей дорогу. Графиня же внезапно оставила служащего, стремительно направившись к Кэндзи, который, увидев ее, попытался было спрятаться в задней комнате за этажерками.
— Мсье Мори, как я рада! Я хотела спросить вас…
Таша подошла поближе к странному белокурому юнцу, так и пожиравшему ее глазами. «Как простолюдин», — подумала она.
— Скажите, этот человек, который только что вышел, уж не сам ли…
— Мсье Анатоль Франс собственной персоной! А что вам угодно?
— Мне бы хотелось побеседовать с мсье Виктором Легри.
— Сожалею, его сейчас нет. Могу спросить, зачем он вам?
— Мсье Легри говорил, что я могу зайти за книгой, которую он обещал показать мне, ну что ж, я приду как-нибудь в другой раз.
— Подождите, не уходите! Я прекрасно знаю этот магазин, могу и сам разыскать для вас книгу.
— Название я забыла, но это офорты Гойи, изданные в одном томе.
— Гойя? Вроде был где-то здесь!
Жозеф приставил раздвижную лестницу к полкам с табличкой «Живопись» и со скоростью белки вскарабкался наверх.
— Вспомнила, это называлось «Капричос», — сказала Таша.
— Не стоит тут все перетряхивать, Жозеф, у нас их нет!
Таша обернулась к Кэндзи Мори, только что проводившему графиню и теперь смотревшему на нее с явным неодобрением.
— Здравствуйте, как поживаете? Вчера ваш компаньон рассказал мне об этой книге, и поэтому…
Кэндзи стоял, не проронив ни слова, лишь слегка нахмурив брови, точно забыл об их встрече накануне. Он приказал Жожо, который, стоя на лестнице, продолжал переставлять тома с репродукциями:
— Жозеф, лучше идите и поскорее упакуйте книги, которые выбрал мсье Франс. Их нужно отнести ему домой к семнадцати часам. Заодно отнесете еще и «Кузнеца» графине де Салиньяк.
— Но я эту книгу видел! Пойду посмотрю еще в хранилище! — воскликнул юноша.
— Если я вам говорю, что у нас их нет…
Но Жозеф уже умчался в подвал. Кэндзи повернулся к столу, чтобы снова усесться за каталог. Таша решила не уходить, пока продавец не вернется, и прошла в комнатку, где за несколько мнут до этого графиня обнаружила японца.
Доверху заставленная книгами, как и все прочие помещения, эта комната была посвящена трудам о путешествиях в заморские края. Таша поскорее прошла мимо ряда путеводителей «Бедекер» с красными корешками, почти не обратила внимания на множество томов «Журнала современных путешествий, открытий и мореплавании» и вдруг остановилась как вкопанная перед витражным шкафом, запертым на ключ, внутри которого были чудеса: раскрытый, стоял на ребре том «Второе путешествие преподобного Ташара в Сиамское королевство», изданный в 1689 году, а гравюра на странице изображала клубни экзотических растений. Совсем рядом сиял заботливо натертый сафьяновый переплет «Знакомства с островом Пелью», вышедшего в 1788-м, а за ним — четыре изданных ин-кварто тома «Третьего путешествия Кука». Рядом с другими сборниками, посвященными путешествиям в Азию, например рассказом об экспедиции в Татарию, Тибет и Китай, располагались географические карты, начертанные цветными чернилами на пергаменте, и всякие этнографические курьезы, напомнившие Таша те, которыми она успела полюбоваться в колониальной секции выставки на эспланаде Инвалидов. Браслеты из ракушек и сердолика окружали колчаны и трубки для метания стрел, над которыми, в свою очередь, висели маленькие стальные гребни и металлические стержни с заостренными концами. Таша на шаг отступила, чтобы полюбоваться двумя длинными щитами, на которых была нанесена деревянная резьба. За ее спиной кто-то кашлянул.
— Ах, мадемуазель, очень сожалею, мсье Мори был прав, у нас их нет, ваших «Капричос»!
— Вы хотите сказать, Гойи, не моих, — с улыбкой поправила Таша. — А что касается моих «Капричос», то есть капризов, то нельзя ли мне поддаться одному-единственному и поближе рассмотреть вот это издание?
Она указала на «Путешествие в глубь Африки» Дамберже. Порозовев от смущения, Жозеф вынул из кармана ключ.
— Вообще-то я открываю этот шкаф только для постоянных покупателей, но вы так милы… — прошептал он.
Он впервые отважился сделать молодой женщине подобный комплимент; у него дрожали руки. Он положил книгу на круглый стол, повернулся, чтобы уйти, — пусть Таша листает в одиночестве.
— Сразу видно, вы к книгам привычны, страниц не загибаете.
— Жозеф!
— Меня зовет хозяин. Да, хозяин?
— Куда вы дели перечень заказов?
— Иду, хозяин. Простите, мадемуазель, я на минуточку!
Когда бесшумно вернулся, он некоторое время рассматривал молодую женщину, склонившуюся над книгой. Она почувствовала его взгляд и подняла голову.
— Великолепное издание, — сказала, закрывая том. — Скажите, как называются такие щиты?
— Талаванги с острова Борнео. Мсье Мори очень ими дорожит, это он их сюда привез.
Таша закусила ноготь большого пальца.
— Понимаете ли, — сказал Жозеф тихонько, поворачивая ключ в замке, — обычно он не такой противный. Не знаю, что на него нашло, должно быть, какие-то мысли.
Таша хотела было ответить, что хмурый нрав Кэндзи для нее уже не новость, но промолчала. Вернувшись в торговый зал, она пожала парнишке руку, отчего он стал совсем пунцовый, и живо поблагодарила его за любезность.
— Мсье, — процедила она, уставившись в спину Кэндзи.
Тот повернулся на вертящемся стуле и, не вставая, сделал короткий прощальный жест. Жозеф забежал вперед, чтобы распахнуть дверь, и провожал ее взглядом.
— Жозеф, я поднимусь к себе! — бросил Кэндзи.
Он взбежал по узкой винтовой лестнице. Поднявшись на второй этаж, свернул направо, поскольку левая половина принадлежала Виктору Легри.
Квартирка Кэндзи состояла из двух комнат и туалета, расположенного на анфиладе. Одна комната была рабочим кабинетом, вторая предназначалась для отдыха. Разделенные фусума, то есть складной ширмой, представлявшей собой деревянную перегородку из нескольких деревянных планок, склеенных непрозрачной бумагой, они являли любопытную смесь стиля Людовика XIII с традиционной японской меблировкой.
В гостиной стояли тяжелый сундук орехового дерева с геометрическим орнаментом, который состоял из двух поставленных друг на друга отделений, дубовый стол с витыми ножками и кресло с прямой спинкой, накрытое тканью с цветочной вышивкой. В спальне был альков, немного приподнятый над уровнем пола и покрытый цыновкой, на которой лежали толстое одеяло из хлопка и деревянное подголовник. Декоративных предметов почти не было, зато все, какие были, — исключительно японские: маски театра но, какемоно, красные лакированные вазочки, фарфоровые чашечки для чайной церемонии.
Кэндзи душил гнев. Расставшись с ним почти у выхода из башни, Виктор опять виделся с этой женщиной! Хуже, он так втюрился, что пригласил ее в магазин. И она имела нахальство явиться!
Он скинул куртку и облачился в шелковое кимоно. Уселся за стол, и тут его взгляд упал на газету «Фигаро на башне», лежавшую возле ряда чернильниц. Он озадаченно посмотрел на нее, не помня, когда ее сюда положил. Пожал плечами. Достал из ящика справочник «Железная дорога Лондон и Дауэр» через Кале. Он колебался: дневное расписание или ночное? Наконец очеркнул красным карандашом вечернее. Поднявшись, подошел к сундуку, открыл его дверцы, там была целая библиотека. Он вынул том ин-кварто и с улыбкой прочел название:
«Coleccion de estampas de asuntos caprichosos, inventadas у grabadas al aquafuerte por don Francisco de Goya у Lucientes. Madrid, 1799».
Он зашел за фусума, опустился на колени в алькове, сдернул цыновку и покрывало, отодвинул одну из половиц, вынул «Капричос» из тканого переплета и тихонечко опустил в тайничок, где хранил свои личные бумаги. Потом вернул половицу на место и вновь перешел в гостиную. Он выбрал еще три тома в переплетах, с минуту поколебался и снял со стены два эстампа Утамаро.
Связал две пачки, упаковав в одну книги, а в другую — эстампы в застекленных рамках, и принялся укладывать их в японский чемоданчик темного дерева, украшенный железными замками, что стоял у его постели.
Он прошел в ванную комнату. В меблирашках, где обосновались магазин «Эльзевир» и квартиры Виктора и Кэндзи, только два года как стало можно пользоваться горячей водой и туалетом. Кэндзи ценил это роскошество выше газового освещения и калориферов, ведь он так любил расслабляться в ванной, где подчас залеживался так долго, что Виктор со смехом спрашивал, не боится ли он в ней раствориться.
— В каковом случае, — прибавлял он, прозрачно намекая на худобу Кэндзи, — немного же от вас останется!
Пока медная ванна наполнялась горячей водой, над которой вился парок, Кэндзи разделся и осмотрел себя в зеркале. Ежедневные занятия джиу-джитсу позволили ему сохранить по-юношески нервное и мускулистое тело. Не считая нескольких серых ниточек в волосах и характерных морщин, его лицо не слишком тронули годы. Он наклонился к фотографии в рамке, стоявшей на мраморном туалетном столике. Молодая темноволосая дама прижимала к себе двенадцатилетнего, очень похожего на нее мальчика. У обоих были нежные улыбающиеся лица.
Дафне и Виктор, Лондон, 1872, было подписано под снимком затейливым острым почерком.
Кэндзи медленно вошел в воду, сел, с наслаждением вытянул ноги. Он чувствовал, что успокаивается, смывает с себя тревогу, которую только что испытал, увидев эту рыжую.
Он пристально вгляделся в фотографию. Взгляд Дафне не отпускал его. Знала ли она, что все те годы, что прошли после ее смерти, он ни на миг не забывал данное обещание? «Следите хорошенько, милый друг, чтобы он был счастлив, не дайте ему соединить свою судьбу с женщиной, недостойной его». До сегодняшнего дня, по мнению Кэндзи, среди любовниц Виктора еще не было ни одной достойной дамы. Нынешняя, Одетта де Валуа, ветреница, упрямо считавшая Кэндзи китайцем и обращавшаяся с ним как со своим лакеем, была, несомненно, худшей из всех. Но зато Виктор уважал молчаливое соглашение, по которому ни Кэндзи, ни он сам не позволяли личной жизни влиять на их союз. В глазах света они выглядели странной парой, в которой женщине места не было. Впрочем, их мало беспокоило, что о них подумают. Слишком велико было взаимное уважение, чтобы позволять сплетням разбить их обоюдную привязанность.
И вот эта нахальная девчонка едва все не испортила! При такой мысли Кэндзи почувствовал, что его вновь охватил гнев. Ему вспомнились строки из стихотворения Бодлера «Рыжей нищенке»: «На безделушки в четыре сантима смотришь ты с завистью, шествуя мимо…». Что ж, для того чтобы отделаться от нее, придется ей заплатить! Не беда, он готов на все.
«Кэндзи будет доволен, дельце прокручено, и по умеренной цене», — говорил себе Виктор Легри на набережной Малакэ, на ходу приветствуя знакомых букинистов и таща на плече тяжелую зеленую сумку, набитую редкими книгами, самым чудесным цветком в которой были «Записки» Цезаря с предисловием Наполеона.
Довольный, он крикнул слуге:
— Привет, Жожо! А где мсье Мори? — покуда тащил сетку до прилавка.
— Хорош улов, мсье Виктор? — спросил парнишка.
— Неплох. Возьми, вот газета.
Тот схватил «Эклер» и погрузился в чтение статьи на первой полосе. Когда появился благоухающий лавандой Кэндзи, Виктор сунул и ему под нос ежедневную газету.
— Видели? Вчера, когда мы были на башне, умерла одна женщина. Если верить посланию, которое прислали в прессу, это может оказаться убийством!
Нимало не обеспокоившись, Кэндзи полез в сумку и принялся разбирать книги.
— Смерть в одно и то же время велика как гора и ничтожна как волосок.
— Я ему про убийство толкую, а он в ответ японскими поговорками сыплет!
— Поговорка — проявление народной мудрости, — возразил Кэндзи. — Извлекайте из нее пользу и не заботьтесь о шумихе, поднятой журналистами, они сеют в сердцах читателей страхи и сомнения. Прекрасная покупка. Сколько?
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Пятница 24 июня
Как обычно, Виктора разбудил Жожо, поднявший деревянные ставни, которыми они закрывали на ночь витрину книжной лавки. Слуга, жутко фальшивя, насвистывал первые такты «С парада возвращаясь», единственной, по его мнению, мелодии, достойной быть прелюдией рабочего дня. Встав у подножия лестницы, он завопил:
— Мсье Легри! Мсье Мори! Уже восемь!
Виктор шумно выдохнул, вылез из-под одеяла, накинул шелковый халат и подошел к окну. Сквозь задернутые занавески ярко сияло лазурное небо.
— Снова солнце, да сколько ж можно!
— Что вы имеете против хорошей погоды? — спросил Кэндзи, который с деловым видом расхаживал по кухне.
Виктор спустился, с трудом волоча ноги.
— Все, что приходится терпеть в больших дозах, вызывает скуку.
— В таком случае самое большое пресыщение в вашей жизни должно быть от моего присутствия.
— Кэндзи, ради всего святого, не понимайте меня так буквально!
— Мудрый семь раз проглотит свои слова, прежде чем решится их произнести, — лукаво заметил Кэндзи, подбегая к своему чайнику.
— О-хо-хо!
Пока Кэндзи занимался приготовлением чая, кухня, прилегавшая к столовой и двум комнатам, в которых обитал Виктор, оказалась полностью в его распоряжении. Он поставил на подогрев немного черного кофе, еще вчера сваренного Жерменой, убиравшей у них и готовившей пищу. Откусив пирожное, Виктор пошел в туалетную комнату и заперся там, чтобы не слышать, как Жозеф издевается над приевшимся мотивчиком этого безыскусного норвежца Паулюса.
Кэндзи, первым спустившийся в магазин, застал Жозефа за чтением ежедневной газеты.
— Нашел время! — пробурчал он.
— Это послание получили все желтые газетенки, шутка ли, тут настоящее дело!
— Это вы о чем?
— О женщине, Патино, той, которую укокошили на башне!
— Жозеф! Следите за тем, какие слова употребляете! Вы нужны мне, необходимо подыскать место для семидесяти томов Вольтера.
— Ваше желание — закон.
Пока юноша залезал на лестницу, Кэндзи взглянул на газету: это была ежедневная «Пасс-парту». С недовольной гримасой он засунул газету под толстый черный гроссбух.
Еще добрых полчаса Виктор все никак не выходил к компаньону, а когда появился, дверь магазина открылась, и, дымя гаванскими сигарами, вошли Мариус Бонне и Антонен Клюзель. Кэндзи поспешил к ним.
— Господа, очень сожалею, но у нас…
Он указал на сигары.
— Простите, что это я не сообразил? — отозвался Мариус, гася сигару в пепельнице. — Виктор, мсье Мори, я нуждаюсь в ваших светлостях! Антонен вызвался разродиться для нас статьей о Конго, вот я и подумал, что вы могли бы показать нам какие-нибудь издания про эту страну, они наверняка есть в вашем магазинчике, в котором столько чудес!
— Сейчас подумаю. Да, пожалуй, у меня есть то, что вам нужно, — ответил Виктор.
— А с чего это вдруг про Конго? — проворчал Кэндзи. — Или «Пасс-парту» стала справочником по туризму?
— «Пасс-парту»? — вскричал Жозеф, чуть не кубарем слетев с лестницы. — Вы работаете для «Пасс-парту»?
— Я там директор.
— О! Тогда, должно быть, вы знаете что-нибудь новенькое о деле Патино!
Мариус бросил на Антонена торжествующий взгляд.
— Вас оно интересует?
— Убийства — о, это моя страсть!
— Но речь идет лишь об одном убийстве, молодой человек.
— И тем не менее это послание…
— Жозеф, еще пятнадцать томов Вольтера ждут вас, — сухо напомнил Кэндзи.
Похлопывая Виктора по плечу, Мариус потащил его к отделу книг о путешествиях, а Антонен последовал за ними.
— Нет ли у тебя заметок Брацца, которые два года назад опубликовал Наполеон Ней?
— Кажется, нет. Сейчас покажу тебе святая святых, вот здесь издания об Африке, правда, не такие уж новые. Потом поставите в том же порядке, Кэндзи не любит, когда роются у него в шкафу.
— Антонен, ты слышал? — спросил Мариус. — Оставляю тебя здесь, мне надо поговорить с нашим общим другом.
Он возвратился в магазинчик. Виктор — за ним, заинтригованный.
— Как бы я порадовался, если б ты взялся делать для «Пасс-парту» рекламную вкладку! Цена у нас невысока, и привлечение рекламодателей поможет газете встать на ноги.
— Это называется связать по рукам и ногам или уж не знаю как еще, — проворчал Виктор. — Ладно, сделаю я тебе текст. На сколько строк?
— О, покороче! Как можно короче. Видишь ли, я хочу, чтобы все было выражено максимально лаконичнее.
— Тогда — на манер новостей на первой полосе.
— Ну да, а то длинные речи писать что слова на ветер бросать! Чего хочет человек с улицы? Сенсаций, которые потрясли бы его до самого нутра, наукообразной вульгаризации, дарующей иллюзию, будто он и сам учен, длинных романов, печатающихся из номера в номер, навевающих мечты во время приема абсента, рекламы, щекочущей обонятельные нервы. Один мой коллега изрек великолепный афоризм: «Давайте осмелимся быть глупыми!»
— Большинству журналистов это даже советовать бессмысленно, они и так от рождения идиоты, — пробурчал Кэндзи, который как раз шел встречать клиента.
Мариус разразился хохотом.
— Смотри-ка, мсье Мори я, кажется, не особенно понравился!
Подошел Антонен, очень взволнованный, в руке у него был листок бумаги, покрытый каракулями. Мариус выхватил его, пробежал глазами и нахмурился.
— Точно курица лапой! Что ты тут накалякал, вот это? Опоэ? Нет, Огоэ?
— Река Огооэ, с двумя «о».
— Ты уверен, что это Огооэ, а не Огоуэ, через «у», а?
— Кажется так.
— Пойду проверю.
Едва Мариус исчез в подсобных помещениях, как Жозеф, улучив момент, подкатил к Антонену.
— Скажите, мсье, это вот послание, которое опубликовано в прессе, вы-то сами его видели?
— Разумеется. Письмо распечатал наш секретарь, а потом она же мне его и принесла.
— Как оно было написано? Обычными буквами?
— Что вы имеете в виду?
— Ну, может, оно было составлено из наклеенных буковок, вырезанных из газеты?
— Действительно так. Но вы-то откуда знаете?
— А из романов, которые читает мсье Легри. У него целая коллекция, и он мне частенько дает почитать. «Украденное письмо» Эдгара Аллана По, «Досье № 113» Эмиля Габорио, «Незнакомец из Бельвиля» Пьера Заккона… Их там столько! Но мой самый любимый — «Дело Ливенворт» Энн Кэтрин Грин. Обожаю эту женщину-детекти…
— Я был прав, это все-таки Огоуэ, — перебил его Мариус, выходя и протягивая Антонену его листочек.
— Тогда пойду запру шкаф! — обиженно буркнул Жозеф.
— Виктор, мы уходим. Не забудь принести твой текст.
— Я мог бы взяться за это дело вместе с твоей сотрудницей, мадемуазель Таша Херсон, — предложил Виктор, подкручивая кончики усов.
— А она тебя здорово интересует, э? Не тебя одного! Но — увы, она недотрога. Этими днями мы ее почти не видели, — сказал Мариус, посмотрев на Антонена.
— Понятное дело, она, счастливица, целыми днями пропадает на колониальной выставке. Готовясь к интервью с Брацца, забавляется тем, что рисует, а я гроблю здоровье за написанием заметок!
— Одно тебе остается — променять перо на уголь для рисования! До скорого, Виктор, до свиданья, мсье Мори!
Кэндзи ответил церемонным прощальным жестом. Даже не удосужившись набросить куртку, Виктор побежал к выходу.
— Вы уходите? — спросил Кэндзи.
— Да, я… забыл узнать у них кое-что, — пробормотал Виктор.
— Мне тоже надо будет отлучиться, я должен осмотреть библиотеку на улице Одеон.
— Я недолго! — крикнул Виктор. — Пусть в лавке побудет Жозеф!
Не заметив, как насупился Кэндзи, Виктор припустил вдогонку за Мариусом и Антоненом, уже заворачивавшими за угол. До него только сейчас дошло, что колониальная выставка занимает всю эспланаду Инвалидов, и если он вознамерится искать там некую рыжую особу, ему следует узнать поточнее, где его может ждать успех.
«Дворец колоний, Дворец колоний», — уже через несколько минут мурлыкал он, возвращаясь на набережную Малаке. Он остановился у ящиков папаши Кайе, продавца очков и оптических приборов, уже сидевшего на своем месте в этот ранний час. Хотя книг он и не продавал, Виктор ценил возможность перекинуться с ним парой словечек:
— Как жизнь идет?
— Отвечу вам, как Фонтенель на смертном одре: «Не идет, а уходит…», — как всегда без эмоций откликнулся старик в серой блузе.
Едва успев улыбнуться его ответу, Виктор вдруг посерьезнел, заметив на противоположном тротуаре знакомую фигуру в сером костюме, розовом галстуке и прямо сидящем котелке. Это был не самый краткий путь на улицу Одеон. Кэндзи, по-видимому, захотелось прогуляться. Он шел быстро, неся под мышкой два пакета. Виктор проводил его взглядом, думая, что тот пойдет по набережной Малаке. Каково же было его удивление, когда он увидел, что тот пересек ее и направился к Карусельному мосту! Не в силах побороть любопытство, Виктор пошел за ним.
Никогда еще он не уличал Кэндзи во лжи, и сейчас ему забавно было думать, что в конце концов и тот, кого он почитал как родного отца, тоже обделывает свои тайные делишки. Что он мог скрывать? Любовницу? Виктор часто задавал себе вопрос, есть ли у Кэндзи личная жизнь. Неужто он совсем не имел дел с женщинами? Никаких прошлых связей, ни рассказов, ни разговоров — уж не безразличен ли он вовсе к прекрасному полу? Но нет, много раз Виктор видел, как Кэндзи был особо предупредительным с соблазнительными клиентками, и потом — в отсутствие друга он успел на них полюбоваться! — в своем сундучке Кэндзи хранил впечатляющую коллекцию эротических эстампов.
Проревел речной буксир, что волок вереницу шаланд. Виктор держался настороже, уверенный, что Кэндзи вот-вот обернется. Но тот не замедлял шаг, даже выбрал путь покороче, пройдя садом Тюильри. На аллеях почти не было гуляющих, за исключением нескольких нянечек с детскими колясками и двух-трех солидных бородатых мужчин, сидевших на лавочке и читавших газеты. Один из них злобно покосился на Виктора, чья одежда выглядела не слишком презентабельно. «Да куда ж это он, мерзавец, так припустил?!» — спрашивал себя Виктор, преследуя Кэндзи, который был уже почти на улице Риволи.
Знай он, что друг начнет водить его из конца в конец площади Опера, быть может, и отказался бы от преследования. Но чем дальше они уходили, тем сильнее он сжимал зубы, опьянев от шума фиакров и грохотавших по площади омнибусов, не в силах отказаться от мысли узнать, куда тот направляется. «Почему он пешком, почему не сел в какой-нибудь драндулет? Это было бы куда удобней! И что он такое несет?»
Наконец на улице Обер, пройдя мимо Оперы, Кэндзи вошел в книжную лавку, владельца которой Виктор встречал на аукционах. «Невероятно! Вот кто похаживает к конкурентам, а я-то был уверен, что он этого типа терпеть не может!» Спрятавшись за фонарем у самой витрины, он мог наблюдать за Кэндзи и в лавке. Книжный торговец, сухонький человечек в чепце, схватил три тома в переплетах, перелистал и протянул ему кипу синих банкнот. Виктор едва успел закрыть руками лицо, сделав вид, что у него приступ кашля. Не заметив его, Кэндзи сделал полукруг, торопясь как будто к зданию Оперы. «Он что, спятил или правда решил насладиться сегодняшней пьесой?» Виктор, надеявшийся получить передышку, был разочарован. Ему пришлось тащиться за компаньоном до бульвара Капуцинок, где, укрывшись под козырьком газетного киоска, он с тоской смотрел, как тот потягивает содовую на террасе «Кафе де ля Пэ». Почти сразу подошел и уселся за его столик тучный господин с моноклем в глазу, одетый в светлый костюм. Кэндзи поздоровался с ним и раскрыл второй пакет. Господин близко рассмотрел то, что было в пакете, что-то сказал, достал из кармана пиджака бумажник. «Что с ним происходит? Долги? Зачем он разбазаривает книги и гравюры?»
На Шоссе-д’Антен Виктор наконец увидел разгадку. За витриной лавочки кружевных изделий «Королева пчел», где вышитые носовые и шейные платки и украшения были разложены вокруг хрустальных флакончиков с духами, Кэндзи тщательно отобрал несколько дорогих вещиц, которые продавщица аккуратно упаковала в шелковую бумагу. «Я был прав! Женщина! Кэндзи влюбился! Вот так разоряются из-за любовниц!»
Удивленный тем, что под невозмутимой внешностью Кэндзи скрывалось пылкое мужское сердце, и даже немного напуганный этим открытием, которое наводило на мысль, что у Кэндзи имеются и другие секреты, Виктор почувствовал себя счастливым. Несмотря на свою нежность к Кэндзи, порой он робел перед ним. Теперь они будут на равных.
«Кто же это может быть? Ну разумеется кто-то, кого он встретил в магазине, ведь он так редко выходит!» Виктор задержался взглядом на юбке проходившей мимо девушки, потом его внимание привлекла ограда, оклеенная афишами. Желтые ковбои на лошадях преследовали отряд индейцев.
Следом висела другая картинка: это была карикатура Таша на полковника Коди. Внезапно Виктор вспомнил, для чего выскочил из лавочки, даже не набросив пиджака. Таша! Колониальная выставка! Он побежал к ближайшей стоянке фиакров, опьяненный своей слежкой, так нежданно завершившейся в шикарном бутике, и безмятежным небом, которое взмывало в бесконечность.
— Улица Сен-Пер! — крикнул он кучеру, дремавшему, прикрыв лицо вощеной черной шляпой.
Виктор вышел из фиакра у Министерства иностранных дел. Он наскоро позавтракал на набережной Конти, потом направился к себе — переодеться и взять фотокамеру. Если, по счастью, ему случится встретить Таша, это будет предлогом — он-де явился на эспланаду сделать несколько снимков.
Колониальную выставку составляли многочисленные постройки, стоявшие по отдельности или сгруппированные в виде дикарских деревень. Виктор не стал останавливаться, чтобы осмотреть семь нависающих друг над другом фронтонов башни Ангкора, и поспешил к красному остову Дворца колоний, архитектурной мешанине из норвежского и китайского стилей с французским Возрождением, вздымавшейся над зелеными кровлями. Шум стоял оглушительный. Арабские торговцы, стремительно размахивая руками, расхваливали свой товар, покупатели торговались, пение канаков перебивалось звуками аннамитских гонгов и полинезийских флейт. Горластые малыши тянули матерей к витринам с вареньем из гуав, абрикосов и сахарного тростника. Виктор с трудом оторвался от представления сладострастных танцовщиц с гор Улед-Наиль и более скромных крошечных плясуний с Явы. Наконец он дошел до монументальных дверей Дворца, но прежде чем войти ему пришлось попробовать кусочек ананаса, поднесенный негритянкой с большим разноцветным платком на голове.
На первом этаже располагались три зала. Растерянный Виктор не знал, куда идти. Он обошел вокруг буддийской пирамиды из лакированного дерева, воздвигнутой в шатре из гигантских бамбуковых стволов. Таша нигде не было видно. Справа, слева, повсюду
громоздилась продукция, привезенная из бывших французских колоний. Ковры, меха, табак, кофе, мебель, шелка, — от такого разнообразия товаров и продуктов питания помещения выставки походили на сумасшедший дом. Столь подавленным Виктор бывал, только когда приходилось сопровождать Одетту на Центральный рынок. Никогда ему не встретить Таша! Он вздохнул и нырнул в толпу.
Его привели в восторг канацкие дубинки, новокаледонские топоры с винторогим лезвием, кошиншинские ружья. Особое внимание привлекла коллекция музыкальных инструментов, напомнившая те музыкальные орудия, которые Кэндзи хранил в подвале книжной лавки.
— Эта калебасса называется тлетэ, — промурлыкал чей-то голос над его ухом.
Он обернулся, столкнувшись нос к носу с поджарым седеющим темнокожим человеком, облаченным в длинную белую тунику.
— Из какой она страны?
— Из Сенегала, как и я. Видите украшения на витрине? Я делаю их вместе с сыном в нашем ателье в Сент-Луисе. Меня зовут Самба Ламбэ Тиам, я учился у членов конгрегации «Общества Марии».
— А я Виктор Легри. Очень рад.
— Виктор! С таким именем нельзя не быть молодцом.
— Что ж это в нем такого, в моем имени?
— Это имя великого человека, вашего самого благородного писателя. Я читал «Отверженных».
— С начала до конца?
— Что, не верите? Думаете, мы совсем дикие? У нас в Сент-Луисе есть и школы, и книги, и дома, и железная дорога. Зато здесь, у вас… — Самба понизил голос. — …Здесь нас поселили в деревне, где все хижины слеплены из засохшей грязи, и спим мы на цыновках. У гостей этой выставки сложится о нас не слишком выгодное мнение. Но и мы, заметьте, в долгу не остаемся.
— Как это?
— Я не вас имею в виду, у вас-то вид интеллигентный, а вот некоторые ваши соотечественники, которые меня тут обезьяной обзывали, думали, я не пойму, — если взглянуть на них по-нашему — совсем как кабаны-бородавочники, знай прут напролом, все сметая на пути, и даже не соображают, куда прут. Вот представьте, одна семья пригласила нас со старшим сыном к себе пообедать, объяснив тем, что хочет получше узнать наши обычаи. А оказалось, они просто хотели продемонстрировать нас своим друзьям. Мужчины наглухо замурованы в темные костюмы с золотыми пуговицами, а женские платья так сжимают талии, что все, что надо бы скрывать от посторонних глаз, вылезает наружу, и так уж эти самки уродливы, просто жуть!
Он прервался, мотнув подбородком в сторону элегантной особы, которая, не смущаясь, открыто разглядывала его. Виктор воспользовался этим, чтобы нажать на кнопку своего «Акмэ». Свет, конечно, не идеальный, но если повезет…
— Видите? И эта женщина побаивается меня, у нее вид козочки, ожидающей, что на нее бросится лев. Чтобы нам понравилась вечеринка, для нас приготовили свинину и выразили сожаление, что мы не привыкли носить парадные костюмы — понимай намек: мы ходим в шкурах пантер и потрясаем копьями!
— А выставка, что вы о ней думаете?
Самба презрительно поджал губы:
— Рынок огромной протяженности, где все очень дорого и половина предметов — обычный хлам, который привозят путешественники. Что до продуктовых рядов, которые тянутся вдоль всей речки, так я чуть с тоски не сдох: подумать только, одного сыра целые километры!
Виктор резко обернулся. Там, в центре без умолку стрекочущей толпы, ему привиделась Таша!
— Простите, я должен идти, — сказал он, пожимая руку Самбе.
Но тот задержал его пальцы в своих, поглядев на него с иронией.
— В следующий раз, если пожелаете сделать мой фотоснимок, предупредите, я приму надлежащую позу.
— Я… вы меня сконфузили… я не хотел…
— Признаюсь вам, эта новомодная мания запихивать людей в ящичек, чтобы сохранить их изображение, представляется мне по меньшей мере странной.
Виктор был в отчаянии. Толпа рассеялась, рыжей копны больше нигде не было видно, а Самба все не отпускал его.
— Мне нравится заново творить реальность, которая нас окружает. Ну, немного как… как художнику.
Запомнить эту фразу, блеснуть ею перед Таша, когда он ее встретит. Он наконец высвободился, вынул из кармана визитную карточку.
— Возьмите, тут мой адрес, если будете прогуливаться по Парижу, милости прошу. Прощайте, а может, до свиданья!
С этими словами он развернулся и очень быстро пошел прочь. Самба не стал его удерживать, так и остался стоять с бумажкой в руке. «Решительно, белые — безумцы, вечно бегут вдогонку своей судьбе! Правда, что-то подсказывает мне, этот не просто так убежал, может, он-то свое и возьмет!»
Высокий, крупный человек с обветренным лицом, чьи густые серебристые кудри выбивались из-под пробкового шлема, шел вдоль каналов, запруженных пирогами, джонками и сампанами. Он повернул на аллею, перегруженную кричащей толпой. В этот день он, как нередко с ним случалось, чувствовал себя не в своей тарелке. На душе было тревожно, а тело боролось с усталостью. Многочисленные поездки по конференциям, публикации научных статей обеспечили ему приличный доход, но не принесли чувства полноты жизни. Его приезд в Париж был не более чем визитом на собственное чествование, ибо когда речь шла о таком известном человеке, его путешествия охотно субсидировались. Он устал и не чувствовал радости от своего успеха. Официальные лица улыбались, трясли ему руку, воздавали почести. Значительные лица, которых он отродясь не видел и никогда больше не увидит, так и вертелись вокруг. «Вот цирк-то», — думал он. Еще несколько недель научных дискуссий, инаугураций, заздравных тостов, и он сбежит с этого маскарада, чтобы вновь вкусить радость открытий на своей подлинной родине: там, где всем правит случай.
Он вежливо отодвинул блюдо с ананасом, протянутое ему женщиной с Мартиники, остановился посмотреть на Дворец колоний. Ему захотелось вернуться в отель и уложить багаж. Уже в который раз он потрогал в кармане телеграмму, подписанную Луисом Энрике, специальным комиссаром колониальной выставки, с нетерпением ожидавшим встречи, чтобы обсудить с ним важный проект. Гордо выпрямив спину, человек в пробковом шлеме смешался с человеческим потоком, суетившимся вокруг густых зарослей бугенвилий.
Посетители напирали со всех сторон. Он вдруг ощутил острую боль в затылке, и его голова запрокинулась. Все тело пронизал холод, стало трудно дышать, рот открылся. Дух его смутился, он не мог поверить, что это происходит с ним на самом деле. Нет, не рухнет же он прямо здесь, среди этого бедлама! Человек в пробковом шлеме медленно соскользнул на пол, и над ним понесся нескончаемый гам, а в это самое время мысли его как-то безнадежно рассыпались, и густые заросли бугенвилий утонули во мраке.
Усердно работая локтями, Виктор отбивался от сутолоки. Щурясь от ярчайшего света, он штурмовал подступы к Дворцу колоний. Вдруг возле каналов показалась Таша, которая шла решительной походкой, и ее маленькая шляпка над рыжим шиньоном поминутно подскакивала. Он машинально снял крышку с объектива «Акме», но она уже исчезла в густых зарослях бугенвилий, и оттуда почти сразу послышались громкие возгласы:
— Воздуху! Ему нужно воздуху!
— Расходитесь! Да отойдите же вы!
— Врача, скорее!
Виктор подбежал к подножию лестницы и уперся в скопище народа.
— Что происходит? — крикнул он, вцепившись в рукав одного из зевак.
— Кто-то грохнулся в обморок.
— Кто?!
— Э, да отпустите меня, я почем знаю?
Обогнув толпу, Виктор изо всех сил старался отыскать взглядом Ташу и наконец увидел, как она быстро идет к станции Декавиль, откуда можно доехать до Марсова поля. Почувствовав облегчение, Виктор упал на скамейку и только тогда понял, что весь взмок от волнения. Последовать за ней? Две погони в один день — это было чересчур. Завтра? Он может снова забежать в газету, а лучше — явится прямо на улицу Нотр-дам-де-Лоретт с букетом цветов.
Поравнявшись с почтовым бюро, он наткнулся на санитаров с носилками и трех полицейских. «Определенно, это уже привычная картина». Эта пришедшая на ум фраза тут же пробудила в памяти навязчивое видение: полураздетая Одетта, у которой ему приходилось проводить вечера и ночи, когда ее муж бывал в отъезде. Эти свидания радости ему не доставляли.
Он взглянул на часы: до Одетты у него еще оставалось достаточно времени, чтобы обработать негативы.
Лабораторию Виктор оборудовал в глубине подсобного помещения, в подвале книжной лавки. Чтобы туда пробраться, приходилось перепрыгивать через горы книг. В тесной комнатенке стояли стол, стул, раковина, керосиновая лампа с красноватым отливом, ванночки из цинка и фаянса. На этажерке — весы с набором гирь, станок для сушки негативов. На перегородке висели последние фото: чопорный Кэндзи, стоящий у магазина; мадам Пиньо, раскрывшая объятия своему сынку с таким самодовольным видом, что на фото четко обозначились все три ее подбородка; Кэндзи говорит с букинистом; незнакомка в ратиновом пальто, вышедшая на улицу де Ренн. Здесь был его мир, здесь он творил по своему вкусу все, что хотел. Никто не мог зайти сюда без приглашения.
Он снял редингот, облачился в потертую домашнюю куртку, приготовил ванночки, с наслаждением вдохнув едкий запах химикалиев. Через два часа снимки, сделанные после полудня, почти высохли. Два из них показались ему контрастнее других: детали на них выглядели ярче. На первом сенегалец Самба смотрел на проходившую мимо женщину с мышиной мордочкой. На втором была Таша — казалось, она вот-вот растворится в густых зарослях цветов. На ее лице застыла очаровательная гримаска, таинственная и задорная.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Суббота 25 июня
Лежа на кровати с балдахином, Виктор, приподнявшись на локте, смотрел на спящую рядом женщину с разметавшимися белокурыми волосами, чья рука лежала у него на животе, мешая ему незаметно подняться. Наконец он поменял позу и поднес к глазам будильник, стоявший на прикроватном столике.
— Спи, утеночек, — произнесла Одетта сквозь зевоту. — Видишь же, еще темно!
— Это оттого, что занавески задернуты. Двадцать минут одиннадцатого.
— Ммм, еще слишком рано… — пробормотала она, отбрасывая одеяло и прижимаясь к нему. — Поцелуй меня!
Он поспешно чмокнул ее в затылок и встал, чтоб отдернуть тяжелые бархатные шторы. Солнце позолотило пышные груди Одетты. Она тихонько вскрикнула, закрыв лицо.
— Ты мне цвет лица испортишь! Подай пеньюар.
Муслиновый пеньюар с рюшечками придавал ей сходство с абажуром. Накинув его, она, пошатываясь, пошла в туалетную комнату.
— Я, должно быть, ужасно выгляжу. Не вставай, я быстро вернусь, и мы позавтракаем в постели.
— Ну конечно, — проворчал он, — это чтобы я пролил половину кофе на простыни!
Несмотря на раздражение, он растянулся на матрасе. Он не хотел раздражаться с утра пораньше. Ночь оказалась лучше, чем он ожидал, Одетта умело возбудила его, и в темноте ему иногда казалось, что он обнимает Таша. Но сейчас придется обмениваться ласками и нежными словами с женщиной, о которой он уже давно не мечтает, и ему хотелось лишь одного: бежать.
Он успел пересчитать, сколько букетов фиалок разбросано по сиреневой ткани, которой обиты стены, когда появилась Одетта: волосы собраны в пучок, в руках — поднос.
— Я хочу уволить эту Денизу, она совсем не умеет готовить шоколад, сыплет какао прямо в молоко, вместо того чтобы делать, как я ее учила. Хочешь круассан, утеночек?
— Мне достаточно чашки кофе.
В одних кальсонах он встал и подошел к окну.
— Ты поедешь со мной, скажи, утеночек?
— У меня много работы.
— О, неужели ты хоть раз не можешь почувствовать себя свободным? Не забывай, скоро я уеду и буду от тебя далеко-далеко. Мне бы так хотелось, чтобы ты присутствовал на моих примерках! Я заказала платье, как у мадмуазель Режан, тонкого шелка, такое же восхитительно синее, и прострочено розовой ниткой. Шляпка совершенно плоская, соломенная, кремового цвета. Ты будешь в восторге.
— Несомненно, — буркнул Виктор, ища носки.
— Так решено, ты едешь? Потом мне надо будет заехать к Вьолэ за рисовой пудрой «Царица», и еще…
С тяжелым вздохом Виктор поплелся в туалет. Налив воды из кувшина в миску, он намазал лицо мыльным кремом и, глядя на себя в овальное зеркало, приступил к бритью. Дверь была открыта, и в зеркало он заметил, как Одетта опустилась на оттоманку за раскидистым пальмовым деревом в широком фарфоровом горшке. Она раскрыла газету и перелистывала страницы, не читая.
— Я довольна, что сняла на лето большую виллу на море, в Ульгате. Самое время уехать из Парижа, все модницы так поступают. Мадам Азам предлагает свои корсеты для верховой езды и лаун-тенниса, я заказала три, а еще зонтик, обшитый кружевами, с рукояткой из слоновой кости. Ты скоро ко мне приедешь?
— А муж?
— Ты прекрасно знаешь, утенок, Арман в Панаме, и раньше сентября он не вернется. Все канал да канал. Я в его делах ничего не понимаю, но он пишет, что у него проблемы, да это и к лучшему. Если ты не приедешь, я умру от скуки. Ну что, ты спасешь меня, утеночек?
— Наверняка дыра дырой, — произнес он тихо, проведя лезвием по намыленной щеке.
Одетта сложила газету, собралась было бросить ее на круглый столик, но ее привлекло какое-то сообщение на первой полосе.
— Ну, скажу тебе, это уже чересчур… Сам послушай: «Вчера после обеда, на эспланаде Инвалидов, американский натуралист скончался от…» Натуралист… Это как Эмиль Золя, утеночек?
— Эмиль Золя умер? — вскричал Виктор, как раз в это время бодро вытиравший щеки полотенцем.
— Ты меня не слушаешь. Как ты можешь носить такие ужасные рубашки?! У тебя вид уличного мазилы!
Довольный этим замечанием, сразу сблизившим его с Таша, Виктор тем не менее скорчил обиженную гримаску. Закутавшись в редингот, он схватил портсигар и зажигалку и вышел на балкон, полукругом опоясывавший квартиру и нависавший над бульваром Оссман. Из-под моря зелени, венчавшей деревья, выступали уходившие далеко вперед крыши меблирашек, косые и серые, с красными каминными трубами; они напоминали диковинный корабль, который вот-вот взлетит. Уличный гам смешивался с нескончаемой трескотней Одетты. Фиакры тряслись по деревянной мостовой, уличных кафешек было так много, что места на тротуарах почти не оставалось, бродячие торговцы протяжно завывали: «Лужу, паяю, точу — вжик-вжик… Вставляю битые стекла… Позабавьтесь, дамы, у меня для вас диковинка… А вот лук за восемь су… Бродячих собак подстригает и сам их презлобно пугает!» А Одетта тем временем трещала о зеленой сюре, драпированных платках, об антефелическом молочке, абажурах в форме стеклянных шаров с накидками из кукурузной марли, обшитыми бисером, о сумочке «Франсильон» для театра, в которую могут уместиться и лорнет и веер…
С гудящей головой Виктор раздавил окурок и втянул голову в плечи.
— Мне надо идти, — сказал он.
Разочарованная Одетта рассеянно поглядела на разбросанную вокруг одежду и каталоги.
— А как же примерка? Ты меня больше не любишь, утеночек?! — простонала она, бросаясь в объятия Виктора.
Он чмокнул ее в висок.
— Люблю, малышка, сама знаешь, люблю!
— Обещай, что проводишь меня на вокзал! Я заеду за тобой в книжную лавку.
— Клянусь! — ответил он, мягко высвобождаясь и выскальзывая в коридор.
Он заговорщицки подмигнул Денизе, юной бретонке с грустными глазами, недавно приехавшей из родного Кимпера и теперь безвылазно сидевшей на крохотной кухне в ожидании очередного каприза раздражительной хозяйки.
А надувшая было губки Одетта довольно скоро утешилась мыслью пойти после завтрака в «Королеву пчел» и купить там флакончик омолаживающей воды и крем Фарнезе.
Легкий ветерок был скорее апрельским, чем июньским. Виктор прогулялся до улицы Риволи. Накануне, прежде чем пойти к Одетте, он предупредил Кэндзи, что вернется в магазин на следующий день после обеда. Он чувствовал себя отпускником и тем охотнее наслаждался свободой, что вокруг вовсю кипела жизнь. У выхода из пошивочных мастерских на улицах де ля Пэ и Сент-Оноре теснились под аркадами подмастерья, вышедшие на штурм дешевых кухмистерских и молочных кафе. Те, кому не повезло, завтракали прямо на улице, и к ним поближе, словно на приступ, слетались тучи воробьев. Шарманка наяривала кадриль «Орфей в аду». Дети в шотландских юбочках гоняли мячик, который Виктор остановил ногой. Уличные продавцы газет, держа подмышкой бумажные кипы, орали благим матом:
— Спрашивайте газету «Событие»! Драма на выставке колониальных товаров!
— «Пасс-парту», последний выпуск! Еще одна смерть на выставке, неизвестные подробности!
Виктор остановил тощего подростка, у которого из-под картуза лихо торчали взъерошенные лохмы, и купил у него «Пасс-парту».
«Двоих одним махом!» — прочел он на первой полосе, над рисунком Таша, изображавшим разбойничьего вида пчелу со шпагой, стремительно атакующую густую толпу у входа во Дворец колоний. Аннамит в форме солдата колониальных войск, скаля в улыбке почерневшие зубы, с угрозой наставлял на чудовище саблю, а перетрусивший городской сержант поспешно карабкался на вершину кокосового дерева. Виктор не смог удержаться от улыбки. Сунув газету подмышку, он перебежал улицу, купил у продавщицы зеленной лавки фунт вишен и вошел в Тюильрийский сад.
Все каменные скамейки были заняты, большинство из них — совсем юными белошвейками, которые, расстелив на коленях обрывок газеты и весело пересмеиваясь, поглощали жареный картофель, редиску или полубатоны колбасы из ближайшей колбасной лавки. Виктору удалось найти местечко на террасе «Жё-де-пом», в тени развесистого каштана, рядом с парочкой девиц-подмастерий, которые, хихикая, обернулись, беспардонно его осмотрели и тихонько продолжили разговор.
— Эх, сегодня к вечеру мне придется идти за большой партией нового товара.
— Тоже мне, проблема! А мне придется чистить все эти дерьмовые тряпки, хозяйка говорит, они пылью заросли, думаю так и есть, потому их и не берут, все бросились покупать шляпы с цветочками.
— Смотри-ка, как он на нас посматривает, а?
— Дуралей, а ведь смазлив! И одет прилично. Ишь, пирожок с кремом, так бы его и съела!
Виктор поприветствовал их, приподняв шляпу; они принялись громко хохотать. Когда же он погрузился в чтение газеты, их внимание привлекли два подвыпивших офицера, которые прохаживались взад-вперед мимо скамейки, бросая на девиц заинтересованные взгляды. Те в конце концов встали и, покачивая бедрами, направились к офицерам. Виктор воспользовался этим, чтобы положить рядом с собой пакет вишен, которые медленно смаковал, выплевывая косточки под нос разочарованным воробьям.
Человек, встретивший смерть вчера ближе к вечеру у Дворца колоний, тоже, вполне возможно, был укушен пчелой. Это американский исследователь-натуралист. Не так давно приехав в Париж, он остановился в «Гранд Отеле». Дело, переданное в соответствующие инстанции, сейчас на стадии расследования. По свидетельствам, которые удалось собрать нашему репортеру, некоторые посетители видели, как жертва поднесла руку к шее и вскоре после этого упала без чувств. Продавщица ананасов с острова Мартиника подтвердила наличие пчел вокруг витрин со сладостями. Понадобится время, чтобы Совет по гигиене и здравоохранению наконец принял энергичные меры по обеспечению безопасности публики. Но каким же образом…
Виктор вдруг остановился, чтобы изловить слепня, вившегося над его головой. Маленький кроткий ослик, ведомый девчушкой со сморщенным личиком, бежал бодрой трусцой, его сопровождало облачко мух. Чуть поодаль работницы, наскоро перекусив, затеяли игру в кошки-мышки, а некоторые прыгали через веревочки, и подолы их юбок так и мелькали перед глазами. Покончив с вишнями, Виктор решил, что дочитает статью в здешнем ресторане, где, как ему помнилось, подавали восхитительный салат с цыплячьим мясом, да и кофе-глясе было очень неплохим. Прежде чем свернуть в трубочку «Пасс-парту», он еще раз взглянул на первую полосу. Забавно: и он, и Таша, оба были возле Инвалидов ровно в то время, когда все это случилось…
Таша сунула «Пасс-парту» в хозяйственную сумку между связкой моркови и репой и прошла в ворота. Едва она ступила в арочный проход, как громкий уличный шум превратился в смутный гул, а потом и вовсе стал едва слышным, и на первый план вышел совсем другой звук: поскрипывание, которое производил велосипед ее квартирной хозяйки. Таша остановилась. Хозяйка в широких коротких штанах и ботинках, открывавших взору рыхловатые икры, лихо крутила педали, наворачивая круги и то и дело останавливаясь, — колеса постоянно застревали между камней, велосипед заклинивало, еще чуть-чуть — и она могла свалиться.
— Здрасте, мадмуазель Херсон! — крикнула женщина с явным облегчением: у нее появился предлог для передышки. Не без усилий она слезла с велосипеда и приставила его к стене. — Вам не кажется, что я делаю успехи?
— Еще какие, мадмуазель Беккер! Если так пойдет, вы скоро сможете ездить в парке Монсо.
— При людях! Да вы что! Наши женоненавистники не готовы принять такое революционное начинание в поведении и манере одеваться! И все-таки, даже при таком сопротивлении — помяните мое слово, — будущее женщин — короткие штаны! Какая свобода движений! Кстати, примите мои поздравления, я читала вашу газету, какие рисунки! Желаю совершенствоваться в вашей прекрасной профессии! Как вас, должно быть, забавляют все эти покойнички!
— Извините, мне надо подняться к себе… Я расплачусь за комнату в срок, завтра утром.
— О, я и не беспокоюсь, знаю, уж вы-то девушка серьезная, не то что некоторые… Да взять хоть серба этого, вот за кем нужен глаз да глаз!
Таша прошла двор, толкнула стеклянную дверь и поднялась на лестнице на шесть этажей до своего жилища, расположенного под самой крышей. В длинном коридоре, освещавшемся жалким слуховым окошком, ее дверь была четвертой по счету. Прислонив хозяйственную сумку к водоразборной колонке, установленной в аккурат перед цыновкой ее двери, она порылась в кармане в поисках ключа. Когда она уже поворачивала дверную ручку, соседняя дверь вдруг распахнулась, и в проеме возник бородатый гигант в рубашке без пиджака, державший в руке кувшин.
— Здрасте, мсье Дукович.
— Мадмуазель Таша! Как же я рад! А видали госпожу Сычиху, как она во дворе педали крутит? Не признает она иного божества, кроме бога по имени Плати-в-Срок, а я совсем на мели.
— Ничего не бойтесь, она скоро выдохнется и пойдет к себе, есть капусту!
— Вот стервь, три месяца одна и та же комедия, я уж не смею выйти и табаку для трубки купить!
— Да вы представьте себя на ее месте, у нее двое жильцов не заплатили и втихомолку смылись, вот она и дежурит!
— Сделайте одолжение, зовите меня Данило. И поймите, я стараюсь как можно меньше представлять себя на чьем-то месте, ведь так я рискую потерять свое!
— Вы все еще подрабатываете статистом в той имитации древнего поселения, что построил у входа на выставку Шарль Гарнье? Забыла только, как оно…
— Вы забыли еще и придти посмотреть на меня, хотя и обещали. Не очень-то любезно с вашей стороны. Слушайте, это легко запомнить: я изображаю доисторического человека в звериной шкуре, ну, из тех, что жили в пещерах и рычали-ворчали, якобы предвосхищая первые опыты человеческого языка. И это я — я, мечтавший петь в опере Модеста Мусоргского!
— Да ладно уж, дерзайте, удивляйте народ — и обрящете успех!
— С дубиной в руке? Помилуйте! Ах, если б они дали мне постоять статистом в средневековом жилище или замке эпохи Возрождения! Там я хотя бы мог как-то демонстрировать мой голос. А в этой пещере у меня даже нет времени почитать роман, что вы мне принесли. Воображаете кроманьонца, погруженного в чтение Толстого? Что за жизнь! Тридцать три несчастья! Уже десять лет я живу в этом городе, а все, чего достиг, — ничтожные подработки, это с моими-то вокальными данными! Тело Голиафа с душой карапуза, вот что я такое.
Он вдруг широко разинул рот, и Таша успела подумать, что сейчас ей будет продемонстрирована вся мощь его неповторимого голоса, но услышала лишь жалкий стон. Сочувственно вздохнув, она ухватилась за свою сумку, но в этот момент он заметил репу.
— Любите репу? — спросил он вдруг, совершенно успокоившись.
— Не очень, зато она дешевая, я делаю пюре, смешиваю с морковью, добавляю соль и сметану.
В глазах Данило Дуковича блеснул огонек вожделения.
— Я принесу вам тарелочку! — быстро пообещала Таша и решительно взялась за ручку двери.
— Спасибо, мадмуазель Таша, вы по-настоящему добры! Ах, до какой нищеты я дошел! — вздохнул он, возвращаясь к себе все с тем же пустым кувшином.
На мансарде Таша были железная кровать, два чемодана, где она хранила одежду, и изразцовая печь, кое-как обогревавшая помещение зимой. Еще там стоял буфет, круглый стол с расшатанной ножкой, под которую был подложен кирпич, пара стульев, из которых вылезала соломенная набивка, половой коврик, затоптанный так, что все нитки наружу. В стене была проделана ниша, где в беспорядке лежали два десятка книг. Обои шоколадного цвета пошли пузырями, но их в основном закрывали холсты, на которых были изображены парижские крыши в любой час дня и ночи. Ибо Таша, стоило ей взгромоздиться на хромой табурет, видела отсюда целое море красных и серых кровель, бодро устремленных вверх, на штурм облаков, а потому решила посвятить себя пока только этой теме.
Таша прошла в крошечную конурку, служившую ей и кухней, и туалетной комнатой — собственно отхожие места располагались в конце коридора соответственно рангу жильцов шестого этажа.
Она положила морковь и репу возле маленького переносного очага, работавшего на угле, взяла кувшин, наполненный ею еще до ухода, и помыла лицо и шею, стараясь не слушать вокализы, которые испускал за стеной Данило. Вернувшись в большую комнату, она расшнуровала ботинки, которые, как она надеялась, прослужат до конца лета, быстро разделась, бросая на кровать шляпку, перчатки, куртку, верхнюю юбку, нижнюю юбку, панталоны, чулки, корсаж, размотала бандаж, служивший для поддержки груди, поскольку она не носила корсета. Голая, с распущенными волосами, облегченно вздохнув, она присела на постель, сложив руки на груди. Так пронзительно вспомнились ласки Ханса, с которым ей нравилось заниматься любовью. «Все, про это забудь, малышка». Она схватила широкую, всю в цветных пятнах, серую блузу, накинула ее и встала к мольберту, на котором была установлена незаконченная картина: две шиферные крыши, на них что-то клюют голуби, озаренные последними предзакатными лучами. Таша взялась за кисть и, немного подумав, принялась прорисовывать кровельный желоб. В мозгу пронеслась нелепая мысль. Она вдруг представила себе, как с левого края вон той каминной трубы срывается и мчится в город рой пчел, которые собираются очистить его от всех идиотов, ничего не понимающих в искусстве и интересующихся только деньгами. Не в силах противиться искушению, над кровельным желобом она кончиком кисти сделала желто-черные крошечные мазки и вдруг подумала о своем отце. Где он, Пинхус, все еще в Берлине? Известий нет уже целый год. Лишь бы он опять не вляпался в какую-нибудь аферу. Впрочем, пожала плечами Таша, даже если так, он всегда сумеет выкрутиться.
Виктору хватило одного взгляда, чтобы увидеть — лавочка пуста. На хозяйстве оставался один Жозеф, по обыкновению сидевший на приставной лесенке с раскрытой книгой на коленях. Иногда он отрывался от романа, чтобы куснуть яблоко. При звуке колокольчика он поднял глаза.
— Мсье Виктор! Господин Мори ждал вас к завтраку: мадмуазель Жермен пожарила эскалопы по-милански, но вы так и не явились, и он ушел.
— Я вчера предупредил его, что приду не раньше трех. А он сказал, куда ушел? — спросил Виктор, нахмурившись.
— На свидание с коллегой.
Виктор подумал, что, похоже, коллега носит юбку и туфельки и в эту минуту, скорее всего, с радостным кудахтаньем распечатывает множество пакетов от «Королевы пчел».
— Вы что-нибудь продали?
— Совсем чуть-чуть вчера вечером, жаль не было вас, мне удалось толкнуть по дешевке неполное издание «Энциклопедии» Дидро — помните, то самое, что так пострадало от сырости в подвале на улице Ле Реграттье, — одному провинциальному книгопродавцу, а потом я…
— Да-да. А что это вы читаете?
— «Господин Лекок», это вы мне посоветовали, очень увлекательно.
Виктор улыбнулся.
— Популярными романами сыт не будешь, надо кушать, Жозеф, и не только яблоки. Вы воспользовались моим отсутствием, чтобы угоститься эскалопом по-милански?
— Предпочитаю питать мозг, не перегружая желудок, простите за такую колкость, мама всегда говорила, что три четверти болезней вызываются жжением внутренностей, и я…
— Вы, должно быть, хотели сказать — изжогой.
— И потом, полицейское следствие так захватывает, ах, этот Лекок такой умный, какие умозаключения он выводит из неприметных улик… Загляни он в мою записную книжку, тоже бы что-нибудь сказал!
Жозеф вынул из кармана блокнот в обложке из черной «чертовой кожи», в который заносил указания хозяев, и бросил его на прилавок.
— Что это вы тут записываете? Фамилии клиентов или ваши любовные победы?
— Намного лучше! Меня интересуют необычные факты, неразгаданные тайны. Я вырезаю из газет заметки и наклеиваю их подряд. Вот, взгляните!
Виктор пролистал блокнот и прочел на случайно открытой странице:
Дождь из лягушек в Монтобане… Преступление в вагоне… Женщина с отрезанной головой в Бонди… Рыбы выбрасываются на берег из вод канала в Урке… В веревочной сумке найдены сокровища Меровингов… Пчела-убийца в Париже.
Он склонился над статьей, вышедшей 13 мая.
Вчера утром на вокзале Батиньоль, будучи в числе любопытных, собравшихся взглянуть на приезд Буффало Билла и его команду, Жан Меренга, по роду занятий тряпичник, проживавший на улице Паршеминери, нашел свою смерть из-за пчелиного укуса.
— Вырезка из «Эклер» за прошлый месяц. Вам это тоже кажется любопытным, а? Никто не догадался связать смерть старьевщика и те, что случились на выставке. А ведь это достойно романа Габорио. Ах, если бы я мог писать!
Виктор улыбнулся. Имя Буффало Билла напомнило ему встречу с Таша.
— Вам смешно, мсье Виктор? Я и сам знаю, что дурак необразованный, но ведь у меня есть книги, я все узнаю из них!
— Я вовсе не над вами, Жозеф, просто Буффало Билл мне кое-кого напомнил…
— Мсье Легри! Наконец-то я вас нашла! Вчера дважды приходила, а вас уже как ветром сдуло! — заголосила графиня де Салиньяк, рывком распахивая дверь.
Виктор подпрыгнул, обогнул Жозефа, послав ему выразительный взгляд и спрятав блокнот в карман своего редингота.
— Не забудьте напомнить, чтобы я вам его вернул! — прошептал он, удирая в подсобку.
— Да какая муха его укусила?! — вскричала графиня.
— Не к мухам в наши дни питать бы надо подозренье, а к пчелам — вот, — заключил Жозеф, последний раз откусив от яблока.
— Но позвольте, молодой человек, вы можете сказать, куда ушел мсье Легри?
— Думаю, он спустился в свою мастерскую, внизу, рядом со складом. Он там проявляет фотографии. Видите, на камине за бюстом Мольера маленькая красная лампочка? Она работает от электричества. Если она горит, значит, мсье Легри заперся в своей потайной комнате и настоятельно просит не беспокоить его всяких….
— Всяких, ну-ну, — проворчала графиня. — Это про меня-то, а ведь я хотела только узнать, разыскал ли он наконец «Орла и голубку»!
— Это книга о птичках? — лукаво осведомился Жозеф, крутя яблочный огрызок за хвостик, зажатый между пальцами.
— Экий вы непонятливый! Это роман Зенаиды Флерьо!
Запершись в лаборатории, Виктор снял проявленные накануне снимки, аккуратно отметив на обороте каждого дату и время, когда они были сделаны, потом разложил их лицом вверх. Решительно, портативный фотоаппарат «Акме» по точности превосходил все, что было ему известно: сфотографировать за долю секунды так, чтобы объект даже не успел понять, что его снимают! Правда, фотопортреты сенегальца Самбы, получившиеся очень выразительными, подкачали из-за плохого освещения, зато фотографии Таша по-настоящему удачные. А если их отретушировать, цены им не будет. Он приготовил инструменты: маленькую кисточку, бутылочку с тушью, и устроился за столом. Кисточка появилась из бутылочки совершенно сухой: тушь закончилась. Он сунул пачку фотографий в конверт и, надев редингот, отправился на склад, где собирался разобрать груду книг, но конверт не давал ему покоя. Виктор поднялся по лестнице и рискнул заглянуть в лавку. Никого. Жозеф большим пером стирал с этажерок пыль. Виктор чуть слышно свистнул, и Жожо тут же появился перед ним.
— Ушла бабища?
— Вы тоже ее так зовете? А ведь это я подал идею господину Мори, — гордо ответил Жозеф. — Осторожней, она придет снова: предупредила, что без книг домой не вернется.
— Если будет спрашивать, ответите, я на вершине башни!
Виктор устремился к лестнице, ведущей наверх, но вдруг резко обернулся, чтобы погладить череп Мольера, его амулет с тех самых пор, как он стал владельцем книжного магазина.
Мягким волчьим шагом Виктор зашел к Кэндзи, уже готовый в случае чего произнести слова извинения. Квартира была пуста. Он безуспешно поискал «Капричос» в сундуке. Недоставало и некоторых других книг. Виктор закрыл створки. Неужели Кэндзи продал Гойю?! Он так им дорожил! Выпрямившись, он заметил, что на стене больше нет и рамок с офортами Утамаро. Он вспомнил визит Кэндзи к книготорговцу на улицу Обер и его встречу на террасе «Кафе де ля Пэ». А выручку от продаж съела «Королева пчел». От этого названия ему стало не по себе. Конечно, случайное совпадение, и все-таки с некоторых пор пчелы стали вспоминаться ему уж слишком часто.
Он подошел к столу с тяжелым зеленым бюваром, где были разложены кисти для каллиграфического письма, стопка рисовой бумаги, бутылочки с тушью разных цветов. Схватил черную. Взгляд его упал на газету «Фигаро на башне» от 22 июня, ту самую, что выпала из кармана Кэндзи в день его рождения. На полях, острым почерком, принадлежность которого ему не составило никакого труда установить, было написано нечто в духе изречений Сивиллы: «R.D.V. J.C. 24-6 12.30 Гранд-Отель № 312.» «Jesus Christ — Иисус Христос, не иначе!» — весело решил он, как вдруг его резанула одна мысль. Вынув из кармана «Пасс-парту», он еще раз прочел заметку, озаглавленную «Двоих одним махом!» Натуралист, умерший перед Дворцом колоний, тоже остановился в «Гранд-Отеле».
«Просто забавное совпадение, — подумал он. — Тебя-то тоже угораздило дважды прийти туда, где кто-то умер». Он пожал плечами, взволнованный больше, чем готов был признать. Обойдя дубовый стол, заметил стоящую у ножки кресла кожаную сумку, откидной верх ее был полуоткрыт, оттуда торчали несколько запечатанных пакетиков из шелковой сиреневой бумаги. Он нагнулся, просунул пальцы, чтобы исследовать содержимое: коробочка с рисовой пудрой, шейный платок, маленькая Эйфелева башня и флакон духов «Жасмин Прованса». На всех подарках стоял оттиск «Королевы пчел», элегантная этикетка с золотым тиснением в виде герба. Виктор присвистнул. «Ну и дела, да он ее балует, свою Дульсинею! Дорого бы я дал, чтобы с ней познакомиться!»
— Да говорю же вам, мсье Легри меня заверил, что найдет обе книги! И «Орла с голубкой», и «Скверные дни»! Валентина может вам это подтвердить, она была со мной! — кричала графиня де Салиньяк прямо в лицо Кэндзи, который методично заполнял формуляр.
«Собака лает, ветер носит», — подумал Жозеф, сдерживая смех. Племянница графини, тощая юная девица с слишком длинным носом и прыщиками на щечках, смущенно вертела в руках зонтик.
— Да бросьте, тетя, ну придем в другой раз, — прошептала она.
— Как это так! Да ведь я только за этим пришла! И что же, мсье, вы мне ответите?
— Что тут не вокзальная библиотечка с вагонным чтивом, а книжный магазин, — сухо бросил Кэндзи.
Графиня побагровела и открыла было рот, чтобы возразить, но тут за ее спиной раздался голос Виктора.
— Дорогой мой Кэндзи, вы же в этом ничего не понимаете! О, эти романы, как они освежают, вот какое чтение помогает нам переносить страшную жару и надежно защищает от вульгарностей господ Мопассана и Золя!
Выпрямившись во весь рост, высоченная графиня — пока племянница с обожанием смотрела на Виктора — не дала себя так просто улестить.
— Вульгарности — это еще мягко сказано. Гниль — вот точное слово! Точь-в-точь как мазня, якобы полная духовности, а на деле являющаяся плевком в лицо власти! Вот что прямой дорогой ведет нас к развалу и беспорядкам! — заключила она, бросая на стол последний выпуск «Пасс-парту».
Кэндзи невозмутимо взял газету, развернул, пробежал глазами первую полосу, задержавшись на рисунке и подписи «Таша X.»:
— Весьма поучительно, я и не знал, что жандармы умеют так лазить по деревьям!
Он свернул листок и вернулся к работе. Виктор кашлянул.
— Сожалею, госпожа графиня, я еще не успел найти для вас эти книги Зенаиды Флерьо. Могу еще предложить Рауля де Навери, читается так же легко, и мадмуазель понравится всенепременно.
Валентина бросила на Виктора благодарный взгляд, прежде чем поспешно сделать вид, будто ее интересует только рукоятка от зонтика.
— Жозеф, спуститесь на склад, там Рауль де Навери, полное собрание, на тех полках, где всякая туфта.
— Туфта? Что за слово такое? — спросила графиня.
— О… это… это, так сказать, вроде…
— Именно так мы, книгопродавцы, именуем между собой самые изысканные из наших приобретений, — поспешил на выручку Виктору Кэндзи.
— Неужели? А словцо-то странное, — недоверчиво заметила графиня.
— Это, скорее всего, пришло к нам из английского, как «клоун», — рискнула вставить Валентина, заслужив благодарный взгляд Виктора и вся вспыхнув.
— Не вижу связи.
— Вот они, вот, мадам… графиня! — победоносно воскликнул внезапно вернувшийся Жозеф, неся в руках картонную коробку.
Пока обе дамы листали пропитанные пылью тома, Виктор подошел к конторке и склонился над газетой.
— Что скажете? Вас это не встревожило?
— Я не боюсь насекомых. Когда я был маленький, отец научил меня прихлопывать их рукой.
— Если мы купим их все, тома вашего Навери, вы сделаете нам скидку, не так ли? — проворчала графиня.
— Само собой, — отвечал Виктор, стараясь поскорее отделаться от этих книг и от нее самой.
— И прикажете доставить?
— Жозеф принесет их вам сегодня вечером, — пообещал Кэндзи, изо всех сил стараясь изобразить на лице приятную мину.
Одарив его улыбкой, графиня величественно выплыла из лавки, за ней, стуча каблучками, засеменила племянница. Острый носик Валентины маячил в витрине чуть дольше, чем следовало, однако Виктор не удостоил ее взглядом. Подойдя к Жозефу, он весело сказал:
— Следите за собой, а то в один прекрасный день язык сыграет с вами злую шутку!
— И тут же будете уволены! — строго отчеканил Кэндзи. — Виктор, надеюсь, завтра вы свободны, или вы забыли, что мы собираемся делать инвентаризацию? — добавил он, опуская голову.
«А не хочет ли он, чтобы меня тут не было?» — спросил себя Виктор и тут же бросился в контратаку.
— Разумеется, нет. А вы не забыли мне сказать, как сладилось дело с библиотекой на улице Одеон?
— Нет, там дорого, слишком дорого.
«Во талант, надо же, как складно врет!» — подумал Виктор.
— Пока не забыл, — продолжил он. — Не могли бы вы дать мне на время «Капричос» Гойи?
Кэндзи совсем согнулся над каталожным ящиком и ответил деревянным голосом:
— Сейчас не выйдет, я отдал его переплетчику, а у него полно заказов, скоро не ждите.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Понедельник 27 июня, утро
Вчерашний день выдался утомительным: инвентаризация в магазине, сортировка новых приобретений. «Эдак философом станешь, — заметил Кэндзи. — Сегодня только и говорят, что обо всех этих книгах, а завтра, глядишь, они лежат на лотках у набережной, и никто их не берет…» Охая от прострела в пояснице, Виктор в который раз шагал по улице Круа-де-Пти-Шам, мимо нескольких торговок, кативших по мостовой телеги с зеленью. Невзирая на сохранившуюся с минувшего вечера усталость, он помнил обещание, данное Мариусу, — написать литературную хронику и маленький анонс, — и все это только в надежде увидеть Таша. К тому же воображение работало исправно, и он вполне мог рассчитывать, что ему удастся проявить некое подобие виртуозности пера. «А не начать ли мне самому писать книги?» — подумал он, перечитывая статью. Но тут же вспомнил слова Кэндзи: «Эдак философом станешь…»
Духота усиливалась — собиралась гроза, — и он на мгновение остановился перед цветочным магазинчиком, в котором две женщины расставляли гвоздики в вазах. Если он не встретит Таша в газете, можно принести цветы прямо к ней домой и оставить у дверей с маленькой смешной записочкой, в которой будет приглашение к обеду. «Нет, дурень эдакий, ты постучишь, и уж тогда…» Он пожал плечами. Мечтать о таких перспективах было слишком рано.
В газете царила суматоха, а Эдокси Аллар и Исидор Гувье, замерев, стояли возле линотипов и следили за каждым движением наборщиков.
Виктору пришлось хлопнуть Гувье по плечу, чтобы на него обратили внимание. Старик поднял к нему бульдожье лицо с круглыми глазами, и пышные усы над погасшей сигарой слегка дрогнули.
— Ах, здравствуйте, мсье Ленуар!
— Легри.
— Простите, такая тут работенка — голова идет кругом. Эдокси…
Секретарша, одетая в темное шелковое платье, подчеркивавшее ее образ вдовушки-сердцеедки, рассеянно взглянула на Виктора и едва заметно кивнула.
— Пойду добивать хронику, — заявила она папаше Гувье, который ее не слышал.
Она отошла к боковой двери, повернулась и посмотрела на Виктора таким взглядом, точно, разглядывая на витрине товар, составила о нем определенное мнение. Коснувшись своих волос цвета воронова крыла, другой рукой потеребив приколотую на груди брошку, она замерла на пороге. Почувствовав, что на него смотрят, Виктор, в свою очередь, тоже уставился на нее. Секретарша изобразила робкое подобие улыбки и улетучилась, как испуганная девственница.
— Хотите, я вам объясню? — бормотал папаша Гувье. — Вот, взгляните, этот кусок мрамора — не что иное, как поверхность для заливки шрифтов. В нем четыре формочки по размерам газетного листа. Внутри этих формочек — отвесные свинцовые штырьки, а на них большие буквицы и оттиски рисунков.
Виктор рассеянно смотрел, как метранпаж несколько раз повернул ключ, чтобы
заблокировать движение отвесов, и формочки поползли под пресс. Папаша Гувье откашлялся:
— Так, а теперь берем сырой картонный макет и накладываем на…
— Мариус здесь? — перебил его Виктор.
— Минутку, я еще не закончил, — проворчал старик. — Картонный макет выходит из-под пресса сухим, видите? И в него глубоко впечатана страница. А сейчас пройдем через двор и отнесем это к печатнику. Там Клюзель, он вместо Бонне, тот ушел на прием в честь принца Уэльского. Идемте со мной!
Опираясь на ротационную машину, в английском костюме, Антонен Клюзель, покусывая гаванскую сигару, придирчиво просматривал передовицу.
— Основное блюдо первосортное, я про эту парочку трупов, тут ничего не скажешь, мы оказались на высоте! — бросил он Виктору, который, не говоря ни слова, протянул ему две странички литературной хроники.
Клюзель пробежал листки глазами, выдавил смущенный смешок, выплюнул сигару на пол и раздавил носком ботинка.
— Блистательная диатриба против ссор между представителями разных направлений, очень забавно, вы удачно обыгрываете «куриную шейку» и «Панамский перешеек», а также сочетаете литературные «измы» и «ставить друг другу клизмы». Но увы, слишком поздно печатать это в сегодняшнем выпуске, статья может выйти только завтра.
— Тогда прилепите к ней вот это.
Клюзель бросил взгляд на маленькое объявление.
КНИЖНАЯ ТОРГОВЛЯ «ЭЛЬЗЕВИР»
В. ЛЕГРИ — К. МОРИ
Основана в 1835 году
Книги старинные и современные
Подлинники
Каталог по требованию
18, улица Сен-Пер, Париж, VI округ
— Чудесно, чудесно, Эдокси откроет вам счет!
— Есть новости?
— Навалом! Установили личность человека, который умер на колониальной выставке: Кавендиш, американец. Тоже от укуса пчелы. Гувье осаждал префектуру, но его связи нам ничего не дали. Полиция в рот воды набрала, совсем как наши армейские генералы! Всем выгодно придерживаться версии пчел-убийц. А знаешь, эти медоносицы очень даже изящные!
— Следует остерегаться упрощенных подходов, — поддакнул Гувье. — За три дня два покойника в одном и том же месте, и еще это анонимное письмо, черт бы его побрал!
— Э, они-то хотят нам информацию по капле из пипетки выжимать, ну погодите же, я выдам всем новости на эту тему, и уж точно не в час по чайной ложке! — произнес Клюзель, занервничав. — Я тут порылся и нашел нечто весьма примечательное. — Он взял передовицу и громогласно прочел: — «Сообщают, что приступы эпилепсии у отдельных индивидуумов со слабым здоровьем могут быть вызваны укусами перепончатокрылых. Единственный смертельный исход был зафиксирован одним колониальным врачом три года назад, когда два африканских ребенка скончались от столбняка, возникшего вследствие пчелиного укуса».
— Столбняк? — нахмурив брови, повторил Виктор. — Я не эксперт, однако… Ведь эта инфекция действует непосредственно после травмы?
— К чему я и веду! Инкубационный период столбняка длится от нескольких часов до двух недель, только потом появляются первые симптомы. А наши два покойника отбросили копыта сразу, упав и только разок ими дрогнув. А посему — столбняк исключается! И тогда одно из двух: либо это действительно убийства, и тогда прав Гувье, в пользу такой гипотезы склоняет и анонимное письмо. Или мы имеем дело с первыми проявлениями загадочной эпидемии. В обоих случаях власти опасаются паники: идет выставка! Они сознательно преуменьшают значение происходящего, вынуждая людей оставаться беззащитными перед налетевшим роем пчел! Не в первый раз интересы большинства приносятся в жертву интересам крупных воротил, захвативших власть.
— Полагаю, вы слишком цинично рассуждаете, — сухо заметил Виктор.
— Вызывать дискуссии, мсье Легри, — таково предназначение прессы! Вот, вот где все написано как есть! — воскликнул он, потрясая «Пасс-парту»: — «Смерть рыщет на Эйфелевой башне и во Дворце колоний»! Заголовок что надо, не так ли? Тиражи вырастут сногсшибательно. Послушайте: «Прибыв из Лондона 20 июня, Джон Кавендиш остановился в „Гранд-Отеле“, в номере 312. Четыре дня спустя, сразу после обеда он…»
Виктор вдруг перестал слышать, что говорил ему Клюзель. Широко раскрыв глаза, он силился оживить воспоминания. J.C…John Cavendish… Гранд-Отель… Номер… J.C.?.. Джон Кавендиш? Нет, невероятно!
Он вдруг резко подался вперед.
— «Гранд-Отель»? Который? — почти выкрикнул он.
— Да он только один и есть, на бульваре Капуцинок, тот самый, где всегда останавливаются янки, да такие, у которых кругленький счет в банке, ведь там за ночь надо заплатить столько, что можно было бы жить пару недель!
— Мне надо идти, скажите Мариусу, я вернусь.
Клюзель протянул ему руку, но Виктор не вынул руки из карманов, потому что они тряслись.
Оставшись одни, журналисты обменялись недовольной гримасой.
— Надо поработать в самом пекле, только тогда просечешь, как устроена журналистика, — прокомментировал Гувье.
«Номер… Номер… Какой?» — мучительно думал Виктор, спеша укрыться под галереей Веро-Дода, когда раздались первые раскаты грома. Гроза разразилась, едва он вышел на улицу Круа-де-Пти-Шам. Способ обрести уверенность только один: надо было возвращаться в книжный магазин. Он совсем забыл про Таша.
Впервые за несколько дней покупатели так и толпились вокруг Жозефа, у которого голова пошла кругом, и он позвал на помощь Кэндзи. Когда в дверь протиснулся насквозь промокший Виктор, оба взглянули на него с надеждой, но тот, не обратив на них внимания, быстро пробежал наверх, пробормотав что-то невразумительное.
Сбросив промокшие башмаки, Виктор вошел к Кэндзи и сразу направился к дубовому столу: «Фигаро на башне» там уже не было.
Недовольный собой, он стал ходить взад-вперед по комнате. Потом открыл ящик, закрыл, открыл другой, но так и не совладал со своей нерешительностью. Какого дьявола, не может же он шпионить за Кэндзи! Даже если ему удастся в конце концов найти то, что его интересует, все равно останется противное чувство. Уже сдавшись, последним нервным жестом Виктор приподнял бювар. Газета была там: «R.D.V. J.C. 24-6 12.30 Гранд-Отель № 312».
312. Подавленный, сжав кулаки, он тупо уставился на эти цифры. 312, ошибки быть не могло, тут соединялись все факты, и вывод, который из них напрашивался, оказывался тропинкой, ведущей в пропасть. Кэндзи встречался с Джоном Кавендишем. Придя в себя, Виктор поставил на место бювар и быстро вышел.
Если обстановка в квартире Кэндзи свидетельствовала о стараниях хозяина перенять известный французский стиль, ограничивающийся эпохой Людовика XIII, то жилище Виктора Легри говорило о явной ностальгии по стране, в которой он вырос, то есть Англии.
В столовой, где стоял массивный стол в окружении шести стульев, спальне, где преудобно располагались кровать с высоким изголовьем, шкаф и комод, и рабочем кабинете, где стояли цилиндрической формы конторка, стол, за которым можно работать с бумагами, и застекленный книжный шкаф, — всюду безраздельно царило красное дерево. Под потолком висели люстры на керосине, пол был покрыт коврами с неопределенным восточным орнаментом. На стенах висели акварели Констебля и два портрета Гейнсборо, доставшиеся в наследство от отца, Эдмона Легри, ровно ничего не понимавшего в искусстве, а по части того, куда вкладывать деньги, слушавшего советов жены. Над кроватью висел выполненный сангиной портрет очень красивой женщины в овальной рамке. Единственной уступкой Франции была серия застекленных эстампов по обе стороны конторки, на которых изображался фаланстер Фурье, нарисованный пером в разных ракурсах. Дядя Эмиль, убежденный утопист, прежде чем завещать племяннику книжный магазин, в последние минуты своей жизни взял с него клятву, что Виктор ни за что на свете не разлучится с этими набросками, так же как с привычным кавардаком и книгами, предусмотрительно спрятанными в подвале.
Сев за конторку в своем крошечном рабочем кабинете, где в окошко было видно лишь тяжело нависшее небо, Виктор решил опробовать подарок Одетты — лампу Рочестера. Он налил туда масла и, повернув выключатель, поднес фитиль. Абажур озарился изнутри бойким голубоватым светом, и это на мгновение отогнало прочь тревоги. Ему вспомнилось зимнее утро вскоре после похорон отца и чувство облегчения. Он вновь представил себе безжизненное лицо человека, которого называл не иначе, как «мсье». Прошел двадцать один год, но при мысли об отце его по-прежнему охватывал ужас. В обществе Кэндзи он с каждым днем все больше проникался вкусом к жизни. При свете канделябров, блиставших всеми свечами, в маленькой гостиной над салоном книжного магазина на Слоан-сквер, Кэндзи читал ему рассказы о приключениях, учил каллиграфии и искусству вырезать фигурки из бумаги, а снизу в это время доносился мелодичный голосок матери, тихонько напевавшей английскую песенку. В один прекрасный вечер до Виктора дошло, что прежде он никогда в жизни не слышал, как поет его мать.
С тошнотворным чувством он схватил валявшийся на столе черный блокнот, чтобы записать туда фразу из «Фигаро на башне». Остро отточенным карандашом принялся набрасывать вопросы, по нескольку раз обводя буквы. На мгновение свет лампы замигал. Защитить Кэндзи. Что бы тот ни совершил, позаботиться о нем так же, как Кэндзи заботился о Викторе начиная с 1863 года, когда отец взял на работу слугу, молодого японца, только что приехавшего в Лондон. Прежде всего во всем разобраться самому, развеять подозрения, которые, скорее всего, беспочвенны. Вдруг новая мысль поразила его. «Кафе де ля Пэ» — «Гранд-Отеля». Тот брюхатый господин с моноклем, пришедший купить у Кэндзи гравюры, — Кавендиш? В котором часу это было? В половине одиннадцатого, в одиннадцать? Точно не в полдвенадцатого, он прекрасно помнил, потому что сам в это время ел картофель на набережной Конти, а потом пошел на эспланаду.
Он снял вымокший редингот, надел твидовый пиджак, сухие туфли и спустился вниз. Заинтригованный Кэндзи оставил ненадолго рантье, аккуратно перелистывавших атлас XVIII века, и буквально вырос перед ним, загородив дорогу.
— Что, возникли какие-то проблемы?
— Все в порядке, срочно убегаю, завтракайте без меня!
— А зонтик?
— Дождь уже кончился!
Кэндзи подошел к витрине и проводил взглядом молодого человека, во всю прыть шагавшего к бульвару Сен-Жермен.
Это был даже не дворец, нет — настоящий город. Раскинувшиеся на пяти этажах восемьсот роскошных номеров, где сновало воинство грумов, камеристок, прислуги, и все с единственной целью: обеспечить комфорт состоятельной клиентуры, съехавшейся сюда со всего мира. У гостей из-за океана «Гранд-Отель» обладал непревзойденной репутацией: очень дорогой, с прекрасным выбором вин, помпезным банкетным залом, гостиной для чтения, музыкальным салоном, американским баром, где посетителей развлекали цыганские скрипки, обменником и парикмахерской. Казалось, тут можно прожить всю жизнь, тем более что и природы тоже хватало — в виде пальмовых джунглей и стройных рядов каучуковых деревьев в горшках.
Когда Виктор проник в этот караван-сарай, ему показалось, что он оказался на борту огромного пассажирского лайнера. Он словно ощутил даже не легкое головокружение, но чуть ли не настоящую океанскую качку. Виктор встал у стойки и подождал, пока один из служащих в черной ливрее обратит на него внимание. Тогда он спросил господина Бело, Антуана Бело, прибывшего этим утром из Лиона. Имя, как и положено, тут же принялись разыскивать в регистрационной книге, затем попросили несколько раз повторить, чтобы проверить, что правильно его расслышали, наконец, обменявшись озадаченными взглядами, администраторы покачали головами.
— Весьма жаль, мсье, у нас нет гостя под таким именем. Минутку, я проверю бронь… Нет, мсье Бело у нас не останавливался.
— Вы уверены? — спросил Виктор. — Да быть того не может! Я вчера вечером получил от него телеграмму. Мсье Бело назначил мне встречу в этом отеле, номер 312, мы договорились вместе позавтракать в «Кафе де ля Пэ».
— В 312-м? Но это невозможно, мсье.
— Как невозможно? Номер 312, мсье Бело, торговля спиртными напитками. Ну что мне, телеграмму вам предъявить?
Виктор произнес эти слова с такой убежденностью, что сам почти поверил в существование Антуана Бело! Не дождавшись ответа, он вынул бумажник. Служащий едва заметно посмотрел на коллегу, и тот немедленно вмешался в разговор.
— Уберите, мсье, нет никаких сомнений, что это ошибка. У нас нет ни одной свободной комнаты, все забронировано на месяцы вперед. Выставка, сами понимаете. А в 312-м был… американец, мсье Кавендиш, тот самый…
— Тот самый?! Мсье Кавендиш? Тот Джон Кавендиш, о котором писали в газете? — вскричал Виктор. — Ну, это уж просто безумие… Хотите мне втюхать, будто Антуан делил ложе… с покойником?
Служащий с тревогой посмотрел вокруг, перегнулся через стойку и сказал, понизив голос:
— Э-э… видите ли, мы стараемся не афишировать эту нашумевшую историю. Простите мою назойливость, мсье, но не может ли так случиться, что ваш друг остановился в «Гранд-Отеле» на бульваре Капуцинок? Это в двух шагах отсюда и… если вы еще минутку подождете, мы сейчас туда позвоним…
— Должно быть, вы правы, я все перепутал! Как глупо!
Отступив немного, Виктор открыл бумажник и сделал вид, что сверяется с какой-то бумажкой.
— Господи боже мой, это же несносно, мне скоро придется в очках ходить! Тут действительно написано «Гранд-Отель» на бульваре Капуцинок.
Облегченно вздохнув, служащий изобразил на лице живейшее сочувствие и широким жестом указал на дверь.
— Это немного выше по улице, дом 37.
Виктор пошел по бульвару, потом быстро свернул на улицу Дону. На авеню де ль’Опера он зашел в ресторан и заказал дежурное блюдо, кролика в горчичном соусе. Сомкнув ресницы, он представил себе труп ковбоя с моноклем в глазу, лежащий на тарелке под гарниром из зеленого горошка. Ковбой, ковбой, кто недавно произносил это слово? Он овладел собой и откинулся на спинку кресла. «Кэндзи, что означают все эти несуразицы? С кем ты встречался в „Кафе де ля Пэ“? Почему твоя встреча с Джоном Кавендишем была за несколько часов до его смерти? Ты с ним только повидался? Ты наверняка знаешь, что его убили, так почему же не говоришь об этом со мной, ведь я мог бы тебя утешить, помочь, придумать тебе алиби…»
Официант поставил перед ним тарелку с дымящимся блюдом и кувшинчик с красным вином. Вид мяса вызвал тошноту, и он принялся выковыривать вилкой ломтики картофеля. Ломтик, Кэндзи не убийца, еще ломтик, как можно удостовериться в этом? Третий ломтик, у Кэндзи есть секреты, любовница, прошлое, о котором ты понятия не имеешь, еще один ломтик, придется тебе уплетать быстрей, гарсон наблюдает с интересом.
Он кое-как проглотил гарнир, но что до кролика… Улучив момент, когда официант отвернулся, он накрыл мясо салфеткой.
— Мсье желает мороженого? Включено в счет.
Вонзив ложечку в пломбир, Виктор повернулся к соседу справа и попытался прочесть первую полосу газеты, которую тот держал перед собой.
«УМЕРШИЙ ВЧЕРА ВО ДВОРЦЕ КОЛОНИЙ — НЕ КТО ИНОЙ, КАК ПУТЕШЕСТВЕННИК ДЖОН КАВЕНДИШ», — гласил заголовок, набранный крупными буквами. Посетитель опустил газету, бросил на блюдце несколько монет и встал.
— Есть что-нибудь интересное? — спросил Виктор.
— Генерал Буланже отказался покинуть Лондон, а ведь стоит ему только захотеть, и у него во Франции сыщется множество приверженцев… Такой человек нам и нужен, сами видите, вот и еще самоубийства из-за Панамы. Самое печальное в том, что последнюю рубашку отбирают у обычных мелких вкладчиков. Вечная история, они разместили в этих акциях все, что у них было, а канал-то — фук! — и теперь они прогорели. Эх, мсье, как все это некрасиво! — сказал человек, кладя газету перед Виктором. — Возьмите, я вам оставляю.
— Желаете что-нибудь еще? — осведомился гарсон, бросив неодобрительный взгляд на почти не тронутое мороженое.
— Чашечку кофе и счет.
Он пробежал глазами статьи, где говорилось о Кавендише. Приехавший на Всемирную выставку по приглашению министра иностранных дел, американский натуралист в день своей смерти должен был стать кавалером ордена Почетного легиона и членом Географического общества. Его многочисленные отчеты о путешествиях, переведенные на французский, регулярно печатались в изданиях «Вокруг света», «Новый журнал о путешествиях», причем первые появились еще в начале 1857-го года.
Затем кратко излагалась биография. Родился в Бостоне в 1828-м, в 1852–1860 годах проехал Малайзию, Камбоджу, Сиам, Бирму, собирая там образчики растений, пригодных для фармакологической промышленности. В 1863-м прочел курс лекций в Лондоне. Оставался в Англии до 1867 года, занимаясь редактированием многочисленных трудов, посвященных его экспедициям. По возвращении в Америку выполнял поручения правительства по классификации флоры и фауны Аляски, большой территории, недавно купленной Соединенными Штатами у России…
Виктор отложил газету. Отец нанял Кэндзи в 1863-м. Значит, тот жил в Лондоне в то же самое время, что и Кавендиш. До этого тоже изъездил всю Азию, юность Виктора вскормлена рассказами о его странствиях, так что в конце концов в голове перемешались даты и события. Говоря по правде, туману напустил сам Кэндзи, стараясь увлечь юного английского барчука рассказами об охоте на тигра или кораблекрушении в Китайском море. Виктор открыл записную книжку, отметил под фразой из «Фигаро»: «Кэндзи, Кавендиш, путешествия, до 1863-го»? У него было чувство, что он почуял верный след, это и воодушевляло и тревожило. Он расплатился и вышел.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Понедельник 27 июня, ближе к вечеру
На бульваре Оссманн Виктор успокоился. Это какое-то недоразумение. Наверное, портье был прав, речь шла о другом «Гранд-Отеле». Сколько их в Париже? Вспомним-ка… Один на бульваре Капуцинок… Другой на Трокадеро… Еще есть «Гранд-Отель Афины» на улице Скриба… «Гранд-Отель Париж-Ницца» в предместье Монмартр… Кэндзи назначил некоему J. С. встречу в номере 312. Вполне возможно, что это женщина: J. С. — Жозефина, Жанна, Жюдит. Чтобы в этом убедиться, пришлось бы опросить всех портье во всех «Гранд-Отелях» столицы и ее окрестностей. Но стоп! Душевные терзания порой играют с человеком мрачные шутки: не он ли всего год назад убеждал себя, что тяжело заболел — лишь потому, что симптомы мучившего его гастрита, как ему показалось, полностью совпадали с симптомами злокачественной опухоли? И как же было стыдно, когда доктор Рейно с улыбкой, порекомендовал ему избавиться от глистов! Как бы безупречно ни владел собой Кэндзи, он едва ли сумел бы сохранить безучастный вид, когда графиня де Салиньяк сунула ему под нос газету. Раз он не отреагировал, значит, ни при чем. Этот тип, Кавендиш, загнулся от сердечного приступа, как и та женщина на башне. «Правда бывает порой неправдоподобной», — сколько раз он убеждался в правоте этих строк Буало, сколько невинных людей стали жертвами судебных ошибок, и все по причине непомерно развитого воображения какого-нибудь следователя. Кэндзи много путешествовал, и Кавендиш тоже, но где тут связь? 1863-й, Лондон, а потом? Впрочем, по дате поступления на работу к господину Легри, случайно обнаруженной в счетной книге, невозможно было сказать, как было на самом деле, приехал ли японец только что в Лондон или уже какое-то время там проживал. Все выглядело одновременно правдиво и фальшиво, ведь факты легко вывернуть наизнанку, как перчатки.
К действительности его вернул звонок трамвая, и он чуть не налетел лбом на уличный фонарь. Подняв шляпу и пригладив усы, Виктор осмотрелся и увидел церковь Нотр-Дам-де-Лоретт. Случайность или этого ему как раз и не хватало? Он направился в ближайшую цветочную лавку.
Мужская рука протягивала ей маленькие белые солнышки с цветным сердечком посередине, целых три десятка, маргаритки в кружевной бумаге. Черноглазое лицо с усами казалось еще длиннее из-за венчавшей его широкополой шляпы. Взгляд был немного напряженным. Он. Она отпрянула.
— Простите за мой вид, я выгляжу ужасно, я как раз рисовала.
Виктор подавил смешок. Ужасно выглядит! Вот они какие, эти женщины. Так же говорила и Одетта, едва проснувшись. Даже в слишком широкой блузе, босоногая, с заколотыми гребешком волосами, Таша была прелестна. К тому же хлопковая ткань оказалась почти прозрачной.
— Так жарко! Не согласились бы вы по-дружески пропустить со мной стаканчик?
Она покусала губку. Перед ней был явно любитель все усложнять, это было заметно по тому, как он держал цветы, вместо того чтобы просто вручить их ей. «Осторожнее. Вспомни, какое разочарование постигло тебя с этим добряком Гансом».
— Я вам неприятен, — произнес он, явно помрачнев.
Она решительно забрала у него букет.
— Давайте прогуляемся и выпьем кофе, но только у нас не больше часа: сегодня единственный день недели, когда я могу поработать для себя. Сейчас оденусь.
— Я подожду внизу.
Не отвечая, она за рукав втащила его в комнату и захлопнула дверь. Быстро собрала одежду, разбросанную на постели. Завидев этот милый беспорядок, Виктор отвернулся и с деланным интересом уставился на фаянсовый горшок. Тем временем Таша побросала одежду на один из стоявших в комнате соломенных стульев; второй был завален холстами. Виктор произвел осмотр местности, отметил облезлость обоев, задержался взглядом на книгах в стенной нише. Всюду: на мебели, полу, мольберте — холсты, на которых только крыши; голубоватая серость цинка подчеркивала бледность неба, написанного густыми мазками, того самого парижского неба, которое не спутаешь ни с чем, ибо даже когда оно улыбается, все равно кажется, будто вот-вот заплачет дождем.
— Не слишком изящно, но это все, что у меня есть, — сказала Таша, ставя маргаритки в эмалированный кувшин.
Она украдкой осмотрела Виктора. Прямой, будто аршин проглотил, руки в карманах, похож на манекен.
— Располагайтесь как дома, пять минут — и я буду готова.
Она указала ему на постель — единственное свободное место. Он присел на самый краешек, чувствуя себя смешным и неловким. Из клетушки, в которой она заперлась, до него донесся звук воды, наливаемой в лоханку, потом плеск. Она мылась. И если с Одеттой это обычно оставляло его равнодушным, то теперь он чувствовал легкое волнение. Будь он уверенным в себе мужчиной, открыл бы дверь и стал бы смотреть на нее с ухмылкой завоевателя. А может, даже осмелился бы на что-то большее. Но Виктор сомневался в себе и в том, стоит ли рисковать, ведь это мог оказаться вернейший способ ее оттолкнуть.
Служившая и мастерской, и гостиной, и спальней комнатка была очень плотно заставлена мебелью. Видимо, Таша не из тех девушек, что любят порядок, а напротив, из богемных, о приключениях которых Виктору так нравилось читать в романах-фельетонах, но в реальной жизни он их сторонился. На буфете, среди кистей и тюбиков с краской, он обнаружил щербатую тарелку с остатками ветчины, засохшим пюре и зачерствевшей коркой хлеба. По всему было видно, что питалась Таша скудно. Его внимание привлек большой флакон из стекла, отливавшего всеми цветами радуги. Дорогие духи, еще непочатые. Подарок поклонника? Или любовника? Тут же он вспомнил, как легко девушка позволила ему зайти. Не позволила, а сама затащила, точнее говоря. Почти против воли он встал, подошел к стенной нише, принялся расставлять книги аккуратнее и в алфавитном порядке: Гюго, Золя, Толстой… Он заметил прикнопленную к стене черно-белую репродукцию: человек сидел, уронив голову на стол. Непонятно было, спит он или дошел до полного изнеможения. Вокруг, почти касаясь его крыльями, угрожающе вились ночные птицы. Внизу была подпись, обведенная карандашом: «
Сон разума порождает чудовищ». «Я это видел, — подумал он, — да где ж я это уже видел?»
Таша крикнула из-за двери:
— Как вы узнали мой адрес?
Он вздрогнул, и ему снова захотелось присесть.
— Мне дал его Мариус Бонне. Вы рассердились?
— Почему? А что, надо бы?
Из дверного проема высунулось ее смеющееся лицо.
— Вы не подадите мне одежду, которая лежит на стуле? Спасибо.
Охапку одежды схватила голая рука. Послышался легкий шелест, звук топчущихся на месте ног.
— Черт, что за тоска надевать чулки! Завидую, что вы мужчина, вам незнакомо это новомодное мучение, которое изобрели самцы, чтобы испортить нам жизнь! Знаете, что думает моя хозяйка по поводу будущего женщины? Это короткие мужские штаны!
— Боже упаси! Только не это, иначе получится кошмар!
— А в душе, небось, одобряете! Еще минуту.
Было слышно, как она расчесывает волосы щеткой и шуршит одеждой. Чтобы отвлечься, Виктор схватил лежавший на ночном столике блокнот для эскизов. Перелистав до самого конца, он с удивлением обнаружил множество набросков своего лица. Значит, она думала о нем, и напрасно он проявляет такую скромность. Он открыл рисунок, сделанный на Каирской улице: мертвая женщина на башне, тело, лежащее на скамейке, трое детей с испуганными глазами. Потом отличные этюды краснокожих. Последний эскиз смутно напомнил ему что-то: те же краснокожие столпились у железнодорожного вагона вокруг лежащего на перроне человека, а еще кто-то стоит рядом на коленях, в окружении разбросанных тюков, корзин, детской лошадки-качалки с выпотрошенным брюхом, трехногого стула. Прежде чем он успел задать себе вопрос, что это было, из каморки, объединявшей кухню с ванной, вышла Таша и впорхнула в спальню:
— Я почти готова.
Он сунул блокнот под газету, тоже лежавшую на ночном столике.
— Да где же эти перчатки?
Она вдруг повернулась к нему, заметив его руку с газетой, и засмеялась.
— Да, знаю, что это смешно, но мой приятель так хотел расписаться в «Золотой книге гостей», он упросил меня пойти с ним, и я уступила. Ничего не поделаешь!
Он взял газету и прочитал:
«Всемирная выставка 1889 года. ФИГАРО. Специальный выпуск, отпечатанный на Эйфелевой башне. Этот номер вручен мадмуазель Таша Херсон на память о ее визите в павильон газеты „ФИГАРО“ на втором этаже Эйфелевой баш…»
— О, да оставьте эти глупости! — сказала она, выхватывая газету у него из рук.
Она бросила листок на кровать и стала рыться в одной из двух дорожных корзин.
— А что, вы и правда написали литературную хронику для «Пасс-парту»?
— Да, но сомневаюсь, что мой брюзгливый тон придется по вкусу читателю. Я выступаю против расплодившихся литературных течений — романтизма, натурализма, символизма, — и сожалею о вырождении языка.
— Да вы о прошлом тоскуете! А что вы скажете о Викторе Гюго?
— Я почитаю его как выдающуюся личность, коей он безусловно был, но он частенько впадал в высокопарность, короче, я не гюгоман.
— Гюгоман? Даже не знала, что есть такое существительное. Оно упоминается в толковом словаре Литтрэ?
— Если язык будет и дальше так меняться, оно не замедлит там появить…
— Да вот же они!
Она с победоносным видом помахала в воздухе несколькими парами кружевных перчаток. Выбрала одну, снова бросила в дорожный сундучок, быстро приподняв и опустив крышку, которая с шумом захлопнулась.
— Это не те!
— Там что, коллекция? — его это позабавило.
— Нет, на такое у меня нет средств. Материнское наследство. Моя мама любила одеваться красиво…
Перед ней возник образ Джины, ее матери, собирающей ей чемодан в их крохотном неуютном доме на улице Воронова. Она часто вспоминала тот зимний день 1885 года, который навсегда запечатлелся в ее памяти. «Уезжай, малышка Таша, уезжай, пусть сбудется твоя мечта. Поезжай в Берлин, тетя Хана тебе поможет. Оттуда переберешься в Париж. Здесь у тебя нет будущего». Развод родителей, закрытие Пушкинского лицея заставили ее переехать к бабушке в Житомир, недружелюбный город, где все так и подталкивало ее к отъезду. Она чувствовала себя виноватой, что уезжает от родителей, но желание было слишком сильным. Таша нащупала в кармане последнее письмо от мамы, которую не видела целых четыре года…
Рядом был Виктор, это вернуло ее к реальности. Встав перед ней, он озадаченно смотрел ей в лицо.
— Черт! Я не могу найти перчаток, которые обычно надеваю! Уезжая из России, я не могла увезти большой багаж, и пришлось удовлетвориться перчатками. Поэтому моим рукам приходится лучше, чем ногам! — заключила она, держа в руке правый ботинок, у которого совсем стесалась набойка.
Оба рассмеялись, она нацепила шляпку, придирчиво осмотрев себя в треснувшем зеркале, что висело возле ниши в стене. Заметив, что на затылке у нее выбились завитки волос, Виктор с трудом удержался, чтобы не подправить их рукой.
— Вы давно знакомы с Мариусом Бонне? — спросила она, отпирая дверь.
Поскольку он не пошевелился, поглядывая на нее с грустью, она удивленно обернулась.
— Ну, мы идем, да? Ах, да вот же они, мои перчатки! Славно вы на них посидели!
Гроза прошла стороной, приятно освежив воздух. Виктор так и не решился взять Таша под руку. Она вела его на улицу Мартир, в кафешку, куда заглядывал Бодлер.
— Я встретил Мариуса восемь лет назад, в мастерской Эрнеста Мейсонье, — запоздало ответил он на ее вопрос.
— Это специалист по военным фрескам, такой известный-известный?
— Я туда пришел не живописью восхищаться, а посмотреть проекцию движущихся картинок. Вы бывали когда-нибудь на сеансе зоогироскопа?
— Это что еще за зверь?! — воскликнула она, входя в кафе и дружески махнув официанту рукой. — Вы же знаете, что бедные девушки, вроде меня, ничего не понимают в современных технических новшествах…
Он не заметил в ее словах иронии.
— Это что-то вроде усовершенствованного волшебного фонаря, там есть иллюзия движения, — объяснил он, пододвигая ей стул.
Ее позабавила его галантность, к подобной обходительности она не привыкла.
— Что будете пить?
— Здесь подают очень вкусный лимонад, — заявила она тоном завсегдатая.
Он заказал коньяк. Гарсон, которого звали Марсель, предложил им сласти по-домашнему. Виктор собрался было отказаться, как вдруг что-то заметил в глазах Таша.
— Не стесняйтесь, ведь я угощаю!
— В таком случае… Есть у вас сегодня ромовая баба? — спросила она у Марселя, и ее глаза заблестели.
— Да вы сладкоежка! — заметил Виктор.
— Еще какая! Вообще-то я провожу дни в безделье и безденежье, питаюсь пудингом, это позволяет держать форму.
Наконец-то он чувствовал себя непринужденно. Эта свободная в общении девушка с безыскусной речью не просто его забавляла, ему вдруг стало казаться, будто он знает ее уже давно.
— И что же, вы с Мариусом подружились? — спросила она с набитым ртом.
— Это вас удивляет?
— Немножко, вы с ним такие разные: вы, похоже, придаете преувеличенное значение мелочам жизни, хотя, может, это просто так кажется. А вот Мариусу плевать на все, что не касается его газеты!
— Вы правы, я, должно быть, слишком всерьез воспринимаю жизнь. А вот вы, вы-то независимы, оригинальны, и ваши полотна мне очень понра…
Он не успел закончить фразы. К их столику быстро шел всклокоченный великан, у которого под глазом красовался синяк.
— Мадмуазель Таша!
— Данило! Что случилось?
— Вы позволите?
Не дожидаясь ответа, этот странный персонаж уселся рядом с Виктором, который подвинулся с недовольным видом.
— Вы подрались?
— Вчера на выставке, в обеденный перерыв, я пошел к Сене, чтобы порепетировать большую арию из «Бориса Годунова». Разумеется, я не переодевался и был все в тех же шкурах кроманьонца. Только я успел взмахнуть дубиной, чтобы придать широты моей тесситуре, как одна дамочка завопила: «Бей дьявола!» И тут на меня набросились аж три представителя закона. А когда я вломил этим недотепам по первое число, все Марсово поле оказалось битком набито жандармами. Уж они меня отделали! Но я просто так не дался, мне даже кажется, одного уложил на месте. Потом они осознали свою ошибку, стали извиняться, уверять, что оплатят мои расходы на лечение. Завтра снова пойду в свою пещеру, — закончил он замогильным голосом.
Таша представила их друг другу. Узнав, что Виктор книготорговец, Данило оживился.
— Вам случайно не нужен служащий? Я неплохо разбираюсь в литературе.
— Благодарю, у нас один есть.
— Одно пиво и совсем без пены! — объявил Марсель, водружая кружку перед Данило, задумчиво пробормотавшим:
— Тридцать три несчастья, вот он, мой жалкий жребий!
— Ну, мне надо идти, — сказала Таша, — у меня много работы.
С облегчением простившись с сербом, Виктор поспешно последовал за ней.
— Вы с ним хорошо знакомы?
— Он мой сосед по лестничной площадке.
— И вы пускаете его к себе?
— Никогда, я боюсь, как бы он не начал исполнять какую-нибудь арию из «Фауста»!
Виктор задумался. Что если снять для нее небольшую квартирку? Средства на это есть. А она-то что скажет? Надо прощупать почву.
— А не надоело вам жить в этой конуре, отказывая себе в еде?
Она остановилась и взглянула на него с иронией.
— Ну разумеется, я предпочла бы королевский номер в «Гранд-Отеле»!
«Почему именно там?» — насторожился Виктор.
— Да только мне приходится жить по средствам, — добавила она, шагая рядом. — Поскольку я художница непризнанная, то и должна довольствоваться мансардой Хельги Беккер. Оттуда, по крайней мере, открывается красивый вид на крыши.
— Когда планируете зайти в наш книжный магазин? Мы вчера провели инвентаризацию, я отложил для вас книги с иллюстрациями Гюстава Доре и репродукции Иеронима Босха. Что до «Капричос», то с ними придется подождать, эта книга сейчас у переплетчика.
Она искоса взглянула на него и ничего не ответила. До дома 60 они шли в полном молчании. Виктор не мог решить, притягивает она его или не на шутку раздражает. Но когда она протянула ему руку в перчатке, пообещав придти на улицу Сен-Пер, как только представится возможность, ему на секунду показалось, что он счастлив. Он взглядом проследил за тем, как она удалялась в глубину двора, а потом не спеша поднялся к церкви Святой Троицы. Остановившись у бакалейного магазинчика, он подумал, не купить ли ей подарок. Может, флакон духов? Нет, пожалуй, лучше ограничиться выпечкой, она явно предпочла бы сладкое. Розовые бисквиты по-реймсски? Он толкнул дверь магазина, но вдруг заметил в витрине тонкий силуэт. Обернувшись, Виктор увидел, как по другой стороне улицы к стоянке фиакров поспешно шла Таша. На ходу сказав кучеру несколько слов, села в фиакр. Не раздумывая, Виктор бросился за ней.
— Поезжайте за ними! — крикнул он, добежав до следующего фиакра.
У дома-дворца в индийском стиле Таша резко замедлила шаг и потянула за сонетку. Виктор дождался, пока она войдет, и сам спрыгнул с подножки фиакра. Пульс бился лихорадочно, как после быстрого бега. Он сделал несколько шагов к решетке, не решаясь войти под прохладную сень деревьев, чтобы не потерять из виду массивную входную дверь. Он почти не знал этого нового квартала в Монсо, где было множество роскошных особняков, построенных нуворишами, среди которых попадались известные деятели искусства. Приметой времени — вот чем был этот клочок земли, которая еще в 1870 году стоила всего сорок пять франков за квадратный метр. Теперь цена поднялась до трехсот франков, и никто не мог бы сказать, на какой цифре остановится этот спекулятивный рост. «Здесь даже лакеи чувствуют себя выше простых смертных», — подумал он, глядя, как к нему приближается непреклонный как правосудие камердинер в полосатой жилетке, выгуливавший пару афганских ливреток. Виктор двинулся наперерез, не дав им сойти с тротуара, чем вынудил остановиться.
— Простите, я приехал из Лиможа и немного заблудился. Кому принадлежит это строение? — спросил он, показывая пальцем на дом напротив индийского дворца.
— Там живет мсье Ги де Мопассан.
— Ги де Мопассан, писатель?
— Да, мсье, — с легкой скукой ответствовал лакей.
Он хотел пойти дальше, но Виктор преградил ему путь рукой.
— Моя жена считает, что он гений, только и толкует мне про его повесть о мышке. А чей дом вон тот, подальше?
— О «Пышке», мсье. А это дом господина Дюма-сына.
— О-о, «Дама с гортензиями»…
— «С камелиями», мсье, — поправил лакей, пытаясь удержать собак, которые так и рвались с поводков.
— Последний вопрос. А эта вычурная конструкция? Резиденция набоба?
— В этом доме живет Константин Островский, знаменитый коллекционер произведений искусства, — ответил лакей, презрительно фыркнув.
— Искусства! Вот так оказия! Да откуда художники в таком захолустье?
— Неподалеку отсюда, по другую сторону бульвара, живет господин Мейсонье, рядом с кирпичным замком мсье Гайяра, у которого я имею честь служить… Извините, мне пора. Каллиопа! Поликарп! Быстро домой!
Виктор переключил внимание на индийский дворец. Ему пришлось ждать не меньше часа, пока он наконец увидел, как вышла Таша и направилась к бульвару Курсель. Он колебался. Пойти следом? Нет. Встреча с набобом определенно казалась ему привлекательнее.
Виктор вручил визитную карточку игривой субретке, и она оставила его одного в холле, указав на готический стул с высокой спинкой, но он не сел. То, как его приняли, почему-то напомнило ему приемную врача. Скучая, он внимательно осмотрел коллекцию старинного оружия, сабель, мушкетов, пистолетов, развешанных на стенах между картинами, изображавшими сельские сцены. Хозяин дома, похоже, был неравнодушен к грудям приветливых молочниц, изображенным в ракурсе «вид сверху». Посреди этого праздника жизни, явно выставленный на всеобщее обозрение, красовался окантованный в рамку, словно почетный диплом, листок «Фигаро на башне». Передовица начиналась так: «Герой дня: Константин Островский. С каким живейшим интересом мы проследили за…» Дальше ему прочесть не удалось: в холл вышел объемистый мужчина пятидесяти лет с жизнерадостной физиономией, лысиной и моноклем в глазу. Виктора словно молнией озарило — он как будто снова увидел, как Кэндзи раскладывает на столике в «Кафе де ля Пэ» свои эстампы. Перед Виктором стоял давешний покупатель.
— Чем могу быть вам полезен, дорогой господин… Легри? — спросил Константин Островский, заглянув в визитку.
Виктор сжал зубы, чтобы не выдать волнения.
— Это вы — герой дня? — спросил он, указав на «Фигаро».
— Я самый! И от этого мое «эго» раздувается, как у лягушки из басни Лафонтена. Пытаюсь утихомирить его опасением, что так можно и лопнуть.
Виктор подошел к рамке, пробежал глазами строки, где говорилось о коллекционере, прочел росписи в Золотой книге гостей, напечатанные под статьей: «Си-Али-Махауи, Фес. Удо Айкер, редактор „Берлинер цайтунг“. Дж. Коллоди, Турин. Ж. Кульки, редактор „Глас Навула“, Прага. Викторен Алибер, дирижер духового оркестра. Мадлен Лезур, Шартр. Кэндзи Мори, Париж. Зигмунд Полок, Вена, Австрия…»
Дальше не позволяла прочесть рамка.
— Вы мне не ответили, мсье Легри.
Весь напрягшись, Виктор опустил глаза и пробормотал:
— Я пришел по поручению… Кэндзи Мори…
— Кэндзи Мори? Простите, у меня плохая память на имена. Он азиат?
Виктор кивнул.
— Японец.
— Это мне ни о чем не говорит. Возможно, я видел его у Зигфрида Бинга на улице Прованс, знаете, у торговца восточным искусством.
— Он продал вам эстампы Утамаро.
— Возможно, я ведь коллекционер, мне приходится иметь дело со многими людьми. Вы хотите что-нибудь мне предложить?
— Ну да, но дело это щекотливое…
— Не думаете ли вы, что я покупаю краденое?
— Нет-нет, что вы! Просто у меня есть несколько редких вещиц, и, понимаете ли, я хотел бы продать их без огласки…
— Пойдемте, нам лучше побеседовать в гостиной. Вы не против чая? По такой жаре обжигающий чай — идеальный напиток.
Островский повел его через залы, полные китайских безделушек, античных древностей, севрских тарелок, мебели эпохи Ренессанса, разнообразных чучел. Они оказались в гостиной, в которую вела широченная стеклянная галерея, заполненная роскошной растительностью, от пола до потолка. На стенах гостиной, выложенных яркими кафельными плитами, тесно и без какой бы то ни было логики висели полотна, цветовая гамма которых ничуть не соответствовала декору стен. На самом маленьком была изображена виноградная гроздь, на самом большом — битва за Севастополь. Меж двух икон, стоявших на подсервантнике, выстроились в ряд герметически закупоренные маленькие горшочки с землей. Меблировку довершали софа в углу, четыре пуфика и ротанговый столик, сгруппированные вокруг бьющего фонтана. Виктор остановился у софы, над которой висело внушительных размеров полотно: обнаженная одалиска, прикрытая прозрачными тканями, кружилась в танце под похотливым взглядом шейха.
— Но тут такая влажность… Не скажется ли это на ваших картинах?
— Мазня! — хохотнул Островский. — Это моя месть претенциозным кретинам, которых так много расплодилось вокруг меня, всем этим Дюэзам, Жервексам, Эскалье, Клеренам… Эти короли палитры ничтоже сумняшеся продают мне мелкие этюды за бешеные деньги, чтобы самим покупать японский фарфор в магазинах при Лувре! Они хвастают, что выставляются у меня на почетном месте. Им и в голову не приходит, что этот салон создавался вовсе не для их картин, а ради моих драгоценных растений. Присядем.
Островский хлопнул в ладоши. Тотчас вбежала давешняя субретка.
— Соня, чаю. Так вы говорите, редкие вещицы?.. — переспросил он, повернувшись к Виктору.
— Рукописи… Часослов XIII века… Сами понимаете, рукописный, с миниатюрами.
— Ах, книги? — с досадливой гримасой повторил Островский. — Жаль, книги меня не особенно интересуют, тем паче религиозные.
— Этот экземпляр буквально драгоценный. Он принадлежал Людовику IX, его переплет — это маленькое чудо.
Островский уперся подбородком в скрещенные пальцы рук.
— И вы, конечно, запросите немалую цену.
— Вполне приемлемую, хотя это уникальный образец.
— Я сейчас больше увлекаюсь экзотическими предметами. Вот, слева от вас висят лук и колчан, трофеи после битвы с врагом, подарок моего друга Нэта Салсбери, он называет себя менеджером Буффало Билла. Но насчет книг, должен признаться…
Виктору становилось все хуже. Это был скорее не сад с вьющимися растениями и крепкими стволами, а дикий беспорядок, какой мог бы устроить в своей теплице только художник, страдающий паранойей. Древовидные папоротники разворачивали веера листьев в тени бамбуковых деревьев, индийская пальма соседствовала с мексиканскими кактусами, африканские замии и саговник росли вперемешку с бразильскими орхидеями. Такое странное соседство,
идущее вразрез со всеми законами географии и ботаники, вызвало в нем ощущение удушья. Он увидел витрину, сплошь заставленную стеклянными банками, в которых жили скрюченные уродцы, напоминавшие заспиртованных человеческих зародышей. Он вспомнил, как они встретились с Таша во Дворце свободных искусств. Таша… Что же задержало ее в доме этого человека? Может быть, она только что лежала на этой софе, под голой одалиской, а пухлые руки хозяина ласкали ее тело? «Она просто от тебя отделалась. Она тебе лгала».
— Мсье Легри! Мсье Легри, вы слышите меня?
— Извините, я в восхищении… ваша фармакологическая лаборатория, вон там, на подсервантнике, такой интересный ряд скляночек…
— Есть за мной и такой грешок. В детстве я мечтал стать аптекарем, не таким недоумком, как окарикатуренный Флобером Омэ, нет, а гениальным изготовителем лекарств, который сможет проникнуть в тайны растений и сумеет извлечь из них как полезные, так и дурные свойства. Погодите-ка, вот что могло бы меня заинтересовать! Древний кодекс аптекарей. У вас его случайно нет? Я бы купил. Нет? Жаль…
Он подтолкнул Виктору коробку сигар.
— Берите, вот травка благословенная.
— Спасибо, я курю только сигареты.
Соня внесла чай, черную дымящуюся жидкость, на поверхности которой плавали дольки лимона. Островский разломил кусок сахару, шумно отхлебнул глоток жгучего питья, отодвинул стакан и широким жестом обвел свою оранжерею.
— Знаете, почему они так увлекают меня, мсье Легри? Они точь-в-точь как мы. В тропических лесах самые маленькие растения не могут выжить, им не хватает света. Чтобы получить свое место под солнцем, они ждут, пока упадет гигантское дерево. Разумеется, не все дожидаются, и потом на пути вверх тоже неизбежна борьба. Но те, кто смог прорваться, отращивают боковые ветви, бросая на проигравших тень и тем самым обрекая на гибель. Встречаются и участки, которые обходятся совсем без света, и там кишат сапрофиты, паразиты, те, что питаются продуктами разложения. У меня тут всем есть место, я за этим слежу. Вы любите растения, мсье Легри?
— Уф… да, если только они не опасны, — осторожно откликнулся Виктор, вдруг засомневавшийся, все ли в порядке у Островского с головой.
— Опасны? Это смотря как их использовать. Опасен только человек, вы так не думаете? Хорошо, у меня есть ваша визитка, мяч на моей стороне, я с вами свяжусь. Был весьма рад познакомиться.
Константин Островский встал, давая понять, что разговор окончен. Они обменялись рукопожатием. Соня проводила Виктора до дверей, одарив лукавой улыбкой.
Он вышел в парк, вдохнув полной грудью. В нем поднимались и разочарование, и облегчение. И Таша, и Кэндзи встречались с Константином Островским, ну и что в этом необычного? Островский коллекционирует всякую всячину, Таша рисует, Кэндзи продал ему свои эстампы, чтобы порадовать любовницу.
Виктор уселся на скамейку у маленького прудика и, наблюдая за ребятней, которая егозила вокруг, вооружившись лопатками и ведерками, стал приводить мысли в порядок. А что если женщина, которой Кэндзи дарит все эти безделушки, и есть Таша?
— Вон куда нас занесло… Нет!
Няня, следившая за детворой, присев на край песочницы, повернула голову, удивленно поглядев на человека, который разговаривал сам с собою. Смутившись, Виктор встал.
— Нет, ерунда!
Он отбросил эту мысль, так можно бог знает до чего додуматься. Подходя к стоянке фиакров, Виктор снова представил себе страницу из «Фигаро на башне», висевшую в рамочке у Островского. Было ли среди расписавшихся в Золотой книге имя Джона Кавендиша? А Эжени Патино?
«Я должен это проверить, мне надо знать точно».
Виктор то и дело озирался, не поднимается ли следом Кэндзи — но нет, тот, должно быть, сидел за конторкой, заполняя формуляры, и едва поднял голову, когда услышал колокольчик входной двери. Виктор приподнял бювар, перечитал заголовок «Фигаро на башне»: «Герой дня Константин Островский». Дошел до росписей в Золотой книге: «… Мадлен Лезур, Шартр. Кэндзи Мори, Париж. Зигмунд Полок, Вена, Австрия. Марсель Форбен, лейтенант 2-го кирасирского полка. Розалии Бутон, белошвейка, Обервилье. Мадам де Нантей, Париж. Мари-Амели де Нантей, Париж. Эктор де Нантей, Париж. Гонтран де Нантей, Париж. Джон Кавендиш, Нью-Йорк, США…»
Буквы расплылись, превратившись в серое пятно. Минут пять он стоял не двигаясь, стараясь унять сердцебиение. В голове шумело. Они были здесь, все трое: Островский, Кэндзи, Кавендиш.
А Эжени Патино? Никаких следов. Эжени Патино удовольствовалась тем, что поднялась на первый этаж. Он подсунул газету под бювар. Да не сходит ли он с ума, в самом деле? Выпрямившись, Виктор заметил, что место на стене, опустевшее после исчезновения гравюр Утамаро, теперь занято — там висели два новых эстампа, ночные пейзажи Хиросигэ. Его охватила глухая печаль. Заключенный в серебряную рамку, с фотографии на него в упор смотрел Кэндзи с обычным своим выражением лица, в котором смешались ирония и серьезность. «Как можно подозревать в убийстве человека с такими озорными глазами?»
Вновь во власти сомнений, он открыл ящик, увидев там расписание поездов Лондонской железной дороги. За спиной скрипнула дверь. Задвинув ящик, он быстро отскочил назад. Кэндзи стоял на пороге и удивленно смотрел на него.
— Вы что-нибудь ищете?
— У меня мигрень, я думал, отыщу здесь церебрин, у меня уже закончился.
— Вы прекрасно знаете, что я никогда не принимаю лекарств. Я сейчас пошлю Жозефа в аптеку, а вам следует полежать.
— Не надо его никуда посылать, пусть лучше принесет мне немного воды. А вы, я вижу, поменяли эстампы, — ввернул Виктор, стараясь, чтобы голос звучал натурально.
— Привычка сродни старой любовнице, это ярмо время от времени следует сбрасывать.
Раздраженный отговоркой, которую Кэндзи явно только что придумал, Виктор направился к себе, но Кэндзи шел за ним по пятам.
— Я тут познакомился с любителем эстампов, он безумно любит Хокусая и готов купить за любую цену, особенно изображения животных. Его зовут Островкин, или как-то в этом роде, вы его знаете?
Так, надо прилечь, закрыть глаза. Пауза, потом все такой же спокойный голос компаньона:
— Я не торговец эстампами. Сейчас сделаю вам чаю.
Виктор хотел отказаться, но Кэндзи уже ушел. Ему вспомнились приключения царя обезьян Сунь-Укуна, героя китайских легенд, которые когда-то читал ему Кэндзи. «Да он изворотливей обезьяны, его в угол не загонишь. Знаком он с Таша? Они любовники?» Вернулся Кэндзи с круглым подносом в руках, на котором стояли чайник, чашка и флакон церебрина.
— Он был рядом с вашим кувшином, я удивился, что вы его не нашли. Пейте, пока горячий.
Виктор с усилием потягивал зеленый чай, стараясь не внимать протестам собственного желудка. Когда же он собрался отставить чашку, Кэндзи вдруг хлопнул в ладоши. От неожиданности Виктор подскочил и едва не расплескал питье.
— Что это вы?
— Комар, — ответил Кэндзи, растирая что-то между ладонями. — В детстве я ловко играл в эту игру.
Он направился на кухню. Виктор воспользовался этим, чтобы вылить содержимое чайника в туалет.
— Я не буду ужинать! Лучше посплю! — крикнул он.
Его мучил голод, но трапезничать сейчас с Кэндзи было выше его сил. Виктор заперся в своей комнате, присел на край кровати, положил на колени записную книжку и записал: «Что связывает Таша и Кэндзи? Таша и Островского? Кэндзи и Кавендиша? Была ли Патино убита, как пытаются представить это дело Гувье и Клюзель? Постигла ли та же участь Кавендиша?»
Он повалился на подушки. «Куда я задевал газету с его биографией?.. Он писал статьи для „Вокруг света“…»
Глаза слипались. Прежде чем провалиться в сон, он попытался определить, в котором часу можно незаметно совершить набег на кухню, чтобы хоть чем-нибудь заполнить урчавший от голода желудок.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Вторник 28 июня, утро
Разморенный жарой, Виктор встал рано. Убедившись, что Кэндзи еще спит, он ухватил на кухне кусок хлеба, потихоньку вышел из магазина и направился к Сене.
— Капельку кофе! Только капельку! Кто желает капельку кофе? Чашка за десять сантимов!
Установив на берегу переносную жаровню, продавец черного кофе вовсю предлагал свое горькое пойло собачникам и выбивателям матрасов, которые уже заполнили мост Карусель. Виктор выпил свою чашку залпом. Потом, жуя хлеб, направился вдоль реки. Покрытое облаками небо отражалось в ней, напоминая мозаичную слюдяную картинку. Тысячи светящихся бликов, непрерывно перемещаясь, то сливались, то распадались. «Как эта история, в которой я запутался. Здесь нужно все продумать шаг за шагом. Таша с одной стороны, Кэндзи — с другой. А прежде всего — Кавендиш…».
Когда Виктор остановился у ворот дома 77 на бульваре Сен-Жермен, книжная лавка «Д. Ашетт и K°» и редакция «Вокруг света», располагавшиеся тут, только что открылись. Он зашел в приемную, объяснил цель визита секретарше, которая проводила его в архив. Служащий принял у него запрос, и через несколько минут перед ним на столе уже лежало несколько подшивок с публикациями 1857–1860 годов, иллюстрированными множеством гравюр. Виктор пролистал первую папку. Его внимание привлекла одна статья:
ОПИСАНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ В СИАМ,
СТРАНУ БЕЛОГО СЛОНА
Джон Рескин Кавендиш
Я был в Бангкоке, когда один хороший знакомый предложил мне сопровождать его в Западный Лаос, чтобы присутствовать на церемонии татуировки. Эта весьма болезненная операция охотно переносится молодыми людьми, желающими понравиться…
Виктор перевернул страницу. Перед его глазами проходили события в Юго-Восточной Азии: Камбодже, Малайзии, Филиппинах, Борнео, на Яве… Взгляд зацепился за словосочетание «голубые горы». Он прочел:
На острове Ява гранитные вершины голубых гор вздымаются до высоты 12000 футов. На их склонах много золота и изумрудов.
Лицо Кэндзи, увиденное с фотографической четкостью, вдруг склонилось над его детской кроваткой. Кэндзи рассказывает сказку: «Голубые горы — это край летающих драконов. Когда палит солнце, они, как летучие мыши, вьются вокруг крепостей, возведенных на склонах вулканов. Чтобы отогнать драконов, яванцы пускают в них стрелы. Случается и так, что чудовище, презрев их усилия, хватает человека когтями и уносит. Так была похищена принцесса Сурабаджа, и было это в стародавние времена. Она была прекраснее утренней зари, живая, как белка, а пела звончей цикады. Прельстившись грацией принцессы, дракон Джепу утащил ее в свое гнездо на Кракатау. А надо сказать, что этот Джепу на самом деле был доблестный воин, ставший жертвой колдовских чар ведьмы. И тогда…» В тот вечер маленький Виктор дал себе клятву, что когда-нибудь поднимется на вершину Кракатау. Тринадцать лет спустя ужасное извержение вулкана нарушило эти его детские планы.
ПУТЕШЕСТВИЕ НА ОСТРОВ ЯВА. 1858—1859
Джон Рескин Кавендиш
Виктор не в силах был оторваться от заголовка. Он быстро подсчитал. Кэндзи родился в Нагасаки в 1839-м. Когда ему было девятнадцать, он, изучив историю и географию, отправился в долгое путешествие и несколько месяцев колесил по Юго-Восточной Азии. Сказка о голубых горах позволяла предположить, что он посещал остров Ява. В то же самое время, в 1859-м, на острове был и Кавендиш. «Может быть, они знакомы уже тридцать лет! А в 1863-м, в том году, когда отец нанял Кэндзи, Кавендиш был в Лондоне…» Ошеломленный, он изо всех сил сопротивлялся своему открытию, стараясь найти в датах ошибку. Не получалось — они совпадали.
Виктор принялся читать дальше, и по мере чтения у него возникало все больше вопросов. Он сделал несколько пометок в записной книжке, но, окончательно раздавленный сомнениями и измученный жарой, вынужден был прерваться.
Оставив на столе подшивки, он вышел и на нетвердых ногах дошел до бульвара Сен-Мишель, а оттуда поднялся к Люксембургскому саду. Тротуар был забит модистками, праздношатающимися и торопившимися в свои конторы служащими. На террасах кафе студенты оживленно спорили, а за соседними столиками просматривали газеты меланхоличные старики. Прямо на него шла продавщица воздушных шариков, держа в руке целую связку. Он посторонился, давая ей пройти.
— Купите мои прекрасные воздушные шары! Шары на любой вкус! Красные, зеленые, голубые! Они принесут вам счастье!
Голубой. Голубой шарик, привязанный к запястью женщины, что умерла на первой платформе башни. Он снова отчетливо увидел ту сцену. Потом ту картинку сменила другая — и перед ним вновь возник мальчишка с голубым шариком, в тот же день на том же этаже. Ребенок сказал: «Это был ковбой, он приехал из Нью-Йорка» — и еще: «Он из труппы Буффало Билла». Нью-Йорк!
Виктор вдруг решил зайти в дом, где жила эта женщина, как там ее звали? Эжени Па… Он не помнил ни фамилии, ни адреса, но все это было указано в номере газеты, где сообщалось о ее смерти. Только бы Жозеф не выкинул!
Вдоль авеню Пёплие на улице Отей вздымались к небу деревья, а за ними виднелись элегантные виллы. Вначале Виктор прошел мимо дома 35, ибо прочел на медной дощечке, что здесь живут мсье и мадам Нантей. Заключив, что данный ему Жозефом адрес неверен и пройдя еще несколько метров, он развернулся и медленно двинулся обратно. Однако, вновь миновав дом 35, Виктор вдруг заметил на противоположной стороне улицы толстушку, пытавшуюся подобрать рассыпавшиеся из кошелки абрикосы. Она была такая толстая, что буквально не могла нагнуться, и он поспешил на помощь. Женщина благодарно обернулась, поставила на тротуар кошелку, обтерла свое бледное лицо и затараторила:
— Так низко приходится наклоняться, а погодка-то какая, мой ревматизм дает о себе знать, к счастью, только один абрикос раздавился, а ведь они нынче такие дорогие!
— Вы с этой улицы?
Глупо рассмеявшись, она с шаловливым видом огляделась.
— Скажи я «нет», ей-богу совру!
— Мне бы попасть к некоей Эжени Патино.
— Эжени? Погодите-ка, да вы не из полиции, случайно?
Приветливое выражение мигом исчезло, и она посматривала на него уже с подозрением.
— Да, я… я в префектуре работаю.
— После того как она умерла, меня даже не вызвали на допрос, и совершенно напрасно, ведь именно я была ее лучшей подругой в этой дыре.
— Где она жила?
— Неужто и вправду не знаете?
— Мне сказали, дом 35. А на дощечке написано: «Нантей».
— Так вы у них еще новенький, а?
Взгляд, которым она его смерила, стал немного благодушнее. Виктор состроил глупую мину.
— Знаете, как с нами, новичками: следствие вести доверяют, а всей информации не дают…
— Следствие? Вот что! Анонимное письмо, появившееся в газетах! Там говорилось, что Эжени чего-то там слишком много знала. Ума не приложу, чего такого она могла узнать, все сплетни уличные до нее доходили в последнюю очередь. Но как бы там ни было, семья ее очень плохо к этому отнеслась, стыд-то какой! А что, тут и правда дело нечисто?
— Нет-нет! Они просто хотят проверить мою работоспособность.
— Вон что! Эжени работала в семье Нантей. Считала, что этим можно гордиться, хотя гордиться тут было нечем, ведь она у них была за горничную, совсем как я, Луиза Вернь. Мсье де Нантей служит в министерстве, да только он обычная канцелярская крыса, а живет как барон потому, что жена получила хорошее наследство. Эжени — сводная сестра мадам Нантей, бедная родственница, вдовица, пригретая из милости, и ее обязанностью было за ребятишками приглядывать. А ведь предупреждала я ее, чтоб не шла на эту выставку, где столько всяких иностранцев!
— Иностранцы тут ни при чем, ее ужалила пчела.
— Ну да, ну да, говорят что так, да только пошла я тут на днях на рынок, и вдруг вижу — стоит индус, настоящий, прямо из Индии, и играет на дудке, заклиная кобру. А если эти кобры тут у нас расползутся? И с пчелами так же — кто может доказать, что они хотя бы наши, французские?
— Благодарю вас, теперь мне надо задать несколько вопросов мсье и мадам Нан…
— Их сейчас дома нет, ушли заказывать мраморную плиту на могилу. Между нами, — добавила она, понизив голос, — держу пари: гранитную закажут, они ведь весьма прижимистые.
— Как?
— Жлобы, чего уж! Эжени не удавалось лишнего гроша из них вытянуть. Я-то расщедрилась, предложила им для кладбища прекрасную герань, а они предпочли бессмертники — те, видите ли, дольше стоят. Можете позвонить в дверь, гувернантка дома, она скажет, чтобы вы подождали. Будьте с ней поосторожней, это злыдня, с бедняжкой Эжени не сравнить. Ее звать мадемуазель Роза, ты подумай-ка, что в ней от розы, разве только колючки!
Виктор сделал прощальный жест и отвернулся.
— Если захотите еще чего спросить, я живу у Ле Масонов, в доме 54!
Он позвонил. Железная решетка отворилась, он прошел в сад, где рос самшит и стояло множество декоративных чаш. На пороге дома его ждала гувернантка.
— Я из префектуры и хотел бы переговорить с мадемуазель Розой.
Гувернантка провела его в гостиную. Высокая, костлявая, угрюмая, — уж никак не роза, скорее кактус, еще и из подбородка торчит несколько острых волосков.
— Мсье и мадам нет дома, они вернутся только к вечеру.
— Может быть, вы хотите сообщить нам что-нибудь о мадам Патино?
— Я уже все объяснила полиции. Я была с ней едва знакома. Я здесь недавно, всего лишь с…
Трое ребятишек, два мальчугана и девочка, ворвались в комнату, крича и хохоча. Самый маленький, размахивая картонным пистолетом, преследовал остальных. Они принялись бегать вокруг гувернантки.
— Мари-Амели! Ведите себя прилично! — вскрикнула та, пытаясь ухватить девчушку за руку.
Виктор узнал детишек, которых видел в тот день на первой платформе башни.
— Эктор! Ну-ка иди сюда!
— Не могу, мы играем в Буффало Билла, они — это Прыгучая Выдра и Красный Волк, кровожадные индейцы! — крикнул запыхавшийся мальчуган.
Гувернантке удалось прижать его к стенке и крепко ухватить за запястье.
— Гонтран, приказываю вам подойти сюда!
«Красный Волк» замедлил галоп и бросил огорченный взгляд на сестру, которая тихо прошмыгнула в коридор.
— Минуту, мсье, извините меня, мне надо побеседовать с этими господами у них в детской! — прорычала мадемуазель Роза.
— Прошу вас.
Она вышла из гостиной, волоча мальчишек за собой.
— Как вы можете, когда ваша тетя на небесах! Вот сейчас попрошу инспектора посадить вас на воду с сухариками…
Остального Виктор не расслышал, дверь захлопнулась. Шорох заставил его обернуться. Девчушка с растрепанными волосами проскользнула в гостиную и смотрела на него с раскрытым ртом.
— Вы правда из полиции?
Он кивнул.
— Вы пришли… за мной?
— Возможно и так, мадмуазель.
— Знаете, я совсем не хотела ее брать, но она была такая миленькая, я и сунула ее в сумочку! Но ведь я ничего не украла!
— Ну-ка расскажите мне все как было.
— Тогда, на Эйфелевой башне, было полно народу, а мне хотелось все посмотреть. Доехали на лифте до второй платформы, сделали крюк, чтобы расписаться в «Золотой книге гостей», и я увидела, как делают газету. Потом еще спустились на первую, купить подарок маме в сувенирной лавке. Тетя устала и присела. Эктор доверил ей свой воздушный шарик и пошел с Гонтраном. А меня она не хотела от себя отпускать. Я возмутилась, ведь мальчики могли делать все, что им вздумается, а я — нет, мне только и оставалось, что издали смотреть. Вдруг тетя вскрикнула «ай!», ее кто-то укусил в шею. Она сказала, что пчела. Как раз в это время на нее кто-то упал, мне от этого стало так смешно! Тетя одним рывком выпрямилась, это было забавно, словно чертик из табакерки. Она повернулась, чтобы снова присесть, и я увидела, что она заснула, и тогда я потихоньку подошла к витрине ближайшей лавки. Когда я вернулась, она все еще спала, а мне хотелось есть, я хотела помидор, я стала ее расталкивать, будить, и увидела у ее ног эту штуку, похожую на рукоятку от пилки для ногтей, которая отломалась. Ну я и подобрала, вот и все, и ничего плохого я не сделала.
— Я хотел бы посмотреть на эту штуковину.
— Но я не могу при мадмуазель Розе. Она настоящая доносчица, все расскажет маме. Тише, вот она!
— Постарайтесь выйти в сад, а я догоню вас у решетчатых ворот.
Ринувшись на Мари-Амели, гувернантка попыталась схватить и ее, но девчушка уже выбежала из комнаты.
— Сию минуту марш к себе в спальню!
— Еще немножко! Я сначала выгуляю мою куклу.
— Нет! Я не разрешаю!
Но Мари-Амели уже исчезла. Гувернантка тяжело вздохнула.
— Инфернальная девчонка.
— Я больше не стану докучать вам, зайду попозже, — проговорил Виктор, ретируясь.
К счастью, она не пошла его провожать. Когда он дошел до решетки, из дальнего уголка сада появилась Мари-Амели с куклой подмышкой.
— Вы ничего не скажете маме?
— Энеки-бенеки, скажу — вязать мне веники!
— Вот!
Она протянула ему на ладошке металлический стерженек с рукояткой из слоновой кости, рифленый глубокими полосками и сломанный посередине.
— Что это такое? — спросила она.
— Не представляю даже. Похоже на… Нет, не знаю. Я отнесу это на экспертизу в префектуру, а вам верну чуть позже. А вы обещайте мне, что станете больше не поднимать с земли неизвестные предметы.
— Бах! Бах! Ты мертва, Прыгучая Выдра! Буффало Билл тебя убил! — заорал ворвавшийся в сад Эктор, за которым гналась гувернантка.
Виктор спасся бегством, спрятав странную находку в карман. Он запомнил главное, что удалось узнать из всего сказанного девчушкой: 22 июня Эжени Патино тоже расписалась в «Золотой книге гостей». «Патино. Кэндзи. Кавендиш… Таша? На странице не было ее имени, но в павильон „Фигаро“ она заходила, а вчера я видел у нее экземпляр газеты. И когда я хотел прочесть дату, она вырвала его у меня из рук. Что если там и было 22 июня?»
На углу улицы Отей показалось желтое пятнышко омнибуса. Он устремился наперерез, махая водителю рукой.
Поднявшись на вторую платформу, Виктор обнаружил, что здесь толпа была особенно плотной, поскольку ожидалось появление русского лейтенанта Азеева, который верхом прибыл из Полтавы, причем путешествие заняло у него всего месяц: по одиннадцать часов в день он не слезал с лошади, двигаясь к цели со скоростью восемь километров в час. Еще объявили о восхождении на башню шести британских пожарниц. К большому счастью, никто не обратил внимания на Виктора Легри, и ему без особых затруднений удалось протиснуться к офису газеты «Фигаро». Сквозь стеклянные перегородки он видел, как работают корректоры, печатники, цинкографы. Вот служащий резко распахнул дверь, и Виктор тут же в него вцепился.
— Я репортер из «Пасс-парту», мне нужна информация о «Золотой книге посетителей».
— Времени нет, я в замоте, сейчас казак прискачет. — Виктор достал из кармана пятифранковую монетку, и настроение у служащего сразу изменилось. Пробормотав: — А красивое оно, это колесо за вашей спиной! — он быстро сцапал монету. — Вы попали точь-в-точь куда вам надо. Давайте отойдем в сторонку, а если меня начнут разыскивать, я скажу, что все под контролем.
— Сколько подписей бывает ежедневно? — поинтересовался Виктор.
— Да целыми сотнями расписываются. Часами в очереди стоят! Кто простым росчерком, а кто каждую букву выводит: имя, фамилию, отчество, род занятий, место проживания. Сперва-то я записывал сведения о них в тетрадку, так у меня пальцы стало сводить. Сами понимаете, эта «Золотая книга» вечная, и весит она больше, чем справочник Географического общества. Я пахал как вол: открываю книгу — хоп! — и вывожу круглыми, красивыми буквами: мсье Такой-то, проживающий в городе Таковске, начальник отдела в магазине Таком-то, а потом сразу раз — и в набор! Зато теперь живу припеваючи.
— Почему?
— Теперь догадались просто класть для посетителей отдельные листы, а потом отдавать прямо печатнику, и только после этого добавлять те листы в «Золотую книгу». Сейчас мне как раз надо вклеить утренние.
— А могут быть забытые посетители? Имена, которые не отметили?
— Редко, но случается.
— Я хочу взглянуть на записи от 22 июня.
— Ах вон что! Даже не знаю… вообще-то я не имею права…
Виктор показал ему зажатую в ладони вторую монетку, которую тот схватил в мгновение ока.
— Чума на все эти принципы, — вздохнул он. — Пошли, только быстрее!
Они проникли в святая святых. Толстенный гроссбух покоился на пюпитре, как Библия на аналое. Склонившись над ним, Виктор пролистал страницы, отыскал 22 июня и принялся разбирать имена. После некоторых подписей шли комментарии и рисунки. Он просматривал уже четвертую страницу, как вдруг увидел:
Марсель Форбен, лейтенант 2-го кирасирского полка.
Розали Бутон, белошвейка, Обервилье.
Мадам де Нантей, Париж…
То есть Эжени Патино.
Мари-Амели де Нантей, Париж.
Эктор де Нантей, Париж.
Гонтран де Нантей, Париж.
Джон Кавендиш, Нью-Йорк, США…
Его взгляд уперся в следующий листок.
Константин Островский, коллекционер…
Островский! И он тоже отметился!
Несколько секунд Виктор не мог пошевелиться, его руки тряслись, он даже не пытался овладеть собой. Он снова наклонился и дочитал:
Константин Островский, коллекционер произведений искусства, Париж.
Б. Годунов, Славония…
А где же Кэндзи? Его сердце колотилось.
— А это что такое?
От волнения голос его пресекся. Он ощутил в желудке нехорошую тяжесть.
— Да что это с вами? — удивился гарсон. — Тут есть такие, что возомнили себя художниками. Бывает, оставляют всякие каракули. Естественно, в газете мы такого не печатаем.
Виктор наклонился еще ниже, не веря своим глазам. Следом за подписью Кавендиша была нарисована пародийная Эйфелева башня в балетной пачке, тоненькими ножками перепрыгивающая через Сену. Подписи не было, но он сразу узнал манеру Таша. Виктор лихорадочно пролистал несколько страниц, Кэндзи должен быть где-то здесь, не привиделось же ему!..
Си-Али-Махауи, Фес.
Удо Айкер, редактор «Берлинер Цайтунг».
Дж. Коллоди, Турин.
Дж. Кульки, редактор Глас Навула из Праги.
Викторен Алибер, дирижер духового оркестра.
Мадлен Лезур, Шартр. Кэндзи Мори, Париж.
Зигмунд…
Что-то тут не сходилось; в «Фигаро на башне» Кэндзи фигурировал перед Кавендишем, Виктор помнил это точно.
— Имена подписавшихся были напечатаны в хронологическом порядке?
Гарсон вздохнул уже с раздражением.
— Да вам-то какое дело? Могло так случиться, что печатник поменял листы местами. Он загружен выше головы. Все равно в газете перечислены все до единого, сами не видите? Вы закончили?
Минутку, я посмотрю еще несколько подписей.
В лифт Виктор ворвался в последний момент. С разбегу он так растолкал всех, кто там стоял, что какая-то женщина взвизгнула:
— Что вы делаете?! Раздавил все ноги в лепешку и даже не извинился! Невежа!
«Таша, Таша… Таша и Кэндзи! В день смерти Эжени Патино они оба были на башне!.. Идти к ней. Надо поскорее ее отыскать».
Только продравшись сквозь толпу зевак, приветствовавших криками лейтенанта Азеева, он немного успокоился.
Дома ее не оказалось. На двери висела прикнопленная записка:
Дорогой Данило,
Я в Телемском аббатстве. Зайдите за мной в восемь часов в «Кафе искусств», что на выставке, рядом с павильоном Прессы (это возле Дворца изящных искусств). Мой патрон выхлопотал вам прослушивание на завтра, чтобы решить насчет работы в хоре Оперы.
Таша
Виктор с трудом дождался вечера, голова гудела от бесконечно повторявшихся вопросов, ответов на которые он не находил. Спустился вниз по лестнице, спрашивая себя, где же может располагаться подобное аббатство. На лестничной площадке первого этажа женщина в коротких мужских штанах выходила из квартиры, толкая перед собой велосипед.
— Простите, мадам, вам знакома мадемуазель Херсон?
Та посмотрела на него сквозь очки.
— Она из моих жильцов.
— А я из числа ее друзей. Она назначила мне свидание в Телемском аббатстве, но не указала адрес.
— Из друзей? Много же у нее друзей… Вы кто сами будете? Художник? Журналист? Певец?
— Репортер.
— Ах, тогда вам должны быть известны неопубликованные подробности этих загадочных смертей! Я ночами напролет думаю об этом! Так люблю все таинственное…
— Н-не могу сообщить ничего нового, я занимаюсь только проблемами литературы. Зато вы, должно быть…
— Мадемуазель Херсон не держит меня в курсе своих приходов и уходов. Спросите у торговца красками на улице Клозель, ему исповедуются все мазилы этого квартала!
Оставив в покое велосипедистку, Виктор пошел дальше. Ему не составило труда разыскать крошечную лавочку, где продавались краски, кисти и другие причиндалы.
К нему вышел мужчина лет шестидесяти, приземистый, коротко стриженный, с добродушным выражением лица. Мужчина оценивающе его оглядел и спокойно сказал:
— Телемское аббатство? Знаю, конечно. Улица Лепик, все время вверх, номер дома не помню, но когда выйдете с бульвара Клиши, поднимайтесь по правой стороне на Монмартрский холм.
— Это религиозное учреждение? — спросил Виктор.
Вот уж нет! — расхохотался тот. — Знаете знаменитое Телемское аббатство, которое изобразил Рабле в «Гаргантюа»? Ну вот, а это «аббатство» объединяет художников, у которых общие художественные устремления, отсюда и название, оно указывает на клановость, группировку. Решительно ничего монастырского там нет, не говоря уж о том, что это аббатство — внутренний зал бистро «Бахус». Основал его Морис Ломье, молодой художник с большим будущим. Все, кто в это общество входит, собираются раз в неделю и рисуют модель с натуры. Когда Ломье пришел ко мне в первый раз, я его вышвырнул за дверь: он имел наглость попросить у меня тюбик черной краски. Черной! У меня, известного приверженца блистательной палитры импрессионистов! Потом он вернулся, все уладилось, и я даже дал ему краски в обмен на один этюд.
Он указал на стену лавчонки, увешанную портретами, пейзажами, натюрмортами. Потрясенный, Виктор подошел к маленькой изящной картине. Обнаженная по пояс женщина зачесывала назад волосы у зеркала, подняв руки. Он узнал эту женщину с высокой упругой грудью и гладкой кожей. Это была Таша!
— Это продается? — спросил он безразличным тоном.
— Как и все, что здесь есть! У Ломье и его собратьев есть талант, но взгляните-ка лучше сюда, вот где непревзойденные шедевры, которые, увы, не находят покупателей, да хотя бы вот этот!
Разговорчивый торговец уставил палец на маленькое квадратное полотно, изображавшее вазу с гладиолусами. Красные, желтые, белые цветы, казалось, жили своей жизнью, они так и устремлялись к зрителю.
— Винсент Ван Гог, гений, непонятый как все гении, держу пари, вы ни словечка о нем не слышали. Взгляните только на эти цветы, лучше их не умеет рисовать никто! Какая красота! Каждый раз с восхищением разглядываю, и всякий раз потрясен. И еще говорят, он гроша не стоит! Называют безумцем. Таких безумцев бы да в это их благовоспитанное общество. А Сезанн! Еще один «запишите на мой счет». Видать, все, кем я восхищаюсь, чьи картины беру в обмен на краски, не принесут мне ни гроша. А все равно — если человек живет больше, чем на пятьдесят сантимов в день, он каналья! Да вот, видели вы когда-нибудь подобное?
Виктор рассеянно обвел взглядом картины, груши и яблоки в компотницах, кособокие домики, горы правильной геометрической формы. Все это пиршество красок не вытеснило из его памяти портрет Таша. Торговец вздохнул.
— Ну, вот и вы такой же, как все! Знайте, сейчас это ничего не стоит, но настанет день, когда все будут говорить о тех двоих, начнут спорить друг с другом, рассуждая об особенностях их манер, плохо лишь то, что этот день настанет после их смерти. А вас, значит, интересует Ломье? Весьма недорого. Двадцать франков… Пятнадцать. Постойте, десять, чтобы доставить вам удовольствие!
— Деньги не проблема, я не торгуюсь, я просто… еще не решил.
— Ах вот в чем дело! Все еще не решил! Вот увидите, скоро музеи будут спорить за честь выставить эти картины, уверяю вас, мсье!
На бульваре Клиши, в этом царстве дансингов, кабаре и артистических кафе, Виктор остановился перед кабачком «Картофельные революционеры». Клошар, стоявший у входа, принялся объяснять ему, что заведение принадлежит одному оригиналу, который во время Коммуны был полковником, рассчитывая выклянчить несколько монеток.
— Скажите, «Бахус» — это вверх по улице Лепик?
— Вот уж тридцать лет хожу взад-вперед по этим местам, каждую пивнушку изучил, но про «Бахус» ничего не знаю, может, вам нужен «Бибулус»?
— Что?
— «Бибулус». Ах да, хозяин-то родом из Фландрии, он бельгиец, навроде короля Леопольда. Бибулус — так звали собаку в одной книге, и эта псина так любила пиво, ну настоящей пьянственной любовью. Еще надо вам сказать, тот, кто придумал эту историю, тоже был бельгийцем.
— «Тиль Уленшпигель».
— С этим парнем я не служил.
— Так книга называется. И далеко это бистро?
— Подниметесь по улице Лепик до улицы Толозе, повернете направо, увидите вывеску. Там невозможно ошибиться.
Проложенная по приказу Наполеона I, улица Лепик была названа в честь одного из генералов Империи. Она была шире, чем окружавшие ее извилистые переулки, и буквально содрогалась от гула фиакров и колясок, которые устало тянули на Монмартрский холм впряженные в них лошади. Миновав улицу Аббатис, Виктор прошел мимо новеньких высоких строений, подавлявших своей непорочной белизной двухэтажные лачуги, ветряные мельницы, жалкие кабачки с деревянными окнами. Венчая этот странный квартал, вдали вырисовывалась стройка. Это собор Сакре-Кёр, и возводить его начали еще четырнадцать лет назад.
«Бибулус», путь к которому указывала табличка с надписью «К поддатой собаке», оказался маленьким продымленным бистро с низким потолком, где вместо столов стояли бочки. Трактирщик, толстяк с кирпичного цвета лицом, ополаскивал стаканы за стойкой, что-то бурча себе под нос.
— Я друг Ломье, — сказал Виктор, — я…
— Внутрь и направо! — буркнул тот, не удостоив его взглядом.
Виктор прошел узкий, чем-то провонявший коридор, в конце которого обнаружилась дверь со стеклянным верхом. Прилипнув к тусклому, давно не мытому стеклу, он увидел длинную узкую комнату, заставленную мольбертами. Молодые люди, не меньше дюжины, прилежно рисовали. Совершенно голый мужчина, встав на козлы, позировал. Таша с веселым вниманием рассматривала натурщика. Какой-то волосатый и бородатый верзила подошел и, обняв за талию, стал шептать ей на ушко, а она беззаботно смеялась.
Плечи Виктора опустились. Да она просто распутная девка! Одна из тех, что спят с каждым встречным. В эту минуту он желал ее так сильно, что ему нестерпимо было видеть, как к ней подходили какие-то мужчины, что-то говорили, улыбаясь, и она улыбалась им в ответ. Виктор с удовольствием представил себе, какую трепку он мог бы задать тому верзиле, что посматривал на нее с видом собственника.
Выбежав из бистро, он пришел в себя, только оказавшись на тротуаре. «Да пошла она к дьяволу!» Кровь бросилась ему в голову, он шел очень быстро, почти бежал, дыхание вырывалось с тяжелым хрипом. В глубине души он понимал, что она над ним смеялась. Но вот незадача — он ее хотел. «В восемь вечера, в Кафе искусств…»
Сам того не желая, он вышел на улицу Клозель, и ноги сами принесли его в лавку торговца красками. Тот мирно беседовал с парочкой мазил.
— Я покупаю у вас Ломье! — сказал Виктор. — Вот двадцать франков.
— Но он того не стоит. Я не хочу вас обманывать.
— Стоит. Берите!
— Вы уверены, что не предпочтете Ван Гога?
— Так вы мне упакуете ее?
Торговец пожал плечами и взял старую газету.
— До скорого, папаша Танги, увидимся! — уходя, попрощались молодые люди.
Виктор взял у торговца картину и тоже направился к выходу.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Вторник 28 июня, вечер
Когда Виктор пришел на выставку, день уже подходил к концу. Пушечный выстрел, донесшийся со второй платформы башни, заставил всех поднять головы, так что он чуть не столкнулся нос к носу с лоточницей, торговавшей пирожками, сардельками и свежезажаренной селедкой. Взглянул на часы: 17.45 — надо убить еще два часа. Он ушел оттуда, спрашивая у себя, где это, черт возьми, ее научили так отвратительно жарить рыбу. В пещере троглодитов, не иначе.
Он продрался сквозь лес пилонов и громоздящихся построек. Поток посетителей, уходивших домой, двигался навстречу толпе зевак, пришедших на ночное празднество. Все сплошь с корзинками, набитыми едой, они заполонили павильон Истории жилища, расселись на античных ступеньках, развернули свои свертки с провизией. А пассажиры миниатюрных поездов в Декавиль, проносившихся мимо, приветствовали их неприличными жестами.
Виктор вновь поднялся на башню, но нижние этажи тоже были заняты любителями пикников, штурмовавших первые ступени лестниц. Прибежищем ему послужил павильон Прессы. На втором этаже здесь была библиотека, состоявшая из двух залов, первый для иностранных корреспондентов, второй — для французских. Кресло раскрыло ему объятия, и он чуть было не сел в него, как вдруг заметил Антонена Клюзеля, погруженного в чтение энциклопедии. Виктор мгновенно принял решение и, стремительно спустившись на первый этаж и пройдя через холл с телефонными аппаратами, оказался в битком набитом ресторане. Отовсюду слышались болтовня и смех, оркестр играл бравурную музыку, кажется, Оффенбаха. Подошел метрдотель:
— Вы журналист, мсье?
Виктор покачал головой.
— Сожалею, мсье, этот ресторан зарезервирован для представителей прессы и сопровождающих лиц.
— Виктор! И ты здесь!
Мариус Бонне и Эдокси Аллар как раз подошли из гардероба. Она приглаживала свои черные волосы и смотрела ему прямо в глаза, сложив губки трубочкой.
— Жорж, — сказал метрдотелю Мариус, — я бы хотел поужинать подальше от оркестра.
— Ничего нет проще, мсье Бонне, не угодно ли последовать за мной?
Он подвел их к столику в сторонке и встал, ожидая одобрения Мариуса.
— Превосходно, Жорж, превосходно!
— Вы оказываете нам честь, мсье Бонне, я покупаю вашу газету и разделяю ваши мнения. Сейчас у всех такой интерес к ходу полицейского расследования, ведь эти покойники — дурная реклама для выставки.
Он расставил стулья, разгладил скатерть, положил на стол меню.
— Я пришлю вам сомелье, — уходя, сказал он.
— Ну что тут скажешь! — воскликнул Виктор. — И в кабачке ты умеешь обделывать дела!
Я владею тайной формулой: все продается, все покупается, и люди не исключение. Ты к нам присоединишься?
— Нет, мне надо бежать.
Мариус отвел его в сторонку.
— Оставайся, окажешь мне услугу. Эдокси положила на тебя глаз, я с удовольствием тебе посодействую, эта девушка не в моем вкусе, и вообще…
Он сделал красноречивый жест.
— Прости, старина, я не готов, и потом, у меня назначено свидание.
— С блондинкой или брюнеткой? — прищурился Мариус.
Виктор ретировался. Его мысли были заняты предстоящей встречей. Что он скажет Таша? «Смотри-ка, вот сюрприз, я и не думал вас здесь встретить, вы, верно, пришли взглянуть на потешные огни?» Какая пошлость!
Стояла ужасающая жара. Он сдвинул шляпу на затылок и вытер лицо носовым платком. При входе в ресторан окружила группа людей, без умолку болтавших о дамских нарядах.
— Разумеется, господин Островский, это нам в удовольствие, и если вы соблаговолите последовать за мной…
Удивленный Виктор резко обернулся. Он увидел, как метрдотель в своем белом костюме торжественно шествует в глубину зала, а за ним идет человек с выбритой головой.
Островский! Он вспомнил чувство неловкости, которое испытал во время своего визита. Виктору удалось наконец выбраться из толчеи, которая образовалась вокруг вновь пришедших, и он внимательно оглядывал столики. Правда, некоторые весельчаки по-прежнему заслоняли ему обзор. Внезапно на него навалилось оцепенение, и он вышел в тамбур.
Здесь воздух был свежее. Он закурил, рассеянно глядя на толпу, которая сейчас была плотнее, чем в начале вечера. «Островский! С кем у него тут встреча?»
На афише, на красном и белом фоне, значилось:
ГРУППА ИМПРЕССИОНИСТОВ И СИНТЕТИСТОВ
Кафе Искусств
Хозяин — Вольпини
Рядом с Павильоном прессы.
ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ
Поль Гоген, Эмиль Шуффенеккер
Эмиль Бернар, Шарль Лаваль
Луи Анкетэн, Луи Руа
Леон Фоше, Даниэль Немо
С неприязнью прочитав имена никому не известных художников, Виктор, заранее смиряясь с неизбежным, переступил порог кафе «Вольпини». В центре яркой полосы света золотоволосая русская княгиня дирижировала группой молодых скрипачек, одетых по московской моде. Он прошел мимо буфетов и бочек с пивом и буквально уперся в стойку, из-под которой ему навстречу выплыл впечатляющий бюст кассирши. Гарсон-подавальщик с разбега налетел на другого гарсона, тащившего поднос с грязной посудой, тарелки и приборы с грохотом полетели на пол. Женщина с бюстом перевесилась через кассу-прилавок, схватила солонку и запустила ею в незадачливых юношей. Виктор прошел дальше, незаметно вклинившись в группу возбужденных спорщиков, громко о чем-то переговаривавшихся, широко размахивая руками.
— Вы ничего не поняли! Частная инициатива пытается реализовать то, на что безразмерная административная глупость никогда в жизни не решится!
— Но все-таки это Дворец изящных искусств…
— Нечего мне тыкать Дворцом изящных искусств!
— Музей ужасов! — провизжал маленький господинчик с толстыми губами, моноклем в глазу и в котелке. — Они нашли способ унизить Сезанна, закинув его «Дом повешенного» на самый верх, под потолок, где его никто не разглядит. Зато на официальное искусство народ валом валит. Ах, «Въезд Жанны д’Арк в Орлеан», ах, «Смерть Иоанна Грозного»! Господа, ведь это то же самое, что охота на мамонтов, которую нарисовал Кормон.
— Золотые слова, дорогой Анри! Подумать только, что конкурировать с той выставкой мы смогли лишь благодаря хозяину кафе!
«За какую провинность я сюда попал?» — думал Виктор. У него было чувство, что он внезапно очутился в сцене из водевиля и теперь пытается понять, кому какая роль здесь уготована.
Сотня картин в простых деревянных рамах была развешана на
стенах, обитых гранатовыми обоями. Некоторые напоминали витражи, яркость их палитры складывалась в необычную гармонию, в жесткости линий не наблюдалось даже попытки придать пейзажу или модели подобие объективной реальности.
«Что он хотел этим сказать?» — недоумевал Виктор, остановившись перед картиной «Ундина», подписанной именем Гоген. Обнаженная женщина с распущенными красными волосами отдавалась ласке морских волн. Эти странные цвета, эта простота выразительных средств вызывали чувственное удовольствие. Старик с улицы Клозель был прав, в этом было что-то физиологическое. Виктор перевел взгляд на пол, под ноги, а потом снова поднял голову и взглянул на картину, и вновь его охватило волнение.
— Кажется, Гоген уехал переживать свою горечь в Бретань.
— Там у него новое увлечение, Арморика, а что, созвучно Мартинике, где он нарисовал «Плоды манго», видишь, вон там, слева!
«Только бы они замолчали! Только бы они наконец замолчали!»
Виктор тихонько отступил подальше, чтобы не слышать комментариев.
— А это что такое? Живопись нефтью. Почему не древесным углем? И кто он такой, этот Немо?
Виктор отошел еще дальше на середину зала, чтобы унять раздражение.
— Вы!
Повиснув на руке бородатого художника, Таша удивленно смотрела на него.
— Морис, представляю тебе мсье Легри, книгопродавца и фотографа-любителя. Мсье Легри, это Морис Ломье, живописец и гравер.
Виктор скрепя сердце пожал протянутую руку. Его охватила внезапная ненависть к Ломье. Таша была с ним на «ты», называла его «Морис»!
В тот же миг Таша заметила Данило Дуковича, пробегавшего между столиков.
— Знакомьтесь, я сейчас вернусь, — сказала она, упорхнув.
Ломье скорчил презрительную мину.
— Книгопродавец-фотограф, о! Такие люди как вы, мсье, на дороге не валяются!
Виктор понял, что Ломье намеренно нарывается на скандал, и решил держаться как можно любезнее.
— Я больше времени провожу в библиотеках и затемненных комнатах, чем в галереях, так что совсем несведущ в тонкостях современного художественного языка. Не объясните ли вы мне, что такое синтетизм?
Ломье отбросил упавшие на лоб кудри.
— Вы слышали о Бертело? Нет? Он успешно проделал опыты синтеза в органической химии. Сегодня установлено, что нет такого природного тела, какого наука не могла бы создать заново. Некоторые художники, и в их числе я, применяют это открытие. Мы перекомпоновываем внешнюю реальность, пользуясь новейшими технологиями.
— Простите мою наивность, но где же тут новаторство? Разве не единственной истиной является для художника то, как он видит и чувствует в данный момент своего бытия?
Ломье не удостоил его ответом.
— Вопреки новомодным способам, мои последние оттиски ограничиваются лишь картинкой, которую я вижу в своем видоискателе, — продолжал Виктор. — Они хорошо выполнены, четки, искусственны, я так и не смог вдохнуть в них хоть искру жизни и…
— Но не хотите же вы сказать, что фотография — явление такого же уровня, что и живопись!
— Было бы чересчур смело с моей стороны проводить подобные аналогии. Каждый идет своим путем.
— Вы играете словами! Создание живописного произведения требует месяцев тяжелого труда, в котором принимают участие рука, сердце, дух. А вам достаточно нажать на кнопку!
— На кнопку, ха-ха, как бы не так! Прежде всего надо знать, что хочешь выразить, проникнуться темой, разглядеть светотени, прочувствовать освещение, найти правильный ракурс, подождать. Случается, проявляя фотоснимки, я чувствую внезапное озарение и говорю себе: этот мужчина или эта женщина носят в себе глубокую истину. Меня завораживают не только выражение лица или поворот фигуры, а то, на какие мысли эти люди меня наводят, и снимая их, я отражаю мое собственное отношение к предмету. Этот миг имеет совершенно неодинаковое значение для одного, двух, ста других фотографов, как и для публики…
— Публика! Да она всегда мыслит категориями тридцатилетней давности! Когда она наконец оценит художественную революцию 1880 годов, живопись уйдет так далеко вперед, что художники-академики, увенчанные лаврами и званиями, будут выглядеть как доисторические чудовища!
— Когда современные художники примут как факт, что фотография — тоже искусство, они уже сами превратятся в ископаемых!
Обменявшись колкостями, они повернулись друг к другу спиной. Ломье удалился гордыми широкими шагами.
— Ну, вы понравились друг другу?
Опустив глаза, Виктор уставился прямо в декольте. Что может быть более волнующим, чем трепет этих полускрытых-полуобнаженных грудей.
— Вы все слышали? — прошептал он.
— Совсем немного. Глядя на вас, я поневоле вспомнила историю о том бретере, который щекотал соперника кончиком рапиры.
— Думаете, я его ранил?
— Этого трудненько завалить, он быстро оправится. А вас интересует синтетизм?
— Нет, у меня было назначено свидание в баре, чтобы обделать одно дельце с одним русским, любителем инкунабул, вы, возможно, о нем слышали?
— Да в Париже полно русских, разве я могу каждого знать?
— Нет, разумеется, но этот тип такой эксцентричный. У него дом в Монсо, и я видел у него изящные вещицы, антиквариат, картины, растения… А атмосфера просто удушающая.
— Как зовут эту редкую птицу?
— Константин Островский.
— Островский? Да кто ж его не знает! Он много раз бывал у нас в мастерской, Ломье продал ему несколько картин.
— А вы? — спросил он сдавленным голосом.
— О, я только начинаю, я далека от того, чтобы показывать свои работы.
— А ваши иллюстрации к «Макбету»?
— Это не более чем зарабатывание денег.
— И все-таки мне бы очень хотелось на них посмотреть. Вы вчера работали после нашего похода в кафе?
— До самых сумерек.
Ее хладнокровие потрясло его, она лгала, но с каким апломбом! А Таша подняла на него взгляд, в котором светилась сама невинность.
— У нас с вами есть точка соприкосновения, мсье Легри, это чувствительность к свету, не так ли?
В ее глазах светилось озорство. Он не смог удержаться от своего порыва и положил руку ей на плечо. Плечо напряглось, Виктор быстро убрал руку. От их веселой беспечности не осталось и следа. Аромат, исходивший от ее близкого тела, подстегивал желание.
— Таша… вам могло показаться, что… да, боже, как глупо…
Он растерялся, поглощенный мыслью о том, на какую скользкую дорожку ступил, и вдруг быстро спросил:
— Какие у вас удивительные духи!
Она, казалось, не поверила своим ушам и переспросила, отшатнувшись от него с легким смешком:
— Духи?! Ну да, редкие. Называются «Бензой», или «Эссенция острова Ява».
«Ява, Кэндзи! Бензой… А флакон, тот, что у Кэндзи, что там было написано на этикетке? По звучанию похоже…»
— Извините, мне нужно пойти к друзьям, — тихо сказала Таша.
Он дотронулся до кармана своего редингота, который оттягивала маленькая картина, купленная на улице Клозель. Как в тумане до него донеслись ее слова:
— Не забудьте о моих «Капричос», мсье Легри!
То, что она упорхнула, принесло ему даже облегчение. Зато его ревность теперь возросла в разы.
Виктор был совершенно сбит с толку. Уйти из этого проклятого кафе. Он направился было к выходу, как вдруг кто-то хлопнул его по плечу.
— Господин книжник! Радость-то какая! Вы уходите? Тогда я с вами. Тут слишком много народу. Мадемуазель Таша — мое провидение, благодаря ей я буду петь в Опере! Опера Гарнье, можете представить? Завтра прослушивание. Если мой голос подойдет, а он должен подойти, — тогда прощайте мои тридцать три несчастья! А оперные партитуры вы тоже продаете?
— Нет, только книги, — поспешил ответить Виктор. — Но вы легко найдете любую партитуру на набережной у букинистов.
— А вы и правда уверены, что вам не нужен второй служащий? Я., знаете ли, весьма начитан. Мадемуазель Таша давала мне на прочтение свои книги. Бальзак, Толстой, Достоевский! Эти истории, полные крови и безумств! Где он, ваш магазин?
— На улице Сен-Пер.
— Я приду, приду!
— Да-да, — рассеянно ответил Виктор.
Должно быть, его пронизала ночная прохлада. Он дрожал.
— Что за чудная погода! — воскликнул Данило, набрав полную грудь воздуха.
Башня разрезала темнеющее небо, словно искрящееся лезвие кинжала.
Они пошли через садик во французском стиле. Разноцветные прожекторы освещали монументальный фонтан с аллегорическими фигурами. Вокруг обнаженной фигуры Человечества, сидевшей на сфере, располагались задумчивая Европа, деловая Америка, сладострастная Азия, послушная и боязливая Африка, дикая Австралия. На ляжку Америки облокотился старик в африканском бубу и наблюдал за гуляющими.
— Здравствуйте, мсье фотограф, вы меня помните?
— Да… да… Ламба…
— Самба Ламбе Тиам. Есть у вас мои изображения?
— Да, дома, я вам их непременно принесу. Позвольте представить, мсье Данило…
— Дукович, лирический баритон, — закончил серб, сдавив своей ручищей руку Самбы. — Вы уроженец какой страны?
— Сенегала, я живу в Сент-Луисе.
— А есть ли опера в Сент-Луисе?
— У нас есть резиденция губернатора, казармы, больница, церковь и более пятисот магазинов. Две школы, одна… Ах, можно подумать, что она вся в огне!
Лившийся с Эйфелевой башни свет напоминал извержение Везувия. Раздались восклицания, аплодисменты.
— Вы на нее поднимались? — спросил Самба. — Мне вот смелости не хватило.
— Много раз, у меня привилегия — я прохожу бесплатно. Я даже расписался в «Золотой книге гостей», хотя карабкаться по этим железякам только ради того, чтобы насладиться видом, — никакая не доблесть. Вообще я нахожу, что потреблению сейчас придается слишком большое значение…
Виктор слушал с возрастающим волнением. Похоже, весь белый свет отметился в этой дьявольской книге! Он опустил пальцы в бассейн фонтана, вода была удивительно холодной. Ему совсем не хотелось продолжать разговор, но он все стоял у фонтана, думая о Таша, вспоминая ее жесты и мимику, истолковывая каждый ее ответ, каждое движение ресниц. «В конце концов она выйдет, пройдет где-то здесь, я нагоню ее и… Только бы этот дуралей наконец замолчал!»
— …А тем, кто сумеет чем-нибудь ошарашить публику, продают медали, — продолжал Данило. — Гостям первой платформы — бронзовую, второй — серебряную, а третьей — золотую, только это ни о чем не говорит, их на бульварах можно за полцены купить!
— Тогда это то же самое, что Почетный легион, — констатировал Самба. — Этот орден, кажется, тоже можно купить, мне рассказывали, им приторговывал зять бывшего президента республики…
— Тише, не надо кричать об этом на всех углах, и у стен есть уши! — шепнул Данило. — Выставка кишмя кишит шпиками и полицейскими, а по вечерам им присылают подкрепление.
— Мудрая предосторожность, — согласился Самба. — Ведь богатство притягивает воров, как мед — мух. А мухи — большая проблема в моей стране.
— Вы только представьте, вот идет какой-нибудь маньяк и думает, что во всех его несчастьях виновны принц Уэльский или персидский шах, а шпики только и ждут случая свалить вину на иностранцев — но я-то, я хочу именно во Франции сделать карьеру. Как знать, может, это нигилисты и анархисты специально дрессируют пчел-убийц, чтобы те уничтожали людей.
Виктор почувствовал, как в нем нарастает раздражение. Этот болван действовал ему на нервы. И что в нем нашла Таша?
— У вас воспаленное воображение и склонность к извращенным рассуждениям, мсье Дукович, — бросил он, шлепнув ладонью по поверхности воды.
— О, я знаю, что говорю, и говорю то, что знаю, хоть меня и принимали уже за сатира — это меня-то, испытывающего самое глубокое уважение к слабому полу!
— Слабый пол? Это что такое? — спросил Самба.
— Женщины, — пробормотал Виктор.
— Это женщины-то слабые! У вас — может быть, а у нас они таскают поклажу, какую и мул не подымет!
— До встречи, господа! — попрощался Виктор.
Пройдя несколько шагов, он передумал.
— Мсье Дукович, позвольте один вопрос: как давно вы знакомы с мадемуазель Херсон?
— С тех самых пор как поселился у Тевтонши, вот посчитаем… девять месяцев и пять дней. Ах, мадмуазель Таша… Обольстительная нимфа, ангел-хранитель! Она стирает мне рубашки, она меня кормит, восхищается моими вокальными данными, я думаю, она в меня влюблена! А кстати, говорил ли я вам, что благодаря ей я буду ангажирован в Оп…
Виктор мигом испарился.
— Оп? А что такое Оп? — спросил Самба.
Данило обернулся.
— Опера. Так вы говорите, Сент-Луис существует без храма муз? Это необходимо исправить!
Пушечный выстрел, донесшийся с башни в одиннадцать вечера, застал Виктора на набережной Орсе. Выставка закрывалась. Он быстро шел, размахивая руками, слова Данило все еще звучали в его мозгу. Они дрессируют пчел-убийц, чтобы те уничтожали людей. Пчелы-убийцы. Патино, Кавендиш, обоих укусила пчела! Но Антонен Клюзель резонно сказал, что от пчелиного укуса не умирают… Что, кроме этой проклятой «Золотой книги», могло связывать вдовицу без гроша в кармане, великого американского путешественника, японца-книготорговца, русского коллекционера… и Таша? Он представил ее в коротком сером платье, и его вновь охватила печаль.
Виктор дошел до Иенского моста. В тот же миг мимо со свистом промчался декавильский поезд. Облако дыма взмыло к пучку триколоров, освещенных прожектором башни. Виктор застыл на месте. Поезд, вокзал, ну конечно… Он вспомнил, как Жозеф показал ему статью из газеты, вклеенную в заветную записную книжку. Вокзал Батиньоль, статья в «Молнии» от 13 мая 1889 года: «Пчела-убийца в Париже». Умершего звали как-то знакомо: макарон?… Миндалье? Марципан? Меренга… Ах да, Меренга, Жан Меренга.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Среда 29 июня, утро
Виктор проснулся внезапно. Стоило открыть глаза, как сон исчез, оставив горькое послевкусие. Он встал и поднял шторы. День только начинался, но уже было жарко. Виктор быстро умылся, надел рубашку, панталоны, обул башмаки из мягкой кожи. Редингот был явно тяжеловат для такой погоды. Он вывернул карманы, побросав на кровать записную книжку, портмоне, мелочь. С большим трудом вытащил завернутую в газету картину. Облачился в летний плащ, перелистал записные книжки, оставил ту, что взял у Жозефа, рассовал по карманам все, что только что валялось на кровати, потом прошел в рабочий кабинет и убрал свою записную книжку и картину в бюро цилиндрической формы с круглой крышкой. Услышав, как по ту сторону перегородки умывается Кэндзи, он, стараясь как можно меньше шуметь, незаметно вышел.
Вода была зеленой, под мостами она темнела. Виктор остановился, глядя, как баржа медленно скользит по воде, а по палубе, истошно лая, бегает пес.
Ни букинисты, ни продавцы музыкальных партитур еще не распаковали своих лотков, зато вдоль берега уже вовсю работали выбивальщики ковров с палками в руках. Он прошел перекресток Сен-Мишель, забитый ручными повозками, ломовыми телегами и омнибусами. Плохо зная эти места, он предпочел свернуть на Моб.
В нижней части набережной Монтебелло начиналась вотчина грузчиков. С согбенными спинами, в кожаных шлемах и наплечных пелеринах, они втаскивали на стоявшие у причала шаланды корзины с углем и цементом, пробегая по мосткам, точно канатоходцы. В воздухе носилась черная пыль. Виктор протер глаза. На улице Бушери, где стояли отчаянно дряхлые дома, он прошел мимо ряда замызганных гостиниц и грязных харчевен, предлагавших обед за несколько су, и, повернув направо, пошел к площади Мобер. Нищий старьевщик подбирал в канаве окурки.
— Простите, где тут улица Паршеминери?
— Вы стоите к ней спиной. Надо сперва дойти до Сен-Северин. Нет ли у вас пары грошиков? Умираю от жажды! Спасибо, мой господин! — весело крикнул он, опуская монетку в карман. — Я выпью за ваше доброе здоровье у папаши Люнетт!
Виктор прошел улицу Лагранж, на которой вырос целый лес лачуг. Попав за церковью Святого Юлиана Странноприимца в лабиринт темных переулков, он подумал, что в больших городах, в двух шагах от кварталов, где правит бал настоящая роскошь, существуют невидимые границы, которые стоит лишь перейти — и откроются грязь и нищета. Улица Галанд выглядела такой же, какой, должно быть, была в Средние века. Торговцы, не обращая внимания на сильный ветер, устанавливали свои переносные жаровни и раскладывали на прилавках товар. Миски со свеклой соприкасались с нарезанной кружками кровяной колбасой. Виктору показалось, что он снова попал в Уайтшапель. Эти тупики, низкие своды, обшарпанные фасады, ряды прилавков с грудами изношенной одежды и железного лома — все это могло послужить потрясающей декорацией для парижского Джека Потрошителя. По вечерам тротуары, должно быть, кишмя кишели проститутками и подозрительными типами. Но в этот утренний час на промокших мостовых было лишь несколько клошаров, с трудом приходивших в себя после суровой ночи.
Виктор решил как-нибудь вернуться сюда со своим «Акме» — благодаря контрасту света и тени у него могли получиться интересные снимки.
В трещину в стене юркнула крыса. Во дворе женщина с непокрытой головой стирала в баке белье, не обращая внимания на вопившего неподалеку грудного младенца. Виктор спросил, как найти Жана Меренга, и она махнула рукой в сторону облупившейся стены дома на нижней улице. Снова выйдя на тротуар и перешагнув через лохань с мусором, он прошел мимо плотницких лачуг и проник в коридор, выводивший в другой двор.
— Чего это вам тут надобно, а? — окликнул его пропитой голос.
Его придирчиво разглядывала выросшая на пороге консьержка. Длинный фартук из грубой материи выглядел воинственно, как доспехи. В довершение ко всему она была вооружена метлой с длинной ручкой, явно предназначенной не только для мусора.
— Я к мсье Жану Меренга.
— Это вам лучше тогда на кладбище поискать!
— Он умер?
— И погребен. Вы чего от него хотели, от нашего бравого мужичка?
— Я журналист, хотел его кое о чем спросить.
— Поздновато. Но вы можете обратиться к папаше Капюсу, они жили в одной комнате, и вот теперь один помер, а другой живехонек, такое мое везение, уж лучше бы наоборот!
— Почему?
Потому что мсье Меренга, хоть и занимался таким поганым делом, был внимательным и вежливым, зато уж мсье Капюс только и воняет нам тут со своими опытами, не говоря уж о его богопротивных делишках. Боюсь, не отравил бы он моего Мак-Магона, приманивает мясными шариками, а потом, глядишь, и шкуру с него спустит. Точно говорю, сама утром видела у него Мак-Магона. Эй, Мак-Магон! Мак-Магон! — принялась она орать.
— А… где он живет, этот мсье Капюс?
— Дальше, справа, внизу. Мак-Магон!
«Бывший президент Франции снял себе комнату в такой развалюхе? О-хо-хо, тут что-то не так!» — подумал Виктор, прежде чем постучать.
— Открыто!
Смесь алкогольных паров и запаха карболки ударила ему в нос. В комнате, плохо освещенной лучом из узкого окошка, в жуткой тесноте громоздились две кровати, верстак, полный странных предметов, длинный жестяной цилиндр, стоящий на полу рядом с высокими резиновыми сапогами, ведра, сачки для ловли бабочек, нагревательная плитка, стеклянные банки, поставленные на доски, и висевшее на гвоздях тряпье. Хозяин, сидя за низким деревянным столиком, был поглощен склеиванием миниатюрного скелета. Даже не взглянув на Виктора, он указал ему на табурет.
— Вы медик из университета? Вам чего?
Внимательно осматривая комнату, Виктор на минуту онемел. На верстаке он рассмотрел окаменелости, пробковые пластинки, на которых были распяты насекомые, большой ящик с гербарием, книги с заскорузлыми страницами, романы, научные труды.
— Тоже коллекционер? — встрепенулся хозяин. — У меня сейчас мало что тут есть, разве что несколько прекрасных образчиков бабочек и один богомол. Можете сделать заказ.
Наклонившись, Виктор внимательно осмотрел содержимое банок, в которых различил зеленые и желтые существа, плавающие в мутной жидкости. Надписи на этикетках гласили: «Лягушки из Сены», «Ящерица из Шантильи», «Уж из Марли».
— Я совсем не для того пришел.
Мсье Капюс отложил пинцет и наконец взглянул на Виктора. Хозяину было между пятьюдесятью и шестьюдесятью. Вид у него был печальный: худое лицо изрезано морщинами, а усы и борода с сильной проседью.
— Ах так? Зачем же тогда?
— Мне нужно написать в газету серию статей о необычном предпринимательстве в столице, и если бы вы согласились рассказать мне о вашей работе, я бы вам заплатил.
— Охотно! И что же вы хотите узнать?
— Как становятся поставщиками лабораторий?
— Меня научили в аптеке…
Замогильное мяуканье прервало его рассказ. Чудовищного размера кот тигрового окраса вылез из-под кровати и терся теперь спиной об дверь.
— Мак-Магон! Ты, паршивец, вот где прячешься! Это он все ждет, когда я мусорное ведро пойду выносить, — проворчал старик.
Выпроводив животное, Капюс вернулся и сел.
— Так о чем я? Ах да! Аптека. Я не мог смириться с тем, что проведу свой век за кассовой стойкой. Тогда я стал поставщиком чучела маленьких зверьков для Музея естественной истории и для преподавателей физиологии. Такое ремесло кормит, к тому же ты еще и свободен. Я могу сутками напролет бегать по речкам да по пригоркам, словом, всюду… то есть мог, потому что больше не получается с моим проклятым ревматизмом, ноги еле таскаю.
— И на кого теперь охотитесь?
— На червей, насекомых, гадюк, жаб…
— А вот это? — спросил Виктор, показав на скелет.
— Летучая мышь. Они еще попадаются на пустырях возле укреплений, там, где кончается город. Студенты делают мне заказ, даже из других городов пишут, все меня знают.
— Уверен, что ваши знания ничуть не менее обширны, чем у иных профессоров. Кстати, меня занимает одна вещь, и я хотел бы узнать ваше мнение. Вы ведь наверняка слышали о тех, кого настигла внезапная смерть на выставке. Утверждают, будто жертвы были укушены пчелами. Как вы считаете, такое может быть?
— Полная чушь! И с Меренгой тот же коленкор, а они мне не поверили.
— Кто это Меренга?
— Мой приятель. Жили мы с ним вместе. Бывало, я ходил с ним за добычей: он был старьевщик. Когда удавалось что-нибудь найти, мы все делили поровну.
— Добыча — это что?
— Древние камни. До них немало охотников. Однажды он нашел обтесанные кремни, мы кое-что выручили.
— Он переехал?
— Нет, он умер. Я был рядом, когда это случилось. Меня повели в полицию, я сказал комиссару, что это не похоже на естественную смерть, а он поднял меня на смех и ответил, что у меня и в башке тараканы, и ничего удивительного, мол, по себе я ремесло-то выбрал, — а потому шел бы я восвояси к своим насекомым. И добавил: «Все свидетели дали показания, что вашего друга старьевщика укусила пчела».
Капюс наклонился, вытащил бутылку красного вина и наполнил два стакана.
— Ваше здоровье. Меренга-то ведь тоже подумал, бедняга, что его пчела укусила. А я-то знаю, что говорю, Богом клянусь, не в пчеле тут дело.
Виктор чуть пригубил вино.
— Вы уверены?
— Проклятье, да ведь это и правда мое ремесло! Вот что я вам сейчас скажу, мсье, по мне общество мелких зверьков лучше, чем иных двуногих. Даже кота этой старой дуры, а если она думает, что я хочу сделать из него чучело, так это на ее совести! Я с уважением отношусь к животным, и в жертву их приношу только чтобы заработать себе на пропитание. Тупица он, комиссар этот! Ничего не захотел слушать, ему и так все ясно. Не обязательно писать об этом в вашем листке.
— Что же произошло-то?
— Может, я знаю, а может, и нет. Вскрытие делать слишком поздно, вон уже сколько времени прошло, как бедняга Меренга почил на одуванчиках. Эх, а живи он по другую сторону баррикад, будь он конторским служащим, коммерсантом, военным, — смею вас уверить, этот старый идиот комиссар в лепешку бы разбился, только бы довести следствие до конца!
Высказавшись, старик пренебрежительно поджал губы. Виктор положил на стол синюю банкноту.
— Расскажите мне о Меренге.
— Добрый человек, не болтун, одинокий. Меня поддерживал. Попробуйте пройти через десятилетнюю каторгу в Новой Каледонии, тоже хорошим человеком прослывете. До Коммуны он был столяром-краснодеревщиком, а тут обосновался три года назад. Полагаю, он был когда-то женат, но предпочитал об этом не распространяться. Была у нас с ним неплохая компания, а теперь… Собачья жизнь!
— Как это случилось?
— В тот день я пошел с ним, мне надо было набрать сверчков. Они предпочитают железнодорожные пути, там, на подъезде к депо, где рельсы кончаются, их по жаре всегда много. Меренга наполнил корзину и ушел раньше, хотел посмотреть, как прибудет Буффало Билл. Когда я его догнал, он уже лежал на спине, вокруг толпились люди.
Капюс налил себе еще вина.
— Э, да вы совсем не пьете! — воскликнул он, задумчиво глядя на жидкость в бутылке. — Забавно, какие дурацкие мысли приходят в голову в такие моменты. Мой приятель задыхался среди банды дикарей, а я подмечал незначительные подробности: гравий щебенки, потраченную молью гриву детской лошадки-качалки, ботинки какого-то мужчины, который стоял рядом, давая советы. Я слышал только его голос, а обувь приметил, желтые такие ботиночки из шевро. А потом все вокруг снова засуетились, Жан прошептал: «Пчела». Естественно, первое, что я сделал, — поискал жало: ничего не было. Тогда я стал искать труп пчелы или какой козявки: ничего. Бедняга не мог даже шевельнуться. Он дышал очень медленно, рот открыт, пускал слюни, панталоны намокли, я с ним разговариваю и вижу по глазам: он все понимает, что я говорю, а ответить не может. Я осмотрел его шею. Его действительно укололи, да только могу точно сказать, никакая это была не пчела! Кожа покраснела вокруг укуса и образовалось пятно размером с монетку в сто су. Границы укуса распухали, возникала отечность диаметром в два сантиметра, очень бледная. Я кончиком пальцев ощупал ее, Жан даже не дернулся, он ничего не чувствовал. А когда укусит пчела — можно увидеть маленькое белое утолщение размером в два или три миллиметра с сероватой точечкой посредине: жалом. Вздутие увеличивается, кожа напрягается, чувствуется острая боль, покалывание, это место чешется, болит.
— Вы уверены, что жала не было?
— Да. Была дыра, будто ему в шею воткнули глубокую острую иглу. Глаза у него остекленели, он задыхался. Сердце остановилось. Когда подошли жандармы, он уже умер. Я им сказал, что все-таки странно, взять и вот так уйти из жизни от укуса пчелы, а они ответили, что, дескать, не в первый раз, пьянчуга допрыгался.
Он осушил стакан, со стуком поставил на стол.
— Вот так! С тех пор меня мучают кошмары. Хотите, скажу вам правду? Это не несчастный случай.
Он стукнул кулаком по столу.
— Боже ж мой! Кто же это сделал, что за сволочь?! Зачем?!
— У него были враги?
— Про то не знаю. Заберите ваши деньги, не хочу я их брать! Для какой газеты вы пишете?
— Для «Пасс-парту».
— Надеюсь скоро прочесть. Мсье?..
— Виктор Легри, — ответил он, поколебавшись.
— Я запишу, — сказал Капюс, вытаскивая карандаш и школьную тетрадь. — Так я смогу предъявить газете претензию, если вы исказите мои слова.
Консьержка, держа на коленях котяру, сидела на боевом посту. Виктор увидел, что коридор заканчивается другим двором, который выходит на улицу Арп, прямо к кафе «Шоколад».
Взволнованный услышанным, Виктор брел к бульвару Сен-Мишель. Жан Меренга умер при таких же обстоятельствах, как и Патино и Кавендиш. Капюс был убежден, что его друга отравили с помощью иглы. Какой яд действует так молниеносно?
Бульвар мало-помалу оживал, и уличный шум постепенно уносил прочь его тревоги. Виктор словно пробудился от дурного сна, а во рту еще сохранялся кислый вкус вина, которым угостил Капюс. На углу бульвара Сен-Жермен он вскочил в фиакр, чтобы поскорее добраться до книжной лавки.
Жозеф, пребывавший в одиночестве с яблоком и книгой в руках, встал навстречу.
— Мсье Легри, в газете появилась ваша статья, я ее прочел, ну и хлесткая! Ну вы и утерли нос всем этим акулам пера! Знаете что? Вы должны в ближайшей литературной хронике написать о романах, в которых расследуют всякие тайны!
— Мсье Мори здесь?
— Хозяин пошел завтракать на улицу Друо с коллегами, а Жермен оставила вам рагу.
— В такую-то жару? Ладно, увидимся позже. Если придут покупатели, обслужите их сами. Я спущусь в подсобку.
— О, мсье Легри, вы забыли мне вернуть записную книжку, прошу вас…
— Записную книжку? Да-да, вот она, — сказал Виктор, кладя ее на прилавок.
Он сбежал по лестнице, даже не похлопав по черепу Мольера.
— Утрачена традиция… Что ж они бросают меня одного! Еще немного, и мне придется все делать самому, — проворчал Жозеф, снова погружаясь в чтение «Комнаты преступлений» Эжена Шоветта.
Виктор перерыл все полки. Должно же быть где-то издание на такую тему! Ему иногда случалось, участвуя в аукционах, приобретать книгу в надежде, что это какое-нибудь редкое издание. В большинстве случаев он давал маху, и нереализованные тома пылились в темных уголках в подсобке. Жозеф даже советовал ему повесить вывеску: «Продаем книги метрами».
Согнувшись в три погибели, Виктор забрался под лестницу, где как попало были навалены пачки брошюр. Запах кожи, пыли, воска ударил в ноздри. Он уже долез до самых глубин этого слоеного пирога, когда наконец нащупал корешок толстенной книги: «Справочник ядов и наркотических веществ». Наконец-то он нашел эту чертову книгу!
Виктор зажег газовый фонарь, поднялся в помещение магазина и приотворил дверь, осматривая окрестности. Покупателей не было. Стремительно, как смерч, пролетев мимо сидевшего на лестнице Жозефа, он проскочил к себе.
Притрюхав последним на стоянку фиакров на площади Мобер, Ансельм Донадье дремал на кучерском сиденье своего фиакра. Навощенный черный цилиндр съехал ему на ухо. Притаившийся за уличным фонарем мальчуган метко швырнул камень, и цилиндр свалился кучеру на колени. Вздрогнув, тот проснулся.
— Вот шалопаи! — проворчал он, снова надевая цилиндр.
Он обвел взглядом клошаров, собиравших недокуренные чинарики сигар и сигарет в полотняную сумку, в надежде взглянул на парочку, но та, поколебавшись, села в стоявший впереди фиакр. Он тихо чертыхнулся. Он был стар, устал, его донимало хроническое воспаление седалищного нерва. Отощавшая кляча, которой перевалило за второй десяток, была уже ни на что не способна, и, конечно, все эти бездельники выбирали кучеров пободрее и лошадок с лоснящейся шерстью. Со страхом Ансельм Донадье ожидал того дня, когда его фиакр не выберет больше никто. Тогда он лишится крыши над головой, а Польку придется отвести на живодерню. Уже два часа он сидел в ожидании пассажиров, как вдруг некто в широкополой шляпе и крылатке подошел к фиакру и протянул ему листок бумаги. Ослепленный солнцем, Донадье не разглядел лица седока. Он подумал, что имеет дело с иностранцем, не умеющим говорить по-французски, скорее всего с британцем, и наклонился посмотреть, что написано на листке. Прочтя, кивнул. Ставя ногу на ступеньку фиакра, человек в крылатке знаком показал, что за быструю езду даст щедрые чаевые. Его руки пришли в движение, Ансельм Донадье обратил внимание, что незнакомец носил перчатки, сшитые из легкой бугристой материи. Он щелкнул хлыстом и крикнул: «Гей, Полька!» — отчего уши у клячи дрогнули.
Едва начав читать «Справочник ядов и наркотических веществ», Виктор каким-то шестым чувством понял, что ввязался в опасное дело. Он не мог объяснить себе, почему так упорно совал во все это нос. Хотел убедиться, что несправедливо подозревал своих близких? Увериться в невиновности Кэндзи? Или, может, им двигало желание блеснуть умом перед окружающими? Ведь ребенком он столько раз мечтал пробить несокрушимое безразличие отца!
Была страшная духота. Он приоткрыл окно.
Согнувшись над конторкой, с расстегнутым воротом и спутанными волосами, он пробегал глазами одну за другой медицинские статьи, довольно краткие, но вполне содержательные. Капюс заявил, что Жан Меренга умер мгновенно, как от паралича. Что за яд действует так стремительно? Он продолжал читать. Через полчаса он уже знал о многих отравляющих веществах — шпанской мушке, дигиталисе, мышьяке — но все они действовали медленно. Добравшись до статьи о стрихнине, он встрепенулся.
«Чилибуха — вьющееся растение, произрастающее в тропиках обоих полушарий. Индейцы, живущие на обширных территориях между реками Ориноко и Амазонкой, пропитывают его соком наконечники стрел. Его можно встретить в межтропических землях Азии, Кошиншина и на острове Ява. Аборигены обмакивают метательные дротики в яд анчар, который добывается из коры лиан стрихноса».
Яд анчар. Буквы плясали перед глазами. Он уже что-то об этом читал, даже переписывал для себя. Сняв с полки блокнот, пролистал, остановился на заметках из журнала «Вокруг света».
ПУТЕШЕСТВИЕ НА ОСТРОВ ЯВА
Джон Рескин Кавендиш, 1858—1859
Я был свидетелем смерти одного несчастного, павшего жертвой яда анчар. Сперва проявился ряд симптомов, характерных для отравления: тревога, возбуждение, дрожь, рвота. Потом он сильно выгнулся назад, челюсти плотно сжались, мускулы всех органов и грудной клетки напряглись. Лицо побагровело. Глаза бедняги, казалось, сейчас вылезут из орбит. Последовали три приступа удушья прежде чем…
Прервавшись на середине фразы, Виктор поспешно отложил книгу издательства «Ашетт».
Он вытер лицо платком, отбросил записную книжку. «Это не соответствует тому, что рассказывал Капюс. Анчар не подходит». Он снова принялся читать справочник.
Близкие к стрихносу свойства и у экстракта тикуны, или кураре, которая встречается в Парагвае и Венесуэле. Это зелье прибывает в Европу в глиняных горшках либо в калебасах. Это крепкая смолистая эссенция, коричнево-черноватым цветом напоминающая солодку, растворимая в дистиллированной воде и спирте. Подобно волчьему корню, малаборскому бобу и цикуте, кураре парализует функции двигательных нервов. Но если эти три яда вызывают спазмы, рвоту, судороги — то кураре действует безболезненно, и смерть наступает примерно через полчаса после впрыскивания яда.
В «Мастере кураре» Александр фон Гумбольдт приводит слова индейцев: «Изготавливаемый нами кураре превосходит все, что умеете создавать вы, сок этой травы убивает совершенно незаметно» (Путешествие в Центральную Америку).
— Кураре, — пробормотал Виктор.
Он был уверен, что нашел причину смерти Меренги, Патино, Кавендиша. Конечно, доказательств никаких. Только интуиция. Он снова, уже громко и вслух прочел страницу, и когда добрался до слов: «либо в глиняных горшках…», словно увидел тот самый индийский дворец. Битва за Севастополь. Растения. Сервант, заставленный горшочками, аккуратно закрытыми горшочками.
— Островский, Константин Островский… Я сказал ему: как можно любить опасные растения, а он возразил: «Все зависит… зависит от того, как их использовать, ведь по-настоящему опасен только человек…» Неужели он замешан во все это? Он ведь тоже был на башне…
У него в голове все спуталось. Ему нужно было лечь, подумать и решить, что делать дальше. Он закрыл справочник.
Всегда такой аккуратный, Виктор разбросал одежду по стульям и креслам как попало и тяжело рухнул на кровать в одних кальсонах, приложив ко лбу влажное полотенце, чтобы остановить начинавшийся приступ мигрени. Не в силах справиться с обстоятельствами, он отдался возраставшему чувству безразличия и, несомненно, заснул бы, не упади его взгляд на висевшую напротив акварель Констебля. Отчего нельзя сбежать в этот безмятежный пейзаж, подальше от этого одетого камнем и железом города, где его угораздило стать попасть в заколдованный круг! Он почувствовал жгучую тоску по этой изумрудно-зеленеющей деревне. Полотенце приятно холодило лоб. Успокоиться. Восстановить события с самого начала до встречи с Капюсом. Капюс… Он сказал нечто важное. Виктор изо всех сил старался вспомнить, но у него не получалось. Ему припомнилось рассуждение Кэндзи о человеческой памяти: «Наше сознание — как анфилада комнат, в которых мы раскладываем воспоминания. Некоторые всегда на виду, и там все разложено по этажеркам, а в других вещи свалены как попало, словно на пыльном чердаке. Если не можешь чего-нибудь вспомнить, воспользуйся внутренним зрением как лампой, обойди с нею все комнаты одну за другой, внимательно следи за лучом света, который направил внутрь самого себя. Тогда в конце концов доберешься до комнаты, где находится искомое воспоминание».
Виктор смежил веки и сосредоточился. Островский, горшочки на серванте — там кураре? Русский расписывался в «Золотой книге» — как и Патино, Кавендиш, Кэндзи и Таша. Из этих пятерых умерли двое. А что если Кэндзи и Таша знакомы, ведь Кэндзи купил те же духи, что и у Таша — «Бензой». Кроме того, он встречался с Островским и продал ему эстампы. Островский принимал у себя Таша. Таша… Какая связь между этими фактами, этими людьми, этими смертями, притом, что решительно ничего, кроме простой интуиции, не позволяет утверждать, что это были убийства? Мысли путались, и мигрень все-таки настигла его. Он простонал:
— Таша…
Приняв лекарство, немного полежал, ожидая, когда станет легче, потом нашел в себе силы встать за портретом Таша, после чего снова лег и, морщась, стал пристально разглядывать портрет. Отчего его так тянуло к этой женщине? Чем она лучше других? Симпатичная мордашка. Груди, круглые, налитые, как персики. Он вдруг словно увидел, как двумя росчерками карандаша она набросала изображение Билла Коди, превратив породистую лошадь в уморительную клячу. Вспомнив про клячу, он почувствовал, что напал на верный след! «
Мой товарищ задыхался среди банды дикарей, а я невольно подмечал незначительные подробности: гравий и щебенку, подпорченную гриву детской лошади-качалки...» Слова Капюса, звучавшие в мозгу, вдруг озарили полузабытую сцену: рисунок, который он два дня назад заметил в блокноте Таша. Поезд, краснокожие, человек лежит на земле, корзины, трехногий стул, детская лошадь-качалка. Она видела, как умер старьевщик! Это не могло быть случайностью. Индейцы… Буффало Билл! Меренга хотел посмотреть на прибытие Буффало Билла, сказал Капюс. Таша тоже. Она пришла туда сама или ее направили из «Пасс-парту»? В таком случае ее рисунок должен быть опубликован. Надо посмотреть газету за 13-е и 14 мая.
Боль немного отпустила, и Виктор торопливо оделся. Уже уходя, заметил, что портрет остался лежать на постели. Он переставил его на комод, прислонив к часам, и, задержавшись на пороге, посмотрел на Таша со странной улыбкой. Она была поблизости, когда произошли все три несчастья. Но только ли это так его взволновало?
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Среда 29 июня, ближе к вечеру
Некий господин вполне определенной наружности, одетый соответствующим образом, прихрамывая, мерял шагами коридоры полицейской префектуры, как делал это изо дня в день. Несколько лет тому назад, когда он исполнял обязанности тайного агента службы безопасности, карманник из воровской шайки повредил ему ногу. Родом его занятий была слежка. Перейдя в бюро семейных расследований, Исидор Гувье пять лет изнывал там от скуки, а потом написал рапорт об отставке и стал частным сыщиком. И вот теперь Мариус Бонне убедил его принять участие в авантюрном проекте «Пасс-парту».
Исидор Гувье почти не общался с другими журналистами, находя их слишком циничными и самодовольными. Ничего примечательного в нем не было, и всех удивляло, как он ухитряется всегда и во всем проявить осведомленность. Разгадка была простой: всегда неторопливый, невозмутимый, проницательный, он неизменно оказывался в нужное время в нужном месте.
В тот день, 29 июня, он ходил по кабинетам, прикрывая нос клетчатым платком — его донимала сенная лихорадка, которой он страдал уже долгие годы. Прихрамывая и хлюпая носом, Исидор Гувье поджидал, когда из предпоследней двери в глубине коридора выйдет кучер фиакра по имени Ансельм Донадье.
Редакция «Пасс-парту» была закрыта. На двери висела написанная карандашом записка: «Исидор, мы будем у „Жана Нико“, приходи туда».
Огорченный, что не удалось просмотреть номера газет, Виктор без особого труда отыскал кафе, располагавшееся рядом с галереей Веро-Дода. На террасе за аперитивом сидели Мариус, Эдокси, Антонен Клюзель и Таша, а два типографских рабочих расположились на почтительном расстоянии.
— Виктор! — окликнул Мариус. — Выпей с нами!
— А по какому случаю? — осведомился тот, отсалютовав компании и долгим взглядом посмотрев на Таша.
— По случаю успеха наших статей «День на выставке с Брацца» и в честь нашего следующего гостя, Шарля Гарнье, архитектора павильона Истории человечества. Он только что подтвердил свое согласие. А эпиграфом мы возьмем один из его многочисленных каламбуров, который как нельзя лучше подойдет нашей газете:
Иногда и так бывает:
Утка низенько летает,
Да проворней отчего-то
Птиц высокого полета!
«Фигаро» позубоскалит, Антонен Клюзель завтра начнет брать интервью, Таша пойдет с ним. Кстати, твоя хроника имеет большой успех, напишешь еще?
Виктор, только что сделавший заказ, нахмурился.
— У меня не было времени подумать об этом. Есть смутная мысль насчет романов, рассказывающих о преступлениях и убийцах. Как насчет этого?
Мариус удивленно воззрился на него.
— Вот уж не думал, что тебя интересует этот жанр литературы!
— Этот жанр литературы известен с незапамятных времен, вспомни историю Атридов, — отозвался Виктор, сверля взглядом Таша, которая почему-то опустила голову.
— Вы не находите, что в жизни слишком много насилия? Мало того, что войны, так еще и всякие гнусности, вроде этих трупов на выставке! — заметил Антонен Клюзель.
— Почему же? Такие события оживляют рутину, заставляя о многом поразмыслить, — заметила Эдокси с усмешкой.
— Дети мои, не забывайте, что на сей момент у нас нет ни малейшей уверенности в том, что речь идет об убийствах, анонимка вполне может оказаться выходкой сумасшедшего. В последнее время в префектуру полиции подобные письма приходят пачками. В Париже полным-полно ульев с дикими пчелами, особенно неподалеку от сахароперерабатывающих заводов. Мастерские, квартиры, сады просто кишат пчелами, префект даже запретил культивировать пчеловодство в центре столицы. Многие люди ужалены, и не раз. Известны случаи эпилепсии у маленьких детей, у взрослых
отмечены приступы судорог, а бывает, что после укуса пропадает зрение и…
— Ты противоречишь сам себе, — заметил Антонен. — вот ты говоришь…
— О да, говорю и говорю, нужно уметь хорошо говорить, чтобы повысить тираж…
Мариус прервался, заметив кого-то на другой стороне тротуара. Запыхавшийся Гувье перешел улицу и направился к «Жану Нико».
— Новостей полна корзина! Приготовьте ваши перья: у нас на одного покойника больше! — Известие встретили восклицаниями, а довольный Гувье продолжил: — Его обнаружили после полудня, в фиакре, мертвехонького. Я подождал, пока из префектуры выйдет кучер фиакра, и тотчас подлетел к нему, допросил с пристрастием. Эксклюзивная беседа, с доказательствами от противного, есть от чего голове кругом пойти!
— Эдокси, карандаш, блокнот! Ты будешь записывать! Кто убитый? — спросил Мариус.
Высморкавшись, Гувье посмотрел в свои записки. Раздраженный Антонен поглядывал на него, барабаня пальцами по краю стола.
— Островский Константин, русский, большое состояние, очень большое…
Виктор поперхнулся вермутом. Убит! Это невероятно. Из подозреваемого Островский внезапно превратился в жертву. Его, Виктора, гипотеза рухнула. Придется возвращаться к исходной точке. Он незаметно скосил взгляд в сторону Таша. Ее руки нервно теребили тесемку папки с рисунками, а пальцы дрожали. Гувье неторопливо продолжал расшифровывать листки с записями.
— Известен среди торговцев произведениями искусства. На первый взгляд — сердечный приступ. Некоторое сходство с предыдущими смертями, но помимо этого на сей раз есть подозреваемый. Кучер, который долго простоял в ожидании клиентов на площади Мобер, вез одного до парка Монсо. Там к ним присоединился этот самый Островский, просил довезти его к магазинам у Лувра. Первый пассажир сошел, а кучер ехал до Марсова поля, где вход на выставку со стороны набережной Пасси. Цену они оговорили заранее. Кучера зовут Ансельм Донадье. Шестьдесят пять лет. Живет в Иври.
Виктор не спускал глаз с Таша. Она продолжала нервно завязывать и развязывать папку с рисунками.
— Островский — это вы как написали? — спросила Эдокси, заглядывая ей через плечо.
— Как произносится, с «ий» на конце.
— А что говорит полиция?
— Склоняется к «пчелиной» версии. Мой человек на связи, он передал мне весточку. Никакой информации для прессы, никаких заявлений, все на уши встали. Но, по словам моего информатора, серьезного следа у них нет, так остается только тянуть время.
Закончив говорить, Гувье громко чихнул.
— Не сойти мне с этого места, если это не убийства! — заключил Антонен. — И Лекашер это знает, не забывайте, он ведь сторонник метода Горона.
Виктор, приготовившийся было сделать глоток из бокала, переспросил:
— Горона?
— Это шеф отдела безопасности. Когда Париж, просыпаясь утром, слышит новости о чьей-то подозрительной кончине, виновника следует предъявить обществу немедля. Через пять дней, 4 июля, на молу Гренель будут устанавливать уменьшенную копию статуи Свободы, подаренную городу Парижу бывшей американской колонией в знак дружбы. Было бы весьма неприятно испортить такой исторический момент, вспомните: Джон Кавендиш был гражданином Соединенных Штатов, а значит, об этом деле все будут хранить молчание. Полицейские тем временем проведут ускоренное расследование и преподнесут газетам очередную утку. Лекашер снова обвинит во всем пчел, — помилуйте, пчел! — но я-то ни минуты не сомневаюсь: это убийства.
— Без видимых признаков? — удивился Виктор.
— Легче легкого отравить с помощью шприца или иголки, если умело ими воспользоваться! — проворчал Гувье. — Вспомни, Антонен, какую историю ты сам рассказал нам в прошлом году.
— Что за история?
— Про ту испанку.
— Но при чем тут Испания?
Снова высморкавшись, Гувье сделал глоток пива.
— Это случилось пятьдесят лет назад в Севилье. Женщину звали Каталина, она была влюблена в прекрасного идальго, который ее отверг. В ней взыграла жаркая кровь, и она всадила ему в руку свою шпильку от шляпки, пропитав кончик ядовитым веществом, полагаю, это была белая чемерица.
— Он умер?
— Она уколола его сквозь манжету, складки ткани впитали часть яда, и этот парень счастливо отделался, правда не один день пролежал в коме.
Мариус хохотнул.
— «Спящий красавец», современная версия старой сказки!
— Ну, называй как хочешь. Наши-то жертвы не такие везучие, им уже не светит встретить Новый год!
— Готовим специальный выпуск! — вскричал Мариус. — Мы сможем все распродать во время театральных разъездов! Вперед, скорее, все за работу!
Типографские рабочие поднялись и ушли. Мариус забрал из рук Эдокси блокнот и принялся сочинять статью. Гувье флегматично развернул еще один клочок бумаги.
— Тут записано все, что рассказал кучер. Лица первого клиента он не видел: солнце светило прямо в глаза. Он принял его за англичанина: широкополая шляпа, крылатка, перчатки. Его это удивило, в такую-то жару.
— И это все?
— Англичанин ни слова не произнес, адрес был написан на листочке. Вот теперь все.
— Мне тоже известно кое-что любопытное, — задумчиво произнес Виктор. — В прошлом месяце одна клиентка рассказала, что кого-то укусила пчела, помнится, какого-то старьевщика, и он от этого умер. Но его приятель, который был с ним в тот самый момент, клянется, что его друг был отравлен, причем отнюдь не ядом насекомого.
— Кто? Где? — спросил Антонен.
— Этого я не знаю. В тот момент я не придал этому значения.
Виктор следил за реакцией Таша. Она сидела, согнувшись, положив локти на стол и уперев в них подбородок.
— Знаю, — процедил Гувье. — Это было в тот день, когда прибыл Буффало Билл.
Мариус медленно поднял голову.
— Вы о чем? Я тут пытаюсь сосредоточиться, не расслышал.
— Ничего особенного, — продолжал Гувье. — Как и положено, я провел маленькое расследование: тот, на вокзале, был очень, очень болен. Сердце. Смертельная болезнь. Провел десять лет в Новой Каледонии, бывший коммунар. Я беседовал с врачом, который его наблюдал.
— Все, я закончил! — объявил Мариус. — Как вам «шапка» «Преступление в фиакре»?
— Неплохо! — согласился Антонен, пробегая статью глазами. — Но вы сами сказали, что доказательств нет, так что я советовал бы выбрать более нейтральную интонацию, а то как бы эти фразы, хлесткие, как удары кнутом, не обратились потом против нас.
— Э, да ведь я только изложил факты, не больше. За работу!
Отодвинув стулья, все быстро встали. Сидеть осталась только Таша.
— Что с тобой? — осведомился у нее Мариус.
— Должно быть, солнце… у меня… немножко кружится голова, я вас через пять минут догоню.
— Нет проблем: иди домой и отдохни, завтра на выставке ты будешь нужна до зарезу. В сегодняшнем вечернем выпуске я могу обойтись без иллюстраций, а в следующий номер ты нам что-нибудь изобразишь. Ох уж эти дамские шляпки с цветочками: красивое украшение, а защиты от солнца никакой!
Пока Таша удалялась, Виктор откланялся.
— Пройдись по всем романам, где трупы, кровь и жуть, но только поскорее напиши! — уходя, крикнул ему Мариус.
Где она сейчас? Вон, стоит у булочной. Вначале он хотел пойти за ней, но потом понял, что лучше побыть одному, обдумать новую информацию.
Виктор не торопясь спустился к улице Риволи, прошел вдоль магазинов у Лувра, приглашавших на распродажу уцененных товаров. Тротуары были заполнены людьми. Из-за витрины магазина дорожных вещей на зевак немигающим взглядом смотрел мужской манекен в пробковом шлеме.
Виктор уступил дорогу группе людей-бутербродов с рекламными плакатами на груди и на спине. Он машинально прочел:
ГРАНД-РЕВЮ ПАРИЖ
И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Дважды в месяц, 10 и 25 числа
Руководители: Арсен Уссэ
и Арман Сильвестр
Санкт-Петербург. Вместо манекена перед его взглядом вдруг возникло жирное самодовольное лицо. На него насмешливо поглядывал Константин Островский. Занятно… У Островского была встреча с убийцей. Они были ему знакомы? Сообщники? И этот сообщник устранил Островского, потому что тот
слишком много знал и становился опасен? Надо обдумать. А что в тех маленьких горшочках, на серванте? Кураре? «Я чувствую, что в этом что-то есть… Но где доказательства? Полиции нужны будут подробности. Полиция! Как там бишь его, этого инспектора?.. Лекашер? Лекашер взял след, уж он-то установит связь между подписями в „Золотой книге“, докопается до Кэндзи, Таша… и до меня! Я оставлял Островскому свою визитную карточку».
В висках стучало, лоб горел. Виктор перешел через дорогу, вошел в сад Тюильри и упал на скамейку. Надо взять паузу, прийти в себя. Да разве в этом есть какой-то смысл? Кому придет в голову подозревать книгопродавца в сообщничестве с коллекционером?
Он потер затылок. Воображение работало на полную катушку. Кэндзи замешан в этом, и Таша тоже. Такие убийства с легкостью могла совершить женщина, тому свидетельство история испанки, о которой говорил Гувье. Простая шляпная булавка!
Легко уколоть жертву в толпе, стоит лишь спровоцировать давку.
Вдруг тетя сказала «ай…» Такими словами описала случившееся племянница Эжени Патино… И еще малышка добавила:
«Кто-то упал на нее, это было смешно».
Кто-то. Мужчина или женщина?
Вернуться на авеню Пёплие.
Остановившись у входа в книжный магазин, Кэндзи не спешил заходить внутрь. Сквозь стеклянную дверь он некоторое время наблюдал, как Жозефа осаждают три покупателя. Наконец войдя в магазин, Кэндзи послал ему приветственный жест.
— Где мсье Легри?
— Понятия не имею, я не ясновидящий, он приходит, уходит, а то трясется, будто у него Виттова пляска, — унылым тоном отвечал Жозеф.
— Завтракать приходил?
— Он ненавидит есть рагу летом, и я могу его понять. Вначале заперся в подсобке, потом поднялся к себе, а может, опять спустился… Я на пять минут отлучался к матушке за яблоками. Мсье Мори, поговорите с ним, не могу же я все делать один, у меня не сто рук.
— А утром, перед открытием, вы его видели?
— Нет, если уж он задумал незаметно смыться, то уходит по внутренней лестнице, знаю я эту уловку. Но вы-то не бросайте меня одного, хорошо?
— Я вернусь, займитесь пока покупателями, — сказал Кэндзи, поднимаясь по ступенькам.
Он прошел по коридору, разделявшему две квартирки, до самой двери, ведущей на лестничную клетку. Разумеется, Виктор по обыкновению просто захлопнул дверь, не заперев на ключ. Кэндзи закрыл ее на оба засова и вошел к Виктору. В спальне царил беспорядок. Шторы наполовину раздернуты, кровать не застлана, одежда раскидана по всей комнате. Он заметил разноцветный прямоугольник, прислоненный к часам под глобусом, написанную маслом рыжую девицу «ню», и сразу с неудовольствием понял, кто это. Кэндзи уже готов был уйти, как вдруг его взгляд упал на бюро. Цилиндр был открыт. Рядом с корзиной, полной неразобранной почты, он заметил лежащий на словаре голубой конверт, надписанный:
Фотографии, сделанные 24 июня на выставке колониальных товаров. Кэндзи протянул руку, задев рукавом темный предмет, и тот полетел на ковер. Это была тетрадь для записи заказов. На первой странице он прочел: «
R.D.V. J.C. 24-6 12.30 Гранд-Отель, № 312», после чего, по пунктам, следовали вопросы. Кэндзи придвинул кресло и сел.
Был уже пятый час, когда Виктор позвонил у решетчатых ворот дома Нантей. Открыть вышла толстая баба с бледным лицом, в которой он узнал Луизу Вернь.
— Опять вы! Это же надо, выкопать христианина из-под земли и искромсать на кусочки! Кабы я знала, за какую грязную работу вам платят!
— Ничего не понимаю! О чем вы?
— Так вы там служите или нет?
— Где?
— В полиции, где! Будь вы полицейским, вы бы прекрасно знали о
вскрытии!
Она подалась назад, смерив его взглядом с головы до ног.
— Ах, это! Подумаешь, вскрытие! — огрызнулся он. — Я-то думал, вы намекаете на новое убийство!
— Почему? Что, еще?!
— Как же это я… официально я не имею права разглашать… сами понимаете… служба…
— Как, прямо на заупокойной службе! О-хо-хо, ни к чему теперь нет почтения! Убить в церкви!
— О-о… не кричите так громко. Мне бы на минутку встретиться с мадемуазель Розой.
— Как бы не так! Она уволилась, заявив, что минуты не останется там, куда привозят мертвецов с кладбища, чтобы копаться у них в кишках! Тогда семья Нантей выпросила у Ле Масонов на несколько дней меня, бедненькую, пока они другую гувернантку ищут, и я согласилась. Мадам де Нантей заперлась у себя в спальне и никого не принимает.
— В таком случае… можно ли мне повидать ее дочь?
— Кого? Мари-Амели?
— Ее.
— Да вы это… время зря теряете. Допрашивать такую крошку…
— Мне нужно поговорить с ней пять минут, можете послушать и вы.
Луиза Вернь поспешно отправилась звать Мари-Амели, которая тут же явилась — щеки у нее были измазаны вареньем, а в руках она держала тартинку.
— Я вам в прошлый раз все рассказала!
— Да, мне важно уточнить только одну деталь. Вы сказали, что в тот момент, когда тетя была укушена пчелой, на нее кто-то упал, и это вас рассмешило.
— Ничего удивительного, малышка из таких! — ввернула Луиза Вернь.
— Это очень важно, подумайте, прежде чем ответить. Упал господин или дама?
Мари-Амели нахмурила бровки. На ее тартинку хотела сесть мошка, но она махнула рукой.
— Да не знаю я… Думаю, господин… Точно, это был господин! Можно я пойду?
Она побежала обратно в дом. Луиза Вернь покачала головой.
— Так я и думала, Эжени на вид была такая ханжа, а как мужиков-то окручивала!
Виктор торжествовал: если малышка не врала, если Патино толкнул мужчина, Таша ни в чем не виновата… Он с облегчением вздохнул, не подумав, что в этом случае подозреваемым номер один вновь становится Кэндзи.
Едва зайдя в магазин, он понял, что попал в западню. Три человека вскинули на него взгляды. Жозеф, перевязывавший стопку книг, стоя на стремянке, послал ему смущенную полуулыбку-полугримасу. Кэндзи, сидевший за конторкой с неизменной ручкой в руке, расправил плечи, а белокурая дама, присевшая на огромный дорожный сундук, стремительно вскочила.
— Одетта! — прошептал он потрясенно.
— Утенок, ты обещал мне…
Кэндзи не дал ей договорить.
— Итак, и на этой распродаже вы тоже увлеклись делом, и тоже успешно?
— Да, но на сей раз не без проблем, потому я и вернулся, — ловко увильнул Виктор от дальнейших объяснений.
— Утенок, распродажа или что еще, но ведь ты должен был отвезти меня на вокзал, вот я и зашла. Я так на поезд опоздаю, в Ульгат. Ты забыл?
Возмущенная Одетта принялась ходить вокруг дорожного сундука, тыкая в него зонтиком, словно вымещала на нем злость на Виктора.
— Ничего я не забыл, все прекрасно помню! У нас полно времени, — отозвался тот спокойно, взглянув на часы. — Жозеф поймает нам фиакр.
Не помня себя от счастья, что грозы удалось избежать, Жожо бросил недовязанную стопку и выскочил вон.
— Где мне тут можно носик попудрить? — спросила Одетта. — Твой китаец даже воды мне не предложил, — добавила она ему тихонько.
— Поднимись наверх, потом налево, комната в глубине.
Кэндзи дождался, пока она, ворча что-то себе под нос, поднимется по узкой лестнице, и сказал:
— На редкость неприятная особа! Двух покупателей спугнула. Отвезите ее, убедитесь, что она села в поезд, было бы жаль лишить нормандские берега такой очаровательной гостьи…
— Ох, не любите вы ее, — подавляя улыбку, констатировал Виктор.
— Это, кажется, взаимно. У меня непредвиденные обстоятельства, меня не будет.
— Куда это вы?
— В Лондон, на два дня. Еду сегодня вечером.
Виктор на несколько секунд лишился речи.
— Да что ж вам там понадобилось, в Лондоне?
— Личные дела. У вас они тоже есть, — с иронией парировал он, мотнув головой в сторону верхнего этажа. — А у меня вот — свои.
— Надеюсь, ничего не случилось?
— Отнюдь нет, с чего вы взяли?
— Просто подумал… С некоторых пор вы какой-то озабоченный.
— Раз уж вы это заметили, я вам скажу, что меня беспокоит: вы.
— Я?!
— Вас никогда нет на месте, нас с Жозефом на все не хватает. Такое впечатление, что книготорговля перестала вас интересовать.
— Напротив, библиотеки-то я всегда ценил по достоинству, как и вы…
Виктор подумал: вот ведь, ссоримся, как пожилая супружеская пара. Вошел Жозеф, крикнул:
— Мадам, ваша карета!
По лестнице прошелестело платье Одетты. Кучер взвалил на плечо ее сундук. Виктор хотел пожать руку Кэндзи, однако тот уже снова уселся за конторку, сказав Жозефу:
— Займитесь сейчас же доставкой, я закрою сам.
Бросившись Виктору на шею, Одетта не отпускала его до тех пор, пока они не уселись в фиакр.
— Утенок, ты правда про меня не забыл?
— Ну разумеется, ведь к твоему отъезду я готовлюсь загодя.
— Это ты не просто, чтобы сказать мне приятное?
Он рассеянно прикоснулся губами к ее виску, думая о том, зачем Кэндзи понадобилось так спешно отправляться в Лондон.
Спрятавшись под навесом парадного, на удаляющийся к Сене фиакр долгим мечтательным взглядом смотрела Таша. Она стояла, пока фиакр не скрылся из виду, а потом пошла вверх по улице к магазину «Эльзевир». Кэндзи как раз закрывал на щеколды наружные деревянные ставни. Оба застыли, неподвижно глядя друг на друга сквозь витрину.
Нацепив на лицо трагическую мину и насвистывая «Песнь разлуки», Виктор смотрел на огорченное личико, выглядывавшее из-за портьеры вагонного окна, и читал по губам прощальное: «Когда же ты приедешь, утенок?», заглушаемое ревом локомотива. Потом все исчезло в клубах пара. Нормандия не понесла ущерба: Одетта уехала в Ульгат.
На загроможденном багажом перроне он остановил продавца газет и купил специальный выпуск «Пасс-парту». На первой странице красовался крупный заголовок: «Преступление в фиакре».
Виктор прочел статью на ходу. Когда он выходил с вокзала Сен-Лазар, уже зажглись уличные фонари. Он решил дойти до Таша пешком.
На вокзале гудела шумная и суетливая толпа. Носильщики в униформе «Северных железных дорог» сновали между готовившимися к отправке поездами дальнего следования и фиакрами, останавливавшимися на площади Дуэ. Прислонясь к стене рядом с окошком справочного бюро, Кэндзи развернул специальный выпуск «Пасс-парту»:
ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФИАКРЕ
Пчелы-убийцы выбирают следующую жертву
Хорошо известный в кругах торговцев предметами искусства коллекционер господин Константин Островский скончался в фиакре в паре сотен метров от Эйфелевой башни.
Статья напоминала, что за прошедшую неделю такая же внезапная смерть настигла еще двух человек. Полиция отказалась делать какие бы то ни было заявления. Ниже был напечатан рассказ кучера, обнаружившего труп.
Кэндзи не стал читать дальше, он открыл портфель и сунул туда газету. Служащий в фуражке с галуном, на котором красовалась надпись золотыми буквами: «Переводчик», поинтересовался, нет ли в нем нужды. Кэндзи вначале покачал головой, потом вдруг передумал и что-то ему шепнул, сунув чаевые. Служащий удалился, а через несколько минут вернулся с какой-то бумагой в руке. Кэндзи положил ее в карман, взглянул на часы: 22.15. Он с трудом пробился к окошку телеграфиста и написал на бланке телеграммы:
Непредвиденные обстоятельства. Приеду ближайшей неделе. Love, Кэндзи. Мисс Айрис Эббот care of Mrs. Dawson, 18 Чаринг-Кросс, Лондон.
Он протянул написанный текст телеграфисту, прибавив «срочно», расплатился, вышел с вокзала и направился на бульвар Денэн, к отелю «Северных железных дорог».
При входе он предъявил принесенную ему переводчиком бумагу.
— Номер мне забронирован, — сказал он.
Консьержка, сухонькая женщина с острой мордочкой, вцепилась в него, выскочив на порог своей каморки.
— Эге, кудай-то в такой поздний час? Я тут за все отвечаю, должна знать, кто приходит и уходит!
Виктор помчался вверх, перепрыгивая через ступеньки. Добежав до шестого этажа, зачем-то посмотрел вниз. Там царила непроглядная тьма, в коридорчике тоже.
Она была там, за четвертой дверью направо, их разделяла только стена. Он прислушался: тишина. Нет, кажется, босые ноги быстро пробежали по паркету. Он ждал, лелея в сердце надежду. Она подошла открыть задвижку, сейчас он потребует, чтобы, глядя ему в глаза, она ответила, да или нет… но что если в эту минуту она не одна? У него перехватило дыхание, и он стоял на дверном коврике, жалко ловя ртом воздух. «Лучше мне уйти, иначе я могу потерять голову. Она еще не вернулась домой, да, похоже, что так». Эта мысль его успокоила. Он неловко зацепился за перила и выругался. И дверь внезапно распахнулась. Сноп света ослепил его.
— Мсье Легри? Вы? Вот это да…
Женщина была из плоти и крови, совсем, совсем близко… Он видел ее так отчетливо. Она была в ночной рубашке со стоячим воротником, плотно облегавшей тело. Смутившись, он сказал:
— Таша… Я беспокоился… Вы сегодня так быстро ушли из кафе, вы… Вы не заболели?
— Просто устала. Я работаю по четырнадцать часов в сутки.
— Вы замерзнете.
— Да ведь стоит адская жара!
— У вас каменный пол…
— Проходите же.
Опустив глаза, он увидел ее лодыжки. Он сделал резкий шаг вперед, она отскочила.
— Нет! — выдохнула она.
Он замер. Догадывалась ли она, чего ему стоило побороть желание дотронуться до нее? Она прошла мимо керосиновой лампы, стоявшей на столе. Не больше секунды, но он ясно увидел сквозь легкую ткань все округлости ее тела.
— Да это вы больны! — вскрикнула она, отступая в глубину комнаты.
Он вновь подошел к ней, так близко, что чувствовал запах ее кожи.
— Вы знали его! Вы сами мне говорили, — прошептал он.
— Кого?
— Человека, которого нашли мертвым в фиакре. Островского.
Ее лицо тревожно дрогнуло.
— Я с ним много раз встречалась, ну и что? Вы ведь тоже его знали, не далее как вчера вечером вы виделись с ним у Вольпини!
— Просто встречались? Вы уверены?
— Да как вы смеете?!
Он двумя пальцами взял ее за подбородок, силой заставив поднять голову.
— Когда вы встречались с ним в последний раз?
Она резко высвободилась.
— Два дня назад я приходила к нему отдать работу, которую он мне заказывал. Эскизы краснокожих. К чему эти вопросы, вы что, полицейский осведомитель?
— Его смерть подозрительна, рано или поздно полиция захочет узнать, какого рода отношения вас с ним связывали. Вы были на вокзале Батиньоль в день, когда приехал Буффало Билл!
Она в замешательстве скрестила руки на груди.
— Какого рода отношения? Вы думаете, существует связь между всем этим и тем, что случилось на выставке? И поэтому так разговорились в кафе?
— Вы были в Батиньоле?
— Да, меня послал Мариус с редакционным заданием.
— Хорошо хоть не Островский!
— Вы переходите границы!
Пропустив это мимо ушей, он толкнул дверь, и она захлопнулась. А может, она ломает комедию? В ее ответах слишком много горячности, и говорит она почему-то неуверенно.
— А смерть этого старьевщика вы видели сами?
— Нет. Видела, как он упал, и подумала, что его сразила болезнь, мне хватило времени сделать с него эскиз до прихода жандармов. Там началась давка, и я ушла. Мне не нравятся такие зрелища!
Возмущенная, она смотрела на него с недоверием. До нее наконец дошло.
— Черт подери, вы, никак, подозреваете меня! Уж не хотите ли вы обвинить меня в убийстве этих несчастных? Объяснил же вам Гувье, тряпичник был болен сердцем. Кто вам вбил все это в голову? Клюзель?
— Обошлось и без него, — проворчал он, отворачиваясь, чтобы не расчувствоваться. — Я просто все сопоставил. Вы были на башне в тот день, когда умерла Эжени Патино.
— И по этой причине я виновата в ее смерти? Сколько еще людей было там в те минуты, вся редакция журнала, ваш друг японец, да и вы сами… Вы правда думаете, что я могу причинить кому-то зло? Вы совсем не уважаете меня?
— Напротив! Я очень… уважаю вас и хочу вас защитить.
— От чего? От кого?
— Вы знали Островского. И потом… я видел вас на эспланаде Инвалидов за несколько мгновений до смерти Кавендиша.
— Вы за мной шпионили!
— Уверяю вас, это вышло случайно…
Разве мог он признаться, что в тот день пришел туда в надежде встретить ее на колониальной выставке.
— Уходите, я устала!
— Те дорогие духи, которые я видел у вас позавчера, их подарил Островский?
— А хоть бы и так, вам какое дело? Я свободна, встречаюсь, с кем хочу! — крикнула она, пытаясь обойти его. — Тот флакон — пробный образец. В прошлом месяце я нарисовала этикетки по заказу парфюмера. А теперь убирайтесь, я больше никогда не хочу вас видеть!
Она быстро вытерла заблестевшие от слез глаза. Завладев этой маленькой дрожащей рукой, он поднес ее к губам.
— Таша, прошу вас… простите меня, — сказал он, целуя ее руку. — Я хотел убедиться… все это так непросто…
Она сделала слабую попытку высвободиться.
— Непросто, потому что сами вы непросты, — выговорила она сдавленным голосом.
Он привлек ее к себе, зарылся лицом в ее волосы, глубоко вдыхая их запах. Когда его губы коснулись ее губ, она отшатнулась, но не уклонилась от поцелуя. Он целовал ее лоб, нос, шею и чувствовал, что она сдается. Кровь бешено стучала в висках, он крепко обнял ее, его руки гладили нежную спину, которая все больше обмякала. Щеки ее покраснели, она отодвинулась, приподнялась на цыпочки и, глядя ему в глаза, сбросила с его плеч редингот, а потом взяла за руки и положила их себе на бедра.
Он страстно прижал ее к себе, подхватил и понес на кровать. Ложась рядом, развязал пояс на ночной рубашке. Она приподнялась, чтобы лучше рассмотреть его в мерцающем свете лампы, принялась расстегивать ему пуговицы, прерывисто дыша.
— Ну же, — шепнула она.
Он стал целовать ее горло, ласкать груди, потом спустился к горячему низу живота. Их обнаженные тела слились воедино…
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Четверг 30 июня, утро
Кэндзи потянулся. Спать было неудобно, и тело затекло. Ванну тут не примешь, а этого так не хватало. Гостиничный номер с обоями в цветочек и стандартной мебелью был чистеньким, но без комфорта. Он долго смотрел в зеркало, словно ища в нем каких-то объяснений, но видел лишь свое осунувшееся лицо. Слишком мягкая кровать, шум бульвара Денэн, шаги постояльцев и служащих так и не дали ему по-настоящему заснуть. Зато у него было время поразмыслить обо всем, что случилось. Теперь он должен был хладнокровно составить план дальнейших действий.
Кэндзи подвинул стол к окну, взял папку с бумагами и вынул из нее три фотоснимка, которые накануне забрал из комнаты Виктора. Поправив очки, внимательно рассмотрел снимки, долго вглядываясь в каждую деталь. Потом принялся ходить из угла в угол, взвешивая все за и против. В его распоряжении было совсем немного, всего лишь впечатление. Кэндзи налил чашечку чая и перечитал статью в «Пасс-парту», где излагались обстоятельства смерти Островского. Да, впечатление. Но теперь ему было понятно, что оно многое объясняло. Когда он надел пиджак, у него созрело решение. Действовать, будучи не вполне уверенным, все же лучше, чем прозябать в сомнениях.
Завернутый в простыню и свесивший ногу с кровати Виктор дремал, когда внезапно очень близко раздался голос, исполнявший арию Мефистофеля из оперы Гуно «Фауст»: «Сатана там правит бал…» Буркнув что-то себе под нос, Виктор перевернулся на другой бок. Баритон горланил все ближе и ближе. Вот уже голос звучал чуть ли не над самым ухом. Виктор приподнялся, приоткрыв глаз, — и его ослепил свет из слухового окошка. Зачем Мефистофелю так упорно взывать к золотому тельцу? Еще во власти сна, он повалился на подушку. А голос уже заполнял собой всю комнату: «Этот идол золотой волю неба презирает, насмехаясь, изменяет он небес закон святой». Вот откуда он звучит — из фаянсовой кастрюльки, прикрытой пачкой сделанных углем эскизов. Таша! Ее это тоже разбудило? Место рядом с ним было еще теплым, пропитанным ее запахом. Нет, ночное приключение ему не приснилось. Его охватило ликование, какое он испытывал только ребенком, когда пансионат в Ричмонде закрывался на все лето.
Виктор перевернулся на живот и уткнулся головой в подушку.
— «Бензой», — прошептал он.
Как называлась туалетная вода Одетты? «Гелиотроп»? Одетта, уехавшая только вчера и уже растаявшая как тень. Он решил навсегда о ней позабыть. Приподнявшись на локте, он с трудом разглядел циферблат: 8.15. Там же, на столике лежала записка от Таша.
Дорогой Виктор,
Мир принадлежит тем, кто рано встает, а значит, он — мой! Буду счастлива видеть тебя в любое время. Сегодня вечером, в восемь, здесь. Кофе есть. Уходя, положи ключ под дверной коврик.
Таша
За стенкой, обклеенной чудовищными коричневыми обоями, Шарль Гуно уступил место Россини, а «Фауст» — «Севильскому цирюльнику». Раздосадованный обращением «дорогой Виктор» — после такой-то ночи! — он сел на край постели. Его нижнее белье висело на мольберте с неоконченным полотном: крыша, кровельный желоб, небо, нарисованное в стиле гризайль. Не отрывая взгляда от картины, он наклонился поднять носки. Кое-что показалось ему странным. Откуда эти маленькие темные точки, внизу, вверху? Он впился взглядом в полотно. Точки оказались с утолщением посередке, двух цветов — черного и желтого — и к тому же с крылышками. Пчелы. Это надо было понимать как послание? Озадаченный, он решил обдумать это подозрительное обстоятельство, пытаясь попасть ногами в кальсоны.
Пройдя в чулан, служивший кухней, он не сумел зажечь газ, не нашел сахара в груде горшков и горшочков на этажерке и в конце концов выпил чашку холодного горького кофе.
Свою рубашку он раскопал под столом, рядом с кирпичом, подпиравшим хромую ножку. На покрытом пылью полу валялись хлебные крошки. Таша не рождена быть хозяйкой, подумал он, потягиваясь. Прямо на него смотрело изображение мужчины, охваченного ужасной тоской, репродукция была прикноплена возле ниши с книгами. Видимо, рисунок Гранвиля, он узнал его манеру, кажется, что-то такое видел в старом номере «Живописного журнала». Стая ночных птиц, летавших вокруг головы этого персонажа, очень напоминала крылатых существ, столь любимых Гойей. Он почувствовал укол стыда, что так и не принес Таша «Капричос».
Из-за стен вдруг прорвался голос Данило Дуковича.
Уж как на Руси царю Борису слава!
Слава! Слава!
После паузы:
Уж как на Руси царю Борису слава!
Слава, слава царю Борису!
Серба приняли в труппу Оперы? Он празднует победу?
Уж как на Руси царю Борису слава!
Слава, слава царю Борису! Многая лета!
Ну, а ты, Фигаро, — прощай, заключил Виктор. Настроение было прекрасное. Панталоны. Куда она подевала его панталоны? Да вот же, на багажной корзине, вместе с галстуком и рединготом. Он надел башмаки и завязал шнурки. Русские слова, пропетые Данило, осели в памяти и смутно тревожили его. Виктор надел редингот, уже готовясь выступить в поход. Хлопнула дверь, это покинул свой терем царь Борис. Что-то в памяти смутно шевелилось, какое-то недавно услышанное имя… Чье? Он уже почти выходил, когда заметил, что забыл надеть галстук. Ну и ну, голова садовая.
Закрыв дверь на ключ, положил его под дверной коврик. Таша. Вечером он опять ее увидит! Виктору тоже хотелось петь, но он ведь был не у себя дома, к тому же у него напрочь отсутствовал слух. Надо будет купить цветов, шоколада, мятных пастилок, чая… Может, еще и цветов…
Съехав по перилам и вылетев во двор, он оказался в эпицентре только что разгоревшегося скандала. Бородатый великан Данило Дукович и маленькая Хельга Беккер, разрумянившаяся, с горящими глазами, в своих широких коротких штанах, осыпали друг друга изысканными ругательствами.
— Шакалиха! — возмущался серб.
— Разбойник! — вопила в ответ немочка.
Виктор помахал им на ходу. Они на миг умолкли, смерив его взглядом, и опять взялись за свое.
— Стервятница!
— Лежебока!
Виктор вышел на улицу Клиши, быстро прошел мимо магазина с вывеской «Матерям, одевающим детей своих в голубое и белое». Заинтригованный, он вернулся, приоткрыл дверь магазина и весело крикнул:
— А куда ж деваться Красной Шапочке?!
Громко расхохотавшись собственной шутке, Виктор пошел дальше. Большие витрины кондитерской Прево, располагавшейся неподалеку, привлекли его внимание, и он не отказал себе в удовольствии съесть орден Почетного легиона, приготовленный из пралине.
По склону вниз, подскакивая на маленьких железных колесиках, съехал экспресс «Батиньоль — Клиши — Одеон». Остановка была безлюдна. Водитель уже хотел было промчаться не останавливаясь, как вдруг увидел человека, который махал ему, держа в руке шоколадную Эйфелеву башню.
Кэндзи, задрав голову, посмотрел на памятник, воздвигнутый тут месяц назад. Спиной к далекому Нотр-Дам-де-Пари на монументальном пьедестале над площадью Мобер возвышался писатель-печатник Этьен Доле, в рейтузах и коротких штанах-пуфах. Кэндзи заговорщицки подмигнул коллеге, который за свои философские воззрения в 1546 году был признан еретиком, повешен, а затем сожжен в двух шагах от нынешнего бульвара Сен-Жермен, на том месте, где теперь стояла дюжина фиакров. Поджидая клиентов в тени деревьев, кучеры обсуждали возвращение из изгнания генерала Буланже. Кэндзи подошел к ним, держа в руке «Пасс-парту».
— Здравствуйте, господа, мне нужен мсье Ансельм Донадье.
— А он на «Гильотине», рассказывает свои похождения всем, кто попросит, а еще лучше — кто стаканчиком угостит. Вот ведь кому везет! Со мной такого ни в жисть не случилось бы! — ответил кучер с багрово-красной рожей.
— На гильотине?
— Ну, в «Красном замке», если вам так больше нравится, на улице Галанд.
Улыбнувшись, Кэндзи приподнял шляпу:
— Эге-гей, господа, осторожнее на поворотах, а то налетите на ухаб!
Кучеры во все горло расхохотались.
Не обратив никакого внимания на мрачный вид Жозефа, Виктор прошмыгнул в подсобку, чтобы положить в холодок полурастаявшую башню. Потом с улыбкой обратился к нему.
— Все, теперь никуда больше не уйду! Что это вы, Жозеф, смотрите на меня, закатив глаза, точно рыба на прилавке? Это всего лишь шоколад, — сказал он, показывая ему свои липкие руки.
— Все бы хорошо, знай я хотя бы, где вас искать, мсье Легри, теперь, когда вы знамениты.
— Знаменит? Вы о чем?
— А вы разве не знаете? Да люди же пишут вам прямо в редакцию газеты… Вот письмо, сегодня утром курьер принес. Примите поздравления!
Виктор взглянул на конверт, протянутый Жозефом.
Господину Виктору Легри
Журналисту «Пасс-парту»
Улица Круа-де-Пти-Шамп
— Суньте мне в карман, прочту, когда вымою руки.
Он направился к винтовой лестнице.
— Мсье Легри, уж теперь-то, когда вы — полноправный член редакции, наверняка вам стали известны детали тех смертей на выставке. Скажите, тот русский, в фиакре, он умер из-за того же или нет?
— Как сказал бы мсье Мори, смерть одинакова для всех, как для людей, так и для червей!
— И на том спасибо! — буркнул Жозеф.
На кухне растрепанная Жермена процеживала содержимое кастрюли с помощью деревянной ложечки. Принюхавшись, Виктор уловил аромат перепелов в коньячном соусе. Собирался было попенять кухарке за неуместность горячих блюд в соусе в жаркое время года, да вовремя остановился. Жермена, непревзойденная кухарка, исполнительная и неприхотливая, служившая у Виктора и Кэндзи уже семь лет, была особой весьма обидчивой, так что лучше было не испытывать ее терпение. Ибо в подобных случаях добрая женщина превращалась в гарпию, часами напролет метавшую громы и молнии, и страдала от этого прежде всего ее стряпня.
Вымыв наконец руки, Виктор распечатал конверт. Корявые буквы кренились в разные в стороны на вырванном из блокнота листе:
29 июня
Я должен увидеть вас, очень срочно, приходите ко мне после полудня.
Капюс
Интересно, письмо было доставлено в газету накануне вечером? Скорее всего. В таком случае, Капюс ждал его именно сегодня. Который час? Десять минут двенадцатого. Виктор, ненадолго задержавшись в кухне, чтобы схватить кусочек хлеба с сыром, спустился, уже не слушая брюзжания Жермен:
— Кусочничать — убивать аппетит!
Стоя на раскладной лестнице, Жозеф искал иллюстрированное издание «Басен» Лафонтена, которые заказал один желторотый юнец. Он с облегчением посмотрел на появившегося Виктора, но тот стремительно пронесся мимо него к двери.
— Мсье Легри! — отчаянно крикнул Жозеф, поняв, что его вновь оставили одного. Но ответа не последовало.
У выхода из книжной лавки жирный голубь клевал что-то на земле. Он тяжело отлетел прочь, и, проследив за ним взглядом до противоположного тротуара, Виктор обратил внимание на крупного толстяка в парадном ближайшего дома. Ему показались знакомыми эта косая сажень в плечах, посадка головы, слишком длинные волосы. Данило Дукович. Вот уж кого он не ожидал здесь увидеть. Останавливаться Виктор не стал, подумав, что этот взбалмошный тип наверняка влюблен в Таша.
Может, он следит за Виктором из ревности? И тут он вспомнил, как накануне вечером дал ему свой адрес, когда уходил из кафе «Вольпини». Вот оно что, Дукович, должно быть, пришел попроситься к ним на службу. Ну, Жозеф сумеет от него отделаться.
На залитой солнцем набережной попадались редкие прохожие. Поднявшись к Французской академии, Виктор вроде бы расслышал за спиной чьи-то шаги. Он остановился, шаги, почти сразу, тоже стихли. «Меня преследует Дукович, он точно ревнует, быть может, собирается напасть!» Он обернулся, но за спиной никого не было. Навстречу с безразличным видом шли служанки в платках и с корзинками для еды. Он пошел дальше, но тревога его уже не оставляла. Он чувствовал, что за ним следят.
Дойдя до квартала Моб, Виктор заметил у входа в трактир здоровенного детину и ускорил шаг. Сложив руки козырьком, он приблизил лицо к немытой витрине и различил во тьме какого-то типа, смахивающего на рыночного грузчика, облокотившегося на стойку. Это был не Данило Дукович. «Да я, черт возьми, с ума схожу! У меня мания преследования. Не надо было в эти дни так много есть».
Консьержка была при своих доспехах: должно быть, занималась уборкой. Двор был пуст. Виктор постучал. До него смутно доносился шум городской жизни, где-то на верхнем этаже плакал ребенок. Виктор нетерпеливо побарабанил ладонью по растрескавшейся двери, приник ухом к замку.
— Мсье Капюс… мсье Капюс, вы здесь? Это я, Легри!
Поколебавшись, он толкнул дверь. Она отворилась. Ставни внутри были полуприкрыты. Комнату оживляли лишь пронизывавшие ее тонкие бороздки света, в которых плясали пылинки.
— Мсье Капюс, это Виктор Легри из «Пасс-парту»… Есть тут кто-нибудь?
Скрежет, неуловимое движение слева от него. Виктор не двинулся с места, выжидая. Судорогой свело икру.
— Я теряю форму, — пробормотал он.
Страшной силы удар обрушился ему на плечо.
Он пошатнулся и тяжело упал. Внезапно раздалось дикое мяуканье, перешедшее в долгий вой. Что-то пронеслось мимо, убегая со всех ног. Виктору показалось, что стены комнаты рушатся на него. Сверху над ним нависла чья-то грозная тень, она надвигалась, словно ползущий по паутине паук. Виктор инстинктивно увернулся, стукнувшись головой об угол шкафа, и закрыл глаза. Кровь так стучала в висках, что он не услышал щелканья дверного замка. Боль отхлынула, и на него опустилась тьма беспамятства.
Когда он наконец разлепил веки, первое, что заметил в нескольких сантиметрах от своего лица, — пару сапог и осколки стекла. Собрав волю в кулак, он с трудом поднялся, ухватившись за край стола. В сумраке разглядел на одной из кроватей куль, прикрытый светлой тканью. Опершись о металлическое изголовье, Виктор наклонился, приподнял ткань и отпрянул, с трудом сдержав крик. Несколько мгновений он убеждал себя, что увиденное — не более чем игра света. Потом, глубоко вздохнув, быстро сдернул покрывало. Распростертый на спине, с запрокинутой головой, на кровати лежал мертвый Анри Капюс с перерезанным горлом. Кровать была вся залита кровью.
Виктора била крупная дрожь. Он не мог поверить своим глазам.
— Мак-Магон!
От этого крика волосы встали дыбом. Он так и стоял, стараясь не дышать, чувствуя, как голову словно сдавило в тисках.
— Мак-Магон! Да где же ты, котик? — причитала за дверью консьержка. — Эй, старое чучело, знаю я, вы дома! Притворяться невелика хитрость. Отдайте Мак-Магона, или… Ну погодите, я вам покажу!
Она постучала в дверь. Какое-то время стояла, замерев и ожидая ответа. Слишком долго, она стояла слишком долго. Наконец из коридора послышались ее удалявшиеся шаги.
Бежать отсюда, быстро! На воздух, к жизни. Вытянув руки перед собой, он шел наощупь. К горлу подступила тошнота. Он нащупал дверную ручку, повернул, но дверь не открылась. Еще раз повернул — тот же результат. Виктор неистово дергал ее, хотя уже понял, что оказался заперт наедине с трупом! Если он расскажет все как было, кто ему поверит?
В панике он отступил. «Поразмысли, не бросайся в огонь, выход есть почти всегда», — вспомнились ему слова Кэндзи, сказанные, когда он, еще мальчиком, смотрел на большой лондонский пожар. Выход… Окно! Рискованно конечно — там мог быть тупик, а значит, западня, и потом, его могли заметить свидетели, ведь нападавший наверняка все предусмотрел. Добраться до окна. Он споткнулся обо что-то, это были сапоги, потерял равновесие и едва не свалился на какое-то растение в стеклянном горшке, в последний момент ухватившись за спинку кровати. Его взгляд невольно сосредоточился на покрывале, прикрывавшем тело Капюса. Ему почудилось, что тот лежит в огромной стеклянной банке с этикеткой: «Обитатель улицы Паршеминери». Виктор взобрался на узкий подоконник и, обдирая кожу с пальцев, попытался отодвинуть щеколду, которую, похоже, вообще никогда не открывали. Сжав зубы, сильным ударом кулака он саданул по стеклу. «Да откройся ты, черт бы тебя побрал!» Стекло со звоном разбилось, по руке потекла струйка крови. В слепой ярости он сорвал с окна грязную шторку и обмотал вокруг пораненной руки. Под его напором источенная червями древесина дрогнула, и окно распахнулось. Он увидел двор, слева дом, справа проход. В тот момент, когда он уже
выпрыгивал из окна, откуда-то появились двое мальчишек.
— Пьянчужка, пьянчужка! Мы тебя видим, ты весь в крови, вот пойдем и скажем мамаше Фрошон, что ты слопал ее кота!
Заорав страшным голосом и распугав шалунов, Виктор кубарем скатился на ворох ящиков и дальше рванул вслепую. Узенький проходик с такой низкой крышей, что пришлось нагнуть голову, за ним еще двор и улица. Он бежал, едва не сбив с ног нищего, рывшегося в мусорном отстойнике, а вслед ему несся собачий лай. Переулок вилял меж горбатых лачуг. С лихорадочно стучавшим сердцем Виктор вбежал в какую-то дверь, потуже обмотал обрывком шторы пораненную руку. Осторожно подвигал рукой — перелома не было. Виктор отряхнул редингот, одернул его, пригладил волосы. Скрип колес по мостовой, голоса, шаги — совсем близко: бульвары жили обычной жизнью. Он не раздумывая бросился туда, слился с толпой прохожих, толкаясь и орудуя локтями. Ступив на камни набережной Монтебелло, Виктор снова стал самим собой. А на набережной Конти он даже смог немного расслабиться, и долго сдерживаемые чувства прорвались наружу: губы искривились, в горле перехватило, и он разрыдался.
Прогремел гром. Когда он свернул на улицу Сен-Пер, на мостовую упали первые теплые капли. Виктор прислонился к стене, запрокинув голову и подставив лицо под дождевые струи. Торговка зеленью пробежала мимо, она торопилась укрыться под навесом книжного магазина, волоча за собой тележку. Виктор заметил Жозефа, высматривавшего кого-то, прилипнув носом к стеклу витрины, подождал, пока тот вернется за прилавок, и только тогда перешел дорогу и вошел. Уже поднявшись по лестнице, ощупал карманы: ключей не было. Выронил их пока бежал или оставил у Капюса? На связке была табличка с его фамилией.
Пришлось пройти через магазин. Жозеф смахивал пыль с книжных переплетов. На звяканье колокольчика он с дежурной улыбкой обернулся, но увидев, кто это, воскликнул:
— Ого, хозяин, что с вами случилось?! Попали под омнибус? У вас вся рука в крови.
— Ничего, царапина.
— Вы бледны как смерть, вам надо отдохнуть. Хотите, помогу подняться? В такую погоду клиентов как корова языком слизнула!
Слишком измученный, чтобы протестовать, Виктор позволил проводить себя наверх. Жозеф уложил его на кровать, снял с него ботинки.
— Поспите как следует, хозяин, это вам будет на пользу. А хотите, я вызову доктора Рейно?
— Нет, ради Бога, не надо! Идите же, присмотрите за магазином.
— Да-да, но ведь надо все-таки осмотреть рану и обработать, вдруг инфекцию занесли. Кстати, новость последнюю знаете? Третий труп на выставке. Все снова повторилось, и газета…
— Знаю я, Жозеф, вы мне уже говорили!
— Ну, оставляю вас… Угораздило же… а я тут торгую один-одинешенек… — ворчал парень.
Дверь за ним закрылась. Виктор откинулся на подушки. Из высокого окна в комнату лился свинцовый свет, дождь барабанил в стекло. Едва он смежил веки, как тут же разлепил их, отгоняя страшное зрелище — старика с перерезанным горлом. А крови, крови сколько! От страха у него подвело живот, а к горлу подступила рвота, и он едва успел добежать до туалета. Небо исполосовали молнии, он машинально посчитал: одна… вторая… третья… Стены словно сотряс взрыв, за ним другой, в два раза сильнее. Измученный приступом рвоты, он вошел к Кэндзи, чтобы принять холодную ванну, и присел на краю, глядя, как прибывает вода.
Он легко отделался. Никто его не видел, кроме мальчишек. Никто, если только не успел рассмотреть убийца. Но кому перешел дорогу старина Капюс?
Виктор зажег газовый фонарик, разделся. На столике над умывальником красовались два фото в рамке. На одном — мальчик с молодой дамой: «Дафнэ и Виктор, Лондон, 1872», на другой — уроженец Азии, лет тридцати, серьезный, строгий, в темном рединготе.
«Не будь там кота, я, наверное, был бы уже мертв… Мои ключи!»
Он не мог оторвать взгляд от своей фотографии с матерью. Чуть подвинув поближе рамку, взглянул на полного достоинства Кэндзи Мори.
Впервые он задал себе вопрос, что так привязывало Кэндзи к Дафнэ, чтобы заставить поставить крест на своей личной жизни. После смерти Легри-отца японец как-то естественно стал главой семьи. Им двигал материальный интерес? При этой мысли Виктор почувствовал стыд и отвращение к себе. Подозревать в чем-то дурном человека, воспитавшего его, бодрствовавшего сутками у его постели во время ужасной эпидемии дифтерии 1869 года… Невозможно.
Он отодрал грязный лоскут, которым была завязана рана на руке. Нет, это точно не Кэндзи, ведь тот не выносит вида крови. Эта фобия у него с самого детства, со времени военной диктатуры Токугавы, когда часть его семьи, перешедшая в христианство, была перебита. Сам Кэндзи уцелел буквально чудом.
От холодной воды дыхание перехватило, Виктору почему-то вспомнилась рука Капюса, холодная, как мрамор, он коснулся ее, когда приподнял покрывало, наброшенное на труп. Холодная… холодная… Он напряженно думал. Через какое время после смерти тело так остывает, если принять в расчет нынешнюю температуру воздуха? Через восемь, десять часов?
Его вновь бил озноб. Виктор выбрался из ванной и завернулся в чистую простыню. Странно. Все очень странно. «Я пришел на улицу Паршеминери около полудня. Если мой расчет верен, Капюсу перерезали горло, когда он спал, то есть около трех утра».
Пока он обсыхал, на глаза ему попался столик с фотографиями, в резком свете газового фонаря он казался совсем белым, и по странной ассоциации его блестящая поверхность напомнила Виктору столик в бистро. Он вспомнил залитую солнечным светом террасу «Жана Нико». «Я что-то сболтнул о смерти Меренги… Надо припомнить. Я сказал, что приятель старьевщика, присутствовавший при драме, поклялся, будто это спланированное отравление, а никакая не пчела. Я не должен был говорить об этом… Таша! Нет! Этого не может быть, ведь мы провели вместе ночь!»
Он поднял голову. Бесстрастный взгляд Кэндзи с фотографии, казалось, читал его мысли. «Сообщник! Под предлогом плохого самочувствия она все рассказала сообщнику!»
Он сморщился как от боли. Нет, кое-что все же оставалось неясным. Убийца не мог предвидеть его прихода. Тогда зачем он еще восемь часов оставался на месте преступления, после того как его совершил?
Письмо! Письмо Капюса. В газете кто-то о нем узнал до того, как его забрал курьер. Таша. «Мир принадлежит тем, кто рано встает». Мерзавка! «Убийца вернулся туда и ждал меня». Он бросился обратно к себе.
Гроза стихала, теперь золотые вспышки были видны из-за облаков. Он вытащил из портмоне конверт.
Мсье Виктору Легри
Журналисту «Пасс-парту»
Улица Круа-де-Пти-Шам
Ни марки, ни печати. Письмо принесли прямо в газету. Он повалился на кровать, конверт хрустнул в сжатых пальцах. Усталость и волнение взяли свое, и он провалился в сон.
…Виктор радостно парил над длинным стальным змеем. Понемногу снижаясь, приземлился на его коготь, на котором пели вставшие в круг мальчишки:
Фигаро! Я здесь…
Фигаро! Я там…
Фигаро здесь, Фигаро там.
Увидев Виктора, они разомкнули круг, бросились навстречу, окружили его, и тут, взглянув на них, он закричал от ужаса: у всех мальчишек было перерезано горло, от уха до уха. И вот он уже идет по туннелю, заполненному скелетами, сжимая в руке данный Жерменой список покупок. Корсет, он обещал купить Одетте корсет, но забыл размер. Он прошел мимо женщины в тюрбане, приветствовавшей его ласковым «здравствуй, утенок!» и протянувшей кусочек ананаса, который он поднес к губам. Но рука начала кровоточить, и он опустил ее в стеклянную банку, где копошились сотни жужжащих насекомых. Это были пчелы. Они разлетелись, чтобы стремительным роем расплющиться об афишу с краснокожими всадниками, догонявшими поезд. Выглядывая из-за портьеры вагона, толстый полосатый кот размахивал списком покупок, мурлыкая что-то про царя Бориса. Вдруг земля дрогнула. Резко развернувшись, Виктор, задыхаясь, побежал, уверенный, что ему уже ни за что не спастись.
Видно, во сне он так резко повернулся, что упал с кровати.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Четверг 30 июня, после полудня
Виктор не понимал, где находится, и почему он голый. Зрение медленно прояснялось, но несколько минут ушло на то, чтобы понять, что висевший на стене напротив портрет кисти Гейнсборо немного накренился вправо. «Я у себя в спальне. Но почему я на полу?»
Он дошел до туалетной комнаты и сунул голову под кран. Чтобы на пленке его памяти проявилось хоть что-нибудь разумное, он попытался прорваться сквозь сон, походивший на сшитый из лоскутов костюм Арлекина: мальчишки, перерезанные глотки, скелеты, женщина в тюрбане, пчелы, краснокожие, поезд, кот. Слова. «Фигаро, я здесь… Здравствуй, утенок…» И кот, он ведь что-то орал по-русски! Список… «Фигаро», вот что самое важное! Листок «Фигаро на башне»! Был ли среди подписантов 22 июня Данило Дукович?
Виктор быстро направился в спальню Кэндзи, порылся в ящиках, перешел в спальню. Мизинцем ноги зацепился по дороге за ножку стула, чертыхнулся, на глаза выступили слезы. Прыгая на одной ноге, он споткнулся и упал на цыновку, расстеленную на металлической сетке кровати. В сетке обнаружилось углубление, из которого он достал пакет, обернутый тканью, металлическую коробочку, два больших конверта и экземпляр «Фигаро на башне». Раскрыв его, он увидел, что строка, где написано «R.D.V. J.C.», вырвана. Он заново просмотрел список.
В первой колонке значились следующие имена:
…Мадлен Лезур, Шартр. Кэндзи Мори, Париж. Зигмунд Полок, Вена, Австрия. Марсель Форбен, лейтенант 2-го кирасирского полка. Розали Бутон, белошвейка, Обервилье. Мадам де Нантей, Париж. Мари-Амели де Нантей, Париж. Эктор де Нантей, Париж. Гонтран де Нантей, Париж. Джон Кавендиш, Нью-Йорк, США.
Во второй колонке:
Константин Островский, коллекционер произведений искусства, Париж. Б. Годунов, Славония. Гильермо де Кастро, студент из Аликанте. Танкред Пиндарус, священник из Бордо. Шарлин Кросс из Фоли-Бержер.
Он перечитал начало. Б. Годунов. «Слава и многая лета царю Борису…» Данило Дукович! Части головоломки начинали сходиться. «Это он. Утром он за мной следил…»
Ничего не убирая, Виктор поспешно оделся и выскочил по внутренней лестнице на улицу.
В который раз восхитившись широкой перспективой улицы Турнон, Кэндзи замедлил шаг у ресторана «Фуайо», где от души посмеялся, глазея на депутатов, которым подали баранью ногу. Пройдя еще немного, вошел в магазинчик своего друга Максанса де Кермарека, антиквара, который специализировался на торговле старинными струнными музыкальными инструментами.
В магазинчике, обшитом деревом и выкрашенном в бело-золотые тона в стиле Людовика XV, имелся большой выбор верджинелов, спинетов и клавесинов, как правило расписанных маслом. На инкрустированных мозаикой деревянных столах лежали классические гитары, учебные скрипки, смычки, даже балалайки и мандолины.
Арфа в инкрустированной раме стояла словно на карауле у посудного шкафа, полного тарелок севрского фарфора с изображениями музыкантов, играющих на лютне и виоле.
Худой, высоченный, с аккуратной остроконечной бородкой, в экстравагантном костюме темно-красного бархата, придававшем ему сходство с дьяволом, хозяин дожевывал сандвич, шагая из угла в угол. Увидев входящего Кэндзи, он бросился к нему, протягивая руку.
— И наконец, в пустыне раскаленной, узрел я путника, приятного себе!
И в буквальном смысле затолкал визитера в глубокое кресло.
— Присядьте, мсье Мори. Чаю? Кофе?
— Чаю, спасибо.
Пока антиквар возился в подсобке, Кэндзи разгладил номер «Пасс-парту» и нарочито положил на маленький столик. Дьявол в красном камзоле не заставил себя ждать, появившись с серебряным подносом, на котором дымилась чашка, полная светлой жидкости.
— Чистый жасмин, а вы мне за это расскажете новости.
— Вы видели это? — заметил Кэндзи, показав на газету.
Антиквар бросил взгляд на крупные буквы заголовка и потеребил бородку.
— Да, видеть-то видел… Надо же: одна пчелка и — хоп, на том свете! Успели продать ему эстампы Утамаро?
Кэндзи кивнул.
— Я знал, что его это интересовало. Недолго же он любовался ими, бедняга! Я только что приобрел коллекцию герцога Фриульского, превосходнейшее фортепьяно, смычок Франсуа-Ксавье Турта, спинет Томаса Хэнкока, а заодно уж забрал и библиотеку, так что вам есть чем поживиться.
Он проглотил последний кусок сандвича.
— Как жаль, — проговорил он с набитым ртом, — терять хорошего покупателя. Я говорил вам, что убедил его вложиться в скрипки?
— Да, когда мы виделись в прошлый раз.
— Смешные они, право слово, коллекционеры эти! И в музыке-то ничего не смыслят! Позвольте я покажу вам, что он собирался купить, — если, конечно, у вас есть время…
Антиквар открыл маленький, обитый мягкой тканью шкафчик и с немыслимыми предосторожностями извлек оттуда скрипку.
— Гварнери. Не чудесно ли? А знаете, чему, по утверждению некоторых, обязана она своим неподражаемым звучанием? Налету плесени, поглощающему сырость и делающим древесину легче и суше. Забавно, что именно это придает ей цену. Наш приятель отвалил мне немалый аванс, теперь придется возвращать наследникам, если таковые найдутся. Остаток — кругленькую сумму — он должен был доплатить в конце недели. Ваш чай остынет.
Сделав над собой усилие, Кэндзи допил чай — он предпочитал улунский.
— Так он был на мели? — спросил Кэндзи.
— Да что вы! Он одалживал, и с выгодой. Финансировал несколько предприятий — тайно, разумеется, чтобы его имя нигде не фигурировало. Вроде того небольшого дельца, о котором я рассказывал на прошлой неделе. Такая игра придавала его жизни вкус, даже если его временами и пощипывали, хотя, должен сказать, такое случалось редко, противник он был непревзойденный. «Дорогой Максанс, — говаривал он, — кто не рискует, тому неизвестен настоящий вкус жизни, я как те артисты яванского театра теней, что стоят за кулисами и дергают за ниточки. Но если кто-нибудь захочет спутать мои нити, — солоно тому придется, я предпочту разрезать всю пряжу, а не распутывать узлы». Скажите откровенно, мсье Мори, сами-то вы верите в эти басни насчет пчел-убийц?
— Одно достоверно: в мире нет ничего достоверного.
— Узнаю восточную мудрость. Что ж, тем хуже для Гварнери, — сказал антиквар, пряча скрипку, — на товар такого рода покупатель у меня всегда найдется. Желаете взглянуть на книги?
— У меня назначена встреча. Я вернусь позже. Кстати, напомните, о каком это дельце вы рассказывали мне в прошлый раз?
Хотя едва минуло четыре часа дня, в «Пасс-парту» стояла тишина. Брошенный посреди опустевшего наборного цеха линотип походил на насторожившегося зверя, ощерившего челюсти.
Он снова вышел на улицу. В уличном тупичке, присев на обочину тротуара, два типа играли в кости.
— А что, в «Пасс-парту» никого нет? — спросил Виктор.
— Мадемуазель Эдокси, должно быть, наверху.
Он поднялся по лестнице, постояв на лестничной клетке у дивана, заваленного всяким бумажным хламом. Эдокси не слышала его шагов. Сидя за столом с прямой как палка спиной, она стучала на машинке со скоростью пианиста-виртуоза, и при этом грызла орешки. Пальцы перелетали от одной клавиши к другой, самодвижущееся колесико вращалось. Эдокси выхватила напечатанную страницу, положила справа от себя, разжевала орешек, заправила в машинку девственно чистый лист и снова забарабанила. Прежде Виктор думал, что с такой скоростью можно только строчить на швейной машинке.
Он постучал в полуоткрытую дверь. Эдокси быстро спрятала пакетик с орешками.
— Ах, это вы! И давно тут стоите?
— Я вами любовался. Вы просто мастер!
Она хихикнула, поправив прическу.
— Хотите сами попробовать? Это модель «Хэммонд», такую можно увидеть на выставке.
— О нет-нет, куда мне до вас!
— Тут дипломов не требуется, а надо только попадать пальцами на нужные клавиши, вот и вся наука. Я бы с удовольствием поучила вас своему методу.
— Очень любезно, однако…
— Я вижу, у вас превосходные руки, пальцы длинные, чувствительные, умелые, — заметила она, поправляя на груди блузку.
Кашлянув, чтобы прочистить горло, он понял, что ужасно хочет закурить.
— А остальные где?
— Вы пришли очень вовремя: Гувье сидит в префектуре, Мариус пошел к врачу.
— Он заболел?
— Немного расклеился. Антонен вернется к шести. Таша на выставке, но без нее-то уж мы обойдемся, верно?
Эдокси встала и подошла к Виктору вплотную. Он вынул из портмоне конверт.
— Я должен кое-что выяснить, и вы, возможно, могли бы мне помочь.
— Постараюсь.
— Это насчет письма. Курьер принес его в мой магазин сегодня утром, часов в восемь. Я полагаю, его доставили из «Пасс-парту».
Она взяла Виктора за локоть.
— Войдите же на минуточку, мсье Легри, здесь светлее.
С загадочной улыбкой она провела его в помещение редакции.
— Дайте взглянуть! Надеюсь, ничего плохого? — спросила она, чуть пожимая ему руку.
У Виктора было чувство, что вокруг него медленно обвивается змея. Он мягко высвободился.
— Нет, просто какой-то читатель бранится по поводу моей хроники. Уж не вы ли мне это отправили?
— О, мсье Легри, мне бы никогда не пришло в голову оскорбить такого человека, как вы!
— Да нет же, я не так выразился, я хотел знать, побывало ли оно у вас в руках.
— Будьте уверены, если бы представился случай, я принесла бы его сама.
— Тогда, может, кто-то из редакции…
— Смеетесь! Курьеры — это на мне. Я утром прихожу на службу раньше всех и начинаю с того, что сортирую почту. Вы правда не хотите, чтобы я поучила вас печатать на машинке? Это могло бы пригодиться вам в магазине. В Нью-Йорке уже не осталось торгового дома, в котором письма пишут пером, служащий…
Пока она расхваливала ему достоинства «Хэммонда», он попытался привести мысли в порядок. Если письмо было доставлено прямо в магазин, его автором не мог быть Капюс. «Я не удержался и сообщил ему адрес».
Сомнений не оставалось, его умышленно затягивали в западню. «Как он узнал об этом? Откуда этот негодяй Дукович мог выяснить, что я говорил с Капюсом?» Ответ напрашивался сам собой. Он вспомнил, как старик записывал в школьной тетрадке его фамилию и название «Пасс-парту». «На случай, если вы исказите мои слова». Перерезав горло Капюсу, Дукович, конечно, перевернул его комнату вверх дном и нашел тетрадку.
— Вы так побледнели… У вас все в порядке? — спросила Эдокси, внезапно прижимаясь к нему и расстегивая его редингот.
Он вяло сопротивлялся. Ему нужно было еще кое о чем спросить. Освещала ли «Пасс-парту» приезд Буффало Билла?
— Не окажете ли мне любезность показать первые номера газеты? — пробормотал он хрипло.
Удивленная, она отступила.
— Прямо сейчас?!
— Прошу вас.
— Вам ни в чем нельзя отказать, — отозвалась она с явным разочарованием. — Присядьте за мой стол. Это за машинкой, я сейчас ее отодвину.
Она положила перед ним дюжину экземпляров и наклонилась, заглядывая через плечо.
— Если вы скажете, что ищете, мсье Легри, я определенно смогу вам помочь.
— Ничего особенного, просто хочется почувствовать общую интонацию газеты, понять, для какого читателя я работаю.
Спина налилась тяжестью, затылок сдавило, в желудке встал ком.
— Не могли бы вы… — он осекся, — открыть окно, здесь душно.
— Я принесу стакан воды. Да снимите вы редингот, какие между нами церемонии!
Не ответив, он принялся с шумом перелистывать подшивку. Она вышла, и он слышал, как она открыла шкаф. Скорее, скорее… О Буффало Билле ни слова. Тогда что же в тот день делала Таша на вокзале Батиньоль? Номер за 14 мая был скучный, а за 13-е почти целиком посвящен родам, случившимся…
— «…в одном из лифтов башни. Новорожденная, Августа-Эйфелина, названная так в честь конструктора этого сооружения, будет одарена самим Гюставом Эйфелем…» — прочитал он вслух, ибо в эту минуту Эдокси вошла в комнату со стаканом воды.
Виктор осушил его залпом, подавился, закашлялся. Она похлопала его по спине.
— Что ж это за способ пить такой!
Она присела на подлокотник кресла, прижавшись к нему бедром.
— Это ж надо додуматься, а? Взбираться на такую высоту на девятом месяце беременности! Есть же такие женщины, способны невесть на что, лишь бы прославиться!
— Это необычнее, чем приезд Буффало Билла, — заметил он с деланной непринужденностью.
— Мариус решил, что лучше вообще не упоминать о краснокожих, потому что все газеты об этом пишут. Как вы знаете, он плывет против течения. Впрочем, мне тоже нравится быть непохожей на других. Возьмем хоть мужскую внешность. В отличие от большинства женщин, меня не волнует телосложение блондинов.
В ответ Виктор тусклым голосом промямлил:
— Я бы охотно выпил еще воды.
С легким вздохом Эдокси вновь вышла из комнаты, а он спасся бегством, причем со скоростью не меньшей, чем когда вырвался из комнаты мертвого Капюса.
Словно стайка попугаев, топорща перышки и издавая пронзительные звуки, дамочки так и порхали вокруг бедняги Жозефа. С риском наткнуться на острие зонтика, он прорвался к прилавку и использовал его в качестве укрытия, оценивая намного превосходящие силы противника и примериваясь к новой вылазке. Оставалось последнее средство:
— Говорит пусть только одна, или я вызову полицию! — завопил он.
Повисла удивленная тишина. После короткого совещания с подругами Рафаэллой де Гувелин, Матильдой де Флавиньоль, Бланш де Камбрезис и Адальбертой де Бри графиня де Салиньяк подняла белый флаг и повторила свои требования.
— Роман называется «Та, которая».
— Фамилия автора? — сухо осведомился Жозеф.
— Жорж де Пейребрюн.
— Издатель?
Пять дамочек, выстроившихся у прилавка, обменялись безнадежными взглядами.
— Ладно, проехали. О чем роман?
— Это история о трех бедных непорочных девушках, одна из которых после серьезного проступка — сами догадываетесь, какого, — становится матерью! — воскликнула графиня де Салиньяк, меряя Жозефа взглядом так, словно это он был виноват в столь драматическом повороте событий.
— Признаюсь, мне такая книга неизвестна, — сказал измученный Жозеф. — Дорогие дамы, нам пора закрывать магазин!
— Уже? Да ведь только пять часов!
— Учет!
Воспользовавшись тем, что голоса покупательниц заглушили звон колокольчика, Виктор прокрался в магазин. Жозеф заметил его, когда тот уже дошел до бюста Мольера, и попытался было что-то сказать, но Виктор приложил к губам палец и скрылся на лестнице.
Наконец дамы, несмотря на свое численное преимущество, были вытеснены за дверь. Жозеф запер ее на ключ, вытер лоб и взбежал по лестнице. Виктор ждал его на кухне.
— Ну и ну, мсье Легри, вот уж явились не запылились! Жаль, вы не пришли на несколько минут раньше, они меня тут чуть не укокошили!
— Жозеф, вспомните хорошенько, в котором часу курьер доставил письмо?
— Письмо? Какое письмо? Ах, письмо! Я только что раскрыл ставни, ровно в восемь. Он хотел отдать его вам в собственные руки, сказал, это срочно. Я ответил, мол, срочно или нет, не могу же я достать вас из своей шляпы.
— В восемь? Вы уверены?
Жозеф состроил обиженную мину.
— Мсье Легри, я каждое утро открываю магазин в 7.45, минута в минуту, вам ли не знать! Я несколько раз покричал вам, никакого ответа, тогда я забеспокоился, поднялся и вижу: никого. И тут я подумал: «Неужто мсье Легри решил сопровождать мадам де Валуа до самого Ульгата!»
— Как он выглядел, этот курьер?
— Как и всякий кучер.
— Кучер!
— Ну да, кучер. Его фиакр стоял перед лавочкой Сюльпис Дебов.
— Внутри сидел пассажир?
— Эх, мсье Легри, я сквозь стены не вижу, и потом должен вам сказать, что…
Не дослушав, Виктор помчался к себе в кабинет. Оскорбленный Жозеф вернулся в магазин, ворча себе под нос:
— Выложи я ему сейчас, что на душе накипело, он бы так просто не ушел…
Он снова отпер дверь магазина, окинув улицу взглядом: дам уже не было поблизости. Ну а раз так, что бы ни случилось, лавка останется открытой до девяти.
Не в силах усидеть на месте, Виктор ходил из угла в угол, рассуждая сам с собой.
— В восемь часов Дукович пускал рулады на улице Нотр-дам-де-Лоретт. Письмо могла доставить только Таша. Да, это она. Она предупредила его о непредвиденных обстоятельствах ночью или ранним утром. Я ничего не слышал…
Взволнованный, он остановился у комода и схватил картину, написанную Ломье. На него вдруг накатило: это ладное тело, круглые груди, которые он так страстно сжимал… Неужели она играла комедию?
«Ты ничего о ней не знаешь, ничего».
По улице с грохотом проехал фиакр. Виктор закрыл глаза, словно от яркого света. Последний раз взглянув на картину, он перевел взгляд на фотографию Кэндзи. Наполнил ванну и стал раскладывать по местам предметы, лежавшие на ковре. Заинтересовавшись коробочкой, после некоторого колебания он приоткрыл крышку. Там обнаружился медальон с миниатюрным портретом его матери и фото молодой женщины, на обороте которой стояла надпись:
Айрис, март 1888, Лондон. Он вытащил из-под рамки два толстых конверта с восковыми печатями, поборов желание вскрыть их, и перевязанный шнурком пакет. Еще не отдавая себе отчета в том, что делает, он быстро развязал тесьму. Это были «Капричос» Гойи. «А мне сказал, отнес к переплетчику!» Виктор стоял в оцепенении, машинально переворачивая страницы, пока его внимание не привлек один из офортов: истомленный человек, окруженный хищными ночными птицами, — оригинал репродукции, что висела в спальне Таша!
— «Сон разума порождает чудовищ».
Нельзя допустить, чтобы поток подозрений перечеркнул всю его жизнь. Виктор продолжал листать книгу, чтобы занять чем-нибудь руки. Он отказывался поверить, что Кэндзи причастен к этому делу, и тем не менее с очевидным не поспоришь, он и Таша явно были в сговоре.
«Она ждет меня в восемь вечера!» — подумал он с горечью. Им овладел внезапный приступ ярости. «Она писала мне нежную записочку, а сама прекрасно знала, что ее сообщник придет расправиться со мной! Но кто же этот сообщник?»
События прошедшего дня пронеслись перед ним. Он положил обратно «Капричос», накрыл циновкой и простыней матрас и вышел.
У подножия Эйфелевой башни, между набережными и железнодорожными путями, по которым ехали поезда на Марсово поле, раскинулась диковинная деревня, где были представлены виды человеческого жилья от доисторического времени до эпохи Возрождения. Возведенные по проекту Шарля Гарнье, эти шесть участков, каждый из которых состоял из множества конструкций, были обречены на успех у любопытной толпы. Но металлическое чудовище накрывало постройки своей зловещей тенью, и даже немногочисленные посетители чувствовали себя здесь неприютно.
В конце дня по аллеям, под равнодушными взглядами хозяев питейных забегаловок и продавцов сувениров, прохаживалась странная пара. Громадный бородач, закутанный в изъеденную молью медвежью шкуру, вел под руку старика-африканца в бубу, показывая ему королевство дерева и цемента и подкрепляя речи широкими жестами.
— Оно понятно, что начинать с конца не самое лучшее, но тут, дорогой Самба, это не имеет значения! — говорил Данило Дукович. — Глянь-ка на этих скво, плетущих корзины, — думаешь, они из Адирондэка? Ничуть не бывало, вон та малышка, рядом с этим похожим на чучело дурнем с перьями индюка на голове, — испанская танцовщица, она вертит задницей в кабаре на бульваре Клиши.
Они прошли мимо японского и арабского домиков, русской избы. Данило остановился напротив гостиницы XVI века, у которой девицы в платьях эпохи Генриха II торговали муранским стеклом.
— Довольно старомодны эти итальянские соломенные шляпки. А как в них смотрятся тунисцы, черт побери! А вот другие, на греках! И еще на персах. В Париже много безработных тунисцев, вот и нашли, чем их занять. У индуистской постройки задерживаться не будем, тут пусто, ее используют как отхожее место. Ах, еврейский дом! Его сдали торговцу коврами с улицы Тейбу. Привет, Марсель, как идут дела?
— Не пойму я, — сказал Самба, — тут написано, что шатер египетский, а в нем продают азиатский фарфор.
— Заметь, торговец принял меня за тунисца. Устроители морочат публике голову.
Посетители, дойдя до аллеи, вдоль которой стояли галло-романские хижины, доставали съестные припасы и раскладывали их на картонных ящиках из-под ячменного пива. Римская матрона с пышными формами поднесла Даниле стаканчик сидра.
— Спасибо, Фрида. Она австриячка, тоже поет, — шепнул он на ушко Самбе. — Но — молчок о том, как круто мне повезло, я не скажу ей ни слова, не то от зависти лопнет. Хочешь пригубить?
Он протянул стакан Самбе. Тот смочил губы, сделал гримасу, потом покосился на отдыхающих.
— Они едят картошку.
— С маслом. Вкуснотища! — причмокнул Данила.
— Картошка, одна картошка. И это они называют столицей мировой гастрономии! Лошади и собаки гадят на мостовые, дома заслоняют свет солнца, улицы грязны, а они, смерив меня высокомерным взглядом, спрашивают: «Ну как тебе в Париже, сенегалец?» Так нельзя обращаться к людям. А если я скажу: «Эй, француз! Эй, тунисец! Эй, торговка! Эй ты, певун!»
— Меня будут называть баритоном, — промурлыкал Данило. — Умчались прочь мои печали, никто дорожки больше мне не перейдет. Я принят, понимаешь, что это значит? Принят после того как меня прослушали, это я-то, Данило-тридцать-три-несчастья! Спасибо, Шарль Гарнье, что ты построил для нас такую распрекрасную Оперу!
Они вышли на авеню Бурдоннэ, по обеим сторонам которого теснились строения доисторических времен. Данило с завистью посмотрел на суровое жилище пеласгов и даже на хижину эпохи верхнего палеолита, потом остановился у входа в пещеру.
— Мое скромное жилище кроманьонца, — объявил он.
Туда вошел какой-то посетитель. Данило вдруг присел на корточки и поднял то, что тот только что бросил наземь.
— Талисман, — сказал он, показывая находку Самбе. — Я проверю его силу в тот вечер, когда состоится премьера «Бориса Годунова»! Афишу я уже придумал: постановка Данило Дуковича, серба с голосом как чистое золото…
— О, да-да, голос, можно сказать, золотой, — подтвердил Самба, разглядывая кончик сигары, который Данило поднял с земли. — Можно, я это возьму? Послужит мне образцом, я ведь произвожу и товарные знаки тоже, наклеиваю их на трости и всякие коробочки.
— Бери. Я пойду переоденусь. Подожди меня здесь, у галереи машин кормят бесплатными обедами, устроим кутеж!
— Ради всего святого, только без картошки! — пробормотал Самба, глядя, как тот исчезает в пещере.
Пританцовывая, Данило прошагал в глубину своего «жилища». На ходу он приветственно помахал Аттиле, набитому соломой кабану, которого позаимствовал у галло-римлян, чтобы скрасить одиночество. «Привет, обитель чистая моя», — пропел он, отодвигая шторку, за которой скрывалась миниатюрная вешалка. Прервав пение, он резко вскрикнул, лицо его дернулось, и он быстро поднес руку к затылку. Его что-то кольнуло! Скорее ошеломленный, чем испуганный, он сделал над собой усилие, пытаясь обернуться. Перед глазами плясала темная тень. Он сощурился. Слабый свет газового фонарика померк. Он хотел снова зажечь его, протянул руку, но она не слушалась. Ему страшно захотелось спать. «Ты и правда устал, а ведь завтра надо быть в форме… Это твоя первая репетиция…»
Схватившись за штору, он начал сползать на землю. Пока Данило медленно падал, он снова ясно увидел роскошные груди Таша, за которой иногда подглядывал сквозь дырку в стене. Тени вокруг него плясали, очертания предметов размывались, все словно заволакивал туман. Оборвав шторку, он мягко рухнул наземь.
Усевшись на травке по-турецки, Самба поджидал возвращения друга. Его завтрак состоял только из кулька жирной жареной картошки, и он уже проголодался. Он представил себе калебас, до краев наполненный рассыпчатым дымящимся рисом с посыпанными приправой овощами. У него потекли слюнки.
На пороге пещеры появился человек. Самба встал, но с огорчением увидел, что это всего лишь один из посетителей.
Когда минуло еще четверть часа, у него лопнуло терпение. Преодолев робость, он осторожно зашел в пещеру. В полутьме с трудом различил застывшего на четырех лапах зверя и вздрогнул, сдерживая волнение.
— Ты напугал меня, некто в облике бородавочника! Мсье Дукович, вы здесь?
Он продвигался вперед маленькими шагами, выратащив глаза и вытянув перед собой руки, в страхе прогневить духа пещер.
Споткнувшись о груду тряпья, потерял равновесие.
— Мсье Дукович!
На земле лежал человек. Собравшись с силами, Самба нагнулся к его лицу, и, осмотрев ближе, убедился, что Данило Дукович больше никогда ничего не споет. Потрясенный, он подобрал полы своего бубу.
Бежать из этого проклятого места, скорее!
— Хозяин! Хозяин! Вы меня слышите? Это важно! — кричал Жозеф, барабаня в дверь.
— Что такое? — проворчал Виктор.
— Посетительница, причем хорошенькая, рыженькая, хочет с вами поговорить. Она утверждает, что вы знакомы.
— Пусть войдет.
Виктор отодвинул засов, приоткрыл дверь, нервно пригладил усы. На лестнице застучали легкие шаги Таша, и девушка проскользнула в комнату. Она непринужденно потянулась к нему с поцелуями, однако Виктор почему-то отступил. Удивленная, она мгновение стояла затаив дыхание, потом обрела дар речи.
— Ты видел мою записку? — только и нашла она что спросить.
Он кивнул.
— Я не смогу быть дома вечером, придется поужинать на выставке в обществе Шарля Гарнье, Антонена, Мариуса, Эдокси и всяких официальных лиц, ну, ты понимаешь, это нужно для статьи. Жаль, но мне не удастся просто уйти по своим делам. Как только узнала, поспешила тебя предупредить. В моем распоряжении два часа, — заключила она, кладя на стул перчатки и шляпку.
Эти распущенные волосы, эти розовые щечки… Не поддаваться. Сделав вид, будто его внезапно очень заинтересовало состояние собственных ногтей, Виктор безразличным тоном заметил:
— Это была хорошая идея, зайти. Мне не дает покоя один вопрос: любопытно узнать, где вы нашли «Капричос» Гойи.
— Да что это значит? Почему ты говоришь мне «вы»? — Таша засмеялась. — А-а, понимаю! Это из-за того человека внизу! Не беспокойся, он давно уже вернулся за прилавок.
Виктор не реагировал, и она продолжала уже не так уверенно:
— Это у тебя такие шутки?
— Нет, Таша, просто я хочу знать, где… Я видел у тебя копию, и вот…
Не давая ему закончить, она закричала:
— Да у Островского! В обмен на мои акварели с изображением краснокожих он позволил мне срисовать несколько картинок со своего экземпляра. И что ты…
— Этого не может быть. Распродано всего двадцать семь томов офортов. После февраля 1799 года инквизиция их запретила.
— И что с того? Ты не единственный, у кого они есть! Кстати, твои ли они? Да какая муха тебя укусила?! Этот ледяной вид, эти вопросы… Ты снова думаешь обо мне плохо, хотя эту ночь мы провели вместе!
В ее голосе слышалась обида. Виктору трудно было сохранять невозмутимость.
— Таша, я схожу с ума! Скажи правду, кто ты?
— Кто я? Все та же, точно такая же, какой была, когда спала с тобой! А вот ты-то кто? Ты пришел ко мне, а у самого любовница, увешанная безделушками!
Он нахмурился. Она поняла, что взяла верный тон.
— Вчера, узнав о смерти Островского, я ходила по улицам в каком-то бреду. Я не могла вернуться домой, мне было не по себе. Столько смертей… Я подумала о тебе, хотела тебя повидать, поговорить с тобой. Пришла сюда. И увидела тебя с той женщиной, вы садились в фиакр. Меня заметил твой компаньон, можешь спросить у него. Он не любит меня, не знаю, почему, может, боится, что я тебя уведу. Успокой его, у меня нет такой цели! — заключила она, снова надевая шляпку.
— Вчера вечером ты не отвергла меня.
— Почему я должна была это сделать? Ты свободен. Я свободна. Зачем лишать себя удовольствия?
— Вот именно. Зачем?
Распаленный ее румянцем, кудрями, выбившимися из-под шляпки, он приблизился и грубо впился губами в ее губы. Она его оттолкнула:
— Не так! — и подняла шляпку, которая упала с ее головы.
Резкими движениями приведя в порядок прическу, она надела перчатки и стояла не двигаясь, опустив руки.
— Зачем мы все портим? — сказала она шепотом.
В конце концов, нельзя отрицать, что ею двигало чувство! Это несколько успокоило Виктора, и он предложил ей чего-нибудь выпить.
В кухне стоял кислый запах капусты. Его внимание привлекла записка от Жермены, сообщавшей, что черный редингот отдан в чистку, но прежде она вынула все из карманов. Виктор с облегчением увидел лежавшие на столе ключи, которые считал потерянными у Капюса, носовой платок, входной билет на выставку, пуговицу и металлический стерженек, запаянный в выточенную из слоновой кости трубочку, поломанный в середине: тот самый, что дала ему Мари-Амели де Нантей.
Дрожащей рукой он налил стаканчик малаги, отнес его Таша, извинился, что должен ненадолго ее покинуть, и спустился в магазин.
Жозеф расставлял на полках книги.
— Я скоро буду закрывать, хозяин, сегодня тут просто настоящая пустыня Гоби. Вы не против, если я запру магазин на пятнадцать минут раньше?
Помотав головой, Виктор направился в подсобку и открыл шкаф, в котором Кэндзи хранил свои реликвии. Схватив одну из иголок для татуировки, привезенных с Сиама, он сравнил ее с находкой Мари-Амели: они были похожи как две капли воды. С лихорадочно бьющимся сердцем он уже хотел было закрыть шкаф, как вдруг заметил клочок бумаги, высовывавшийся из книги «Путешествие в глубь Африки». Закладка? Вытащив его, Виктор сразу узнал рекламную афишу большого парада Буффало Билла, в карикатурном виде изображенную Таша в день их первой встречи. Ему почему-то вспомнилась фраза, услышанная в далеком детстве: «В сердце пустая дыра, пустая дыра…» Не владея собой, он скомкал афишку, но тут же старательно разгладил. И кинулся к Жозефу.
— Та женщина, что сейчас поднялась ко мне, она приходила недавно в магазин?
— Ну да, она спрашивала вас, вы обещали ей книгу Гойи, но мсье Мори сказал, что у нас такой нет. Я поискал в подсобке и убедился, что, он сказал правду. Что-нибудь не так? Мне не нужно было ее впускать?
— В какой день это было? — быстро спросил Виктор.
— Обождите… В день мсье Франса!
— Вчера?
— Нет, в прошлый четверг, я запомнил, потому что одна дамочка настойчиво требовала «Литейщика», и мсье Мори отправил меня отнести книгу ей домой на бульвар Сен-Жермен, это записано в бухгалтерской книге. А что?
— Вы при этой молодой особе шкаф открывали?
— Да, ей хотелось взглянуть на книгу про Африку.
— Вы были рядом?
— Мне пришлось отойти на пару минут, меня мсье Мори позвал.
— До того дня она уже сюда приходила?
— Нет, тогда я видел ее в первый раз!
Виктор стремительно побежал наверх.
— Еще недавно я не хотел в это верить… Мерзавка! — загремел он, хватая ее за руку с такой силой, что она не смогла удержать стакан.
Он смотрел ей прямо в лицо, не владея собой. Она попыталась вырваться, но он вытолкнул ее на лестницу и потащил к подсобке.
— Сознайся же, сознайся, что это ты! Ты украла у меня татуировочную иглу, украла у Островского кураре, ты их убила, всех, и сегодня утром у Капюса за ними следом едва не отправился я! Зачем?! Но зачем?!
— Ты сумасшедший… Я ничего не понимаю, что ты наговорил! — Таша изо всех сил залепила ему пощечину. — Прощай! — бросила она сквозь слезы.
Опустошенный, Виктор остался стоять перед шкафом. Ему хотелось обо всем забыть. На его губах блуждало лишь одно слово, и Жозеф услышал его: «Кэндзи».
— Видит бог, мсье Легри, на вас лица нет! Знаете, хозяин, оно, конечно, дело не таких чурбанов, как я, а все же вам бы поберечься, так можно до болезни какой дело довести. И потом, что за блажь вам пришла в голову насчет этой рыженькой! Она уж точно не воровка. Если кто тут и есть виноватый, так это один я, не надо было мне открывать шкаф мсье Мори, но я был уверен, что она не возьмет оттуда ничего. И потом, совершить что-нибудь этакое мог кто угодно, да хоть ваши друзья из газеты, мсье Бонне или его приятель, что одет как английский лорд, они тоже оставались тут одни в комнате! А почему не та дамочка или ее племянница, или, если хотите, я?.. — потрогав лоб хозяина, Жозеф присвистнул. — Да у вас лихорадка, а мсье Мори нет! Вы можете встать? Я помогу вам подняться. Вам лучше всего сейчас поспать.
Жозеф заставил Виктора проглотить две таблетки церебрина, раздел и уложил его на свежие, только что постеленные простыни не переставая ворча:
— Работать с вами — смысл моей жизни, это я вам точно говорю. Но тут приходил один тип, осточертел он мне. Все сегодняшнее утро ошивался у магазина, чокнутый, и говорил все что-то про оперу и еще, что вы будто бы хотите принять его на работу. Вы случайно не ищете кого-то вместо меня? Если так, я готов уйти, только скажите! Ладно уж, сейчас вы заснете, а я побегу сказать матушке, что останусь здесь до утра, закрою ставни как полагается, и… где ж мне поспать-то? Может, у мсье Мори? Вот уж у кого, думаю, ложе жесткое, как доска!
Виктор проснулся среди ночи с тяжелой головой. Сцена с Таша вспоминалась как дурной сон. Похоже, с ней и вправду все кончено, чего не скажешь о серийных убийствах. У изголовья Жозеф поставил ему графин с водой и стакан. Виктор долго пил, потом сел за стол, положил перед собой записную книжку и стал делать пометки. Данила не мог быть тем, кто напал на него на улице Паршеминери, ведь, по словам Жозефа, утром он был в книжной лавке. Впрочем, ничто не мешало ему прошедшей ночью прикончить Капюса. Тогда… Все свидетельствовало против Кэндзи. При этом никаких явных улик не было, чего нельзя сказать про Таша: листок с Буффало Биллом уличал ее. И все-таки кое-что не сходилось. Таша пришла в магазин накануне смерти Эжени Патино, но целый месяц спустя после смерти Меренги. То есть татуировочная игла была уже украдена. Или его расследование ошибочно по всем направлениям? Если так, Таша никогда не простит его, никогда больше не захочет с ним видеться.
Мари-Амели сказала, что перед смертью Эжени Патино толкнул какой-то тип. Кучер перевозил человека в фиакре перед тем, как умер Островский. Это был тот самый человек, который у Капюса пытался убить и его, Виктора. В который раз он записал:
Кэндзи?
Потом он подумал, что, в сущности, любой читатель «Пасс-парту» мог узнать его адрес, прочтя анонс. И Капюс тоже…
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Пятница 1 июля
Марсово поле казалось с утра серовато-линялым, его праздничный декор был осквернен вчерашним стихийным бедствием. Армия дворников напряженно трудилась, швыряя на двухколесные повозки кучи мусора, садовники окучивали грядки, поливали цветы, прочесывали граблями газоны. Было начало восьмого. Тележки и ручные возки, прогибавшиеся под тяжестью съестного, расползались во все концы выставки, готовые утолить ненасытный аппетит пока еще невидимого, но уже пробуждавшегося тысячеголового великана.
Маленькая тележка покачивалась на покрытой гравием аллее, груженные на нее ведра и щетки тихо побрякивали. Тележку толкала пухленькая особа по направлению к доисторическим жилищам человека. Миновав пещеру эпохи верхнего палеолита, хижины бронзового века, неолита, железного века, она остановилась там, где, по замыслу, должна была быть представлена первобытная пещера в натуральную величину.
Филомена Лакарелль ухватилась за ведро, наполовину полное мыльной водой, и рывком стащила его на землю.
— Да уж, никак не скажешь, чтобы эта конура блистала чистотой и удобством! Бедняжка ты, Филомена, какой ветер у тебя в башке гулял, когда ты соглашалась тут подхалтурить, ну я им это припомню, в конторе по найму! Десятый день я в этом цирке работаю и все никак не привыкну! Туристов прорва, все кругом обгадили!
Филомена Лакарелль лениво подобрала две или три бумажки, оставленных здесь посетителями, и на минуту остановилась на почтительном расстоянии от кабана, чья изъеденная молью рожа смотрела на нее с явной неприязнью.
— Что косишься на меня жадным глазом, ты? Из тебя хороший бы коврик получился, у кровати постелить! Ты всего лишь набитая волосом жирная свинья, — ворчала она, выгружая щетки. — Ишь, говорят, так жили наши предки! А я вот уверена, мои и тут устроились бы получше. В те-то времена, к примеру, еще не изобрели квартплату… Кроманьонец, вот имечко-то! Тот, значит — первобытный человек, что ли? Это у кого на первом месте всегда быт? Ну, давай, Филомена, — ноги в руки, да чтоб сердце в пятки не уходило!
Она обернула щетку тряпкой, обмакнула в ведро и принялась наводить порядок. Здесь, в пещере, было довольно темно, и она даже не слышала, как разъезжались поставщики продуктов, снаружи доносился только смутный гул. Зато в глубоком и узком гроте мрачным эхом отдавалось шлепанье ее резиновых галош. Сквозь отверстие, проделанное в своде, в пещеру пробивался бледный свет. Слабые тени отбрасывал газовый фонарь. А что если настоящий кроманьонец, да еще совсем голый, возьмет и вырастет прямо перед ней? Глубоко вдохнув, Филомена заставила себя рассмеяться. Странная мысль вдруг поразила ее. «Будь в те времена нужда в хороших уборщицах — уж я бы преуспела!»
Размахивая шваброй, она напевала:
Для свекрови лучше нет
Африканца на коне:
Черен, да душою чист,
И к тому ж кавалерист!
А я съем свой бланманже
В честь генерала Буланже!
— Же-е… же-е… — вторило эхо.
Филомена остановилась, держа щетку наперевес. Ее окутал могильный холод.
— Есть тут кто? — спросила она.
— Кто… кто…
Она ткнула щеткой в кучу, валявшуюся у стены. Груда тряпья? От ужаса Филомена окаменела. Ей хотелось закричать, но из широко открытого рта вырвался лишь хриплый стон. Окоченелый, с мертвенно-бледным лицом и остекленевшим взглядом, у ее ног лежал кроманьонец. А потом уши ей заложило от резкого крика. Филомене понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что это кричит она сама.
Утро подходило к концу, а в магазинчик никто не заглядывал, если не считать супружеской пары, которой понадобились книги в недорогих переплетах, чтобы украсить каминный зал.
Быстро двигая пером, Виктор старательно делал вид что пишет, прерываясь только затем, чтобы бросить взгляд на бюст Мольера. Довольный его прилежанием, Жозеф разбирал утренние газеты, с интересом изучая каждую необычную заметку. А загляни он хозяину через плечо, увидел бы, что тот лишь притворялся, что работает: бутылочка с фиолетовыми чернилами так и оставалась закрытой.
Виктор не выспался, от бессонницы мысли у него путались, он непрерывно думал о Таша. Он снова и снова переживал разыгравшуюся вчера сцену, и ему никак не удавалось убедить себя в справедливости собственных подозрений. Он сжал в кулаке чернильницу. Нет, поведению Таша, бесспорно, было какое-то объяснение. Ему следовало сдержаться, дать ей возможность изложить свою версию событий, а он в который уже раз потерял над собой контроль и все испортил. Господи! Ведь можно извиниться, не бывает ничего непоправимого! Но нет, она его не простит. Он отодвинул чернильницу, вытер вспотевшие руки об штаны. Открыл записную книжку, попробовал сосредоточиться. Не в силах продраться сквозь вязь собственных каракулей, поднял голову и уже собрался накричать на Жозефа за то, что тот так шумно перелистывает газетные страницы, но вдруг отодвинул стул и устремился к нему.
— Вспомните, был ли здесь мсье Мори в пятницу 24 июня после обеда? Я отсутствовал, и он должен был принять покупателя посмертного издания Лафонтена, да вспомните же вы! Такая большая книга в красном сафьяновом переплете, изданная…
— Да, знаю-знаю, Гийомом де Люинем, в 1696 году, поступила из библиотеки Шарля Нодье. Она на полке.
— Покупатель не явился?
— Надо полагать, нет, хозяин.
— Да был ли тут мсье Мори?
— Погодите-ка… был, на том самом месте, где вы сейчас сидели, за столом. После завтрака он вернулся вместе с мсье Дювернуа из магазина Шампьон, и они до самого закрытия работали над составлением небольшого научного труда под названием «Систематизация библиотеки», это я помню точно, ведь именно в тот день я удачно сбыл неполное издание «Энциклопедии» с улицы Реграттье. Для чего вы за мной записываете?
— У меня что-то с памятью, видать, от жары, — ответил Виктор, поспешно пряча записную книжку в карман.
Итак, Кэндзи не выходил из магазина вечером того дня, когда умер Джон Кавендиш.
К дверям магазина подошли два клиента, и Жозеф вышел к ним. Виктор, погруженный в свои мысли, медленно подошел к столу и остановился, повернувшись спиной к витрине.
Чуть слышный разговор становился все громче. Эксцентричная парочка, слева голубое бубу, справа — красная униформа, а вокруг — любопытные кумушки из соседних домов.
— Гляньте-ка, настоящий солдат, вооружен до зубов! Да откуда они взялись? Карнавал, что ли?
— Их называют спаги. Вы что, никогда не видели?! — удивлялась мадам Баллю, консьержка дома 18.
Выйдя вперед из толпы, она стояла с таким видом, будто ей-то как раз было все известно, а когда наконец все стихли, на всякий случай поздоровалась с обоими.
— Откуда ей-то знать? Она даже из квартиры никогда не выходит, — проворчала Эфросинья Пиньо.
— Да он из Северной Африки, — заявила мадам Баллю.
— Вот уж нет, в Северной Африке живут арабы, а арабы не черные! — воскликнула торговка фруктами.
— Вы ничего не знаете, мадам Пиньо, занимайтесь лучше своими грушами!
— Это я-то ничего не знаю?! Я книги читаю, чай, не безграмотная, образ…
— А ну-ка повторите, как вы сказали? Образина? Так послушайте, что я скажу! Это се-не-галь-ский спаги, понимаете? Он из Сенегала, уж я-то знаю, мой кузен Альфонс туда уехал, в Сенегал, а Сенегал — это и есть Африка!
— Может и да, а только такой черный не мог прибыть ни с какого севера! — возразила Эфросинья, пожелавшая оставить последнее слово за собой.
Женщины обступили экзотически одетых мужчин, и те явно не знали, как от них отделаться. Жозеф поспешил незнакомцам на выручку.
— Расходитесь, нечего тут смотреть! Метлой, метлой выгоню всех, ну-ка прочь!
Он разогнал зевак, впустил незнакомцев и свою мамашу в магазин, где покупатели, отступив к прилавку, уже поглядывали по сторонам с заметным беспокойством.
— Нам бы господина книгопродавца… мсье Виктора Легри, — отважился сказать старший из пришедших.
Виктор обернулся и, изумленный, оглядел посетителей. Первый был облачен в широкие штаны и пунцовую куртку, на ногах были сапоги, на голове феска, за поясом сабля, при этом он был на голову выше того, который только что подал голос.
— Самба! — прошептал Виктор.
— Мне надо важные вещи вам сказать! Я попросил моего друга Бирама пойти со мной, он хорошо знает город, он сражался тут у вас в семидесятом году, а квартирует в казарме Военного училища.
Бирам энергично кивнул.
— Поднимемся ко мне, там удобнее разговаривать! — пригласил Виктор.
Самба знаком попросил Бирама оставаться на месте, и спаги тут же захватила в плен Эфросинья, непременно желавшая знать, в каких боях уже участвовала его блестящая сабля.
Виктор провел Самбу в столовую, предложил сесть. Старик бросал вокруг тревожные взгляды и зажимал ладонью рот, словно боялся сказать что-то слишком громко.
— Это насчет вашего друга, певца из Оперы.
— Данило Дуковича?
— Вчера под вечер я дошел с ним до пещеры, стал ждать, пока он переоденется, но он все не выходил оттуда. Тогда я зашел внутрь и обнаружил его… мертвым.
— То есть как мертвым? Вы уверены?
Самба понизил голос.
— Я думаю, его убили. И убийца меня видел. Я не спал всю ночь. Спрятался на тихой железнодорожной станции и дождался рассвета. Потом дошел до колониальной выставки и нашел Бирама. В этой варварской стране только вы мне можете помочь.
Виктор недоверчиво смотрел на старика. Лицо Самбы выражало неподдельный ужас.
— Мсье Дуковичу, должно быть, просто сделалось дурно…
— Нет! Уж я-то повидал мертвецов на своем веку… Их глаза видят что-то такое, чего нам не понять! — вскрикнул Самба, вскакивая.
— Успокойтесь. Я посмотрю в газетах. Если вы говорите правду, это будет в передовицах.
— Вы мне не верите, — сокрушенно сказал Самба.
— Да верю я, верю, просто хочу убедиться.
Пара любителей дешевых переплетов остановила свой выбор на полном собрании сочинений магистра Феликса Дюпанлу, которое Жозеф с готовностью упаковал.
— А ведь еще немного, и все это отнесли бы в подсобку, — шепнул он на ухо Виктору. — Газеты? На прилавке. Сегодня утром ничего стоящего я оттуда не почерпнул, кроме разве что рождения в Аллье теленка о двух головах.
— А чего вы ждете? — сухо поинтересовался Виктор. — Нового убийства?
Он раскрыл свежие газеты, пролистал. В тот день в Париже никто не умер. Он поднялся к себе. Самба сидел не шевелясь.
— Ничего нет, — сказал Виктор.
— Должно быть, тело еще не обнаружили.
Не ответив, Виктор направился в рабочий кабинет, он хотел отдать Самбе фотоснимки Дворца колоний. На цилиндрическом столике лежал «Справочник ядов и наркотических веществ», открытый на слове «кураре». Он не мог вспомнить, закрывал ли его. Взяв конверт, вытащил снимки, пересчитал, потом еще раз, и оказалось, что трех не хватает: это были фотографии Таша, сделанные на колониальной выставке. Виктор похолодел. Она украла их накануне, когда он спустился, чтобы сравнить иглы! На что она надеялась? Хотела уничтожить доказательства ее присутствия на месте преступления? Как глупо, ведь у него остались негативы!
Он медленно вернулся в столовую, отдал снимки Самбе, который взял их, не проронив ни слова. Уже спускаясь, старик промолвил:
— Спасибо, мсье Виктор. Прощайте!
— Прощайте?
— Я недолго останусь в этой стране. Не хочу стать следующей жертвой.
— Вы ошибаетесь. Если мсье Дукович и умер, это наверняка несчастный случай. Уверен, вашей жизни ничто не угрожает. Жозеф!
Жозеф, в восторге от того, как Вирам разрубил саблей на четыре части лежавшее на тарелке яблоко, успокаивал мамашу, пришедшую в ужас от мысли, что тот может так же мелко нашинковать содержимое ее корзины.
— Жозеф! Проводите этих господ до Дома Инвалидов. Вот деньги на фиакр.
— Сию минуту, хозяин! Господа, прошу за мной! Матушка, ты тоже едешь?
— Ну что ж, — жеманно, молвила Эфросинья Пиньо, — если мсье Легри разрешит…
— Да ведь все равно не дороже выйдет! — крикнул Жозеф. — Я мигом, хозяин!
Дождавшись, пока последние посетители уйдут и магазин опустеет, Виктор уселся за стол. Он машинально листал конторскую книгу, где были отмечены дата и сумма покупок. Вдруг, повинуясь интуиции, нашел запись от 12 мая, того дня, когда умер Меренга. Что делал Кэндзи? Он припомнил, что они вместе посещали отель «Друо», чтобы поприсутствовать на двух распродажах. Одна из них прошла утром, это были редкие книги о фехтовании, дуэлях, истории шпаги. За четыреста пятьдесят франков они приобрели в тот день сочинения Вильямона. Вторая проходила после обеда, на ней продавали газеты и карикатуры, относившиеся к периоду между 1848 и 1880 годами. Виктор и Кэндзи не расставались даже во время завтрака. Он почувствовал облегчение: невиновность Кэндзи, во всяком случае в смерти старьевщика и Кавендиша, была несомненной. Его мысли вернулись к прибытию Буффало Билла. Что ответила ему Эдокси? Она не сказала ничего определенного, вполне могло быть, что в последний момент Мариус решил заменить информацию об этом событии статьей о родах на башне. В таком случае Таша сказала правду, Мариус действительно послал ее в Батиньоль. Виктор закрыл конторскую книгу. Надо было справиться насчет Гувье: тот обмолвился, что говорил с врачом, констатировавшим смерть Меренги. А значит, он тоже был там. Все эти мысли смешались у него в голове. Он был точно пьяный. Его привел в чувство звякнувший дверной колокольчик. Каково же было его удивление, когда, повернувшись в кресле, он нос к носу столкнулся с Самбой, который шел следом за Жозефом, с возбужденным видом размахивавшим газетой «Молния».
— Хозяин, это ж просто сумасшедший дом! У несчастного мсье Тиама зуб на зуб не попадает! Прочтите!
Верхнюю часть полосы занимал заголовок.
КРОМАНЬОНЕЦ МЕРТВ!
Кроманьонец — жертва пчел?
Сегодня утром, в 7.30, мадам Филомена Лакарелль, уборщица по найму доисторического отделения павильона Истории человеческих жилищ, обнаружила труп мсье Данило Дуковича, проживавшего на улице Нотр-Дам-де-Лоретт. Полиция вышла на след…
— Что, верите теперь? — выдохнул Самба.
Ошеломленный Виктор снова и снова и перечитывал заметку.
— Ну и дела, уже четвертого ухайдакал! — воскликнул Жозеф. — Если так дальше пойдет, мы переплюнем англичан!
— О чем это вы?
— Да о Джеке Потрошителе.
— Послушать вас, так тут прямо соревнование какое-то, — мрачно пошутил Виктор.
Вошел покупатель, Жозеф пошел его обслужить.
— Вы говорили об этом кому-нибудь, кроме меня?
— Нет. Бираму я просто сказал, что у меня проблемы. Вашего служащего я попросил прочесть мне газету, он видел, как мне страшно, но я сказал, это потому, что я на выставке работаю.
— Хорошо. На вашем месте я бы спокойно вернулся к своей работе, ни слова никому не сказав об этой истории, и ждал бы, пока все не утрясется.
— А если убийца видел меня?
— Ему не составило бы труда вас отыскать. Возвращайтесь домой. Возьмите, тут немного денег на фиакр, и если что, дайте мне знать.
Освободившийся от клиента Жозеф был уже тут как тут:
— Я его провожу, хозяин?
— Нет нужды, наш друг уже почти настоящий парижанин. И потом, вы понадобитесь мне здесь.
Разочарованный Жозеф вскарабкался на лестницу и сделал вид, что расставляет книги. Самба тряс руку Виктора, словно тот облагодетельствовал все человечество.
— Да, чуть не забыл, может, это и мелочь, но… Тот, кто вошел в пещеру перед мсье Данило, обронил вот это. Я сохранил, думал использовать ее как образец, потому что делаю серебряные этикетки и потом наклеиваю их на трости, ларчики, портсигары…
Виктор подскочил. На ладони старика блеснула золотая бандеролька от сигары.
Его сердце лихорадочно забилось.
— Вспомните точно, в котором часу вы обнаружили тело? Это очень важно!
— Что тут думать, в семь вечера мы должны были идти ужинать, после того как он переоденется.
«В семь вечера Таша была у меня», — подумал Виктор.
— До скорого! — бросил он Самбе, ринувшись вниз.
Сигара, Дукович, Таша…
«Как это я не догадался! Какой же я идиот! Каждый раз, когда думаю, что нашел преступника, его убивают. Островский, Дукович, чья теперь очередь?»
Он внимательно изучил последовательность автографов, сравнил с записями на отрывных листках «Золотой книги», которые скопировал в записную книжку. Хронологический порядок был иным, тут все выглядело так:
Первый листок.
Розали Бутон. Мадам де Нантей, она же ЭЖЕНИ ПАТИНО. Трое детей. ДЖОН КАВЕНДИШ.
Второй листок.
КОНСТАНТИН ОСТРОВСКИЙ. Б. ГОДУНОВ. КАРИКАТУРА ТАША. Гильермо де Кастро…
Третий листок.
Двадцать росписей и КЭНДЗИ МОРИ.
Четверо уже отправились в мир иной. Оставались Таша и… Кэндзи.
Виктор опрометью выскочил из магазина и умчался, как вихрь.
На нижнем этаже редакции «Пасс-парту», в наборном цехе, линотипист в длинном черном халате управлял машиной, предназначенной для заливки литерных блоков. Исидор Гувье расхаживал взад-вперед, пожевывая окурок сигары и присматривая за тем, как метранпаж набирает последнюю корректуру. На увлажненном картоне, выползавшем из-под валика, чернели буквы, белели пустые места, рельефно выделялись заголовки.
Гувье заметил Виктора и махнул ему. Шум линотипа был так оглушителен, что он даже не попытался сказать «здравствуйте!», а только жестом предложил подняться наверх.
— Антонен Клюзель там? — спросил Виктор, когда они оказались на втором этаже.
— Нет. Могу я чем-то помочь?
— Это не так уж важно, но раз я вас увидел… Насчет того старьевщика, помните, что умер в прошлом месяце на вокзале Батиньоль. Вы тогда сказали…
— Ну да, сердечный приступ, во всяком случае, так мне объяснили в комиссариате. Сейчас я задаю себе те же вопросы. Сами видите: на выставке уже четвертый мертвец.
— Но вы были там, на вокзале Батиньоль?
— Да, с малышкой Таша, чтобы собрать побольше информации о прибытии Буффало Билла, и она сделала прекрасные наброски, да только Мариус в срочном порядке заменил мою статью, на него, должно быть, повлиял Брюммель.
[1]
— Брюммель?
— Клюзель, король репортеров, наш благовоспитанный денди. Не сомневаюсь, и вы это за ним заметили — цветок в бутоньерке, накрахмаленный галстук, с изящной небрежностью завязанный на шее, модный костюм, ему все это так необходимо, куда там! Скорее всего, это он настоял, чтобы в номер поставили его писанину о родах между небом и землей. Поясню: 12 мая некая дамочка произвела на свет девочку в одном из лифтов Эйфелевой башни, и это объявили событием века! Мне-то, старому ветерану, на такое чихать, меня если что интересует, так что-нибудь необычное, а роды, даже такие акробатические, я считаю самым обычным делом. Ну, раз так, значит, так. А что до Клюзеля, то он рано или поздно станет романистом натуральной школы. Обожает растрогать до слез какую-нибудь Маргошку.
— Так мадемуазель Херсон тоже была с вами?
— Да ведь я вам только что сказал. Молодец девчонка! Хозяин ее обхаживал было, да куда там, она не из таких. Вы наверняка видели ее картины, у нее талант, она далеко пойдет. А что это вы так любопытствуете?
— Я намереваюсь написать фельетон, а эта история заинтересовала меня с самого начала, — непринужденно ответил Виктор. — Какой марки ваша сигара?
— «Лондон».
— Гаванская?
— Нет, но все-таки не дешевая. Хотите попробовать?
— Что ж…
Гувье толкнул дверь, Виктор последовал за ним.
— Должен признать, это удовольствие мне не по средствам. Поставщик у нас Клюзель, хозяина он ими просто засыпал, любит шикануть!
Они прошли в просторную комнату, где стояли два стола среди стеллажей, набитых всяким бумажным хламом. За ширмой на круглом столике лежали туалетные принадлежности — кисточка для бритья, бритвы, мыло, кувшин. В углу громоздилась раскладушка.
Протянув Виктору ящик с сигарами, из которого тот вынул одну, Гувье продолжал разглагольствовать.
— За большим столом сидит Мариус, а секретер у окна — место Клюзеля, впрочем, он-то предпочитает сочинять свои статьи в кафе.
Взгляд Виктора скользнул по стенному шкафчику, из которого Гувье достал ящик с сигарами.
— А где все остальные? — спросил Виктор.
— На церемонии.
— Какой?
Вручение денежной дотации счастливым родителям девочки, родившейся на башне, мясникам из квартала Гро-Кейу, — проворчал Гувье, гоняя окурок сигары из одного угла рта в другой. — Они окрестили свое чадо Августой-Эйфелиной! — Он хохотнул. — Вот ведь смех! Эйфелина! Речи, награждения, кривлянье и много шума из ничего. Ну и деньги, конечно.
— Где это состоится? В котором часу?
— В шесть, на первой платформе. Потом все спустятся на вечеринку к фонтану. Если вам интересно, могу отдать свой пригласительный, меня эти торжества… Держите.
Виктор положил приглашение в карман, и тут в дверь постучал метранпаж.
— Вы меня звали, мсье Исидор?
— Да, наберите еще и это! — отозвался Гувье, отдавая тому лист бумаги.
— Но ведь у нас и без того материала перебор! Так мы никогда не выпустим номер!
— Сейчас посмотрю. Извините, мсье Легри, я скоро.
С минуту Виктор сидел, не двигаясь, потом вышел на лестницу, прислушался. Линотип больше не грохотал, снизу доносились голоса — там спорили. Он вернулся в комнату, открыл стенной шкафчик, внимательно осмотрел то, что минуту назад заставило его вздрогнуть. Его прошиб холодный пот.
Виктор уже выбегал из наборного цеха, когда его окликнули. Он с досадой остановился.
— Я не видел, что вы уходите! — сказал запыхавшийся Гувье. — Забыл сказать, может, это и неважно, но ваш коллега, японец, приходил сюда аккурат перед вами. И задавал точно такие же вопросы.
— Про Батиньоль?
— Нет, он хотел узнать, где сейчас все наши.
Виктор не сразу понял, что это могло бы значить. А когда до него дошло, сломя голову помчался искать фиакр.
Безжалостное солнце палило на головы участников церемонии, столпившихся у подножия Эйфелевой башни. Вокруг бурлила толпа любопытных, пришедших поприсутствовать при этом «семейном торжестве». На переднем плане, в парадной одежде, сияя от счастья, стояли мсье и мадам Муано, а рядом, в коляске, лежала их крошечная дочурка Августа-Эйфелина, прославившаяся тем, что пришла в этот мир между первой и второй платформами башни. Девочка получала со всей Франции подарки, сложенные тут же, во второй коляске: куколки, соски, ночные чепчики, пряники, леденцы. Тут же стоял кюре церкви квартала Гро-Кейу.
Мариус Бонне, Эдокси Аллар, Антонен Клюзель и Таша Херсон стояли поодаль, среди других представителей прессы, у оркестра, поблескивавшего на солнце медью труб.
Приникнув к глазку, фотограф запечатлел эту сцену. Раздались аплодисменты, приглашенные прошли садом к подножию башни, и лифты их поглотили. На первой платформе счастливым родителям должен был вручить денежную премию сам Гюстав Эйфель. Была половина четвертого.
Андре Майо все осточертело. Ни малейшего признака тени у северного входа, где он торчал с полудня. Он задыхался в своем плаще с капюшоном. Украшенный султаном шлем с красным плюмажем так сдавил череп, что тот, казалось, вот-вот лопнет, а ремень, на котором висело ружье, натирал плечо.
— Собачья работа, — бормотал он, провожая глазами стайку элегантных пышногрудых дамочек и не без злорадства представляя, как корсажи натирают им тело. Зато у них была возможность пойти в буфет у фонтана, а ему приходилось часами торчать здесь с пересохшей глоткой и пустым желудком. Об обеде нечего было и мечтать, ибо празднества такого рода обычно длятся по полдня. Только он собрался смахнуть капельку пота, дрожавшую на кончике носа, как вдруг заметил азиата в котелке. Тот с опаской к нему приближался, и Майо ни на секунду не усомнился, что это дипломат из восточной делегации. Чужестранец протянул ему бумажку, на которой красовались иероглифы, Майо пропустил его, даже не разобрав, было ли там что написано по-человечески.
Кэндзи поклонился, спрятал в карман визитную карточку «Торгового дома Ханунори Ватанабэ», поставщика эстампов и сувениров с Дальнего Востока, и направился в лифт. Он прошел сюда легко, как нитка в игольное ушко.
Выскочив из фиакра на вершине Иенского моста, Виктор припустил к башне. У него пересохло в горле от страха. Он чувствовал, что вот-вот произойдет трагедия.
Не слушая несущихся вслед ругательств, Виктор локтями пробивал дорогу в человеческом море, сдерживаемом заграждениями на приличном расстоянии от входа. С гулом толпы смешивались нестройные голоса духовых инструментов — их настраивали музыканты оркестра. Три десятка республиканских гвардейцев обливались потом в униформах, обеспечивая безопасность и прокладывая дорогу официальным лицам. Задыхаясь, Виктор вбежал в тамбур, где приглашенные должны были предъявить входной билет. Размахивая приглашением Гувье, он ворвался в лифт и встал там, зажатый с одной стороны трубой, с другой — большим барабаном.
В маленькой комнатке на третьей платформе, перед зеркалом туалетной кабины завязывал галстук мужчина лет шестидесяти. Он неохотно облачился в редингот, нахлобучил цилиндр и, критически себя осмотрев, обругал всю эту церемонию, из-за которой в нестерпимую жару ему пришлось вырядиться чучелом гороховым. Увы, уклониться не было ни малейшей возможности. Он прошел в гостиную, обставленную диванами и креслами. Из фотографий и бумаг, разложенных на круглом столе, выбрал снимок, с которого сиял белозубой улыбкой человек цветущего возраста, и прочел надпись:
Дорогой друг, я весьма польщен возможностью чествовать Вашу башню с помощью фонографа, который мы установим под открытым небом, в трехстах метрах, чтобы запечатлеть последний залп пушки, которых ознаменует закрытие Всемирной выставки 1889 года. В ожидании этой памятной минуты я продолжаю исследования по усовершенствованию моего кинетографа. Как вам хорошо известно, жизнь изобретателя лишь на 1 % состоит из вдохновения, а на 99 % — из труда.
Искренне Ваш,
Томас Алва Эдисон
«Что до труда, тут я с ним согласен», — думал Гюстав Эйфель, положив снимок и выйдя на платформу, где его дожидался лифт.
Эстрада, задрапированная красным бархатом, возвышалась у входа во фламандский ресторан. Стояла такая жара, что выступавшие сокращали приветственные речи, чтобы сберечь силы для застолья, и энергично двигались к рядам стульев, но путь им преграждали лакеи в зеленых ливреях, — места предназначались для официальных лиц. Раздавались протестующие возгласы, в толпе возмущались, шелестели дамские юбки, а чуть поодаль зеваки от души посмеивались над этим, с позволения сказать, светским обществом.
— Графиня де Салиньяк с племянницей, эта девица — очень хорошая партия, — говорил один.
— Партия, может, и хорошая, но с виду — натуральная деревенщина! — отвечал другой.
— А вон тот яйцеголовый, что вытирает лысину, сняв цилиндр, — герцог Фриульский!
— А эта длинная, вылитая коза — Бланш де Камбрезис.
— А вот ее подружка, Адальберта де Бри, эта, говорят, похоронила трех мужей!
Виктор пробрался к самому подножию эстрады. Сверля взглядом толпу, он уже отчаялся найти ту, кого искал. Вдруг он увидел маргаритки среди угольно-черных цилиндров. Склонившись над блокнотом для эскизов, Таша лихорадочно водила по бумаге угольным карандашом. Неподалеку от нее тихо шептались Мариус Бонне, Эдокси Аллар и Антонен Клюзель. Виктор двинулся к ним. Внезапно его внимание привлек человек, который держался позади редакции «Пасс-парту», в самом углу ресторана, под гирляндами знамен, подвешенных на стенах с помощью деревянных панелей. Его галстук, завязанный бантом поверх рубашки, нелепым пятном выделялся среди темных рединготов.
Виктор медленно попятился. Щеголять в таком галстуке розового шелка способен только один человек: Кэндзи Мори.
Кто-то выкрикнул его имя:
— Мсье Легри! Э-ге-гей, мы здесь!
Эдокси махала ему рукой. Мариус, Антонен и Кэндзи одновременно повернули головы в его сторону. Один из троих поднял руку, подзывая его. У Виктора перехватило дыхание. Перчатки. На этом типе были толстые перчатки. Кто там вспоминал про перчатки?.. Кучер. Кучер в деле Островского! «Перчатки в такую жару…» Перчатки, чтобы предохранить себя от яда!
Виктор ощутил опасность. Он стоял, остолбенев. Это был он, он!
Затрещали аплодисменты, фанфары протрубили первые такты «Марсельезы», на трибуну поднялся Гюстав Эйфель. В толпе возникло движение. Воспользовавшись толкотней, Виктор стремительно бросился к Таша, но вдруг свернул направо, прошел по галерее и вышел на северную лестницу, ведущую на вторую платформу. Он преодолел несколько ступенек, даже не удосужившись оглянуться, так как был уверен, что тот человек не отстает от него ни на шаг.
«Давай, иди сюда, подонок, иди!»
Любой ценой увести его от Таша! Виктор сделал крутой поворот, сбежав по ступенькам и выйдя к сувенирной лавке. Бросив быстрый взгляд в витрину, понял, что человек в перчатках проглотил наживку. Теперь Виктору оставалось рассчитывать только на быстроту своих ног. Лифт прибыл с первого этажа, он вскочил туда, как только вышли поднявшиеся, и смешался с толпой. Над ухом прозвенел голосок:
— Мир тесен, не так ли, друг мой?
Виктор обернулся. Человек в перчатках улыбался ему, спрятав руки в карманы. Виктор заставил себя взглянуть ему в лицо.
— Гувье дал мне приглашение и сказал, что…
Он не успел закончить фразу, кто-то наступил ему на ногу каблуком и навалился всем весом. Виктор вскрикнул и хотел отодвинуть невежу, но от боли у него еле двигались руки. Он увидел, что человек сжимает что-то в ладони. Выскочил на лестницу южного входа, налетел на какую-то женщину и остановился, готовый к тому, что в это самое мгновение напитанная кураре игла глубоко войдет в его тело. Виктор успел вспомнить, как однажды на берегу Сены нашел еще живую рыбину, брошенную рыбаком, с выпученными глазами и порванной крючком губой.
Человек в перчатках все еще улыбался. Никогда еще Виктор не испытывал такой ненависти. Она готова была выплеснуться наружу, но вдруг он в ужасе застыл, увидев, как чья-то тень мелькнула за спиной человека в перчатках, и тот резко обернулся. Виктору показалось, что каждый кадр задерживается на долю секунды, а потом, в полной тишине, его сменяет другой. Настоящий сеанс хронофотографии: вот на лице у человека в перчатках недоумение, потом оно искажается яростью, а нападавший с неумолимой силой выворачивает его руку так, что татуировочная игла входит ему в ляжку, легко преодолев тонкую ткань полосатых панталон.
На лице Мариуса Бонне застыло выражение крайнего изумления. Смерть пришла на свидание, которое он назначил, да только удар ее бархатной перчатки пришелся по нему самому.
Виктор услышал гомон, крики, сделал несколько шагов, хотел поднять панаму, но мышцы не слушались его. Он посмотрел на распростертое на полу еще живое тело и поднял глаза на Кэндзи.
— Как же вы вовремя! — только и смог выдавить он из себя почти беззвучно.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Суббота 2 июля
Графиня де Салиньяк разделила местность на боевые квадраты. Рафаэле де Гувелин достались стеллажи слева, Адальберте де Бри и Бланш де Камбрезис — справа. Матильда де Флавиньоль, которой помогала Валентина, старательно прочесывала полки, стоящие посредине.
— Поторапливайтесь, я вижу, он возвращается! — воскликнула графиня, занимавшая наблюдательный пост. — Что там «Та, которая»? Вы ее нашли?
— Нет. О, вот интересная книжечка, «Обесчещенная Лукреция» Вильяма Ше…Шеек…
Дверь магазина распахнулась — это, размахивая «Пасс-парту», ворвался Жозеф.
— Специальный выпуск о деле на башне!
— Дайте взглянуть! Дайте взглянуть! — заверещали женщины.
Выставив вперед перо, которым смахивал пыль с корешков, он силой заставил их отступить.
— Спокойствие! Тишина! Статья подписана Антоненом Клюзелем, я его знаю, он сюда приходил, это знакомый мсье Легри.
— А где мсье Легри? — спросила графиня.
— В префектуре полиции. Его и мсье Мори допрашивает инспектор Лекашер. Какая история!
Жозеф поудобнее уселся на лестнице, развернул газету и прочел:
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРИЗНАНИЯ УБИЙЦЫ
только для читателей «Пасс-парту»
Десять дней странные происшествия, приводившие к гибели посетителей, омрачали удовольствие от Всемирной выставки, повергая следователей в настоящее замешательство. Череду несчастных случаев вызвали укусы пчел, или то были преднамеренные убийства? Завесу над этой тайной приподнял Антонен Клюзель, предоставив на суд публики исповедь, которую оставил ему Мариус Бонне, найденный мертвым вчера вечером на первой платформе Эйфелевой башни.
— Подумайте, ведь и мы там были! Нет, мои нервы этого не выдержат! — воскликнула графиня.
Опустив газету, Жозеф смерил ее пренебрежительным взглядом.
— Вы действительно хотите услышать посмертную исповедь убийцы? — резко спросил он.
— Безусловно, друг мой, продолжайте, продолжайте!
— В таком случае я требую тишины, чтобы было слышно, как муха пролетит, ясно?
Он поудобнее устроился на своем насесте и приступил к чтению:
«Чувствовали ли вы когда-нибудь острую боль, такую сильную, будто верхнюю половину тела разрывают железные крючья? Приходилось ли вам страдать от удушья, такого стеснения в груди, что вы не в состоянии хоть что-нибудь предпринять? В первый раз такое случилось со мной в прошлом году, когда я присутствовал на торжественном открытии института Пастера.
Доктор сказал мне, что у меня грудная жаба и если я продолжу прожигать жизнь, меня скоро не станет. Бросить журналистику, сказать „прощай“ всему тому, в чем я видел особую прелесть, — ни за что! Раз жизнь моя оказалась на волоске, я решил пойти ва-банк и осуществить давнюю мечту: создать собственную газету, которая переплюнет популярность „Пти журналь“.
Мне удалось уговорить состоятельного инвестора, Константина Островского. Он негласно профинансировал меня, согласившись дать мне ссуду. Я дал расписку, в которой обязался вернуть долг не позднее 31 декабря 1889 года. Спустя некоторое время после выхода первых номеров „Пасс-парту“, в апреле, он передумал и потребовал возместить ему и капитал, и проценты, в противном случае грозился меня разорить. Того, кто долгие годы зарабатывал на хлеб бульварными бреднями, трудно удивить. Я пустил в ход дипломатию. И добился отсрочки на несколько недель. В мозгу немедленно созрел единственно возможный выход: убить этого человека. Я задумал совершенное преступление, у которого невозможно будет найти мотив, и в то же время хотел увеличить тираж „Пасс-парту“, предложив читателям тему не менее волнующую, чем Джек Потрошитель. Очень скоро мой план был готов. Он состоял в том, чтобы устранить некоторое количество людей, которых объединяло бы только то, что они оказались в один и тот же момент в одном и том же месте. Разумеется, в списке намеченных жертв был и Константин Островский. Полиция, сбитая с толку, безуспешно искала бы логику в этих убийствах.
Какое оружие выбрать? Револьвер? Слишком шумно. Холодное оружие? Слишком заметно. И тут я вспомнил, что Константин Островский увлекался экзотическими вещицами. Помимо прочего, у него была и коллекция калебасов и керамических горшочков, приобретенных у перекупщика из Венесуэлы. Однажды он показал мне их содержимое: коричневое, рыхлое вещество, перемешанное с землей, которое он назвал „смерть в бархатной перчатке“. Он говорил: „Это сок травы, убивающей без всякого шума, она называется кураре, ее используют индейцы Южной Америки“. Я попенял ему, что опасно хранить такую смертоносную субстанцию без предосторожностей. Он возразил: „Ее еще надо уметь приготовить“.
Я прочел множество трудов, описывающих этот яд, проштудировал текст Клода Бернара. Я узнал, как получить раствор для инъекций из чистого кураре: достаточно вскипятить его в дистиллированной воде и потом процедить. Стащить один керамический горшочек у Островского было под силу даже ребенку. Но как ввести кураре жертве? Шприцем Праваца? Троакаром? Я колебался. Спросить в аптеке?
Слишком рискованно. И тут мне улыбнулась удача. В книжной лавке моего друга Виктора Легри есть витрина, в которой его компаньон, мсье Кэндзи Мори, выставляет сувениры, привезенные из своих путешествий. Стоило мне увидеть татуировочные иглы из Сиама, как я чуть не закричал от радости: теперь у меня было идеальное оружие».
— Какой негодяй! — воскликнул Жозеф.
— Как печален этот мир! — заметила Валентина.
— Истинная правда, мадмуазель, и самое лучшее — бежать из него! — согласился Жозеф, переворачивая страницу.
Он продолжил чтение:
«Теперь мне предстояло испробовать силу яда кураре на подопытном кролике из семейства человеков. Обратитесь к заметке в „Фигаро“ от 13 мая: „Внезапная смерть старьевщика. Тряпичник с улицы Паршеминери… скончался от укуса пчелы…“ Пчелы! Как бы не так! Это был я! Мое средство оказалось надежным, теперь оставалось только привести его в действие.
Редакция „Фигаро на башне“ выбрала Константина Островского героем дня, и ему нужно было расписаться в „Золотой книге посетителей“. Эта церемония была назначена на позднее утро 22 июня. И тогда я решил убить несколько подписантов, чьи имена предшествовали его имени и следовали за ним.
Я подготовил себе алиби. Под предлогом празднования выпуска пятидесятого номера „Пасс-парту“ в тот день я пригласил сотрудников редакции, а также господ Легри и Мори пропустить по стаканчику в англо-американском баре на первом этаже башни.
Сам я пришел раньше. Я слился с толпой зевак на второй платформе, посмотрел на подписантов и наметил женщину в красном с детьми. Она стояла в очереди перед типом в пробковом шлеме, а тот — как раз перед Константином Островским. Когда она спустилась на первый этаж, я пошел следом. В галерее народу было не протолкнуться, я подошел к скамейке, на которую она присела, сделал вид, что споткнулся, и уколол ее в основание шеи. К несчастью, мне не повезло, игла сломалась. Я успел подобрать острие, но не смог найти второй обломок. Задерживаться было никак нельзя, и я догнал моего друга Виктора у входа в англо-американский бар.
Когда тело женщины в красном обнаружили, я был первым, кто спросил у детей, знают ли они ее. В тот же вечер я отправил два анонимных письма, одно в „Молнию“, другое — в мою газету, чтобы возбудить подозрение, будто Эжени Патино была убита оттого, что слишком много знала.
Инспектор Лекашер предпочел версию естественной смерти. Такое упрощенное объяснение придавало моим статьям полемический задор, обостряло интерес публики ко всему иррациональному и гнусному. У „Пасс-парту“ мгновенно вырос тираж.
Тогда я выписал из „Золотой книги посетителей“ имена своих ближайших жертв и был ошеломлен, обнаружив, что среди подписантов 22 июня значится моя иллюстраторша, мадемуазель Таша Херсон. Уж не заметила ли она меня? Я поставил на кон все, когда шутливо упрекнул ее, что с этой „Золотой книгой“ она обманула „Пасс-парту“. Она расхохоталась, ей казалось забавным оставлять в книге не только роспись, но указывать профессию и адрес, и все только ради того, чтобы доказать, что у тебя нашлось лишних сто су, и ты смог подняться на башню. Не уговори ее сосед по квартире, она никогда бы на это не пошла. Впрочем, и он подписался псевдонимом: Борис Годунов. Я заметил, что это имя шло сразу следом за именем Островского.
Почти без затруднений я нашел адрес Джона Кавендиша, того типа в пробковом шлеме. Но прежде чем ликвидировать его, я должен был стащить у Виктора Легри еще одну татуировочную иглу, что мне легко удалось утром того же дня, когда, отправив Джону Кавендишу телеграмму за подписью Луиса Энрике, я вызвал его во Дворец колоний. Все прошло без сучка без задоринки, американец испустил последний вздох в тот самый момент, когда мимо проходила Таша Херсон».
— Это та рыженькая, — задумчиво пробормотал Жозеф, переворачивая страницу.
«Я назначил Константину Островскому встречу, сообщив, что готов вернуть ему деньги. Мы решили совершить сделку в фиакре. Я вытащил стопку банкнот и потребовал назад свою долговую расписку. И едва он достал ее из кармана, как я уколол его в горло. Когда обшаривал его карманы, он был уже без сознания. Я наткнулся на визитную карточку с именем Виктора Легри, и это меня огорчило. Фиакр довез меня до магазинов Лувра, а потом поехал к набережной Пасси. Я вернулся к себе, переоделся и на время прилег — я был совершенно измучен. Когда наступило время обеда, я присоединился к своим сотрудникам на террасе кафе „Жан Нико“. За наш столик присел и случайно проходивший мимо Виктор Легри. По ходу разговора он намекнул на смерть старьевщика Жана Меренги и рассказал о сомнениях насчет пчелиного укуса, которыми с ним поделился Анри Капюс».
— Меренга? Да ведь это я сказал про то дело хозяину, я и записную книжку ему свою одолжил, где у меня все записано! — воскликнул Жозеф.
— О, вы так умны! — прошептала восхищенная Валентина.
Жозеф покраснел и продолжил:
«Я был в панике. Неужели Виктор догадался, что между кончиной старьевщика и смертями на выставке есть связь? Тот самый Виктор, чья визитная карточка нашлась в портмоне у Островского. Виктор, у которого я выкрал иглы. Как получилось, что он был в курсе того, о чем пресса не писала ни словечка? Я решил пойти к Капюсу. В день прибытия Буффало Билла я уколол Меренгу прежде, чем подошел Капюс, так что можно было не сомневаться — меня он не узнает. Капюс рассказал, что мой коллега уже приходил накануне и задавал ему те же вопросы. Он записал его: Виктор Легри, „Пасс-парту“. Меня охватил страх, я больше не владел собой. Старьевщик знал слишком много, я схватил скальпель, которым он препарировал крысу, и перерезал ему горло».
У дам вырвался крик ужаса. Жозеф невозмутимо продолжал читать:
«Убедившись, что он мертв, я раздел его, перенес на кровать и накрыл простыней, при этом изловчился почти не запачкаться кровью.
На следующее утро я нанял кучера фиакра, чтобы тот доставил Виктору записку от Капюса с приглашением зайти. Я пришел на улицу Паршеминери и стал поджидать добычу. Я стоял, отступив во мрак и уже занеся руку, чтобыраскроить ему череп, как вдруг мне стало плохо с сердцем. Так сдавило, что я буквально не мог вздохнуть. Удар получился слабым, а я едва живой потащился в редакцию.
Тем не менее проблему нужно было решать, мне пришлось довести свой план до конца и устранить четвертого из подписавшихся на том листе, Данило Дуковича, соседа Таша. Зная о моих связях в артистических кругах, она просила выхлопотать для него прослушивание в Опере. Так мне стало известно, что он подрабатывает в павильоне Жилищ, где изображает доисторического человека. Подстеречь его в пещере оказалось совсем не трудно.
Четверг 30 июня, двадцать два часа. Остается лишь избавиться от Таша Херсон, чтобы навести подозрение на Виктора Легри, оставив татуировочную иглу в теле молодой женщины».
На этом обрывается исповедь Мариуса Бонне. Его преступный план провалился благодаря смелости и проницательности Виктора Легри и Кэндзи Мори. Но, как ни странно, мечта его осуществилась.
«Пасс-парту» на пути к тому, чтобы всерьез посоперничать с «Пти журналь». Не мне судить деяния моего шеф-редактора, я всего лишь исполнил его последнюю волю.
Антонен Клюзель
Жозеф закрыл газету.
— А ваше имя даже не упомянуто! — огорченно заключила Валентина.
— Настоящие герои всегда остаются в тени, — с благородной грустью заключил тот.
Суббота 2 июля, ближе к вечеру
На обратном пути из префектуры Виктор и Кэндзи не обменялись ни словом. Подойдя к магазину, долго пропускали друг друга вперед, а войдя, едва поздоровались с поджидавшим их Жозефом. Огорченный таким вопиющим нарушением традиций, он только и смог крикнуть им вслед:
— Жермена оставила вам поесть!
Кэндзи порылся в шкафчиках, вынул тарелки, приборы, поставил кипятиться чайник. Усевшись перед салатницей, Виктор принялся катать шарики из хлебного мякиша.
— Эта ветчина неважно выглядит, — заметил Кэндзи, тоже садясь за стол.
— Как и мы с вами, — буркнул Виктор.
Наконец подняв друг на друга глаза, они только теперь воочию увидели, чего стоили им обоим эти прошедшие дни. Кэндзи, с покрасневшими веками и осунувшимся лицом выглядел даже старше своего возраста. Виктор же за последние несколько дней и вовсе превратился в привидение.
— Ваша правда, — согласился Кэндзи, — мы не в лучшей форме. Но дело тут не в физическом самочувствии.
— Ах, ну да, конечно!
Кэндзи сделал глоток чаю.
— Вы подозревали меня. Никогда бы не подумал, что способен вызвать такие враждебные чувства у человека, которого считаю своим сыном.
Виктор вздохнул с облегчением. Все лучше, чем молчание. Когда он был маленький, Дафнэ часто ему говорила: слова способны исцелять недуги.
— Инспектор Лекашер тоже испытывал к вам недоверие, Кэндзи. Он никому из нас не доверял. Еще с 29 июня ему были известны результаты вскрытия Джона Кавендиша и Эжени Патино, и он знал, что их отравили ядом кураре. А я-то как раз искал аргументы, которые могли вас оправдать.
Он отодвинул стул, прошел к себе и вернулся оттуда с гравюрой в руках.
— Репродукция Рембрандта? — удивился Кэндзи.
— Светотень. Именно тени стимулируют воображение. Недавно я открыл для себя, что в вашей жизни многое для меня оставалось в тени.
— Любите вы выдумывать! — ответил Кэндзи, едва заметно улыбнувшись.
— Это вы привили мне к ним вкус.
— О какой тени вы говорите? Уточните же!
— Вы сказали, что идете осмотреть и оценить библиотеку, а на самом деле я видел, как вы предлагали книгопродавцу редкие книги и как продали Константину Островскому эстампы Утамаро.
— Вы за мной следили!
— Я был уверен, что вы идете на встречу с женщиной. Вы так скрытны во всем, что касается вашей личной жизни! Согласитесь, войти в специализированный магазин для дам, накупить там безделушек — тут всякое можно подумать…
— Вы упустили свое истинное призвание, вам бы в сыщики податься.
— Поставьте себя на мое место: что подумали бы вы, прочитав на газете, оставленной в моей комнате: «R.D.V. J.C. 24-6 12.30. Гранд-Отель, № 312»? Эти инициалы подходят Джону Кавендишу, найденному мертвым при странных обстоятельствах.
— Вы правы, пора рассеять тени.
Кэндзи поднялся, принес сакэ, налил себе и Виктору и снова сел.
— В 1858 году мне было девятнадцать. Я только что закончил учиться, бегло говорил по-тайски и по-английски. С Джоном Кавендишем я познакомился в американской дипмиссии в Нагасаки. Он готовился к экспедиции в Юго-Восточную Азию для изучения местной флоры и населяющих те края народов. Он взял меня с собой переводчиком. Мы около трех лет прожили на Борнео, на Яве и в Сиаме. А в 1863 году обосновались в Лондоне, где он и познакомил меня с вашим отцом. Я поселился на Слоан-сквер, а Кавендиш вернулся в Соединенные Штаты, но мы продолжали переписываться. Месяц назад он прислал мне письмо, где сообщал, что скоро будет в Париже, так как приглашен на прием, который состоится 22 июня в апартаментах Гюстава Эйфеля. Вспомните, в тот день я немного опоздал в англо-американский бар, где вы уже сидели в обществе сотрудников «Пасс-парту»?
— Да, помню, конечно.
— На этом приеме я встретил своего друга Максанса де Кермарека…
— Антиквара с улицы Турнон?
— Его. Несколькими днями ранее я предложил ему купить у меня два эстампа Утамаро. Его они не заинтересовали, но он знал любителя таких вещей — им-то и был Константин Островский, который тоже значился среди приглашенных к Эйфелю. Максанс нас познакомил, и мы решили встретиться 24 июня в «Кафе де ля Пэ» на бульваре Капуцинок. Это меня устраивало, я как раз собирался к Джону Кавендишу в ресторан «Гранд-Отеля», на завтрак. Для того чтобы ничего не перепутать я записал всю информацию на полях газеты, которая и попалась вам на глаза.
Я старался убедить себя, что здесь нет ничего криминального. Особенно меня встревожило, что на том листе из «Фигаро» ваше имя шло сразу за его именем.
Но ведь и я беспокоился из-за того, что вас постоянно не было на месте. Зашел к вам, уронил ваш блокнот, он открылся, я прочел его и понял, какая опасность нам всем грозит.
— Так значит, мы оба шли по следу.
— Да, если только не брать в расчет, что, в отличие от вас, я-то исходил из добрых побуждений. К тому же я не располагал таким количеством разнообразной информации, из-за которой у вас ум зашел за разум. Передо мной были лишь три фотографии рыжей девушки, сделанные вами на колониальной выставке в день смерти Кавендиша. Даты были помечены на обороте. Там же было и решение загадки, ускользнувшее от вас. В толпе на переднем плане я узнал знакомый силуэт. Но я торопился на поезд в Лондон. Я сунул фотографии в карман, намереваясь во время путешествия как следует их рассмотреть. В холле Северного вокзала из газет я узнал о смерти Константина Островского. Я прочел показания подвозившего его кучера и начал кое-что понимать. Если этот кучер подтвердит то, что мне подсказала интуиция, я смогу установить личность убийцы. Я телеграфировал в Лондон и отправился взглянуть на Ансельма Донадье.
— Что такого важного вы хотели у него узнать?
— Описание головного убора, который был на человеке в крылатке. Ансельм Донадье человек не первой молодости, но наблюдательность его не знает себе равных. Он не колеблясь ответил: клиент, которого он взял на площади Мобер, был в белой шляпе с низкой тульей, чуть вдавленной сверху, и широкой черной лентой. Он сказал: «Ее еще называют панама». Из всех моих знакомых только один носил такой головной убор: Мариус Бонне. Он был на башне в тот день, когда умерла Эжени Патино. Он был во Дворце колоний, когда скончался Кавендиш, как об этом свидетельствуют ваши фотоснимки. Он же был с Островским в фиакре. Зачем он убил этих троих? Беседа с Максансом де Кермареком не шла у меня из головы, и я пришел к нему снова, чтобы расспросить поподробней. Островский по секрету признался ему, что финансирует «Пасс-парту». Я понял, мотив этого убийства — деньги. Но два других все еще оставались загадкой. Я решил, что мне удастся разузнать что-нибудь в редакции, столкнулся там с Исидором Гувье, и он сообщил мне, что все отправились на башню. Остальное вам известно.
Они встали с чашечками сакэ и прошли в столовую.
— Вас вывела на верный путь шляпа, а меня — бандеролька от сигары, подобранная неподалеку от тела Данило Дуковича, — заметил Виктор. — Но и в этот раз я тоже пошел по неверной дорожке. Я был уверен, что преступник — Клюзель. Я помчался в газету, куда приехал почти сразу после того, как там побывали вы. В шкафу Бонне я увидел ботинки из шевровой кожи. Я вспомнил рассказ Анри Капюса о человеке, который давал советы, когда скончался бедняга Меренги, и на котором были такие же ботинки. Когда Гувье упомянул о вас, признаюсь, я вновь потерял нить и уже не знал, что думать.
— Теперь знаете.
— Есть и другие странные вещи! Например «Капричос». Зачем вам понадобилось придумывать эту историю с переплетчиком?
Кэндзи обернулся, мельком взглянув на портрет Таша, стоявший на комоде.
— Видимость не больше похожа на реальность, чем закат — на пожар.
Он улыбнулся и залпом осушил свое сакэ.
Вторник 5 июля, ранним утром
Прикрытое одеялом слуховое окошко все же пропускало достаточно света, чтобы обрисовывать контуры мебели. Прижавшись к стене, Таша открыла глаза, медленно высвободила руку, затекшую под затылком Виктора, и какое-то время смотрела на спавшего рядом мужчину. Чего-то в этом пробуждении не хватало. Ей вдруг вспомнился Данило Дукович. Больше никогда он не разбудит ее своими вокализами. Сердце у нее сжалось. Несчастный Данило, он ведь чуть было не устроился в оперу! Что ж, возможно, он сейчас там, в обществе Россини и Мусоргского…
Виктор что-то пробормотал. Она прикоснулась к его бедру. Ей нравился запах его тела. Он, с которым она еще три дня назад клялась никогда больше не встречаться, оказался лучше, чем Ханс! Стоило ему несколько часов назад постучать к ней в дверь, смущенному, неловкому, с охапкой цветов, как все вопросы, которые она хотела ему задать, тут же позабылись. Она оказалась в его объятиях, их губы слились, ее тело откликнулось на зов его тела. Что теперь будет? Она вздохнула. Все же ей было о чем сожалеть: место в «Пасс-парту» она, возможно, потеряла. Возьмет ли ее Клюзель, если, как обещал, возобновит выпуск газеты? Этот безумец Бонне хотел ее убить. Он умер, но не окажется ли она теперь на улице?
Виктор заворочался. Она затаила дыхание и повернулась к нему. Он открыл глаза и обнаружил, что лежит на самом краешке постели. Привстав на локте, он с нежностью посмотрел на Таша и положил голову ей на грудь. И в который раз возблагодарил — Бога ли. Провидение — за то, что они оба остались в живых. Он принялся страстно целовать ее, пружинная сетка под матрасом издала протестующий скрежет, и Таша вцепилась ему в плечо.
— Боюсь, кровать не выдержит! — прошептала она. — Не двигайся.
Они на мгновенье застыли, а потом расхохотались. Таша осторожно встала.
— Кофе?
— Да, с сахаром!
— Боюсь, он у меня закончился.
— Тогда пойдем в кафешку.
— Ты настоящий паша, все бы тебе сладенького!
— Тебя, например…
Она выпрямилась, потянулась. Он залюбовался округлостями ее гибкого тела. Она начала одеваться.
— Подъем, ленивец!
Он сел. Взгляд наткнулся на специальный выпуск «Пасс-парту», валявшийся на полу.
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРИЗНАНИЯ УБИЙЦЫ…
Из-за этой статьи Жозеф весь вчерашний вечер отгонял от магазина толпу любопытных, желавших взглянуть на шкаф Кэндзи.
— Не могу поверить, что Бонне способен придумать столь дьявольский план. Я-то полагал, что хорошо его знаю…
— Клюзель считает, что он не был сумасшедшим — скорее аморальным. Я ведь тоже считала, что мы близко знакомы. Теперь уж нам никогда не узнать, что происходило у него в голове. Забавно: смотришь на людей, живешь рядом с ними, привыкаешь, и вдруг в один прекрасный день выясняется, что ты ничегошеньки о них не знаешь. Она протянула ему кальсоны.
— Одевайся! Не пойдешь же ты голышом?
— Отчего, разве я тебе так не нравлюсь? — спросил он, привлекая ее к себе. — А знаешь, мне хочется попробовать пожить с незнакомкой, узнавая ее день за днем и год за годом.
Он почувствовал, как напряглось ее тело.
— Например с тобой, — добавил он.
— Что со мной?
— Ты не хотела бы разделить со мной… мои свет и тени?
— Я люблю тебя.
Она хотела высвободиться, но он ее удержал.
— Правда?
— Да, несмотря на твою склонность к насилию. И даже несмотря на то, что ты считал меня преступницей.
— Тогда выходи за меня замуж!
Она мягко его оттолкнула. Он смотрел ей прямо в лицо, словно изучая ее — с видом собственника. Она отвернулась, глянула на неоконченное полотно на мольберте.
— Проси что хочешь, но только не это!
— Почему? Да почему?
В ее голосе звучала обида.
— Потому что мне нужна моя свобода!
— Свобода… чтобы встречаться с твоими друзьями, которые не могут стать моими?
Перед ним возник образ Ломье.
— Я говорю о свободе творить, — возразила она.
— Но ты будешь свободна, совершенно свободна! Ты сможешь рисовать сколько хочешь! Кстати, я ведь тоже ценю независимость. Я тщательно охранял свою жизнь от любого вмешательства. Поверить, я знаю, о чем говорю. И знаю, что жить вдвоем — это непросто.
— Ты когда-нибудь пробовал? Я — да.
Он снова почувствовал укол ревности.
— С Ломье?
Она махнула рукой.
— С этим пухленьким младенцем с румяными щечками? Смеешься? Нет, его звали Ханс. Я познакомилась с ним в Берлине. Он был художник, скульптор, известный, обходительный…
— Ты его любила?
От Таша не укрылись грустные нотки в его тоне.
— Да, одно время да, я его любила. Ты и сам не мальчишка, у тебя были женщины. Вот и у меня был любовник. Ганс не предлагал мне выйти за него, он был женат. Снял для меня комнатку, купил все необходимое для работы, занимался со мной. Я могла досыта есть и рисовать. Все шло как нельзя лучше, пока он не начал критиковать мою работу: «Здесь надо бы побольше зеленого, а тут — поменьше желтого, кстати, на твоем месте я сосредоточился бы на этом персонаже, а не на том… А ты не думаешь, что на этих складках свет надо приглушить?» Так исподволь он подорвал мою веру в себя. Возможно, его советы были правильными, однако они подавляли мою личность. Я от него ушла. Это было очень тяжело. Так я приехала в Париж.
— И правильно сделала! — воскликнул Виктор, довольный, что этот ее скульптор остался в Берлине. — Но ты забываешь одну деталь: я не Ханс.
— Знаю, ты Виктор.
Она приподнялась на цыпочки и поцеловала его в уголок рта.
— Все произошло слишком быстро, я не готова. Видишь эти расшатанные стулья, облезлые обои, хромую кровать? Мне пришлось за все это бороться. И здесь королева — я!
Она застыла, держа кисть в зубах. Он рассмеялся.
— Признайся, живи ты в собственной квартире, ты бы тем более чувствовала себя королевой. И, не выходя за меня замуж, ты можешь переехать в другой квартал, поближе к книжному магазину. Торжественно клянусь никогда не совать свой нос в твою творческую мастерскую.
— А нельзя ли оставить все как есть? Мы и так можем видеться каждый день.
— Я ревнив. А ты — нет?
— Я заметила у тебя в комнате мой портрет. Пока ты будешь хранить его у себя на комоде, я буду знать, что ты еще не готов искать приключения. Это будет залогом твоей любви: моя нагота, выставленная на всеобщее обозрение, доступная даже твоему компаньону, которому я не слишком симпатична.
Виктор словно окаменел: Кэндзи! В самом деле, Кэндзи не любит Таша, и эту проблему придется решать. Как? На улице Сен-Пер встречаться невозможно, ведь там Кэндзи. Но не просить же его переехать в другое место.
— Ты, конечно, права, — в конце концов сказал он. — Повременим. Главное, мы ведь любим друг друга.
Удивленная, она украдкой взглянула на него. Он казался взволнованным. О чем он задумался? О той даме в платье с оборочками? Ее пронзило минутное разочарование. Похоже, она поспешила праздновать победу. Что теперь делать — радоваться или тревожиться?
Она схватила ботинок и присела на стул, чтобы обуться.
— Разреши мне хотя бы подарить тебе новую обувь, — сказал он, становясь возле нее на колени и поглаживая по щиколотке.
— О, конечно! И еще пирожных. И цветов — это сколько сам захочешь!
— А потом…
Потом посмотрим. Всему свое время.
Она подала ему редингот. Перед тем как выйти, удовлетворенно окинула взглядом привычный беспорядок в комнате, которую теперь заливал яркий солнечный свет.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
6 мая 1889 года на Марсовом поле начался великий праздник Республики: открылась четвертая Всемирная французская выставка (после уже прошедших в 1855-м, 1867-м и 1878-м), призванная с помпой отметить столетие Революции.
Еще в 1884 году председатель Совета, Шарль де Фрейсине, решил, что гвоздем программы должна стать монументальная башня. По ходу конкурса, в котором участвовало семьсот проектов (некоторые из них весьма эксцентричные, например «оросительная башня», чтобы освежать Париж в летнюю жару, или «башня-гильотина» — в память о терроре), право выполнить престижный заказ выиграл Гюстав Эйфель, знаменитый конструктор сооружений из металла (одно из самых знаменитых — виадук Гараби). Его башня должна была получиться выше самого по тем временам высокого сооружения в мире, обелиска Вашингтону (169,25 м), и стать символом мощи французской индустрии, чтобы весь мир позеленел от зависти.
Начиная с 28 января 1887 года новая столичная достопримечательность, выкрашенная в бронзовый, слегка отливающий красным цвет, начала штурм небес, вызывая восхищение одних и гнев других. Ж. Л. Гюисманс определил ее как «одинокий суппозиторий», Г. де Мопассан назвал «отвратительным скелетом». Что до поэта Поля Верлена, тот и вовсе стремился ходить по Парижу так, чтобы ее не видеть. Дни шли за днями, и вот семь тысяч пятьсот тонн железа и чугуна, из которых состояла гигантская модель конструктора, были смонтированы. Все это время Франция рукоплескала генералу Буланже.
Еще с 1886 года сей бравый генерал, которого обессмертила песня «С парада возвращаясь», доставлял молодой республике серьезные неприятности. Вокруг него объединились католики и консерваторы, уязвленные антиклерикализмом правительства, а также недовольные всех мастей. Буланже, который в 1886–1887 годах был военным министром, — непревзойденный краснобай и изящный кавалер, ловко использует прессу, играя на идее реванша над Германией, после поражения 1870 года оккупировавшей Эльзас и Лотарингию. Поддержанный Лигой патриотов, основанной Полем Деруледом, а также комитетом «национального протеста», генерал призвал к роспуску палаты депутатов и пересмотру Конституции. Обвиненный превращенным в Верховный суд сенатом в заговоре против государства, Буланже отбыл в Бельгию и 14 апреля 1889 года был признан виновным и заочно приговорен к заточению в крепость.
Именно к этому времени относится и завершающий этап строительства башни. К дате открытия, 31 марта 1889 года, она достигла трехсот метров в высоту и парила над рядами павильонов, готовых принять все прибывавшую толпу: за шесть месяцев по 1710 ступеням лестниц на башню поднялись 3 миллиона 512 тысяч человек, а выставку посетили тридцать три миллиона. Президент Сади Карно, сменивший Жюля Греви, вынужденного в 1887 году уйти в отставку, с удовольствием прогуливался по аллеям Марсова поля, точно по новому Версалю.
Всемирная выставка стала для страны и столицы верным вложением капиталов, выпущенные по этому случаю ценные бумаги принесли двадцать два миллиона дохода.
А еще выставка стала поводом для французов узнать, какие территории входят в состав Французской империи. Тунис оказался под протекторатом Франции с 1881 года, Аннам — с 1883-го, Камбоджа с 1884-го. Бамако был оккупирован в 1882-м. А еще были Мадагаскар и Конго, строительство Панамского канала и попытки соперничать с Англией в Китае. Изобретатель мусоропровода (1883) Э. Р. Пубелль писал: «Среди европейских народов идет соревнование: кто быстрее наложит лапу на пока еще свободные территории. Нельзя сказать, что мы опоздали урвать свой куш, во всяком случае у нас еще есть время наверстать упущенное».
Любопытные торопились на эспланаду Инвалидов полюбоваться ангкорской башней, воссозданной в натуральную величину. Обмирали при виде яванских танцовщиц, с легкостью перемещались от Новой Каледонии до Кошиншина, а чтобы отведать натурального алжирского кофе, проходили через типичную сенегальскую деревню. Тысячи людей, никогда не выезжавших за пределы Франции и даже Парижа, открыли для себя многообразие наций и национальностей. Италия, Испания, Венгрия, Россия, обе Америки, Япония… весь мир распахнулся перед ними на Марсовом поле, куда можно было добраться по миниатюрной железной дороге.
Там же, на Выставке, был представлен чудесный итог изобретений конца века, явившего миру первую подводную лодку, дирижабль братьев Ренара и Кребса, велосипед и четырехтактный двигатель внутреннего сгорания. И хотя фея Электричества еще не успела воссиять над всем Парижем, она уже вовсю блистала огнями, и по ночам Эйфелева башня маяком возвышалась над этим удивительным городом. Во Дворце изящных искусств демонстрировались последние достижения фотоискусства и новейшие марки фотоаппаратов, среди которых был и «Кодак» американца Джорджа Истмена. Под необъятным нефом галереи машин — 420 метров в длину и 45 в ширину — вращающиеся печатные станки Маринони предвещали эру астрономических тиражей газет, а экспозиция Эдисона предъявляла многочисленные аппараты, изобретенные этим гением, от фонографа до кинетографа. Что до телефона, изобретенного в 1876 году американцем Александером Грэхэмом Беллом, то он был уже к услугам любого гражданина: первые общественные телефонные кабины открылись в 1885 году.
Кроме триумфов науки, на выставке демонстрируются и достижения изящных искусств, отразившие протест академиков против художников-синтетистов, которые, сгруппировавшись вокруг Гогена, выставляли свои новаторские полотна в кафе «Вольпини». Если некоторых художников беспокоило развитие фотографии, то другие видели в ней не соперницу, но вид искусства, который позволит по-новому взглянуть на реальность. Были и такие, кто погружался в глубины собственной личности, именно они вскоре перевернут историю живописи, в 1850-е уже пережившую потрясение импрессионизмом. В музыке и литературе своих страстных приверженцев обрели натурализм и символизм. Зарождалось и искусство комикса — Кристоф выпустил свою знаменитую «Семью Фенуйяр».
На аллеях выставки, запруженных рекламными тележками и арабскими погонщиками, можно было встретить принца Уэльского и других особ королевской крови, а еще Буффало Билла и Сару Бернар. Слышалась английская, немецкая, испанская, русская речь. Что до посетителей-французов, то далеко не у всех был парижский выговор. Закон, вотированный 28 июня 1889 года, подтвердил для родившихся во Франции иностранцев право на натурализацию, а по достижении совершеннолетия — на получение французского подданства.
Рабочих здесь было гораздо меньше, чем мелких буржуа, ведь цена за входной билет (пять франков, или сто су — за право подняться на первый этаж башни) оставалась высокой, а средний заработок в те годы составлял 4.80 франков в неделю, и работать приходилось по четырнадцать часов ежедневно (тринадцатилетним — по десять, женщинам — по одиннадцать, зато они получали вдвое меньше, чем мужчины), без воскресного отдыха.
В атмосфере праздника легко было забыть о росте недовольства в среде пролетариев, подъеме синдикализма, появлении социализма (незадолго до этого в Париже был основан II Интернационал). Нищету не выставляли напоказ в сверкающих павильонах, но она была видна во многих парижских кварталах.
Таким был Париж 1889 года, после Оссмана, по которому все еще ездили фиакры и впряженные в омнибус лошади. Здесь раздавался на улицах стук сабо по деревянному настилу мостовой, перекрикивались мелкие торговцы, ходили козы и воздух был почти как в деревне. Тут можно было видеть и господ в цилиндрах, с тросточкой и в перчатках, сидевших на террасах кафе в ожидании, когда порыв ветра позволит полюбоваться изящными лодыжками дам в корсетах, стянувших талию, шляпками прелестных садовниц, под длинными платьями которых скрывалось столь соблазнительное, из тончайших кружев, нижнее белье. Но уже тогда в Париже появились женщины, протестовавшие против условностей, требовавшие иного обращения, свободы выбора жизненного пути, равных с мужчинами прав и зарплат, права голоса и выбора профессии, будь то ремесло врача или художника. Уже в полный голос заявлял о себе феминизм.
Этот мир, близкий нашему и такой на него непохожий, — эпоха контрастов. Космополитизму, нашедшему идеальное место для самовыражения на Марсовом поле — от фламандского бара до англо-американского ресторана, — противостояли ксенофобия и антисемитизм. Прогрессу техники и комфорту — тридцать тысяч безработных, проживавших в столице в ужасающей нищете. Они не могли покупать в бутиках башни тысячи различных безделиц, порожденных новой индустрией, индустрией сувениров.
Во всем мира начинает пользоваться неизменным успехом маленький бронзовый брелок: башня в миниатюре, которую изготавливали из обрезков «большой башни», башня, ставшая символом Франции и Парижа образца 1889 года. Это был символ столь желанного мира. Желанного, но недолгого, ибо на литейных заводах в Крезо уже выстроились в ряд пушки, предназначенные для грядущих войн. Ибо, как писала «Ревю иллюстре», «когда в современной Европе кто-то ходит тайными тропками с набитыми золотом карманами, — самое время другим взять вместо посоха револьвер».
Клод Изнер
«Происшествие на кладбище Пер-Лашез»
Все тем же!
И нашим любимым
бестелесным
Вы все еще там?
Вы несомненно мертвы,
но я могу отсюда говорить с мертвыми
Виктор Гюго
Все мы — призраки…
Елизавета Австрийская
Пролог
Колумбия, провинция Каука
ноябрь 1889
Изнуряющий спуск с горы через дышащий влагой лес был окончен: маленький отряд добрался до Лас-Хунтас. Два индейца шли следом за бородачом, неся в гамаке его товарища, к которому так и не вернулось сознание.
Каменистая, обсаженная цветущими губоцветными тропа пролегала в километре от деревни. Два десятка хижин вырисовывались на фоне красно-коричневого хребта Кордильер, окрестные поля были засеяны кукурузой и табаком, ниже несла свои бурные воды в Тихий океан река Дагуа.
Дорога заканчивалась перед полуразвалившимся зданием с громким названием «Гасиенда дель Дагуа». Во времена, когда поселок Лас-Хунтас был центром оживленной торговли между Буэнавентурой и Кали, в этом здании располагался склад. Теперь развалины поросли травой и низким кустарником, сохранилась одна-единственная комната под крышей.
Индейцы пристроили импровизированные носилки на ящиках с соломой и поспешно удалились, шепча: «Привидения, привидения…». Бородач оскалился им вслед. При иных обстоятельствах легенда о доме с привидениями наверняка пробудила бы в нем любопытство, но события последних трех дней отбили интерес к внешнему миру. Когда аборигены скрылись из виду, он решил оглядеться и сбросил с плеч вещмешок.
На земле под густым покрывалом паутины валялись расколотые тележные колеса, шестеренки машин, детали телеграфного аппарата и десятки пустых бутылок. Бородач подобрал пожелтевший томик с истрепанными, рассыпающимися страницами. Это были «Стансы к Малибран» Альфреда де Мюссе. Боже, как смешно! Мюссе здесь, в этом месте — абсурд, да и только! Он бросил книгу и склонился над телом умирающего. Тот был с ним почти одного роста, но более плотного телосложения. Он истекал потом, дышал тяжело, со свистом и хрипами, и каждый его вздох мог стать последним. Судя по вскипавшей на губах пене, выстрел в спину пробил ему легкое.
«Скоро все будет кончено», — подумал бородач, удивляясь полнейшему своему равнодушию.
Он высыпал содержимое мешка на землю: бумажник, патроны, белье, нож, штабные карты. Из бумажника выглядывал уголок конверта: письмо было адресовано «Г-ну Арману де Валуа, геологу Компании по строительству трансокеанского канала, гостиница сеньоры Кайседо “Розали”, Кали, Колумбия». Мужчина достал листок и начал читать вслух:
Мой дорогой Арман!
Как ты поживаешь, мой утеночек? Письмо от тебя пришло в мое отсутствие, я вернулась в Париж только вчера. Мы чудесно провели время в Ульгате. Моя подруга Адальберта (вы знакомы, она — вдова председателя де Бри) сняла соседнюю виллу, мы совершали долгие прогулки, играли в лаун-теннис, в бадминтон и крокет, познакомились с очаровательными людьми, среди которых был и знаменитый спирит Нума Уиннер. Вообрази, он еще два года назад предсказал, что мсье де Лессепс обанкротится, а строительство канала приостановят! Мы с Адальбертой часто его посещали. После безвременной кончины своего сына Альберика моя дорогая подруга увлеклась спиритизмом и консультировалась со многими медиумами, но результаты были неубедительными, пока ей не представили Нуму Уиннера. Знай же, мой милый: Альберик говорил через него с матерью! Я бы никогда не поверила, если бы сама не присутствовала на сеансе. Это было поразительно! Молодой Альберик умолял мать не оплакивать его, говорил, что счастлив там, где он теперь, и «свободен, наконец-то свободен!». Я спросила господина Нуму о тебе, и он заверил, что скоро всем твоим неприятностям придет конец и ты насладишься заслуженным отдыхом. Видишь, зайчонок, твоя маленькая женушка думает о своем муженьке. Не помню, писала ли я тебе, что мсье Легри, твой знакомый, книготорговец с улицы Сен-Пер, оказался замешан в загадочной истории с убийствами, случившимися на Всемирной выставке. Рафаэль де Гувелин узнала, что у Легри какие-то отношения с русской эмигранткой, распутницей, которая позирует обнаженной. Я нисколько не удивилась — этот человек никогда не надевает цилиндра и держит слугу-китайца.
Заканчиваю, друг мой, пора на примерку к мадам Мод на улицу Лувра, она шьет мне прелестный костюм, фасон совершенно… Но ты все увидишь сам, когда вернешься. Напиши мне как можно скорее. Шлю тебе тысячу надушенных гелиотропом поцелуев.
Твоя Одетта
Небо наливалось свинцом. Бородач вернул письмо в бумажник и собирался засунуть его в карман умирающего, но почувствовал рядом с собой какое-то движение. Он зажег свечу и посветил над головой. Ничего. Видимо, это пролетела летучая мышь, вампир, сосущий у спящих кровь из пальцев. Вздрогнув от отвращения, бородач схватил бутылку и швырнул наугад в темноту. Зазвенело разбившееся стекло. Умирающий закашлялся, его дыхание участилось, он поднял глаза на высокий силуэт у своего изголовья, попытался привстать, но не сумел. Кровь хлынула у него изо рта, и он рухнул навзничь. Все было кончено. Бородатый мужчина машинально перекрестился, пробормотал: «Покойся с миром, аминь» и закрыл покойнику глаза.
Теперь следовало незамедлительно привести в действие свой план. Дождаться рассвета, привести в порядок тело усопшего, по возможности скрыв след от ранения, и сообщить властям, чтобы кто-нибудь засвидетельствовал смерть. Похороны нужно организовать как можно быстрее. Он выбрал деревню Лас-Хунтас, потому что здесь не было ни священника, ни плотника, и тело зароют в землю в простом саване, так что через несколько месяцев от него останутся одни кости.
Мужчина прилег, не разуваясь. Он ужасно устал, но уснуть не мог и напряженно размышлял о том, что ему предстояло сделать. Когда все закончится, мул за пять-шесть дней довезет его до порта Буэнавентуры, где он поднимется на борт парохода английской морской компании и поплывет в Панаму. Там он сядет в поезд и доберется до Барранкиллы. Фрегат «Лафайетт» покинет колумбийские воды через двадцать четыре часа и в середине декабря бросит якорь в Сен-Назере.
Он достал из кармана покойника мятую сигару и закурил. Летучая мышь с тревогой следила за красным огоньком, мелькавшим перед лицом человека.
Глава первая
Четыре месяца спустя
— Он был такой добрый, мягкий человек, я так его любила! Боже, он был…
Женщина под вуалью монотонно повторяла эту фразу, бессильно привалясь к дверце фиакра. Другая, сидевшая напротив, незаметно крестилась. Скрежет рессор и грохот колес по булыжной мостовой заглушали голос дамы в трауре. Ее причитания звучали, словно детская считалка.
Экипаж остановился на улице Рондо, перед одним из входов на кладбище Пер-Лашез. Возница слез с козел, чтобы договориться со сторожем, сунул ему деньги, вернулся и щелкнул кнутом.
Опередив похоронную процессию, фиакр въехал на круговую аллею кладбища. Дождь сверкающим куполом накрывал огромный некрополь. По обеим сторонам аллеи стояли часовни и мавзолеи, украшенные пухлыми ангелочками и безутешными нимфами. Дорожки, поросшие редкой весенней травой, петляли среди могил. Клены, туи, буки и липы возвышались над надгробиями.
Фиакр свернул и едва не сбил высокого седовласого старика, любовавшегося роскошными формами бронзовой плакальщицы. Лошадь встала на дыбы, кучер выругался, а старик завопил, грозя ему кулаком: «Будь ты проклят, Груши
[2], я убью тебя!», после чего удалился нетвердой походкой.
Кучер прищелкнул языком, успокаивая лошадь, доехал до южного бокового прохода и остановился у склепа хирурга Жака-Рене Тенона.
На землю спрыгнула молодая женщина в простом черном шерстяном платье, узком приталенном жакете с наброшенной на плечи шалью и ситцевом чепце, из-под которого выбивались пряди белокурых волос. Она помогла выйти женщине постарше, блондинке в глубоком трауре, чьи шиншилловая шапочка и каракулевое манто больше подошли бы для экспедиции на Северный полюс, чем для визита на кладбище.
Женщины постояли, глядя на тени, отбрасываемые фиакром и лошадью в свете угасающего дня, потом дама в манто приказала девушке в чепце:
— Скажите ему, пусть подождет нас на улице дю Рено.
Служанка передала слова хозяйки кучеру и заплатила ему. Тот приложил два пальца к клеенчатому цилиндру, гаркнул: «Но!» и поспешил прочь.
— Не стану я торчать тут ради бабы, которая забывает о чаевых! Вернетесь пешком как миленькие! — ворчал он себе под нос, настегивая лошадь.
— Дениза! — недовольно окликнула девушку дама в каракулевом манто.
— Да, мадам, — живо откликнулась та, подходя к хозяйке.
— Что с вами? Дайте мне ее скорее, нечего глазеть по сторонам!
— Ничего, мадам. Просто… мне немного страшно. — Девушка достала обернутый шарфом плоский прямоугольный пакет и протянула его даме.
— Чего вы боитесь? Здесь, на кладбище, мы под защитой Всемогущего Господа. Дорогие нашему сердцу усопшие окружают нас, смотрят на нас, говорят с нами! — воскликнула женщина.
Дениза смутилась еще больше.
— Потому-то я и боюсь, мадам.
— Какая же вы размазня! Мне никогда не удастся сделать из вас что-нибудь стоящее. Ладно, стойте здесь, я пойду.
Девушка испуганно схватила свою госпожу за рукав.
— Разве я не пойду с вами?
— Он хочет видеть меня одну. Я вернусь через полтора часа.
— Прошу вас, мадам, скоро совсем стемнеет…
— Стемнеет? Вы шутите, сейчас еще и четырех нет, а кладбище закрывают в шесть. Посетите пока могилу Мюссе, времени у вас предостаточно. Это там, в ложбинке, рядом растет невысокая ива. Эпитафия на памятнике просто изумительная. Впрочем, вряд ли вам известно, кто такой Мюссе… Отправляйтесь лучше в часовню и помолитесь, вам это не повредит.
— Но мадам! — взмолилась девушка.
Одетта де Валуа быстро пошла прочь и даже не оглянулась. Дениза поежилась и укрылась под каштаном. Дождь немного стих и теперь слабо моросил, снова запели птицы. Толстый рыжий кот пробирался между могилами. На аллею вышел фонарщик с длинной гасильной тростью в руке, и, смущенная его взглядом, девушка сказала себе, что не может стоять под деревом вечно. Она накинула шаль поверх чепца и побрела по аллеям, стараясь держаться поближе к газовым фонарям.
Она успокаивала себя, вспоминая, как гуляла по лесу в Нэве с кузеном Ронаном, в которого была влюблена, когда ей было тринадцать. Ронан был очень красив! Жаль, он предпочел ей другую… Постепенно страх отступил, Дениза вновь переживала счастливые моменты, которых в ее детстве было до обидного мало: два года, проведенные в Дуарненезе у дяди-рыбака и добрейшей тетки, ухаживания кузена. А потом она вернулась в Кемпер, ее мать заболела и умерла, отец запил и начал бить Денизу, братья и сестры покинули родительский дом, и она осталась одна с мечтой о принце, который приедет и увезет ее в Париж…
Дениза очнулась, оказавшись рядом со слегка покосившимся надгробием в псевдоготическом стиле, на котором было выбито два имени. Девушка подошла ближе и прочла, что здесь в начале века упокоились Элоиза и Абеляр. Разве не странно, что воспоминание о Ронане привело ее к могиле легендарных любовников? А вдруг мадам права, и мертвые…
— Солдаты, генерал рассчитывает на вас! Сражение будет жарким, но мы захватим этот редут и водрузим свои знамена в стане врага! Клянусь Богом, мы победим! — гаркнул кто-то, появляясь из-за памятника.
Дениза узнала старика, которого едва не задавил их фиакр. Он размахивал руками и шел прямо на нее. Девушка испугалась и убежала.
Одетта де Валуа подошла к большому склепу с барочным фронтоном, украшенным барельефом в виде акантовых листьев и ветвей лавра. Убедившись, что за ней никто не следит, женщина вставила ключ в замок кованой калитки. Створки заскрипели и распахнулись, Одетта вошла и поднялась на две ступени, которые вели к алтарю в глубине помещения. Она положила пакет между двумя канделябрами, зажгла свечи, перекрестилась, глядя на витраж с изображением Пресвятой Девы, и опустилась на колени. Пламя свечей освещало гипсовые таблички, на которых были золотом написаны имена и даты:
Антуан Огюст де Валуа
дивизионный генерал
кавалер ордена Почетного легиона
1786–1862
Эжени Сюзанна Луиза, его супруга
1801–1881
Анна Анжелика Куртен де Валуа
1796–1812
Пьер Казимир Альфонс де Валуа
нотариус
1812–1871
Арман Оноре Казимир де Валуа
эксперт-геолог
1854–1889
Одетта тихим голосом прочла выбитую на мраморной доске эпитафию:
Он был таким добрым человеком!
Мы так нежно любили его!
Господи, Ты подарил ему вечный покой в далеком краю, а нас оставил вечно сожалеть о нем.
Мы будем молиться за него и ждать встречи на Небесах.
Она, сложив ладони, помолилась, поднялась с колен и начала разворачивать пакет.
— Арман, это я, Одетта, твоя Одетта! — пылко восклицала она. — Я пришла, я принесла то, что ты просил, и надеюсь заслужить твое прощение. Подай мне знак, мой птенчик, приди, заклинаю тебя, явись!
Никто не ответил безутешной вдове, лишь капли дождя мерно стучали по каменной крыше склепа. Женщина тяжело вздохнула и снова опустилась на колени, безмолвно шевеля губами. Тень дерева плясала между канделябрами, напоминая многорукую фигурку индийской богини. Вдруг женщина застыла, как загипнотизированная, а тень все росла и росла, и наконец добралась до витража. Одетта хотела закричать, но сил хватило только на шепот:
— Наконец-то! — произнесла она.
Заблудившись, Дениза бродила по еврейской части кладбища. Она прошла мимо могил знаменитой трагедийной актрисы Рашели и барона де Ротшильда, не заметив их, потому что ужасно боялась снова наткнуться на старого забулдыгу и мечтала только об одном — найти склеп Тенона.
В конце концов Дениза сориентировалась. Перед ней был кенотаф, воздвигнутый в память об Андре Шенье его братом Мари-Жозефом. Девушка прочла эпитафию, которая показалась ей очень красивой: «Смерть не способна разрушить то, что бессмертно».
Над кладбищем сгущались сумерки. Девушка свернула направо, продолжая размышлять над эпитафией в надежде побороть страх. У нее не было часов, но интуиция подсказывала, что пора возвращаться. Когда она добралась до южного бокового прохода, там никого не оказалось. Дениза потопталась на месте, дрожа от холода и поднимавшейся в душе паники. Моросил мелкий дождь, и ее шаль успела промокнуть насквозь. Нервы у Денизы сдали, и она пустилась бегом по аллее к склепу Армана де Валуа: однажды хозяйка брала ее с собой, и бедняжка запомнила ориентир — могилу астронома Жана-Батиста Деламбра. Дениза неслась вперед и вполголоса молила:
— Прошу вас, мадам, вернитесь! Святой Корантен, святой Жильдас, Пресвятая Дева Мария, защитите меня!
Наконец она увидела часовню: внутри слабо мерцал свет. Девушка медленно подошла ближе, с опаской оглядываясь, и тут из кустов одна за другой выскочили две тени. Дениза в ужасе отпрянула, но это были просто кошки.
— Мадам… Мадам, вы здесь?
Дождь припустил сильнее, и видимость ухудшилась. Дениза оступилась и, чтобы не упасть, ухватилась за приоткрытую калитку. Часовня была пуста. Наполовину сгоревшая свеча освещала плиты пола, на котором лежало что-то мягкое, похожее на уснувшее животное. Девушка переборола страх, наклонилась и узнала красновато-бурый шелковый шарф: в него был завернут пакет, который она отдала хозяйке. Дениза уже собиралась поднять его, когда маленький камешек ударил ее по запястью и отскочил к алтарю.
Дениза резко обернулась, но никого не увидела и выбежала на пустынную аллею. Обезумев от ужаса, она кинулась к выходу на улицу дю Рено. В голове у нее билась одна-единственная мысль: нужно предупредить сторожа.
Когда девушка скрылась из виду, из-за угла часовни появился мужской силуэт и скользнул внутрь. Рука в перчатке подобрала шарф, схватила лежавший между подсвечниками плоский сверток и ловким движением спрятала то и другое в мягкую сумку, висевшую через плечо темного редингота.
Человек обогнул памятник,
за которым начинались заросли бузины, снял перчатки, положил их на край надгробия, наклонился, схватил за лодыжки тело женщины в траурном одеянии, лежавшей на земле без чувств, и потащил к стоявшей у склепа тачке. Он выпрямился, чтобы отдышаться, и снял с тачки брезент, под которым скрывался очень странный набор предметов: зубила, зонт, кучерский плащ, два дохлых кота, дамский ботинок, смятый цилиндр, кусок стелы, охапка белых лилий, верх от детской коляски и еще что-то. Мужчина вывалил все это на землю, с трудом уложил тело на дно тачки, побросал сверху плащ и верх от коляски, зонт, цилиндр, цветы, котов и закрыл сверху брезентом.
Закончив, он огляделся вокруг, подхватил трость и исчез.
Дениза сидела перед захламленным бумагами столиком и рыдала. Худосочный усатый сторож в униформе и картузе успокаивающе похлопывал ее по плечу, думая о том, что охотно потискал бы аппетитную служаночку.
— Вы наверняка разминулись. Она могла выйти на бульвар Менильмонтан, такое часто случается, особенно перед закрытием: люди нервничают, опасаясь, что их запрут на кладбище, и забывают, что тут тоже есть выход. Сами понимаете, я бы ее заметил.
— Но… но вдруг с ней что-то случилось? — всхлипнула Дениза.
— Да что с ней могло случиться, милочка? Думаете, милосердный Господь забрал ее прямиком в рай? Или похитил призрак? Разве можно поверить в подобный вздор?!
Дениза слабо улыбнулась.
— Ну вот и славно! — обрадовался сторож и еще сильнее сжал плечо девушки. — Ну, не надо плакать, а то ваш хорошенький носик распухнет и покраснеет.
Дениза высморкалась.
— Отправляйтесь-ка вы домой. Держу пари, ваша хозяйка уже там и даже согрела себе молока.
Дениза пощупала карман, где лежала связка ключей от квартиры. Наверное, сторож прав, и мадам уже дома, но все же…
— Я велела кучеру ждать нас на улице дю Рено.
Сторож нахмурился.
— Я ходил туда выкурить трубочку, но фиакра не видел, он наверняка укатил, эти парни ждать не любят. Но не беспокойтесь, в двух минутах отсюда, на улице Пиренеев, стоянка фиакров. Деньги-то у вас есть?
— О да, хозяйка выдает мне на неделю — на продукты.
— Тогда бегите, детка!
От смущения у Денизы горели щеки, она ждала, что усач уберет руку с ее плеча, но тот давил все сильнее. Она попыталась высвободиться. Неизвестно, чем бы все это закончилось, но с улицы донесся чей-то хриплый голос: «Когда идете по Вандомской площади, вспомните о победителе королей!» Сторож вздрогнул и отпустил девушку. В сторожку нетвердой походкой вошел седовласый старик. Он икнул и склонился перед Денизой в поклоне.
— Приветствую тебя, прелестная маркитантка! Солдат Барнабе, на бивуаке все спокойно?
— Пошевеливайся, папаша Моску, мы закрываемся, — недовольно буркнул сторож.
— Погоди, Барнабе, минутку. Помнится, ты обещал напоить меня ромом, если я принесу тебе кое-что? Дело сделано! — торжествующе воскликнул старик, демонстрируя старую корзинку, полную улиток. — В такой дождь их тут пруд пруди! Мы победим, ура!
Сторож наполнил стаканчик ромом, старик залпом опрокинул его и вопросительно посмотрел на приятеля, но тот не реагировал.
— Не слишком щедро, Барнабе, — заметил папаша Моску, облизнув губы. — Император будет недоволен!
— Отправляйся за своим барахлом, мне пора звонить в колокол, до закрытия осталось четверть часа!
— Прощай, Барнабе! — гаркнул старик, отдавая честь.
Папаша Моску пробирался между могилами, опираясь на надгробия, и громко беседовал сам с собой:
— Пять стаканчиков красного и семь бургундского под чесночное масло с петрушкой — это неплохо, но разве что только перекусить! Ничего, мы свое возьмем! А вот и сигнал!
Зазвонил колокол на улице Дюпюи.
— Самое время идти в атаку, мой капитан… — Он наклонился, чтобы прочесть имя на надгробной плите. — …Капитан Бремон, возьмите два эскадрона гусар и проведите разведку в лесу на том холме. А вы, генерал… генерал… — Второе имя нашлось на другом памятнике. — …Генерал Сабурден, отправляйтесь со своим полком к укреплению у моста и удержите его любой ценой! Очистите плацдарм и расположите там артиллерию. Пушки, нам нужны пушки! Глядите-ка, перчатки… Вызов? Кто осмелился бросить вызов папаше Моску? Это ты, Груши? Ну погоди! Трам-тарарам-там-там, мы победим! К бою!
Старик сделал выпад, словно шел в штыковую атаку. Тут дождь полил сильнее, и он побежал к зарослям бузины, где стояла его тачка.
— Победа! — орал он. — Мы освободили город и можем вернуться в лагерь с гордо поднятой головой!
Он сунул по перчатке в каждый карман, взялся за ручки и покатил тачку.
Дениза слышала, как часы в гостиной пробили семь раз. Она звонила и стучала в дверь, но никто не отзывался. Консьерж Ясент уверенно заявил, что мадам не возвращалась, но девушка отказывалась в это поверить.
Она была в такой панике, что едва смогла вставить ключ в замочную скважину. Что произошло с ее госпожой? Неужели мадам де Валуа сделалось дурно в склепе и она осталась на Пер-Лашез? И теперь умирает от страха одна в этом жутком месте. Мадам уверяла, что не боится мертвых, но ночью она наверняка запоет по-другому… Дениза стояла, не выпуская из ледяных пальцев ключ, и никак не могла принять решение. Вернуться на кладбище? Постучаться к сторожам? А что, если на нее нападет тот усатый худосочный коротышка? Или старый пьяница с безумными глазами? Нет, ни за что! Отсутствию мадам найдется немало объяснений. Может, она внезапно решила снова съездить к той женщине, той…
У Денизы участился пульс.
Она толкнула входную дверь. Коридор распахнул перед ней свою чернильно-черную пасть. Девушка подперла дверь стулом, чтобы свет от газового рожка на площадке попадал внутрь, взяла со столика спички и засветила керосиновую лампу. К горлу ей подступила дурнота, но она все же закрыла дверь на щеколду и поспешила в гостиную, где тут же зажгла свечи во всех канделябрах. Пусть мадам обвинит ее в мотовстве и выбранит — этой женщине все равно не угодишь! Немного успокоившись, Дениза взяла лампу и решила обойти всю квартиру: ей вдруг пришло в голову, что хозяйка могла вернуться и снова уйти, а консьерж ее просто не заметил. Значит, нужно поискать записку. А может, мадам уже легла? Мысли мешались в голове перепуганной, растерянной девушки, но она заставила себя подойти к дверям спальни.
— Мадам, вы дома? Вы спите, мадам? — тихо позвала она и, не дождавшись ответа, решилась войти, сама не понимая, что именно ее так пугает.
В комнате царил беспорядок. После смерти мужа мадам де Валуа разрешала служанке убираться там не чаще двух раз в месяц.
Дениза нарушала запрет при каждой возможности и могла бы с закрытыми глазами описать все, что находилось в спальне: черный прозрачный балдахин кровати, купленное на аукционе распятие из эбенового дерева, пальма, украшенная черным крепом на манер новогодней елки, обрамленное черной вуалью зеркало в туалетной комнате… Даже шелковые простыни и перина были черного цвета, как и тяжелые бархатные гардины на окнах. Только обои оставались старые — в букетиках фиалок, но мадам планировала сменить их на антрацитово-серые. Маленький столик красного дерева перед оттоманкой Одетта превратила в алтарь, разместив на нем фотографию покойного супруга, подсвечники и палочки ладана.
Но самые ужасные вещи хозяйка Денизы хранила в огромном зеркальном гардеробе палисандрового дерева, купленном незадолго до кончины супруга. Помимо траурных туалетов там были заперты череп, литографии с изображением пыток еретиков и книги. Как же они напугали Денизу, когда она имела глупость перелистать их! Даже смотреть в пустые глазницы черепа было не так страшно.
Девушку пробрала дрожь. Несмотря на тщательно запертые окна, в квартире было сыро и очень холодно. Неделей раньше Одетта де Валуа заявила, что весна уже близко, и из экономии отключила отопление.
Дениза обошла спальню, заставила себя заглянуть в гардероб и в туалетную комнату. Потом стремительно обежала столовую, комнату покойного хозяина, бельевую, узкую кухню, маленький будуар, чулан и даже сортир. Квартира была пуста. Дениза вышла на балкон гостиной и попыталась совладать с паникой. Она стояла у перил и смотрела вниз на бульвар Оссман, напоминавший в свете фонарей хрустальный дворец. Девушка почти успокоилась, однако стоило ей снова ступить на натертый паркет, как страх вернулся.
Она погасила свечи и прошла по коридору мимо спальни госпожи, освещая себе дорогу лампой, а потом оглянулась и опрометью кинулась в свою комнатушку рядом с кухней, где рухнула без сил на узкую железную кровать, мечтая забыться спасительным сном. Тень от лампы на потолке пугала девушку, и она ее погасила.
— Здесь темно, как в могиле, клянусь моей дурацкой башкой! Кто задул свечу? — Папаша Моску погрозил кулаком облаку, проглотившему лунный серп.
Долгий поход по Одиннадцатому и Четвертому округам и прогулка по набережным Сены вымотали старика. Он замерз и проголодался. Дождь перестал, но ветер сменился на северный, грозя похолоданием.
Старик миновал Королевский мост, и его глазам открылся вид на набережную д'Орсэ: на участке между улицами де Пуатье и де Бельшас высился остов полуразрушенного здания Пале-Рояль
[3], стоявшего заброшенным после пожара 1871 года.
Зияющие черными провалами окон, поросшие сорной травой, кустами и даже деревьями развалины напоминали современные Помпеи. Едва освещенные редкими фонарями растения вокруг закопченных кирпичей были островком девственного леса в самом сердце столицы.
Папаша Моску свернул на улицу де Лилль, чтобы попасть к центральному фасаду дворца. Он не заметил, что за ним крадется узкая плоская тень с крошечной головой. Старик отпустил ручки тачки, поднялся по ступеням флигеля и потянул за шнурок. Внутри послышались шаркающие шаги, и седая толстуха в пальто из лилового плюша осторожно приоткрыла дверь.
— А, это вы! Поздновато заявились, я уже собиралась ложиться. — Увидев, что папаша Моску пошел за своей тачкой, она добавила: — А колеса не слишком грязные? Вон какой дождь на улице… Как же вы тяжело дышите, погодите, я вам помогу. Боже, вы что, свинцом ее нагрузили?!
— Вовсе нет, всё как всегда. Сейчас оттащу в глубину двора и вернусь.
Несколько мгновений спустя папаша Моску вошел в маленькую теплую кухню, где вкусно пахло овощным супом. Консьержка мадам Валладье, полновластная хозяйка знаменитых развалин, стояла у плиты и с недовольным видом помешивала в чугунке.
— Выглядит аппетитно, — объявил старик, заглянув ей через плечо.
— Лапы прочь, старый грязнуля. Прежде чем приниматься за еду, вымойте руки. Одному Богу ведомо, к чему вы сегодня прикасались!
Мадам Валладье сняла суп с огня, а когда повернулась, папаша Моску уже сидел на своем месте и смотрел на нее умильным взглядом. На столе лежал большой букет лилий.
— Где вы это взяли? Были на свадьбе?
— Мой приятель Барнабе позволил взять их. Какие-то богатеи хоронили новорожденного и усыпали цветами всю могилу.
— Да как вам не стыдно!
— Смотрите на это философски — малыш умер, ему цветы ни к чему, так почему бы не порадовать красивую женщину, а, Маглон?
— Я вам тысячу раз повторяла, меня зовут Луиза!
— Но Маглон звучит куда благородней, — возразил папаша Моску, отрезая себе толстый ломоть хлеба. — Я прочел это имя на красивой плите из розового мрамора.
— Ох уж мне это ваше кладбище! — воскликнула консьержка. — Поторопитесь, я устала — целый день гонялась за голодранцами, которым нечем заняться, кроме как за девушками ухлестывать. У нынешней молодежи нет ни стыда ни совести!
Папаша Моску шумно хлебал суп.
— Не будьте ханжой, Маглон, пусть парни порезвятся напоследок, скоро они станут солдатами армии Французской республики. Империи больше нет, короли мертвы, но военные нужны всегда!
— Идите-ка лучше спать, чем всякий вздор молоть!
Когда старик ушел, лицо мадам Валладье смягчилось. Она взяла лилии, поставила их в фаянсовый кувшин и сунула нос в букет.
Папаша Моску повесил на шею зажженный фонарь и взялся за тачку, которую оставил у величественной лестницы с проржавевшими перилами. Кряхтя от напряжения, он пересек передний двор, когда-то посыпанный песком, а теперь заросший сорной травой. Тут, среди овса и донника, старик устроил небольшой огород и старательно возделывал его, а урожаем делился с консьержкой.
Папаша Моску миновал двор и пошел по сводчатой галерее, где стены покрывали вьющиеся растения. Колеса тачки скрипели на засыпанном мусором и кусками известки полу. Старик остановился на пороге квадратного зала, где когда-то располагался секретариат Государственного совета, и приподнял выцветший полог, скрывавший дыру в стене.
Это место папаша Моску называл своим бивуаком. Трещины в стенах он заткнул газетами, потолок соорудил из плохо пригнанных досок, через которые внутрь проникали пыль и холодный воздух. На полу лежал потертый ковер. Акация в углу служила вешалкой. Зимой халупу отапливала дровяная печурка, на матрасе лежал ворох ватных одеял. Обстановку составляли два шатких стула и куча ящиков из-под бутылок, куда хозяин складывал свои тщательно рассортированные богатства — непарные башмаки, шляпы, трости и зонты, которые потом продавал во дворе Тампля. Он называл это накоплениями на старость. Раз в неделю папаша Моску отправлялся за добычей на кладбище Пер-Лашез, где когда-то работал могильщиком, а порой и каменотесом. В хорошую погоду ему даже случалось водить по кладбищу туристов.
— Разберу все завтра, — пообещал он себе, отходя от тачки, — только котов положу на холод.
Старик приподнял брезент и ухватил за шкирки двух дохлых черных котов. Он нашел их за могилой Пармантье — уже мертвыми, конечно, потому что папаша Моску обожал животных и ни за что не поднял бы руку ни на одну зверушку.
— Завтра предложу шкурки Марселену, — бормотал он, прикрывая ящик джутовым мешком, — а тушки продам Кабиролю — скажу, что они кроличьи, только сначала запасусь головами на Центральном рынке. Разживусь денежками!
Папаша Моску устал, но был доволен прожитым днем. Он улегся на матрас, закутался в одеяла и улыбнулся стоявшему на стуле гипсовому бюсту.
— Спокойной ночи, мой император! Смерть Груши! — пробормотал он, погасил лампу и захрапел.
Дениза шла по берегу моря со своим умершим три года назад братом Эрваном и удивлялась тому, как хорошо он выглядит. Жуткий грохот разбудил девушку. Сердце у нее заколотилось, она сжалась в комок.
В действительности, разбудил Денизу не грохот, а скрип. Звук повторился еще и еще раз, и она поняла, что он доносится из коридора.
Стараясь совладать со страхом, Дениза встала, подтащила к двери туалетный столик, убрав с него таз и кувшин, и прислушалась. Все было тихо. Ее клетушка выходила на северную сторону дома и совсем не отапливалась, поэтому девушка, мгновенно оцепенев от холода, поспешно вернулась под одеяло.
Из окна в комнату проникал слабый свет. Дениза лежала, не сводя глаз с двери, и смотрела, как медленно опускается ручка. Кто-то пытался проникнуть внутрь. Дверь слегка приоткрылась, но столик удержал ее. Стоявший за дверью повторил попытку войти и, видимо, поняв, что что-то мешает ему, бесшумно удалился.
Дениза расцепила сведенные судорогой челюсти и вытащила изо рта кулак. В квартире стояла мертвая тишина. Она сосчитала до двухсот, чтобы успокоиться, встала, оделась, нацепила чепец и разложила на кровати большую лиловую шаль: покидая три года назад Кемпер, она привезла в ней все свои пожитки. Из шкафа за ветхим пологом Дениза взяла два штопаных платья и бархатную юбку — подарок мадам де Валуа, потом аккуратно сложила на шаль чулки, нижнюю юбку и две белые блузки, положила сверху потемневшее серебряное распятие, зеркальце и кружевную кофту, доставшуюся ей от матери, и наконец увязала шаль в узел.
Девушка прислушалась — в квартире было по-прежнему тихо, — надела жакет и решилась отодвинуть столик от двери. Она уже собиралась выйти, но спохватилась, что забыла самое главное. Подбежав к кровати, Дениза вытащила из-под матраса олеографию на картонке с изображением Пресвятой Девы Марии в голубых одеждах на фоне желтых скал. Дениза торопливо завернула ее в наволочку, зажала подмышкой и подхватила узелок.
Свет серого утра не мог разогнать тени, и квартира наводила на Денизу ужас. Она сделала глубокий вдох, как в детстве, когда прыгала в холодную воду реки Од, и шагнула в коридор. Нужно как можно скорее покинуть этот дом с привидениями. На лестнице ее одолели сомнения: где она оставила ключи — положила на каминную полку в гостиной, когда зажигала свечи, или бросила в своей комнате? Неважно, она все равно ни за что туда не вернется! Девушка хлопнула дверью, спустилась на один этаж и снова остановилась. Куда пойти? Денег от покупок осталось совсем мало: десять франков и пятьдесят су. Наверное, следовало оставить их на столике в коридоре, ведь ее могут посчитать воровкой, но мадам де Валуа еще не выдала ей жалованья, и эти деньги можно считать авансом. Нет, она больше не войдет в эту проклятую квартиру.
Дениза спускалась по ступенькам, размышляя, что ей делать дальше. У нее не было знакомых в Париже. Кто приютит ее? Внезапно она вспомнила о бывшем любовнике мадам де Валуа, очаровательном черноглазом мсье, который всегда был очень мил с Денизой и время от времени даже дарил несколько франков. Его звали Виктор Легри. В прошлом году Дениза однажды сопровождала мадам в его книжный магазин на левом берегу Сены. Как называлась та улица? Сен… там еще была больница…
Дениза спустилась в холл, и ее окликнул консьерж Ясент.
— Вы сегодня рано, мадемуазель Ле Луарн! Что-то случилось?
Она помотала головой и выбежала на бульвар, не заметив, что дверь за ее спиной приоткрылась, выпустив худощавого юношу в военном кепи и лицейском мундирчике с золотыми пуговицами.
Первые солнечные лучи проникли через купы платанов, осветив увитую плющом стойку перил. Медный отблеск жаровни напугал шустрого зверька с острой мордочкой.
— Вернитесь, мадемуазель куница, ну что вы за трусиха! Вернись, красотка, и получишь кусочек вкусной свиной кожицы! Мне ее дала мадам Валладье. Маглон — добрейшая из женщин, и в корсаже у нее кое-что имеется, несмотря на года… Не хочешь? Напрасно, победа будет за нами, трам-пам-пам!
Папаша Моску подогрел кофе и «причесался», запустив в волосы пятерню. Он прекрасно выспался, совершенно протрезвел и уже сожалел, что не прихватил бутылочку, дабы выпить за чудесное утро. Однако принцип есть принцип, и старик «угощался» только за стойкой кабачка или в компании друзей.
— Напиваться дома недостойно Антуана Жана Анисе Менаже, храбреца Моску, старого служаки и солдата наполеоновской гвардии! Я отвечаю перед родиной за жизнь моих полков. Если враг пойдет в атаку, мы нападем с фланга, трам-тарарам-там-там!
Старик обращался к голубям и вороне, которые слетелись полакомиться остатками его завтрака. Он потер затылок и продолжил:
— Башка трещит, видно, норму я вчера все-таки превысил. Ты старый пьяница, Моску, и не получишь ни капли до полудня! Ладно, пора браться за работу.
Вылив остатки кофе в жаровню, папаша Моску начал продираться сквозь заросли сирени. Он распугал воробьев, споткнулся о кучу осколков лепнины, отлетел к смоковнице и приземлился на куст ломоноса.
— К бою! — выхватив нож, рявкнул он, отражая нападение невидимого противника.
Потом подошел к стоявшей у стены тачке и поднял брезент, чтобы обозреть свои богатства.
— Барахло! — недовольно проворчал он, вытаскивая из кучи зонтик, ботинок и цилиндр. — Похоже, скоро на кладбище начнут терять кальсоны! А потом и до малышни черед дойдет, станут выбрасывать детей в крапиву! — возмущался старик, ставя на траву верх от коляски.
Покончив с громоздкими предметами, папаша Моску решил примерить кучерский плащ и набросил его на плечи.
— Покрашу его в красный или в зеленый, чтобы не принимали за кучера, и выйдет отличное пальте…
Старик застыл с раскрытым ртом, не закончив фразы. Его охватил ужас. На дне тачки, упираясь затылком в обломок мраморной плиты, покоилась одетая в черное женщина. Лицо с закрытыми глазами было смертельно бледным, на груди лежал закрытый зонт.
— Будь я проклят! Безбилетная пассажирка!
Он коснулся лба незнакомки и с криком отдернул руку: женщина была мертва. Папаша Моску заметил коричневое пятнышко на ее пальто, отогнул воротник и обнаружил на шее покойницы полоску засохшей крови. Он снял с нее меховую шапочку и бережно повернул голову набок: затылок у несчастной был разбит. Убийство. Старик отпрянул назад.
— Ну и зверство… Уж я покойников на своем веку повидал — и всех похоронил. А тут… Труп в моей тачке! Это уж слишком. Но я тут ни при чем. Знаю, знаю, если выпью лишнего, сражаюсь, как лев. Но убивать женщин… Увольте! Что за негодяй решил подставить папашу Моску?
Старика била дрожь. Он опустил брезент, оттащил тачку на другую сторону двора, спрятал в зарослях калины и бузины и помчался за лопатой.
— Благодарение Небу за вчерашний дождь, будет полегче копать…
Он осмотрел тело, прежде чем хоронить, и решил забрать меховую шапочку, а залитое кровью каракулевое манто оставил. Цепочку с серебряным медальоном он продаст ювелиру с улицы Пернель, ему же предложит бриллиантовое кольцо, украшавшее средний палец левой руки покойницы. Обручальное кольцо с безымянного пальца снять не удалось, да старик и не особо старался, рассудив, что это будет нехорошо по отношению к убитой.
Папаша Моску спрятал драгоценности в карман, поплевал на ладони и принялся копать, насвистывая для бодрости духа военный марш. Он старался убедить себя, что незнакомка — павший на поле боя солдат, а сам он — генерал. Работа заняла около часа, и старик, несмотря на холод, взмок от пота. Решив, что могила достаточно глубока, папаша Моску начал стаскивать тело с тачки. Юбка у женщины задралась, обнажив ноги в шелковых чулках, и старик стыдливо отвернулся. Тело шмякнулось на землю, он столкнул его в яму, бросил сверху зонт и начал торопливо закапывать. Потом разровнял землю, присыпал могилу гравием и критическим взглядом оценил свою работу. Не хватало главного. Старик пошел прочь, бормоча себе под нос придуманную для собственного успокоения историю:
— Уверен, это он. О да, мой император, удар нанес Эммануэль Груши. Вспомните Ватерлоо. Не дай он Блюхеру соединиться с Веллингтоном, вы бы победили. Я вам докладывал. Он это знает. Ненавидит меня с тех самых пор и сегодня сумел отомстить.
Папаша Моску вернулся с двумя кустами сирени, посадил их у могилы, сунул руки в карманы и отошел полюбоваться на свою работу.
— Даже Груши не догадается, что здесь похоронена женщина, да упокоится ее душа с миром. Я заслужил отдых и могу позволить себе графинчик гусарского эликсира.
В одичавшем саду царила мирная тишина, и случившееся вдруг показалось старику сном. Вот только в кармане его куртки лежали драгоценности покойницы.
Глава вторая
Было почти девять, когда Дениза вышла к мосту Искусств. В это холодное ясное утро отсюда открывался один из прекраснейших парижских видов. Дойдя до середины моста, девушка замедлила шаг, завороженная красотой пейзажа. Слева возвышались башни Дворца правосудия, тянулась вверх стрела Сен-Шапель, за величественной громадой Нотр-Дам сверкала под солнцем стрелка острова Сите, манил прохладой парк Вечного повесы
[4]. Вдалеке справа штурмовала небо Эйфелева башня. Сена выгибалась горбом под сводами Нового моста, ударялась в борта речных пароходиков и несла дальше свои желтые воды, на которых раскачивались утки.
Дениза прошла мимо Института и Школы изящных искусств, глядя, как на другой стороне набережной Малакэ букинисты и торговцы медалями пристраивают на парапете коробки с товаром. Ей потребовалось немало мужества, чтобы спросить у толстяка, одарившего ее улыбкой из-под пышных усов, как пройти к улице Сен-Пер.
Стоявшие в ряд особняки показались Денизе не такими роскошными, как на бульваре Оссман, но куда более красивыми: их потемневшие фасады устояли под натиском времени. Девушке пришлись по сердцу царившие здесь покой и какая-то провинциальная атмосфера. На улице оказалось много книжных магазинов, и Дениза не знала, какой именно принадлежит Виктору Легри. Вывеска «Эльзевир» на доме № 18 подсказала, что она у цели.
В витринах, обрамленных деревянными панелями цвета старой бронзы, стояли красные с золотым обрезом тома. Были выставлены и самые свежие издания: «Человек-зверь» Эмиля Золя, вызвавший бурные споры в обществе роман Люсьена Дескава «Унтер-офицеры», том Шекспира, открытый на странице с иллюстрацией к «Макбету». В углу витрины стояли новинки. Дениза разглядывала книги, бормоча названия вслух: «Дело вдовы Леруж» Эмиля Габорио, «Похождения Рокамболя» Понсона дю Террайля, «Тайна Эдвина Друда» Чарльза Диккенса, «Банда Фифи Воллар» Констана Геру, «Лунный камень» Уилки Коллинза. Маленькая картонная табличка гласила:
Если вы любите криминальные загадки
и полицейские расследования,
обращайтесь к нам, не откладывая,
мы будем рады дать вам совет.
Сделанная красными чернилами надпись слегка напугала Денизу, но она преодолела страх, приблизила лицо к стеклу и сумела разглядеть внутри светловолосого юношу с газетой в руках. Неожиданно кто-то начал насвистывать у нее над ухом, и девушка подняла голову. Лицеист в форме и надвинутом на глаза кепи почти касался ее локтем. Дениза незаметно отодвинулась и укрылась под козырьком соседней лавки. Она надеялась, что бывший любовник хозяйки вот-вот появится. Лицеист тоже отошел от витрины и теперь прохаживался у аптеки-кондитерской Дебова и Галле.
В дверях соседнего с книжной лавкой дома показалась толстушка в длинном фартуке с метлой в руках. Она оглядела улицу, с подозрением взглянула на Денизу и скрылась внутри, но почти сразу вернулась с ведром и вылила его на тротуар в тот самый момент, когда мимо проходила зеленщица с тележкой, так что та едва успела отскочить.
— Вы, никак, утопить меня решили, мадам Баллю?
— Простите, мадам Пиньо, я задумалась о кузене Альфонсе, том, что уехал в Сенегал. Ну так вот — он ее подхватил!
— Кого подхватил?
— Инфлюэнцу! Поим его улиточным сиропом, поим, а он все кашляет и кашляет!
— Не волнуйтесь, мадам Баллю, он поправится. Удачного вам дня!
— И вам, и вам тоже, мадам Пиньо.
Зеленщица махнула рукой в сторону книжного магазина и отправилась по своим делам, толкая перед собой тачку. Неожиданно на улицу выскочил белокурый юноша.
— Мама, подожди! — крикнул он, нагнал зеленщицу, схватил два больших яблока с вершины пирамиды из овощей и фруктов, поцеловал женщину в щеку и вернулся в магазин.
Дениза не двинулась с места. Молодой человек тут же снова вышел и крикнул, обращаясь к мужчине, стоявшему у открытого окна комнаты на втором этаже.
— Дайте мне десять минут, патрон!
Тот кивнул и закрыл створки. Дениза заметила восточный разрез его глаз и вспомнила, что мадам де Валуа часто с неудовольствием поминала лакея Виктора Легри, китайца.
Азиат был одет по английской моде: твидовый пиджак с узкими лацканами и накладными карманами с клапанами, белая рубашка, серые брюки с безукоризненной стрелкой, коричневые кожаные ботинки. Он подошел к столу с чернильницами, взял лежавшие на нем железнодорожные билеты, сунул их в бумажник и взглянул на два новых эстампа, которыми совсем недавно украсил стену: «Паром на реке Сумида» Кийонаги и «Озеро Бива» Хирошиги
[5]. Налюбовавшись, он толкнул дверь туалетной комнаты, где стояла роскошная медная ванна, наклонился к зеркалу, поправил зеленый шелковый галстук, надел клетчатый шерстяной котелок и улыбнулся фотографии молодой темноволосой женщины, нежно обнимающей мальчика лет двенадцати, которая стояла в рамке на мраморном столике. Подпись гласила: «Дафнэ и Виктор, Лондон, 1872 г.».
Мужчина вернулся в просторную, обставленную мебелью в стиле Людовика XIII гостиную, отодвинул ширму из рисовой бумаги и прошел в спальню. Тут все было на японский манер — тонкий хлопковый матрас и деревянный подголовник, сундук с затейливой железной окантовкой, маски театра Но, сабли с эфесами ручной работы, лаковый чернильный прибор. Он закрыл обклеенный разноцветными ярлыками чемодан и привязал к ручке картонную карточку с надписью: «Г-н Кэндзи Мори, Франция, Париж, улица Сен-Пер».
Заканчивая приготовления к отъезду, Кэндзи Мори думал о том, что Айрис будет наконец жить неподалеку. В своем последнем письме она радовалась идее переехать во Францию.
Теперь Айрис не придется неделями ждать, когда он пересечет Ла-Манш, чтобы увидеться с ней. Сен-Манде находится очень близко от Парижа, и они смогут встречаться каждое воскресенье. Айрис понравится жить на природе: пансион мадемуазель Бонтан на шоссе де л'Этан находится прямо напротив Венсеннского леса. Но Кэндзи хотел, чтобы она держалась подальше от магазина. С Виктором Айрис встречаться не должна! Ничего, он придумает, как это устроить. Стук колес по мостовой оторвал его от приятных мыслей. Он подошел к окну и увидел подъехавший фиакр.
— Карета подана, мсье Мори! — крикнул с улицы шустрый приказчик.
— Уже иду, — ответил Кэндзи.
Дениза увидела, как светловолосый юноша вынес из лавки пестрящий наклейками чемодан. Следом шли азиат и симпатичный мужчина лет тридцати с усами. Она подалась вперед, узнав бывшего любовника мадам де Валуа. Он крикнул: «Счастливого пути, Кэндзи, будьте благоразумны!», азиат сел в экипаж и уехал.
Как только Виктор Легри с помощником вернулись в магазин, Дениза перешла улицу и толкнула дверь, надеясь, что не выглядит слишком напуганной и растерянной. Юноша сметал пыль с книг на полках. Услышав, как звякнул колокольчик, он повернул круглую кудрявую голову и улыбнулся покрасневшей от смущения Денизе.
— Добрый день, мадемуазель, чем я могу вам помочь?
Девушка не отвечала, и он подошел ближе, сияя лучезарной улыбкой.
— Вы ищете какую-то книгу? Или автора?
Дениза заметила, что приказчик горбат. Эрван как-то сказал ей, что если прикоснуться к горбу, это приносит счастье, и она вдруг успокоилась, хотя юноша смотрел на нее снисходительно.
— Я бы хотела поговорить с мсье Легри, — прошептала она. — Это… очень важно.
Заинтригованный молодой человек вгляделся в посетительницу: поношенная одежда, старые туфли, тощий узелок с пожитками. К груди девушка прижимала плоский прямоугольный пакет. «Провинциалка возомнила себя новой Жорж Санд и пытается продать свои сочинения книготорговцам квартала Сен-Жермен» — решил он, что-то недовольно проворчал, вышел из-за прилавка и поднялся по винтовой лестнице на второй этаж. Оставшись одна, Дениза подошла к каминной полке из черного мрамора, чтобы разглядеть стоявший на ней бюст мужчины в парике с ироничной улыбкой на губах. Она попыталась прочесть имя на цоколе.
— Вам нравится мой Мольер?
Дениза вздрогнула и обернулась. Низкий голос принадлежал Виктору Легри. Молодой человек за его спиной снова с деловым видом махал метелкой и что-то напевал.
— Я служу у мадам де Валуа, и я… я…
— У мадам де Валуа? — Виктор нахмурился, вспомнив бывшую любовницу: белокурые волосы струятся по плечам, округлые прелести притягивают взгляд, розовая кожа светится в полумраке спальни, она откидывает простыню, тянется к нему… Как давно все это было… Когда они порвали? Девять, десять месяцев назад?
— Да, я вас припоминаю, только забыл ваше имя.
— Дениза Ле Луарн.
— Конечно, Дениза. Вас прислала мадам?
— О нет, мсье, я сама пришла, я никого не знаю в Париже, кроме вас, и… — Девушка бросила смущенный взгляд на прислушивавшегося к разговору приказчика, и Виктор жестом отослал его. — Мне нужно с вами поговорить, мсье, прошу вас, выслушайте меня… Я больше не могу оставаться у мадам де Валуа.
Девушка была очень бледна и дрожала, как в лихорадке. Виктор испугался, что она лишится чувств, протянул руку, чтобы поддержать ее, но передумал и спросил:
— Вы завтракали? — Не дожидаясь ответа, он пошел к выходу: — Я тоже не успел. Идемте. Если меня будут спрашивать, Жозеф, я в «Потерянном времени». Оставьте ваши вещи под прилавком, мадемуазель.
Звякнул колокольчик. Жозеф раздраженно стряхнул перо над зеленым сукном столика, стоявшего в центре зала.
— Потерянное время, потерянное время, он его и впрямь теряет, свое время! А бедняга Жожо должен в одиночку заниматься магазином, так-то вот!
Он бросил перо, влез на приставную лесенку, достал из кармана яблоко, газету и просмотрел первую полосу.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ, ПО ТЕЛЕГРАФУ
В Германии зять Карла Маркса Поль Лафарг поздравил социалиста Бебеля, получившего 4500 голосов избирателей Страсбурга…
Жозеф пожал плечами — политика его мало интересовала, пролистал еженедельник, дошел до рубрики «Происшествия» и начал читать вслух:
СТРАННАЯ КРАЖА
Прошлой ночью неизвестные злоумышленники проникли в конюшни омнибусной компании на улице Орденер и обрезали гривы и хвосты у двадцати пяти лошадей. Начато расследование…
— А вот это интересно! На что они пустят все эти волосы? На парики?
Он спрыгнул со своего насеста, схватил ножницы и банку с клеем, выхватил из кармана черный блокнот, вырезал заметку и наклеил ее на отдельную страничку, после чего откусил яблоко и вернулся к чтению.
Кафе «Потерянное время» находилось на углу улицы Сен-Пер и набережной Малакэ. В этот утренний час здесь почти не было посетителей. Дениза и Легри устроились за столиком в одной из кабинок напротив стойки. Виктор заказал чай. Дениза пить ничего не стала, но съела тост и круассан.
— Не чай, а бурда! — поморщился Виктор, отпив из чашки. — Французы так и не научились его заваривать. А ведь это так просто!
— Мадам всегда говорит, что я плохо готовлю шоколад.
Девушка стряхнула крошку с губы. Виктор отодвинул чашку.
— Если я правильно понял, вы хотите уйти от нее. Что, она настолько несносна?
Дениза опустила глаза:
— Раньше она была другая…
— Что значит — раньше?
— До того, как погиб хозяин, мадам была требовательная и властная, как все хозяйки. А нынешним летом, в Ульгате, она стала ко мне добра и снисходительна, разрешала гулять по пляжу, когда сама встречалась с мадам де Бри.
Девушка помолчала, скатывая хлебный мякиш в шарики, и тихо добавила:
— Это она вбила моей хозяйке в голову всякие глупости!
— Не понимаю, о чем вы? — нахмурился Виктор.
— Только не смейтесь, мсье… Мадам де Бри рассказывала, что вроде бы мертвые вовсе не мертвые, что после смерти есть жизнь — не в раю, а тут, рядом с нами, что они приходят нас навещать, вот только увидеть их невозможно… В общем, всякие такие истории. В Ульгате она водила мадам де Валуа к магу, он жил на красивой вилле, и там творились всякие странные дела. Голосом господина Нумы, ну, этого мага, усопшие вроде как разговаривали с живыми. Мадам де Бри, к примеру, говорила со своим сыном, который давным-давно умер. Я сама не видела, мне ее служанка, Сидони Тайяд, рассказала. Она смеялась над своей хозяйкой, называла ее чокнутой.
Дениза для большей выразительности постучала указательным пальцем по лбу и продолжила:
— Госпожа совсем переменилась, когда пришла телеграмма из Америки насчет смерти хозяина. Это было в конце ноября и…
Виктор припомнил, как графиня де Салиньяк сладким голоском, облизываясь, словно сытая кошка, спросила его: «Кажется, вы знали Армана де Валуа? Можете вычеркнуть его из числа клиентов, он покинул наш бренный мир. Беднягу унесла желтая лихорадка». Роман Виктора с русской художницей Таша — они познакомились на Всемирной выставке — был в самом разгаре, и ему недостало мужества съездить к Одетте и выразить соболезнования. Он ограничился безликим, стандартным письмом. Таша… Ее образ предстал перед ним, как наяву: зеленые глаза, рыжие, собранные в низкий пучок волосы, едва заметный акцент. Ему так ее не хватало! Последние две недели Таша держалась подчеркнуто холодно. Как это глупо! Вся вина Виктора заключалась в том, что он осмелился не одобрить ее идею выставить картины в «Золотом солнце». «В этом трактире на площади Сен-Мишель собирается довольно вульгарная публика, думаю, можно найти более достойное место», — заметил он. Таша, естественно, встала на дыбы: «Да ты просто ревнуешь! Тебя бесит моя свобода, ты хотел бы запереть меня, как одалиску в гареме!» — кричала она. Ревность… Да, тут Таша не ошиблась, но всякие мазилы вели себя с ней слишком фамильярно, особенно Морис Ломье, с которым Виктора связывала… глубокая взаимная неприязнь.
— …Знаю, наверное, я не должна вам этого говорить, мсье, но… Мсье, мсье, вы меня слушаете?
Виктор очнулся от грез.
— Да, продолжай.
— Понимаете, мсье, она думала, будто милосердный Господь наказал ее за… ну, в общем… — Девушка опустила голову.
— Наказал? За что наказал, Дениза?
— Простите, мсье, но… за связь с вами.
Виктор через силу улыбнулся.
— Ну что вы, милая! Я был у мадам не первым, да и мсье де Валуа никто не назвал бы образцом добродетели. Вы же давно служите у них и сами знаете: к тому времени, как Арман погиб, мой роман с его женой был давно окончен.
— Конечно, знаю. Но она по несколько раз на дню молится, стоя на коленях перед портретом хозяина, и я даже слышала, как она просила у него прощения: «Я чувствую, Арман, ты здесь, я уверена! Ты все видишь. Ты все слышишь. Дай знак твоей сладкой девочке, мой зайчик, умоляю!» Называть покойника зайчиком — это же просто ужас какой-то! А еще она приказала мне закрыть ставни и задернуть шторы, потому что призрак ее покойного супруга якобы боится света дня. Мы жили при свечах, квартира стала словно могила! Я уж не говорю о спальне мадам — видели бы вы, как она все там обставила и что держала в гардеробе… Она мечтала о шикарных похоронах по высшему разряду с цветами, венками и все такое, но хозяин погиб среди дикарей, и тогда мадам заказала дорогущую мраморную плиту с надписью золотыми буквами и установила ее в фамильном склепе Валуа на кладбище Пер-Лашез. Ее поведение ужасно меня пугало, но я старалась убедить себя, что всему виной горе и вдовство. Мадам стала регулярно отлучаться по понедельникам и четвергам, после обеда, а когда возвращалась, то выглядела пре… прео…
— Преобразившейся?
— Да, как святые на церковных витражах. Позавчера она велела мне пойти с ней. Мы взяли фиакр и поехали в незнакомый квартал, остановились у красивого дома. Нас впустила дама — я не разглядела ее лицо под вуалью, но по голосу поняла, что она недовольна. Она отвела мадам в сторонку и отчитала за то, что та пришла не одна. Они закрылись в комнате в конце длинного коридора, и мне пришлось ждать целых два часа. Когда хозяйка вышла, у нее было заплаканное лицо и припухшие веки. Дама под вуалью сказала ей: «Завтра ваш траур закончится. Если вы покоритесь супругу и принесете ему то, что он просит, его цепи падут, а вы начнете новую жизнь».
— Что она должна была принести?
Дениза закусила губу и ответила не сразу:
— Картину, которой мсье де Валуа очень дорожил — по словам мадам. Я пошла за ней, но в комнате хозяина было темно, а мадам очень торопилась. Я ошиблась, перепутала картины — их было две. Мы отправились на Пер-Лашез, и там мадам исчезла, я ее…
Виктор закурил и выдохнул дым, глядя через стекло витрины на высокую брюнетку, стоявшую на противоположном тротуаре. Будь у него при себе фотоаппарат, он сделал бы отличный снимок — светлый силуэт на фоне темной стены. А маленькая горничная все тараторила, не закрывая рта…
— Вы должны мне поверить, мсье Легри, клянусь, я правду говорю! Когда я пришла в часовню, мадам там уже не было. Остался только шарф… он лежал на земле. Я хотела его подобрать, но тут в меня что-то попало, кажется, камень, только я никого не видела. Я ужасно испугалась и бегом помчалась к выходу. Сторож сказал, чтобы я возвращалась домой. Я добралась до бульвара Оссман, искала мадам везде, но так и не нашла и спряталась у себя в комнате, а на рассвете… кто-то пытался ко мне войти! Я ощутила то же зловещее присутствие, что и в часовне. Нельзя тревожить духов — они могут ожить!
Девушка продолжала жаловаться на свою горькую судьбу, а Виктор спрашивал себя, зачем Одетте понадобилось идти на такие хитрости, чтобы заночевать у любовника. Он не мог поверить, что она стала безутешной вдовой и жаждет связаться с духом супруга, которому не раз наставляла рога. Или Одетта завела двух любовников сразу и пыталась сбить со следа одного, чтобы провести время с другим?
— Умоляю, мсье Легри, помогите мне, я не хочу туда возвращаться, лучше буду спать под мостом, но больше ни одной минуты не проведу в том пр
оклятом доме!
— Не волнуйтесь, милая, мадам де Валуа наверняка отправилась в незапланированное путешествие!
«На встречу с дорогим ее сердцу созданием, чтобы, как Кэндзи с Айрис, изучать географию страны нежных чувств», — подумал он.
— Но за дверью правда кто-то был, мне это не приснилось. Мадам не взяла ничего из вещей, я бы заметила, я все проверила…
Виктор слушал, глядя на губы девушки, но видел перед собой лицо Таша. Внезапно его осенило: эта маленькая болтливая служаночка и Кэндзи предоставили ему шанс помириться с Таша. Он затушил сигарету и бросил несколько монет на блюдечко.
— Успокойтесь, Дениза, я все улажу.
Двое покупателей листали книги: один сидел за столом, другой расположился у прилавка, за которым стоял Жозеф. Виктор сделал приказчику знак:
— Поручаю вам мадемуазель Денизу, позаботьтесь о ней. Я скоро вернусь.
— Но, патрон… — попытался возразить Жозеф, однако Виктора уже и след простыл. — Ну вот, опять! Стоит мсье Мори отлучиться из дома, как этот тут же удирает! Я же не могу разорваться надвое, — бурчал Жозеф, неприветливо глядя на Денизу.
— Не беспокойтесь обо мне, мсье, я посижу на табурете и подожду. Если вам нужна помощь, только скажите, — пролепетала девушка.
Предложение помощи и почтительное обращение смягчили сердце Жозефа, и он удостоил Денизу улыбки, прежде чем вернуться к клиенту.
Виктор в прекрасном настроении поднимался по улице Лепик, насвистывая первые такты вальса Форе. На улице Толозе он толкнул двери «Бибулуса», кабачка под вывеской «К поддатой собаке». После залитой солнцем улицы его
глаза не сразу привыкли к полумраку зала с низким потолком и бочками вместо столов. Двое посетителей пили пиво, лениво перекидываясь засаленными картами.
Багроволицый толстяк за стойкой разливал пиво по кружкам.
— Привет, Фирмен! — поприветствовал его Виктор.
— День добрый, — буркнул в ответ трактирщик.
Виктор миновал узкий коридор и попал в помещение со стеклянной крышей, где была, оборудована мастерская. От топившейся углем печки тянуло жаром, в воздухе висел густой запах табака. Человек шесть молодых людей стояли за мольбертами и писали этюд: полуобнаженная натурщица опиралась о колонну, на верху которой стояла ваза с гвоздиками. Чуть в стороне от остальных работала хрупкая девушка с полураспустившейся рыжей косой. Она касалась холста короткими нервными мазками. Одета молодая художница была в длинную широкую блузу, всю в пятнах краски. Высокий длинноволосый бородач что-то объяснял, склонившись к ее мольберту. Кровь прилила к лицу Виктора, он долго наблюдал за ними, прежде чем решился подойти.
— Здравствуй, Таша, — произнес он, намеренно игнорируя бородача.
Девушка, вздрогнув от неожиданности, подняла глаза.
— Могу я поговорить с тобой наедине? — спросил Виктор.
— Каким ветром занесло сюда нашего друга книготорговца-фотографа? — задиристо поинтересовался бородач.
Виктор отвесил ему чопорный поклон.
— Будь душкой, Морис, оставь нас, — попросила Таша, дружески ткнув приятеля в плечо.
— Слушаю и повинуюсь, красавица, для тебя я готов… на все. И прошу, подумай о рамах для своих картин.
— Почему ты с ним так нелюбезен? — тихо спросила Таша Виктора, кладя кисть.
Тот прикинулся невинной овечкой.
— Думаю, мне стоит извиниться, — сокрушенным тоном произнес он.
— Об этом я не прошу. Но я тебя предупреждала: я не позволю относиться к себе, как к вещи.
Их разговор прервали радостные возгласы художников, приветствовавших появление Фирмена с подносом, уставленным тяжелыми кружками. Морис метнул в Виктора насмешливый взгляд и присоединился к художникам, окружившим толстяка-трактирщика. Они называли его благодетелем и спасителем.
Таша поправила волосы, сняла рабочую блузу и осталась в белой кофточке и лиловой юбке. Виктор подал ей приталенное по последней моде пальто.
— Так зачем ты пришел? — спросила она.
— Мне нужна твоя помощь. Ты не пустишь к себе в мансарду девушку, которой негде приклонить голову? Это ненадолго…
Вопрос так ошеломил Таша, что она застыла с перчаткой в руке.
— А я где буду ночевать?
— На улице Сен-Пер, восемнадцать.
Она медленно, палец за пальцем, натянула перчатки.
— Мог бы найти предлог и получше.
— Но это чистая правда! Девушку зовут Дениза, и я понятия не имею, что с ней делать. Впрочем, ты права, я воспользовался случаем. Две недели без тебя показались мне вечностью.
Таша с трудом удержалась от торжествующей улыбки: она победила. За эти две недели она сама не раз готова была бежать к Виктору, рискуя столкнуться с его компаньоном-японцем, который почему-то не слишком ей симпатизировал. И удержалась, не желая капитулировать первой — не столько из гордости, сколько из осторожности. Виктор ужасный собственник. Если она хоть раз попросит у него прощения, он начнет судить ее друзей, давать оценку ее работам и в конце концов просто задушит своей любовью…
— А ты, случайно, не забыл о мсье Мори?
— Кэндзи пробудет в Лондоне до конца недели.
— Надо же, ты все предусмотрел! И все организовал! Надеешься, что я упаду в твои объятия с возгласом: «Когда же?»
— Ты вольна поступать, как хочешь, но если согласишься, я буду самым счастливым человеком на свете.
— Я смогу приходить и уходить, когда захочу?
— А что тебе помешает? Уж точно не я, — со смехом отвечал Виктор.
— Ну что же, на таких условиях… можем заключить перемирие. Ты хочешь поселить эту бездомную бедняжку в моем дворце прямо сегодня вечером?
Виктор попытался обнять Таша, но она уклонилась и отошла в глубь мастерской к зеркалу, чтобы надеть шляпку.
— Что вы думаете об этом полотне? — обратился к нему Ломье. — Правда, наша с вами подруга с каждым днем набирает мастерства? Она не должна упустить возможность выставиться в «Золотом солнце». Гоген расписал подвал, где дважды в месяц, по субботам, собираются художники, сотрудничающие с журналом «Перо». Раз уж вы ставите себе в заслугу продвижение литературы в массы, так приходите послушать настоящих поэтов.
Виктор не хотел полемизировать с Морисом Ломье. Он изучал работу Таша: в центре полотна пламенем рдели гвоздики, отодвинув на задний план томный силуэт женщины.
— Странно, что вы отдаете предпочтение столь классическим сюжетам, — небрежно бросил он.
— Вы, дорогой друг, утверждаете, что любите фотографию, следовательно, не удивитесь, если я скажу, что сюжет вторичен, а художника делает стиль.
— Совершенно с вами согласен. Стиль Таша мне безумно нравится! Надеюсь, вы не ревнуете?
— Боже, только не начинайте снова! — вмешалась Таша. — До завтра, Морис, нам пора.
Когда они вышли, разъяренный Ломье пнул ногой мольберт, за которым только что стояла Таша, и вернулся к работе.
— Вы оба ведете себя как мальчишки! А я как будто ромовая баба на витрине кондитерской, которую каждый жаждет заполучить, — ворчала Таша, быстро шагая по улице Дюрантен.
— Что ты сказала? — не расслышал едва поспевавший за ней Виктор.
— Ничего, болтаю сама с собой!
Больше всего на свете Виктор боялся, что Таша передумает, но на улице Берты она успокоилась и замедлила шаг, и он наконец поравнялся с ней.
— Прости, я повел себя глупо! Я вовсе не собирался ссориться с Ломье.
— Когда ты перестанешь меня ревновать? — воскликнула она, поворачиваясь к нему лицом.
— Ревновать? Я?!
— Слушай внимательно, Виктор Легри: мы решим эту проблему здесь, сейчас и раз и навсегда! До нашего знакомства я сама распоряжалась своей жизнью и не потерплю твоих стычек с моими друзьями. Ты подозрителен, мнителен и не способен владеть собой!
— Прости меня, клянусь, что я…
— Никаких клятв! — против воли рассмеялась Таша. — Ты их все равно не сдержишь.
Они добрались до улицы Мартир. Над ними возвышались леса строящегося собора Сакре-Кёр, ниже, под крышами тесно прижавшихся друг к другу домов, плыли крылья Мулен де ла Галетт.
— А что с выставкой? У тебя все готово? — спросил смущенный Виктор.
— Я выставлю две или три картины. Рамы слишком… — Таша не договорила, испугавшись, что он подумает, что она рассчитывает на его помощь.
Но Виктор тут же отреагировал:
— Пусть они будут моим подарком!
— Нет.
— Не упрямься! Я сейчас при деньгах, и мне доставит удовольствие…
— Жалкий лгунишка! Ты же говорил, что считаешь «Золотое солнце» слишком вульгарным.
— Я в очередной раз сморозил глупость. Беру свои слова назад. Я верю в тебя, в твой талант, и считаю, что с твоей стороны было бы ужасно глупо отказаться! Позволь мне сделать это для тебя, я же не драгоценности предлагаю, а всего лишь несколько дощечек!
Таша молчала, покусывая через перчатку ноготь большого пальца. Виктор осторожно подходил все ближе, потом привлек ее к себе, и она не оттолкнула его. Они пошли дальше в обнимку.
— Этот звонок просто оглушительный! Нет, молодой человек, вы меня не убедите.
Элегантная дама с седеющими волосами направила на Жозефа лорнет. Ее спутница, худенькая девушка с чуть длинноватым носом смотрела на юношу влюбленными глазами. Дениза, которая так и сидела на табурете, сжалась в комочек, опустила плечи и склонила голову, стараясь не привлекать к себе внимания…
Жозеф демонстрировал посетительницам стоявший на столике аппарат.
— Госпожа графиня, сейчас я объясню вам, как это работает. Представьте, мадемуазель Валентина, что вы решили поговорить с вашей тетушкой. Сначала быстро нажмите два или три раза на рычаг, потом снимите трубку, поднесите к уху и скажите: «Алло!» — это английское слово означает «здравствуйте». Телефонистка ответит: «Алло!», и вы назовете имя и адрес абонента. Давайте покажу.
Жозеф приложил трубку к уху и сделал паузу, чтобы слушатели оценили эффект.
— Алло… Да, мадемуазель, я хочу поговорить с госпожой графиней де Салиньяк, улица дю Бак, двадцать два, Париж. — Он улыбнулся Валентине. — Вот так, мадемуазель. Трубку надо держать возле уха. Главное — никогда не нажимайте на рычаг во время разговора, чтобы не прервать связь. Говорите четко, голос не повышайте, держите микрофон в трех-четырех сантиметрах от губ. — Жозеф повернулся к графине. — Закончив разговор, нажмите на рычаг и скажите телефонистке, что линия свободна.
Графиня де Салиньяк презрительно фыркнула:
— Не вижу смысла заводить подобное устройство. Для беседы нет места лучше чайного салона! Думаю, ни один здравомыслящий человек не станет это покупать. Вы получили моего Жоржа Онэ, молодой человек?
— Что именно?
— «Каменную душу», издание Олендорфа.
— Нет, мадам, книга только что вышла в свет, мы надеемся получить ее в самом скором времени, а пока я могу предложить вам последнего Золя.
— «Человек-зверь»? Боже упаси! Вы с ума сошли, мой мальчик! Я насчитала в этой книге шесть смертей — шесть, понимаете?! Председателя Гранморена убили — раз. Мадам Мизар отравили, причем медленно! — два. Флора покончила с собой — три. Северину убили. Жака и Пекё переехал поезд. Господин Золя макает перо в кровь вместо чернил. Он не писатель, а мясник!
Жозеф взглянул на давившуюся от смеха Валентину. Графиня постучала лорнетом по плечу племянницы.
— Мы вернемся, когда мсье Легри окажет нам честь своим присутствием.
Дамы подошли к двери, и какой-то лицеист отступил в сторону, пропуская их. Выходя на улицу, Валентина бросила на Жозефа томный взгляд. Юноша возликовал.
Худенький лицеист тихо поинтересовался, на какой полке стоят поэтические сборники. Жозеф рассеянно кивнул на перпендикулярный прилавку стеллаж, за которым терпеливо ожидала своей участи Дениза.
В зале бесшумно появился Виктор.
— Бабища ушла?
Три головы одновременно повернулись на его голос.
— Надо предупреждать, когда входите через квартиру, вы меня до смерти напугали! — воскликнул Жозеф. — Да, графиня де Салиньяк ушла. — Он увидел за спиной Виктора Таша и приветливо улыбнулся: — Мадемуазель Таша! Как же я рад вас видеть!
— Я тоже, Жожо, я тоже очень рада, мне не хватало твоей веселой физиономии.
Художница подошла к Денизе, и та вскочила, покраснев от смущения.
— Здравствуйте, мадемуазель, вас зовут Дениза? Мсье Легри рассказал мне о вашем затруднительном положении. Я могу выручить вас на несколько дней, если хотите. У меня есть маленькая комнатка на Нотр-Дам-де-Лоретт, не слишком удобная, но вам там будет спокойно, а из окна открывается бесподобный вид на парижские крыши.
— О, благодарю вас, мадам, вы очень добры!
— Зовите меня Таша. И не благодарите — я хорошо знаю, что такое нужда. Вот вам ключ. Жозеф проводит вас, правда, Жожо?
— Возьмите фиакр, — добавил Виктор.
— Фиакр? Но зачем, это же не так далеко! — запротестовал Жозеф. — Мы отправимся прямо сейчас?
— Если хотите, — ответила Таша. — Там осталось немного еды, ешьте, не стесняйтесь. И… простите за беспорядок. Да, еще одно. В моей комнате капает с потолка, домовладелица никак не наймет кровельщика, так что не трогайте ведра.
Не зная, как выразить свою благодарность, Дениза нервно мяла пальцами платье. Она переводила взгляд с Виктора на Таша, и на ее лице явственно читалась тревога.
— Мсье Легри, не сочтите меня бесцеремонной и дурно воспитанной, но, когда вы увидите мадам де Валуа… Не могли бы вы попросить у нее для меня рекомендации, ведь без этого я не найду места, а…
— Не беспокойтесь, я сам напишу рекомендацию, поскольку ваша хозяйка отлучилась.
Лицеист прошептал: «Я подумаю, что взять» — и проскользнул к двери.
Никто не обратил на него внимания. Виктор смущенно похлопывал ладонью по бюсту Мольера. Таша бросила на него насмешливый взгляд и шепнула:
— Значит, эта девушка служила у Одетты де Валуа? Так ты еще не забыл свою напрочь лишенную вкуса подругу?
— Все женщины — дьяволицы, они и святого во грех введут! Взять, к примеру, Жозефину… Эй, ты меня слушаешь?
Сосед папаши Моску кивнул, продолжая медленно лить воду на кусок сахара, лежащий в ложке с отверстиями. Сироп капал в стакан, и прозрачный спиртной напиток как по волшебству приобретал желто-зеленый цвет.
— Ты должен бросить баловаться «зеленой феей», Фердинанд, эта дрянь поедает человека изнутри и сводит его с ума. Бери пример с меня, пей винцо или пиво, даже если оно, как в этом заведении, напоминает по вкусу кошачью мочу!
Осоловевший любитель абсента промычал что-то невнятное, а старик обвел брезгливым взглядом кабак, куда забрел около часа назад. Неподалеку, в доме № 10а по улице Обервилье, располагалась центральная похоронная контора столицы. Затянутый черным крепом зал был заполнен ее служащими. После путешествия на парижские кладбища — в Шаронну, на Монпарнас или Вожирар, в Иври или Банье — факельщики и носильщики расслаблялись за стаканчиком дешевого красного вина и перекидывались с коллегами непристойными шуточками. Кое-кто угощался абсентом.
— Я ее похоронил, Бонапартову Жозефину! Предательница в постели выведывала у него секреты и продавала их Фуше. Теперь никто не найдет ее тело, уж поверь, Фердинанд!
За столиками раздались смешки, и какой-то тип с тройным подбородком вмешался в разговор:
— Эй, Моску, тебе спьяну повсюду мерещатся покойники! На твоем месте, Фефе, я пересел бы на другое место, а не то он перепутает тебя с мертвяком и закопает!
Разъяренный папаша Моску вскочил со стула:
— Заткнись, Груши, не то хуже будет! Я тебя узнал!
— Груши? Это еще кто такой? — фыркнул толстяк.
— Один из тех, кто не вступил в бой! — рявкнул папаша Моску.
— Да пошел ты со своими боями! — огрызнулся тот.
Хохот усилился. Папаша Моску приосанился, приложил руку к сердцу и произнес целую речь:
— У меня тоже были клиенты, которых я провожал в загробный мир, и я говорил им: «Ничего личного, мсье-мадам, я просто делаю свое дело!» Богатеньких мы называли семгами, а бедняков — селедками. Я уже тридцать семь лет копал могилы на Пер-Лашез, когда вы еще пешком под стол ходили! А потом в один разнесчастный день мне сказали: «Пора на покой, дорогу молодым!» Я подох бы с голоду, если бы не мой друг Барнабе: он позволил мне собирать всякий хлам и кое-что по-тихому проворачивать! То же ждет и вас! Когда ваши мозолистые руки больше не смогут держать лопату, вы узнаете, почем фунт лиха! Так что проявите хоть немного уважения! — Старик переступил с ноги на ногу, сдернул шапку, сунул ее подмышку и остервенело почесал голову. — Так-то вот, господа…
Наступила тишина. Папаша Моску уселся на свое место и продолжил прихлебывать дрянное пиво, бормоча себе под нос что-то о Груши и Жозефине. Убедившись, что никто на него больше не смотрит, он сунул руки в карманы брюк и достал оттуда скомканные перчатки, несколько гвоздей, три монетки по пять су и носовой платок. Поглядев на все это, он глухо выругался и стал лихорадочно обшаривать свои лохмотья.
— Черт побери! Где они? Я их потерял!.. Нет, нашел!
Он зажал в ладони снятые с покойницы украшения и принялся их разглядывать. Потом открыл медальон и остолбенел, увидев внутри портрет молодого улыбающегося усача. Старик прищурился, склонился ниже, чтобы получше разглядеть лицо, и ему почудилось, что оно ожило.
— Эй, ты кто такой? Фуше? Груши? Уж точно не маленький капрал! Дурачишь меня? Напрасно, Гектор! Я под мухой, но, если встречу тебя на улице, узнаю как давнего дружка. Твоя рожа навечно отпечаталась в моей башке.
Он допил пиво, рассовал свое богатство по карманам, зажал драгоценности в кулаке и вышел на улицу, где стояла вереница катафалков.
В тот момент, когда Жозеф помогал Денизе выйти из фиакра на улице Нотр-Дам-де-Лоретт, рядом резко затормозила велосипедистка, одетая в юбку-брюки и высокие ботинки со шнуровкой. Седые волосы, заплетенные в косы и уложенные высоко на затылке, делали ее похожей на девочку, переодетую пожилой матроной. Она запуталась в педальных ремнях и наверняка упала бы, не подхвати ее Жозеф в самый последний момент. Велосипед со страшным грохотом рухнул на землю.
— Ну-ну, мадемуазель Беккер, учитесь укрощать своего скакуна!
— Danke shön
[6], мсье Жозеф! Вы так любезны! Если бы не вы, я поцеловалась бы с тротуаром, — сказала она, отряхивая одежду.
У противоположного тротуара остановился второй фиакр и слегка приподнялась шторка на окошке. Когда мадемуазель Беккер, Дениза и Жозеф с велосипедом вошли в ворота дома № 60, шторка опустилась, и фиакр тронулся с места.
Жозеф поставил велосипед на коврик перед дверью квартиры на втором этаже.
— Лошадка в стойле! Следите за ней.
— Danke, мсье Жозеф. Вы идете к мадемуазель Таша? Кажется, она вышла.
— Кузина приехала посмотреть Париж, — показал Жозеф на Денизу, — и будет жить в мансарде. Мадемуазель Таша дала мне ключ.
— Вы с Украины? — спросила мадемуазель Беккер у Денизы.
— Это
моя кузина, — поспешил уточнить Жозеф. — Я буду ее чичероне. До скорого, мадемуазель Беккер.
Они поднялись по лестнице и остановились передохнуть на пятом этаже.
— Это хозяйка, — объяснил Денизе Жозеф. — Ее прозвали Стервятницей, потому что она вечно караулит жильцов, чтобы не сбежали, не заплатив, вот я и сказал, что вы моя родственница. Ну же, веселей, нам нужно еще на два этажа выше.
— Я привычная.
— А я нет. Я даже не поднимался на Эйфелеву башню, потому что боюсь высоты. А вы там были?
— Мне бы очень хотелось, — прошептала Дениза, — кажется, это того стоит.
— Здесь тоже есть на что посмотреть! — весело воскликнул Жозеф, открывая дверь квартиры Таша.
В мансарде было тесно. Повсюду стояли рамы и картины на мольбертах — виды крыш, обнаженная мужская натура. На убранной наспех кровати лежало множество пар перчаток, на спинках стульев висела одежда, стол был завален карандашными набросками, грязными тарелками, палитрами и кистями.
— Ничего, я все здесь приберу, мне не привыкать.
— Не слишком усердствуйте, а то мадемуазель Таша потом ничего не найдет, — посоветовал Жозеф, проходя в служивший кухней и ванной закуток. Он налил в кувшин воды, протер носовым платком два стакана и вернулся к Денизе, пристроившей свои вещи на кровать.
— Что вы там прячете? Дневник?
Девушка развернула наволочку: внутри оказалась олеография с изображением мадонны.
— Это «Дама в голубом», она меня защищает. На витраже собора святого Квентина в Кемпере была такая же. Я каждое воскресенье просила ее об исполнении желаний.
— Вы повсюду таскаете ее с собой? Не слишком удобно. Моя матушка всякий раз, когда готовит рагу, дает мне на удачу кроличью лапку…
Дениза разрыдалась.
— Не плачьте, я получаю амулет только после смерти животинки.
— Мадам, должно быть, в ярости: эта картина не моя! Она хотела отнести ее в склеп мсье де Валуа, а я подменила ее на святого архангела Михаила. Когда я убежала вчера вечером, забрала ее с собой, она и правда мне очень нравится, но я не воровка, клянусь, я верну ее.
Жозеф мало что понял из сбивчивого монолога Денизы, но решил ее утешить:
— Пречистая Дева, святой Михаил — невелика разница! — сказал он, протягивая ей носовой платок. — Вытрите глаза и перестаньте плакать, а то нос распухнет и станет похож на картошку. Устраивайтесь в этой комнате, а потом мсье Легри найдет вам место и все наладится.
Утешая Денизу, Жозеф поворачивал лицом к стене портреты в жанре «ню».
— Думаю, не слишком весело жить в Париже одной, без родных. Особенно у мадам Одетты: она часто заходила к нам в магазин и вела себя как индийская принцесса. Эта женщина совсем не подходила моему патрону. Завтра воскресенье, я поведу вас прогуляться по кварталу, на Больших Бульварах, рядом с русскими горками, будет ярмарка. А потом сходим поесть к моей маме — лучше нее никто не готовит жаркое! Любите мясо с картошкой?
Девушка кивнула и добавила растроганно:
— Вы такой милый…
— И я прочту вам первую главу моего романа.
— Вы пишете книги? Вроде «Оракула для дам и девушек»?
— Я пишу детективы.
— Вроде тех, что я видела в витрине? А как называется ваш роман?
Жозеф заколебался, он впервые открылся другому человеку. Никто, даже избранница его сердца Валентина де Салиньяк, не знал о его литературной деятельности.
— «Любовь и кровь».
— Любовь… любовь лучше крови.
— Не волнуйтесь, любви в моей книге гораздо больше, хотя кровь тоже есть: чтобы понравиться публике, приходится угождать ее вкусам.
Жозеф галантно поцеловал девушке руку, радуясь возможности проверить, какое впечатление производят его изящные манеры, на этой наивной простушке, прежде чем идти на приступ племянницы графини. Дениза стала пунцовой от смущения и после его ухода долго сидела не двигаясь.
Юноша сбежал вниз по лестнице, воображая, что обнимает Валентину. Под козырьком подъезда стоял какой-то молодой человек в темно-синей форме с букетом цветов в руке, и Жозеф весело махнул ему рукой.
Глава третья
Денизу разбудил мерный стук. С облупившегося потолка в три ведра, расставленные под несущей балкой, падали капли. Девушка влезла на колченогий табурет и открыла слуховое окно. Две сороки склевывали крошки с подоконника, но Дениза едва обратила на них внимание, завороженная простирающимся до самого горизонта морем черепичных крыш с красными и серыми столбиками печных труб.
Денизе стало холодно, и она, спрыгнув на пол, быстро оделась, убрала постель и позавтракала стаканом воды и подаренным накануне Жозефом яблоком. Его сочный кисловатый вкус напомнил ей, как однажды сентябрьским днем они с Ронаном гуляли в Нэве по лесу, объедались ежевикой и мечтали о будущем. Дениза поклялась себе, что, если разбогатеет, больше никогда не встанет к плите.
Она долго расчесывала волосы перед висевшим над раковиной зеркалом, потом послюнявила палец и закрутила на лбу локон. Интересно, понравится она этому горбатому юноше, который пообещал зайти за ней в середине дня? Он, конечно, не очень-то красив, но такой милый! Считает ли он ее хорошенькой? В детстве мать гладила Денизу по голове и звала котенком. Мадам часто называла ее неряхой, а папаша Ясент утверждал, что она тощая, как жердь. Но вот красива ли она? Ни один мужчина ей этого не говорил.
Дениза вернулась в комнату, чтобы прибрать на столе. Ее внимание привлек встроенный в стену небольшой стеллаж с книгами. Рядом с растрепанными томиками стояли красивые книги: «Милый друг», «Остров сокровищ», «Исландский рыбак». На двух сделанных сепией фотографиях были изображены Таша, рыжеволосая хозяйка мансарды, и Виктор Легри. Дениза развязала узел, достала серебряное распятие, положила рядом с изображением «Дамы в голубом» на мольберт, где стоял большой портрет обнаженного мужчины, и комната сразу перестала казаться чужой. Но потом Дениза снова поспешно убрала распятие под блузку и засунула олеографию между рамой и холстом.
Она уселась на кровать и стала перебирать разбросанные кружевные перчатки, но «обнаженная натура», ставшая укрытием для «Дамы в голубом», невольно притягивала взгляд: изображенный в три четверти мужчина тянулся к комоду за раскрытой книгой. Девушка чувствовала смущение, но не могла отвести взгляд от его тугих перламутрово-розовых ягодиц. Она прикрыла глаза и со смехом опрокинулась на спину. Неужели это хозяин книжной лавки? Она похвалила себя за находчивость: вряд ли кому-то придет в голову искать олеографию за голым мужчиной.
Далекий колокольный звон возвестил, что уже десять утра. Впервые за много лет Дениза могла свободно распоряжаться своим временем. Наверное, это и есть счастье! Собственная комната, предстоящая прогулка с молодым человеком и никакой хозяйки. Чтобы усилить сладкое наслаждение от безделья, Дениза принялась вслух перечислять, чем ей пришлось бы сейчас заниматься в доме мадам де Валуа. В этот час она бегала бы по городу с корзиной в руке, прицениваясь к овощам и пирожным для своей хозяйки. Погружаясь в дрему, Дениза повторяла: «Что мадам будет есть, если вернется?..»
— Две кроличьи головы — это же не конец света! Давай, Гоглю, сделай доброе дело, Господь вернет тебе сторицей!
— На что тебе кроличьи головы, папаша Моску? — насмешливо спросил мясник, подвешивая четверть коровьей туши на крюк. — Я тебя насквозь вижу, старый пройдоха, хочешь выдать кота за зайца!
— И что с того? Мясо оно и есть мясо, если хорошо сварено!
— Лови! — Гоглю кинул старику две окровавленные головы. — Но больше не приходи, Моску, время нынче дорого, и у меня есть дела поважнее твоего рагу!
— Спасибо, Гоглю! — крикнул папаша Моску.
Он едва успел увернуться от грузчика с тушей на плечах, который надвигался на него с криком:
— Дорогу! Дайте дорогу!
Старик прошел через павильон Бальтара, отведенный под торговлю мясом. Здесь царил красный цвет, здесь терзали плоть ради насыщения бездонных людских желудков. Тесаки отсекали головы, резаки выкраивали филейные части. Мужчины в забрызганных алой кровью фартуках выкрикивали распоряжения, тележки с тушами то и дело рисковали столкнуться. От сладковатого запаха крови папашу Моску затошнило, и он застыл, шатаясь, с кроличьими головами в каждой руке. Старик задыхался, ему мерещилась мертвая женщина в тачке. Куда он подевал ее тело? Яма, которую он копал под деревьями во дворе, — это был кошмар или реальность?
— Жозефина, грязная предательница, ты насылаешь на меня видения! Или это ты, проклятый Эммануэль?
— Эй, пьяная морда, убирайся прочь, не мешай работать! — прикрикнул на него подручный мясника.
Папаша Моску продолжил путь, недовольно бурча себе под нос:
— Можно подумать, я не работаю! Пусть и безо всякой выгоды, но это все равно лучше, чем ничего.
Он с минуту смотрел на кроличьи головы, потом сунул их в карманы. Теперь можно было отправляться к Марселену, а потом к Кабиролю, но сначала следовало забрать из дома котов. А заодно проверить, хоронил он Жозефину в своих владениях или нет.
Старик шел вдоль прилавка, где штук двадцать мокрых склизких угрей копошились в большой плетеной корзине. Тут он заметил своего приятеля Барнабе.
— Кого я вижу! Ты что тут делаешь?
— Пришел отовариться, моя хозяйка обожает рыбное рагу.
— Фу, гадость какая!
— Зато недорого, — хмыкнул Барнабе. — С хорошим соусом сойдет. Выпьем?
— Нет времени! — рявкнул папаша Моску, которого снова затошнило.
Никогда еще его не преследовал такой страх, как этим ранним холодным утром. Он поминутно оборачивался, проверяя, не следят ли за ним, и ужас вцеплялся ему в спину, как хищный зверь. На улице Рамбюто две молоденькие проститутки высмеяли его чудн
ое поведение. А когда старик шел мимо уличных торговцев, разложивших товар прямо на тротуаре, за ним увязались мальчишки, выкрикивая обидные прозвища.
Он остановился рядом с торговкой супом, выудил из кармана старого редингота монетку в десять сантимов и жадно схватил обеими руками дымящийся горшочек. Один из мальчишек швырнул в него камень и едва не разбил посудину.
— Маленькие висельники! — взревел старик, грозя им кулаком, и ребятишки разбежались.
Горячая еда немного взбодрила папашу Моску. Улицы постепенно заполняли невыспавшиеся парижане. Фиакры и омнибусы пытались разъехаться на мостах в оглушительной какофонии звонков, брани и хлестких ударов кучерских кнутов. Стайки воробьев слетались поклевать навоз на деревянных тротуарах.
Когда старик добрался до набережной Конти, он понял, что устал. И хотя еще минуту назад ему казалось, что он избавился от страха, охватившего его на Центральном рынке, теперь его ноги снова стали ватными. Он из последних сил проковылял по набережной Малакэ и пересек улицу Сен-Пер.
Таша нежилась в горячей ванне. Виктор зашел взглянуть на нее.
— Вы с Кэндзи похожи, он тоже обожает кипяток. Смотри не сварись, ты вся красная.
Он опустил руку в воду и притворился, что обжегся, успев мимоходом коснуться груди Таша.
— Выйди немедленно! — прикрикнула она, брызнув в него водой.
Он ушел, а она снова предалась грезам, вспоминая прошедшую ночь. Виктор был нежным и страстным, и она лишь притворялась, что сопротивляется. Насладившись любовью, она уснула сладким сном, прижимаясь к его груди. Виктор был близок ей духовно, они подходили друг другу физически, но ее раздражала его ревность. Он не хотел делить Таша ни с другими мужчинами, ни с живописью.
А эта страсть заполняла всю ее жизнь почти без остатка. Виктор подарил Таша рамы для картин, и теперь ничто не мешало ей выставить свои работы в «Золотом солнце» вместе с Ломье и его друзьями. Но Таша все еще сомневалась. Она готовилась к выставке давно, вложила всю душу в серию парижских крыш и мужских портретов в стиле «ню». Но теперь, когда надо было показать все это публике — пусть даже ее составляют завсегдатаи бара, как утверждает Виктор! — девушка вдруг испугалась. Таша знала, что ее работы никогда не попадут в настоящие галереи: они слишком явно противоречат принципам официального искусства, демонстрируя увлечение самыми разными течениями, от импрессионизма до символизма. Кроме того, девушка была уверена, что рано или поздно поклоняющаяся Гогену и синтетизму группа Ломье отвергнет ее. А самое главное, она сама сомневалась в себе.
Таша завернулась в махровую простыню, прошла через комнаты Кэндзи в квартиру Виктора и начала одеваться. С висевшей над комодом картины на нее смотрела другая Таша: этот ее потрет с обнаженной грудью написал год назад Ломье. И хотя Кэндзи питал к Таша явную антипатию, Виктор намеренно держал ее изображение на видном месте, и это было лучшим доказательством его любви.
— Эй, ты где? — окликнула его девушка.
— Я бреюсь.
Она вошла в туалетную комнату.
— Мне нужно отнести карикатуру на Золя в «Жиль Блаз», потом я отправлюсь в «Бибулус» и немного поработаю, — выпалила она, не решаясь взглянуть ему в глаза.
Виктор вытер лицо, повернулся к ней и молча улыбнулся.
— Я знаю, сегодня воскресенье… Обещаю, я вернусь не поздно. Если хочешь, можешь пойти со мной… — нерешительно начала она.
— Это очень мило с твоей стороны, но у меня есть дело. Я… — Виктор не договорил. Не стоит сообщать Таша, что он намерен зайти к Одетте и попытаться выяснить, насколько достоверна история, которую рассказала ему Дениза.
Он обнял Таша, поцеловал ее в губы, и напряжение, владевшее ею с самого утра, отпустило.
— Знаешь, иногда я спрашиваю себя, а стоит ли мне продолжать писать на заданные темы? — тихо призналась она.
Удивленный Виктор отстранился: Таша редко делилась с ним творческими проблемами.
— Не понимаю…
— Иногда мне хочется все бросить — школы, течения, технику — и отпустить себя на волю, выразить на холсте мой… мой внутренний мир. Что скажешь?
Виктор ответил не сразу, и Таша расслышала в его голосе оттенок сожаления:
— Чем надежнее фундамент знаний, тем крепче будет постройка. Это относится и к фотографии. Я должен учиться. И только когда пойму, что все усвоил, начну изобретать.
— Значит, я тороплю события?
Он нахмурился, борясь между желанием сказать ей правду и боязнью снова поссориться.
— Торопишься. Когда твоя техника станет совершенной во всех отношениях, ты сможешь отбросить все лишнее и незначительное, — сказал он, надевая шляпу.
— Неужели это советуешь мне ты?! — Таша смотрела на Виктора с недоверием, потом вдруг подошла, стянула с него шляпу и наградила страстным поцелуем в губы. Они упали на кровать, не размыкая объятий.
— Что с тобой? — удивился Виктор.
— Я люблю тебя, — прошептала она, расстегивая ему рубашку.
Мадам Валладье торопливо накинула жакет. Кто-то с такой силой барабанил в дверь, что в гостиной дрожала мебель. Увидев на пороге папашу Моску в покрытом пятнами рединготе с выражением полнейшего ужаса на лице, мадам Валладье пришла в негодование:
— Да вы пьяны в стельку!
— Клянусь головой императора, добрейшая Маглон, это кроличья кровь, я не пил ни капли. Мне не по себе, я боюсь!
— Какую еще глупость вы совершили?
— Я? Да никакой! Я невинен, как новорожденный. Хм… Вкусно пахнет!
— Я готовлю испанские артишоки с мозгами, принесу вам тарелочку.
— Вы достойнейшая из женщин, Маглон! — объявил папаша Моску и направился к своему «бивуаку», но спохватился: чтобы вернуть себе душевное равновесие, он должен был совершить один ритуал. Старик начал подниматься по растрескавшимся ступеням широкой, поросшей травой лестницы, которая когда-то вела в зал Государственного совета. Стены обгорели во время пожара 1871 года, но некоторые фрески Теодора Шассерьо частично сохранились, совсем как в домах древних Помпей. Папаша Моску прошел мимо воина, отвязывающего лошадей, трех фигур, символизирующих тишину, созерцание и обучение, и поднялся этажом выше. Его не заинтересовали ни «Закон, Сила и Порядок», ни группа кузнецов, он остался равнодушным к женщинам на жнивье, кормящим младенцев. Лишь дойдя до панно «Торговля, сближающая народы», папаша Моску застыл на месте, любуясь Океанидой в нижней части фрески.
Написанная в серых тонах полуобнаженная женщина смотрела на него загадочным, пронзительным взглядом. Старик поцеловал палец и прижал к груди нимфы на фреске.
— Привет тебе, прекрасное дитя, храни папашу Моску, оберегай его, и клянусь тебе, пока он жив, ты никогда не будешь спать под открытым небом.
Успокоенный принесенным обетом, старик спустился по лестнице и вышел в коридор, ведущий к его «бивуаку». Кто-то сорвал маскировавшую вход тряпку. Папаша Моску застыл, потрясенный. Его жилище было разгромлено. Лежавшие в ящиках сокровища — трости, шляпы, обувь — вывалили на землю, разбросали, растоптали ногами. Стулья валялись у стены, причем один был сломан. Из печурки вырвали железную трубу, а в отверстие засунули скатанный в рулон ковер. Кровать напоминала поле битвы, из вспоротых одеял вывалились клочья ваты. Но ужасней всего было то, что злоумышленник сломал три ветки на акации. Старик кинулся в конец коридора, в зал секретариата Государственного совета, чтобы проверить, на месте ли тачка, которую он оставил там накануне, прикрыв вязанкой хвороста. К счастью, тачку не тронули, но облегчение длилось недолго. Не в силах пережить катастрофу в одиночестве, папаша Моску побежал к мадам Валладье.
Увидев произошедшее, консьержка в ужасе прижала ладони к щекам и воскликнула:
— Господь милосердный! Да тут словно ураган прошел!
Потрясенный папаша Моску все повторял и повторял одну и ту же фразу:
— Черт бы тебя побрал, Груши, ты славно потрудился! Черт бы тебя…
— Умолкните, старый вы пустомеля, и помогите мне прибраться. Могу поклясться, это сотворили негодяи, которых я давеча прогнала. Не люблю полицейских, но, Бог свидетель, если это повторится, я подам жалобу в комиссариат!
Женщина нагнулась и начала собирать вату, чтобы починить одеяло.
— Не волнуйтесь, я все исправлю. Ну же, помогайте!
Побагровевший папаша Моску молча указал ей пальцем на стену, где кто-то написал странную фразу:
Где ты их спрятал?
А.Д.В.
Мадам Валладье потрогала надпись.
— Совсем свежая. Что это может значить? А.Д.В. Вы что-нибудь понимаете?
Папаша Моску громко сглотнул и нащупал на дне правого кармана под липкой от крови кроличьей головой украшения покойницы.
— Он был отцом детективного жанра. Умер в 1873-м, в тридцать восемь лет. Надеюсь, я проживу дольше и тоже стану знаменитым писателем, — заключил Жозеф, уводя Денизу с улицы Нотр-Дам-де-Лоретт, где в доме № 39 находилась последняя квартира Эмиля Габорио.
На улице было много народу, и они шли на некотором расстоянии друг от друга. Оба были смущены: Дениза робела перед образованным молодым человеком, которому ей очень хотелось понравиться, а Жозеф не знал, должен ли он предложить ей руку, и не будет ли это предательством по отношению к его дульсинее Валентине де Салиньяк.
В молчании они добрались до церкви Нотр-Дам-де-Лоретт. Дениза перекрестилась. Жозеф же даже не удостоил взглядом фасад, который считал уродливым, и увлек девушку на улицу Лафит, выходившую прямо на бульвар Итальянцев. Он раздумывал, как нарушить неловкую паузу.
— Лоретт — звучит красиво, верно? Это слово могло бы даже стать именем. Пятьдесят лет назад в этом квартале жили куртизанки, их крестили по названию церкви, и имя собственное стало нарицательным.
Девушка не ответила, смущенная разговором о женщинах легкого поведения, и Жозеф решил было продолжить свой семантический экскурс, но Дениза вдруг ухватилась за протянутую ей соломинку:
— В Бретани все наоборот, у нас фамилии возникали из обычных слов. Взять хоть мою — Ле Луарн, ведь это значит «лисица».
— Вы давно в Париже?
— Приехала три года назад, но помню все, как вчера. Когда я вышла на вокзале Монпарнас, чуть с ума не сошла, столько было людей вокруг, даже голова закружилась. Чтобы залезть в вагончик конки, только что драться не пришлось. У меня был адрес бюро по найму на улице Кокийер, за Торговой биржей, но я с трудом его нашла, а потом два часа ждала своей очереди среди перепуганных девушек. Одна из них посмеялась надо мной, сказала, что никто такую, как я, не наймет, потому что всем нужно мясо посвежее.
— Мясо?
— Так называют девушек, которые ищут место. Мне повезло. Когда подошла моя очередь, я понравилась патрону, потому что была в шляпке и чистом платье. Я работала по полдня у одной старой дамы по фамилии Кеменер, в Пенаре — это в окрестностях Кемпера, но она умерла. Ее дочь была так любезна, что дала мне хорошие рекомендации. В тот же вечер меня наняли мсье и мадам Валуа.
Время от времени Дениза прерывала свой рассказ, чтобы прочесть название бульвара или улицы. Театры, кафе и дорогие магазины приводили девушку в восхищение, заставляя грезить обо всех чудесах и сокровищах земного мира. Как же приятно чувствовать себя свободной! Дениза оживилась, ее лицо, обрамленное светлыми локонами, похорошело, серые глаза засияли. Жозеф дружески улыбнулся.
— А вы парижанин, мсье Жозеф?
Он кивнул, взял ее за руку и увлек на другую сторону улицы.
— Мы недалеко от перекрестка Экразе
[7]… Скажите честно, разве не лучше жить в деревне? — спросил он, указывая на грязь под ногами и запруженную экипажами мостовую.
— Вот уж нет! Отец бил меня, когда напивался, а работа в поле — это сущая каторга. Впрочем, служить горничной у господ ненамного легче. Я вставала в семь утра и трудилась до десяти вечера: готовила еду, чистила одежду и обувь, гладила, прибирала… И минутки передохнуть не могла. При мсье де Валуа было совсем тяжко. Раз в неделю к ужину приходили гости, и я не ложилась раньше двух, а то и трех ночи. Удавалось передохнуть четверть часика, только когда ходила за покупками. Потом, когда в сентябре восемьдесят восьмого хозяин уехал в Панаму, стало полегче. Всякий раз, когда мсье Легри приходил навестить мадам, он был очень мил со мной, дарил монетку-другую, потому-то нынче я и пришла к нему.
— Вы правильно поступили. Он идеальный патрон. Мне очень повезло: я получил эту работу благодаря маме, и мне не на что жаловаться. Да и второй мой хозяин, мсье Кэндзи Мори — он приемный отец мсье Легри, — ничуть не хуже. Он большой эрудит, родился в Японии, много путешествовал на Востоке, привез оттуда кучу необычных вещиц. Ну вот, мы и пришли! Там русские горки, можем сходить как-нибудь вечером, только на пустой желудок!
Из ларьков на бульваре Капуцинок вкусно пахло анисом и жженным сахаром. Толпа медленно обтекала зазывал, обещавших зрителям феерические представления, поединки борцов и схватки хищников.
— Скажут тоже, хищники! Изъеденная молью пантера и блохастый лев. Идемте, мы найдем развлечение получше, — сказал Жозеф Денизе, восхищенно глазевшей на туалеты нарядных дам.
Шарманка заиграла веселый марш «Овернские новобранцы», и карусель с деревянными лошадками закрутилась быстрее. Молодые люди смеялись взахлеб. Потом Дениза захотела послушать духовой оркестр, но у Жозефа были иные намерения.
— Что скажете насчет визита к гадалке Топаз? — Он указал на высокую худую женщину в алом платье и тюрбане с перьями, которая зазывала прохожих в свою кибитку, обещая рассказать, что было и что будет. — Идемте!
Но Дениза наотрез отказалась.
— Но почему? Она совсем не страшная! — уговаривал юноша.
— Не знаю, рассказал ли вам мсье Легри… — тихо сказала Дениза. — Когда мы с мадам были на кладбище, она исчезла. Я убежала, потому что… мне кажется, что духи на меня сердятся. Раньше я в них не верила, но, когда вошла в склеп, ощутила чье-то присутствие. А потом все повторилось в квартире, там точно была какая-то злая сила. Во всем виновата та женщина, ясновидящая. Она нас сглазила, я уверена, — закончила девушка, уводя Жозефа от кибитки гадалки Топаз.
— Ясновидящая? Она предсказывает будущее? Дайте мне ее адрес! Хочу знать, кем стану, книготорговцем или писателем, и смогу ли обеспечить матушке безбедную старость.
— Адреса я не помню, но дом был очень красивый, рядом с панорамой, а по обе стороны от двери голые женщины… ну, статуи. Квартира на третьем этаже… Ни за что на свете туда не вернусь, это хуже, чем отправиться прямо в лапы к дьяволу! — воскликнула девушка.
— Ладно, успокойтесь. Сейчас я выиграю для вас приз. У меня зоркий глаз и верная рука.
Они отправились в тир, где за шесть попаданий подряд в центр мишени давали гипсовую фигурку или дешевое украшение. Жозефу очень хотелось покрасоваться перед Денизой, и он стрелял без промаха. Хозяин с недовольным видом протянул ему коричневого кабанчика на желтой подставке, но Жозеф отошел к прилавку, где лежали ожерелья и серьги.
— Могу я вместо игрушки взять что-нибудь отсюда? — спросил он, указывая на браслет с брелоком.
— Для этого вам нужно выбить двадцать четыре очка, — объявил тот.
— А если добавлю вот это?
Жозеф протянул балаганщику монетку в двадцать су, которую хранил в кармане брюк на случай непредвиденных расходов. Матушка вряд ли одобрит такое мотовство, но он что-нибудь придумает себе в оправдание.
Лицо Денизы просияло улыбкой, когда он надел ей на руку браслет. Девушка наклонила голову, чтобы получше рассмотреть брелок —
золотистую собачку с острой мордочкой и глазками из красных камушков.
— Похожа на лисичку…
— Поэтому я ее и выбрал.
— Заходите, заходите, дамы-господа! Заходите посмотреть на реконструкцию знаменитых преступлений! Ужасное убийство на улице Монтеня, где Пранзини
[8] убил Клодин-Мари Реньо, она же Регина де Монтий, ее горничную и дочь. Оставшееся нераскрытым убийство Данте Кайседони, зарезанного в номере гостиницы на бульваре Сен-Мишель, убийца все еще на свободе! Знаменитый кровавый чемодан Миллери, где было обнаружено разложившееся тело гусара Гуффе
[9]! Входите без колебаний! Пять су за вход, с военных — всего два! Слабонервных просим не беспокоиться!
Жозеф остановился рядом с зазывалой в полосатом трико, который размахивал «окровавленным» ножом.
— Черт побери! — прошептал он и повернулся к Денизе. Девушка смертельно побледнела. — Вы не рассердитесь, если я зайду посмотреть? Мне нужна фактура — для романа! — важно добавил он.
— Конечно, я понимаю, — сдавленным голосом произнесла она. — Буду ждать вас у карусели.
Дениза отошла, а Жозеф вошел в шатер.
Внутри царил полумрак, горели свечи, на лавках сидели жаждущие острых ощущений зрители. Артисты миманса разыгрывали действие на расположенных полукругом подмостках, а балаганщик вел рассказ. Жозеф выбрал дело Гуффе.
— …В августе восемьдесят девятого жители Миллери, что близ Лиона, были обеспокоены зловонием, исходившим из зарослей ежевичника. Сельский полицейский обнаружил в кустах большой джутовый мешок. Покажите мешок!
Одетый в черное артист продемонстрировал публике мешок.
— Он разрезал его ножом и обнаружил полуразложившуюся голову. Покажите голову!
Тот же артист вытащил из мешка окровавленную голову, вызвав у зрителей крики ужаса.
— Врач едва успел закончить вскрытие, когда собиравший улиток на берегу Марны фермер наткнулся на чемодан. Взгляните! — Он указал на чемодан, который готовился открыть артист в черном.
Потом Жозефа заинтересовала пантомима о деле Кайседони. Перед ним сидели девушка в розовом платье и обнимавший ее за талию кудрявый мужчина.
— Мари Тюрнера было всего шестнадцать, когда она в 1878 году стала любовницей Данте Кайседони! — провозгласил ведущий и запел, аккомпанируя себе на плохонькой скрипочке:
Послушайте жалостную песню
о бедной девушке,
зазря обвиненной в убийстве
лживого любовника,
который дурачил ее без стыда,
без зазрений совести.
Красавчик играл на улице Рампоно
воров и убийц.
Он подцепил малышку-парикмахершу
и пообещал сделать ее счастливой.
— А теперь припев:
Мари Тюрнера причесывала дам
у цирюльника по имени Лантерик,
когда фигляр-блондинчик украл ее сердечко,
чтобы добраться до ее денежек.
— И второй куплет…
Жозеф не дослушал до конца балладу о горестной жизни куаферши и вышел, мурлыкая что-то себе под нос. Дениза сидела у карусели и как завороженная смотрела на саксгорниста. В качестве извинения за свое отсутствие Жозеф купил ей сладкий пирожок, и они вернулись на бульвар, который показался им почти тихим по сравнению с шумной атмосферой ярмарки.
— «Мари Тюрнера причесывала дам…» — начал напевать Жозеф и тут же замолчал, недовольно сплюнув: — Ну вот, привязался мотивчик, теперь не один месяц буду мучиться. У меня так голова устроена, я ничего не забываю, — пояснил он, постучав пальцем по лбу. — Видно, фея одарила меня хорошей памятью при рождении, это здорово помогает в магазине. А может, я унаследовал ее от отца, он был букинистом и умер от простуды, когда мне было всего три года. Я рос среди старых книг и газет.
Дениза подумала, что Жозефу повезло: ей бы очень хотелось, чтобы ее отец умер, когда она была маленькой. За этой мыслью последовала другая, и она невольно произнесла вслух:
— Я слышала, желтая лихорадка превращает человека в ходячий скелет…
— Почему вы вдруг об этом заговорили? — изумился Жозеф.
— Вспомнила о хозяине, — ответила девушка, не добавив, однако, что ей даже представить страшно, как мог бы выглядеть призрак человека, умершего от этой ужасной болезни.
— Хозяйка едва не упала в обморок, когда получила телеграмму о смерти мужа. А ведь он ее обманывал и даже мне делал авансы. И деньгами распоряжался не он, а она.
— Говорят, любовь слепа! — бросил Жозеф, которому никогда не нравилась Одетта де Валуа. — Это очень печально, но в Колумбии из-за этого канала умерли тысячи людей. По правде говоря, овчинка не стоила выделки: многие лишились всех своих денег, а ведь на свете и без того хватает бедолаг.
— Бедолаг?
— Бедняков. Моя мама раньше тоже была бедна — когда торговала жареной картошкой. Овощи-фрукты продавать выгоднее, но она ни за что на свете не вложила бы свои денежки в акции какого-то там канала или уж выбрала бы французский, например в Урке. Вы не проголодались?
Девушка кивнула.
— Тогда садимся в омнибус и едем к нам домой: мама приготовила телячьи ножки с картошкой!
…Фиакр пропустил омнибус и остановился напротив красивого дома под номером 24 по бульвару Оссман. Виктор вышел и, воспользовавшись тем, что консьерж увлеченно беседовал с белошвейкой, незаметно проскользнул в открытые ворота, поднялся на шестой этаж, позвонил, потом постучал, но никто не ответил. Он машинально повернул ручку, и дверь открылась.
— Одетта, ты дома? Это я, Виктор.
Он сделал несколько шагов по коридору. В квартире было темно и душно. Виктор отдернул шторы на окнах гостиной и увидел, что в комнате царит ужасный беспорядок. Определить, побывал ли тут кто-то недавно, представлялось сложным. Муслиновые шторы затеняли окна, и Виктор вспомнил, что Одетта часто говорила: «Яркий свет портит мне цвет лица». Огромные часы на каминной полке в окружении золоченых подсвечников, бронзовых статуэток и горшков с растениями отсчитывали минуты. На вольтеровском кресле валялись манто и шляпка с вуалью. На покрытом бархатной скатертью пианино стояли безделушки и вазы с увядшими цветами. По ковру были раскиданы ноты. Неужели Одетта, весьма посредственно игравшая на рояле, неожиданно страстно увлеклась музыкой? Виктор заметил, что кто-то переворошил подушки на двух канапе, а один из многочисленных стульев, стоявших в столовой вокруг стола в стиле Генриха II, отодвинут к стене.
Погребальный декор спальни заставил его изумленно вздернуть брови.
Кровать, на которой они не раз предавались любовным утехам, больше не напоминала цветущее поле — Одетта уподобила ее смертному одру. Виктор отодвинул шторы, и свет хлынул в комнату. Здесь все вроде бы стояло на своих местах, но Виктор заметил у ножки столика из красного дерева, заставленного подсвечниками и курильницами для ладана, фотографию в рамке. Он поднял ее: из-под разбитого стекла на него со скучающим видом смотрел Арман де Валуа во фраке и цилиндре.
Для очистки совести Виктор обошел всю квартиру. Везде царил беспорядок, свидетельствовавший о поспешном отъезде, но в этом не было ничего особенного. Он бы с радостью обыскал комнаты более тщательно, но у него не было достаточных оснований, которые могли бы оправдать подобную нескромность. В конечном итоге, Одетта вольна поступать, как ей заблагорассудится, и раз она сбежала, значит, на то были причины. Если только Дениза не выдумала всю эту дикую историю, чтобы безнаказанно обокрасть хозяйку. Впрочем, Виктор знал, где Одетта хранит ценные вещи. Так почему бы не проверить? Но маленькая бретонка не обратилась бы к нему за помощью, соверши она преступление. «И тем не менее… Предположим, что она завзятая лгунья и устроила этот спектакль нарочно… Нет, ей не хватило бы воображения… Так что же случилось? Возможно, Одетта хотела незаметно ускользнуть? Уж не ревнуешь ли ты и ее тоже?» — спросил себя Виктор.
Он уже собирался задернуть шторы, но тут солнечный луч упал на каминную доску и на ней что-то блеснуло. Это была связка ключей.
Виктор знал, что Одетта — женщина рассеянная, но не до такой же степени, чтобы уйти без ключей. Он взял связку, чтобы, уходя, запереть дверь, и решил, что отдаст ее Денизе. Его охватило странное возбуждение, подобное тому, что он испытывал прошлым летом, когда ввязался в свое первое расследование. «Умерь пыл, — приказал он себе, — на сей раз все может оказаться гораздо проще, чем на Всемирной выставке».
Он спустился вниз и постучал в дверь привратницкой.
— Иду-иду, что стряслось? А, это вы… — Консьерж наградил его не слишком любезным взглядом, видно, успел забыть о щедрых чаевых, которые давал ему Виктор, посещая дом любовницы.
— Мне нужно знать, не сообщала ли вам мадам де Валуа о своем намерении отлучиться. Мы назначили свидание на вечер пятницы, и я беспокоюсь…
— Не стоит нервничать, все женщины таковы… — снисходительно начал тот.
— Это деловая встреча, — сухо заметил Виктор.
— Могу сказать одно, мсье: позавчера она вернулась в неурочный час. Жильцы не стесняются будить нас среди ночи, а ведь заснуть потом так трудно…
— Вы уверены, что не ошиблись? — прервал его Виктор.
— Абсолютно! Она назвала себя и ко мне обратилась по имени, так что я не мог ошибиться.
— Но ее служанка утверждает, что не видела хозяйку с вечера пятницы…
— Ее служанка? Дениза? Знаю я ее, она лентяйка и плакса. Вечно жалуется, как все бретонки! Выдумывает всякий вздор, чтобы поинтересничать!
Виктор понял, что ничего путного не услышит, и ушел.
— Так-то вот, это отучит тебя совать нос в чужие дела! — проворчал папаша Ясент, провожая его насмешливым взглядом.
Виктор вышел на воздух и вздохнул с облегчением. «Кэндзи прав, когда ругает тесноту загроможденных вещами западных жилищ, — промелькнуло у него в голове. — Слишком много тряпок, безделушек, мебели — и консьержей. Но все же, к чему Одетте украшенная черным крепом пальма, зеркало под вуалью и ладан? Ее горе искренне или это всего лишь новая роль великосветской дамы в глубоком трауре? Странный каприз», — думал Виктор, покидая улицу Шоссе-д'Антен и пересекая бульвар Капуцинок, чтобы избежать ярмарочной толчеи. Он решил прогуляться, чтобы избавиться от тягостных ощущений, оставленных посещением квартиры бывшей любовницы.
— Я не знаю, не знаю, не знаю, куда я положил Жозефину! — стенал папаша Моску, отбиваясь от ветвей смоковниц и колючек жимолости.
Кошка перебежала ему дорогу. Он со всего размаха налетел на фонарный столб, основание которого заросло тянувшейся к свету зеленью, выругался и привалился к закопченной стене, дожидаясь, когда отпустит боль.
— Голова идет кругом! Кто-то разгромил мой бивуак, и это очень странно! Я уверен, что похоронил добрую женщину где-то в кустах, но точное место найти не смогу. Эта надпись на стене: «Где ты их спрятал?» Кто-то знает про драгоценности. Груши? Нужно побыстрее сбагрить их. Но сначала разберусь с котами.
Папаша Моску вернулся в свою комнату, где на кровати сидела мадам Валладье и с раздраженным видом зашивала дыры в одеяле. Не обращая на нее никакого внимания, старик кинулся к опрокинутым ящикам, достал двух дохлых вонючих котов, сунул их в мешок и вышел.
— Старый верблюд, — пробормотала консьержка, — вчера дарит цветы, а сегодня даже не прощается!
Скорняжная мастерская Жана Марселена находилась за Кармским рынком. Он чистил белую кроличью шкурку, которую собирался превратить в горностаевую муфту, когда запах тухлятины оповестил о приходе папаши Моску. Старик бросил на прилавок двух дохлых котов.
— Сними с них шкурки, да поживее, я спешу.
Скорняк с брезгливым видом потрогал пальцем одну из тушек.
— Протухли твои звери.
— Не морочь мне голову, промаринуешь шкурки в уксусе, только и всего. Сколько?
Марселей задрал острый нос: это означало, что он раздумывает.
— Восемьдесят сантимов за обоих.
— Издеваешься? Один франк — или сделки не будет.
Марселей колебался, готовый отказать, но вспомнил, что должен закончить шубку из куньего меха, а значит, черные кошачьи шкурки, если их выкрасить в коричневый цвет, могут ему пригодиться.
— Подожди, — сказал он старику, — через две минуты будет готово.
— Заодно отрежь им головы.
Марселей унес тушки и вскоре вернулся, неся сверток из газеты и монету. Папаша Моску молча забрал пакет и деньги и ушел, не попрощавшись.
Чтобы добраться до лавочки Эрнеста Кабироля, старик пересек площадь Мобер и пошел по улице Труа-Порт. Войдя, он мгновенно раскашлялся. На огромной плите стояли три котелка, от которых исходил тошнотворный запах. Маленький согбенный старичок шустро прыгал возле них, помешивая варево большой деревянной ложкой. Когда разнородные мясные остатки из всех ресторанов квартала сплавятся воедино в его адских котлах, он добавит туда соли и перца, потом измельчит и продаст по су за штуку хозяевам домашних любимцев или беднякам, у которых нет денег на свежее мясо.
— Принес тебе двух кроликов, — сообщил папаша Моску и достал пакет из мешка. — Да, чуть не забыл про головы, — добавил он, вытаскивая их из кармана. — А это что такое? — Старик уставился на свои испачканные кровью перчатки. — Можешь бросить в суп!
— Я не кладу в суп всякую дрянь! — возмутился Кабироль. — Не нужны мне твои тряпки, к тому же, на одной не хватает пальца.
Папаша Моску внимательно изучил свою находку. Большой палец левой перчатки был продырявлен на уровне первой фаланги.
— Ты прав, Эрнест, а я и не заметил. Ничего, выстираю и сделаю из них митенки.
Кабироль равнодушно покосился на освежеванных котов и вынес приговор:
— С душком. Даю два су.
— Прояви великодушие, дай три. Они улучшат вкус. Что сегодня стряпаешь?
— Говядину с капустой, телячью голову, овсянок. Завтра все это поступит в продажу у мамаши Фроман на улице Галанд. Ладно, держи три су.
Папаша Моску выхватил у приятеля деньги и, едва сдерживая тошноту, поспешил к выходу, но столкнулся нос к носу с лицеистом в форме. Юноша с любезным видом приподнял картуз, старик в ответ что-то буркнул.
По пути домой старик зашел выпить вина на улицу де ла Бушри. Расположившись там и убедившись, что за ним никто не следит, он снова открыл испачканный кровью медальон.
— Кто-то меня преследует… Это ты, А.Д.В.?
Откуда-то потянуло холодом, и старика пробрала дрожь. Он взглянул на дверь: она была приоткрыта, хотя никто не входил. Это обстоятельство напугало папашу Моску так, как будто он увидел привидение. Старик вскочил и, не допив вино, бегом кинулся к Сене.
Глава четвертая
Виктор с ворчанием перевернулся и прикрыл ухо подушкой. Ну почему этот осел Жожо всегда поет, когда открывает лавку?
Мари Тюрнера причесывала дам
у цирюльника по имени Лантерик…
Жозеф засвистел — это означало, что он забыл продолжение. Тяжелые деревянные ставни со стуком упали на пол — видимо, юный приказчик не удержал их в руках. Наступила тишина. Виктор уже готов был снова погрузиться в сладкий сон, но Жозеф громким тенором затянул новый куплет:
Я родился в Куртийе,
миленьком квартале.
Но сбился с пути
и сбежал из дома…
Виктор потерял терпение, встал с кровати, решительным шагом пересек квартиру и отвел душу, хлопнув дверью, выходящей на винтовую лестницу. Жозеф, видимо, понял, что это означает, потому что петь перестал.
Окончательно проснувшись, Виктор взглянул на Таша: девушка крепко спала, закинув одну руку за голову и свесив другую с кровати. Он устроился рядом и запустил руку под простыню. Их пальцы переплелись, Таша потянула любовника к себе и тут же оттолкнула.
— Интересно, что сказал бы твой друг мсье Мори, если б увидел нас сейчас?
— Ничего бы не сказал, потому что сейчас в Лондоне занимается тем же самым с некой Айрис.
— У нас осталось пять дней, если я все правильно подсчитала. До конца недели мне нужно вернуться в родные пенаты, так-то вот, дорогой. Так что поторопись уладить все между дамочкой в побрякушках и малышкой-горничной или найди Денизе новое место.
— Я этим обязательно займусь, только чуть позже, — пообещал Виктор и еще теснее прижался к любовнице.
Таша поцеловала его и с веселым смехом спрыгнула с кровати.
— Не позже, а сию же минуту! Мне пора к издателю, нужно показать ему иллюстрации к «Пантагрюэлю», потом я буду до восьми в «Бибулусе», зайдешь за мной? Мы где-нибудь поужинаем.
Не дожидаясь ответа, она закрылась в туалетной комнате.
Виктор оделся и зевая спустился по лестнице. На вопрос Жозефа: «Как спалось, патрон?» он ответил злобным взглядом и побрел к столу, заваленному старыми каталогами, составленными Кэндзи Мори. Виктор рассеянно перелистал их, и почему-то ему вдруг вспомнился траурный декор спальни Одетты, гулкий звон часов в пустой гостиной… Он раздраженно отодвинул каталог.
— Жозеф, мне нужно оценить одну библиотеку, это недалеко от церкви Мадлен, вернусь к обеду.
На самом деле Виктор решил расспросить Денизу о распорядке дня ее госпожи.
Семь этажей — не шутка, особенно если преодолеваешь их одним махом, и Виктор запыхался. Идя по темному коридору к мансарде Таша, он почему-то вдруг вспомнил ее бывшего соседа, сербского певца Данило Дуковича. Виктор постучал, подождал ответа. Из крана на площадке капала вода.
— Это я, Легри! — громко и отчетливо произнес он, приблизив лицо к двери.
Видимо, Денизы не было дома. Виктор достал ключи, но ни один не подошел. Он уже готов был отступиться, как вдруг понял, что перепутал и достал связку ключей от квартиры Одетты. Найдя нужный ключ, Виктор открыл дверь и обомлел. В мансарде все было перевернуто вверх дном. Рамы лежали на стульях. Матрас и подушки валялись на ковре. Простыни и одеяло висели на мольберте, прикрывая мужскую обнаженную натуру (Виктор возблагодарил Небо за то, что Таша писала портрет в три четверти, поскольку моделью был именно он!). Встроенный в стену стеллаж был пуст, книги валялись на пружинной сетке кровати — Виктор сам когда-то купил их у молодого человека, унаследовавшего библиотеку старой тетушки и жаждавшего от нее избавиться. Отодвинутый под слуховое окно стол выглядел непривычно пустым: все, что держала на нем Таша, теперь валялось на полу. Створки буфета были распахнуты, выщербленные тарелки и чашки оттуда выкинули. Ворох одежды из двух больших чемоданов лежал на белой фаянсовой печке.
Виктор перешагнул через лужу и пробрался в маленький закуток, служивший кухней и ванной. Множество горшочков, обычно стоявших на этажерке, перекочевали к трем составленным одно в другое ведрам. Ничего не было сломано или разбито, но капавшая с потолка вода залила весь пол. Виктор пришел в бешенство. Как можно быть таким доверчивым! Догадка, пришедшая ему в голову при осмотре квартиры Одетты, подтвердилась: Дениза — воровка. Он поискал глазами и не нашел ее узелка. Она действительно сбежала. Остается понять, что она украла. Какую-нибудь картину? Но холсты Таша пока не имеют коммерческого успеха, за них не дадут и пяти франков. В мансарде не было ничего ценного — ни драгоценностей, ни побрякушек. Одежда? Кружевные перчатки, которые Таша привезла из России? Возможно, маленькая бретонка ограничилась несколькими нарядами?
Виктор пребывал в растерянности, не зная, стоит ли рассказывать о случившемся Таша. Нет, только не это, она ужасно разозлится и будет во всем винить его. Он начал расставлять мебель по местам. Через полчаса, устав от непривычных хлопот, он взглянул в висевшее рядом со стеллажом мутное зеркало и не сразу узнал себя в разгоряченном мужчине с всклокоченной шевелюрой. Виктор пригладил волосы и оглядел результаты своих трудов. Кошка легко отыскала бы здесь своих котят, но вот Таша свой дом не узнает и будет в ярости. Внезапно у него возникло сомнение: Дениза упорхнула, это бесспорный факт, но комнату могли обыскать и после ее ухода.
Он спустился вниз, пересек двор и постучался в дверь привратницкой. Ему открыл мсье Ладусетт, на кудрявых седых волосах которого красовалась серая шапочка. Старик помахал мятой газетой, как будто хотел стряхнуть с нее крошки.
— Добрый вам денек, мсье Легри, уж простите мое волнение — не каждый день видишь свое имя пропечатанным в газете. Здесь написано обо мне: вчера вечером я выгуливал Шупетту на улице Мартир, и официантка из «Бульона Дюваля»…
— Я хотел бы узнать, кто поднимался к мадемуазель Херсон вчера или сегодня ут…
— Иду, иду, — раздался женский голос из глубины помещения.
А мсье Ладусетт все бубнил и бубнил, словно и не слышал возгласа жены.
— …вылила ведро жирной воды ей на лапы. Какой-то высокий бородатый тип шел нам навстречу и…
В этот момент к ним присоединилась маленькая хрупкая женщина с острым, как у ласки, личиком. Она коснулась руки мужа и кивнула Виктору:
— Проклятье! Мой ревматизм всегда разыгрывается к похолоданию. Да, кто-то приходил — вчера, в конце дня, я как раз чистила картошку. Это был телеграфист, он спросил, на каком этаже живет мадемуазель Таша, и я послала его на седьмой.
— …он поскользнулся на тротуаре и брякнулся к моим ногам. Взбесился, конечно, и кинулся на девушку с ножом. Тогда Шупетта…
— Да замолчи же, ты утомляешь мсье Легри! — крикнула жена прямо ему в ухо. — Не сердитесь, в битве при Седане рядом с ним выстрелила пушка, и он с тех пор плохо слышит. Мсье Легри спрашивает о мадемуазель Херсон! — рявкнула консьержка, обращаясь к мужу.
— Мадемуазель Беккер сказала, что мадемуазель Херсон пустила в свою комнату кузину вашего приказчика. Она надолго останется? Я должен знать — из-за почты и всего прочего.
— Не надоедай мсье Легри, Аристид. — Мадам Ладусетт посмотрела на Виктора: — Девушка ушла, ей предложили место.
— В котором часу она покинула дом? — спросил он, чувствуя, что у него начинается мигрень.
— Сегодня утром, около семи, я как раз выносила мусор. Но почему вы спрашиваете? Она ведь оставила ключ мадемуазель Таша под ковриком, так она мне сказала.
— Да-да, именно там, — поспешил подтвердить Виктор.
— Вы меня успокоили, мы ведь отвечаем за квартиры.
— Девушка сказала, куда направляется?
— Конечно. Мы немного поболтали, бедняжка выглядела потерянной, друзей у нее в Париже нет. Когда прислуживаешь другим, на себя времени не остается. Она спросила, как добраться до моста Альма, там находится бюро по найму, где ей назначили встречу. Последняя хозяйка малышки, как я поняла, была не слишком добра к ней. Я посоветовала ей сесть в омнибус — путь до моста неблизкий. «О, у меня много времени! — ответила она. — Встреча назначена на полдень. Я пройдусь пешком, посмотрю город». По-моему, ей не слишком нравилась мысль о новом месте.
Виктор собрался улизнуть, но мсье Ладусетт схватил его за рукав:
— Ну так вот, Шупетта прыгнула на него сзади и укусила, да так сильно, что он выронил нож. «Мерзкое животное!» — взвизгнул он. Я в ответ обозвал его тупым зевакой. И тут…
— Аристид, — позвала мужа мадам Ладусетт, — иди лущить горох! Не сочтите за труд, мсье Легри, найдите для меня первые четыре тома Ксавье де Монтепена
[10]. Пятый том заканчивается так красиво: «Я много страдала, но Господь милостив, и сегодня я живу, как в раю!» — и я должна узнать, что случилось с разносчицей хлеба в первых четырех!
— Непременно, мадам Ладусетт. Простите, мне нужно еще раз подняться в квартиру, я кое-что там забыл.
Виктор был зол, как собачонка старика Ладусетта, и успокоился только на седьмом этаже. Он поднял половик, не обнаружил никакого ключа и перестал что бы то ни было понимать. Зачем Дениза разыграла перед ним мелодраму в лучших традициях Ксавье де Монтепена? Виктор не мог не восхищаться ловкостью, с какой маленькая служаночка усыпила его бдительность. «У нее талант, ей нужно выступать на сцене «Комеди Франсез», а не прислуживать у чужих людей! Спрашивается, как мне теперь распутать эту интригу? — спросил себя он и сам ответил: — Нужно пройти весь путь с самого начала. Отправиться на Пер-Лашез». Пройти мимо сторожей не составит труда — он поставит фотоаппарат среди могил и проведет вторую половину дня на природе — свет сейчас очень хорош, а потом вернет ключи Одетты консьержу Ясенту. Вот только придется заехать на улицу Сен-Пер за оборудованием.
Тот факт, что появилась тайна, которую предстояло разгадать, придавал Виктору сил.
В обеденный перерыв Жозеф сидел на приставной лесенке и просматривал утренние газеты, выискивая новости о происшествиях.
— Ты что-нибудь продал? — поинтересовался Виктор, вешая шляпу на бюст Мольера.
— Какой-то рантье купил Кребийона-сына с иллюстрациями Моро-младшего. Делал вид, что интересуется исключительно сафьяновым переплетом. И еще трех Золя. «Человек-зверь» пользуется успехом, — пробормотал Жозеф. — Я принял телефонный звонок для мсье Мори и взял на себя смелость ответить, что он отсутствует и что, возможно, вы сами придете взглянуть.
— Взглянуть на что?
— Наследство на авеню де Терн: Боссюэ
[11] в десяти томах и неполный Сен-Симон, я на всякий случай записал адрес — он там, на столе. Ух ты, послушайте, патрон… — И Жозеф прочитал вслух, уткнувшись носом в газету:
В четверг утром в городе Сен-Назер при очень странных обстоятельствах была сделана мрачная находка. Член команды Эмабль Будье спустился в трюм грузового судна, освобожденный от мешков с зерном. Каковы же были его изумление и ужас, когда он обнаружил совершенно разложившееся тело мужчины. Лицо несчастной жертвы было неузнаваемо, но на черепе сохранились остатки волос. Комиссар порта мсье Пино немедленно предупредил шефа Сюрте, и тот немедленно выехал на место происшествия…
— У господина Горона работы прибавится, и это при том, что он никак не арестует главного подозреваемого по делу Буфе. Что скажете, патрон? — Жозеф поднял голову и обнаружил, что Виктор исчез. — Бесполезно, с некоторых пор он ничем не интересуется. Любовь! Женщины — украшение домашнего очага и неутомимые труженицы, но они отвращают мужчин от великих страстей! — И юноша поклялся себе, что никогда не бросит писать ради прекрасных глаз Валентины.
В зал вернулся Виктор с сумкой на плече.
— Я ухожу, Жозеф, оставляю вас «на хозяйстве».
— Уходите? Снова? Но куда?
— Посмотреть книги, конечно.
— Я полагал, вы не любите Боссюэ! А как же обед? Жермена снова скажет, что я о вас не забочусь. Она приготовила рубец по-каннски, его нужно только разогреть.
— Завещаю вам сие непритязательное блюдо.
Фиакр довез Виктора до площади Пиренеев, и он добрался до кладбища по улочке, тянувшейся вдоль пустыря, где тощие козы щипали чахлую траву.
Первым делом Виктор отправился к часовне, откуда хотел снять великолепную панораму Парижа. За насыпной земляной площадкой, обсаженной кипарисами, простиралась бело-серая столица. Ее башни и купола на фоне затянутого облаками неба напоминали разновеликие зубы: Пантеон, Нотр-Дам, Дом инвалидов, Эйфелева башня.
Виктор достал из сумки выдвижную треногу, привинтил к ней фотоаппарат и наклонился к видоискателю. Вокруг начали собираться любопытные, и он поспешил сложить оборудование.
В нескольких десятках метров над часовней, на участке за зеленой изгородью, смотрели в небо две трубы крематория. Само здание скрывал решетчатый забор из крашеного дерева. Виктору не слишком нравилась идея сжигать тела усопших. Он надеялся, что эта пришедшая из Англии мода не скоро укоренится во Франции. Открытый год назад Парижский крематорий был использован не больше сотни раз, спровоцировав ожесточенную полемику в католическом сообществе. Архиепископ Парижа резко критиковал кремацию. Виктора подобные споры не трогали, но он любил городские кладбища: в этих зеленых оазисах даже птицы пели. А могилы являли собой интереснейшие объекты для съемки. Взять, хотя бы, вот эту плиту с двумя переплетенными бронзовыми руками и выгравированными в центре эпитафиями:
Жена моя, я жду тебя.
5 февраля 1843
Друг мой, я здесь.
5 декабря 1877
Рвение этой супруги вызвало у Виктора улыбку, но и растрогало. По аллее медленно тянулся траурный кортеж, и он уважительно приподнял шляпу.
Спросив у сторожа дорогу к часовне Валуа и немного поплутав между могилами, он в конце концов нашел искомое захоронение, удивился, что калитка не заперта, вошел и начал читать надписи на стене. Несколькими днями раньше сюда приходила Одетта. Виктор осмотрел алтарь и пол в надежде найти хоть какой-нибудь след, но не преуспел.
Он вышел на аллею, чтобы сфотографировать часовню, наклонился к видоискателю, навел на резкость, и в объективе возникло опрокинутое изображение лица неряшливого старика с седыми волосами. Виктор выпрямился. Незнакомец не сводил с него изумленного взгляда.
— Черт меня побери, это ты! — неожиданно заорал он. — Да-да, ты сам, во плоти! Я же говорил, что узнаю тебя по снимку. Ты пришел за мной? Ничего не выйдет. Никогда! Ни за что! Никто не прижмет папашу Моску, даже Груши! К бою!
Старик повернулся и побежал прочь, размахивая руками. Виктор поспешно сложил треногу и попытался догнать странного незнакомца, но тот исчез.
Виктор шел наугад, размышляя об имени, которое выкрикивал старик. «Груши… Кого он имел в виду? Эммануэля де Груши, маркиза и маршала Франции? Но при чем тут это?» Наконец Виктор добрался до выхода на улицу дю Рено и распахнул дверь каморки сторожей. Тощий человечек с густыми усами курил трубку и раскладывал пасьянс. При виде посетителя он поспешно прикрыл карты каскеткой и попытался подняться.
— Прошу вас, сидите. Надеюсь, вы сумеете мне помочь. В пятницу вечером моя служанка вернулась домой в совершенно обезумевшем состоянии. Мы с женой были весьма озадачены, у нас даже возникли сомнения относительно ее душевного здоровья.
— В пятницу? А ваша служанка, случайно, не худенькая блондинка, совсем молоденькая?
— Жена назначила ей встречу на улице дю Рено, ждала до закрытия, а потом уехала, рассудив, что малышка сама доберется до дома. Когда Дениза — так зовут нашу прислугу — явилась, она была явно не в себе: заикалась, лепетала что-то о призраках, привидениях и всяких прочих ужасах. Я мало что понял из ее бессвязного рассказа и решил узнать, может, вы что-то слышали об этом досадном происшествии.
— Так я и думал! Мне сразу показалось, что девушка малость того, а я своему чутью доверяю. Она заявила, что ее госпожа… испарилась! Не будьте к ней слишком строги, кладбища на многих так действуют.
— А хозяйку Денизы — я имею в виду мою жену — ее вы видели?
Барнабе поскреб подбородок, с подозрением глядя на Виктора.
— Как я мог ее видеть — вы же сказали, что она топталась на улице дю Рено?
Виктор подмигнул ему:
— С женщинами никогда не знаешь, чего ждать. Не скажу, что я недоверчив от природы, но… это сильнее меня. Я было подумал, что Дениза рехнулась, но потом мне в голову пришла другая мысль: а что, если моя жена…
Барнабе мял в руках фуражку, хмуря брови. Потом до него дошло, и он хихикнул:
— А-а, понимаю… Ваша дамочка могла улизнуть на встречу с… доктором! Одно могу сказать — я ее не видел, а ваша служанка была чуть не в беспамятстве, только что не сделала мне непристойное предложение! Счастье, что девушка попала на меня. Я ее успокоил, объяснил, что женат, и отослал домой.
— Она рассказала, что ее напугал высокий старик с седыми волосами.
— Должно быть, это был папаша Моску. Он малость чокнутый, но не опасный. Славный человек, поклонник Империи, даже в подпитии никого не обидит. Он долго здесь работал, мы лет пятнадцать с ним приятельствуем. Старик ухаживает за могилами, тут подвяжет, там подправит, вот я и закрываю глаза на то, что он здесь бывает.
— Где я могу найти папашу… Как, вы сказали, его зовут?
— Моску. Его предок отступал с Наполеоном из России, отсюда и прозвище. Он ночует на набережной д'Орсэ, в развалинах Счетной палаты, что сгорела в 1871-м, но вы его вряд ли застанете, он вечно где-то шляется. Прошу вас, мсье, не жалуйтесь на него, ведь тогда и мне попадет. Я могу потерять работу, а у меня шестеро детей. Ваша служаночка напрасно на него обиделась: он, может, и сказал пару-тройку крепких словечек, но на самом деле не желал ей зла.
— Не беспокойтесь, я всего лишь хочу задать ему несколько вопросов. Вот, держите, я оставлю вам свою визитку. Если он здесь появится, передайте, чтобы пришел со мной повидаться, я сумею его отблагодарить.
В фиакре, по дороге на бульвар Оссман, Виктор чувствовал возбуждение, близкое к опьянению. Кладбище Пер-Лашез было последним местом, где, по утверждению Денизы, она видела свою хозяйку… Но можно ли доверять этой девушке после того, что он увидел в квартире Таша? Слова сторожа свидетельствовали не в пользу Денизы: взбалмошная особа делала авансы человеку, который ей в отцы годится. Консьерж Ясент утверждает, что видел, как мадам де Валуа вернулась домой в пятницу вечером. Нужно все прояснить… Что там бормотал кладбищенский старик, этот папаша Моску: «Я же говорил, что узнаю тебя по снимку!» Что за фотографию он имел в виду? А впрочем, бог с ним, со стариком, он, должно быть, просто выпил лишнего. И уж точно никак не связан с расследованием.
На въезде на улицу Гавр возникла чудовищная пробка. Виктор вышел перед магазинами «Прентан» и увидел на мостовой толпу.
— Это митинг? — поинтересовался он у кондуктора омнибуса, прохаживавшегося вдоль вагона, набитого раздраженными пассажирами.
— Во всем виноват молочник. Эти типы ездят слишком быстро, он чуть не задавил несчастного парня, кровищей все залито.
Виктор поспешил повернуть назад. Расталкивая толпу локтями, он обогнул один из множества киосков с цветами и газетами, из-за которых пешеходы на бульварах жались ближе к домам. Движение затрудняли и чистильщики обуви со своими ящиками, и устричные раковины под ногами, и выставленные далеко на тротуар железные столики и стулья. Рекламные щиты расхваливали достоинства пастилок «Жеродель» и русского грудного чая «Гомериана». Зеваки толпились вокруг них, и, огибая разносчиков, устроившихся со своим товаром на тротуаре, прохожие вынуждены были выскакивать на мостовую.
Виктор счастливо избежал всевидящего ока консьержа — тот о чем-то спорил с дворником, — вошел в подъезд дома № 24, взбежал на шестой этаж и несколько раз нажал на кнопку звонка. Не дождавшись ответа, он сунул в скважину первый попавшийся ключ, тот не подошел, Виктор попробовал второй, и дверь открылась.
Тут стояла особая тишина, которая царит в домах, где никто не живет. Виктор постоял на пороге, привыкая, к полумраку и собираясь с духом, потом положил треногу и сумку на пол, зажег керосиновую лампу и решил методично обыскать все помещения, чтобы найти хоть какой-то след.
С его последнего визита в квартире многое изменилось. На ковре в гостиной по-прежнему были рассыпаны партитуры, кабинетный рояль напоминал притаившегося в засаде зверя. Но всегда стоявшие на на нем статуэтки саксонского фарфора теперь валялись на подушках одного из канапе, а вазы с увядшими цветами были переставлены на камин. Виктор поднял лампу на уровень глаз. Бархатный полог, раньше прикрывавший рояль, лежал на полу. Ошибки быть не может: фарфор убрали, чтобы поднять крышку рояля. Кто сюда возвращался? Одетта или Дениза? Он прошел в комнату прислуги, оказавшуюся узкой, холодной клетушкой. Одетта всегда была прижимиста: экономила на отоплении, недоплачивала прислуге, и в конце концов оставила себе только одну горничную.
Как и ожидал Виктор, одежды в гардеробе не оказалось. Кровать была застелена, но наволочку с подушки сняли. Туалетный столик был придвинут к двери, а тазик и миска стояли на полу, что подтверждало рассказ Денизы. Если только она не устроила инсценировку.
Виктор вошел в кабинет Армана. Окна в нем, видимо, не открывали много недель, и воздух был такой спертый, что Виктора замутило. Он задержал дыхание. Омерзительный запах неожиданно перенес его на двадцать три года назад, в Лондон, в дом на Слоан-сквер, и перед глазами предстала сцена, которая, как он полагал, была навсегда похоронена в самом дальнем уголке памяти.
Отец грозно нависает над ним, а он, семилетний мальчик, стоит с опущенной головой, парализованный ужасом и ненавистью. За какой проступок его запирают в подвале: за невыученный урок, за невинную шалость? Погреб, темнота, одиночество. Он этого не вынесет, он просто умрет. Он с немой мольбой поднимает глаза на работавшего в книжном магазине отца Кэндзи, и тот украдкой сует ему свечу и сборник сказок. В результате Виктор так увлекся волшебной историей о китайской императрице, обернувшейся драконом, что перестал ощущать себя пленником сырого застенка. Вместе с белым драконом Фань Вей-Юнем он нырял в океан, сражался с демонами долины тигров, плыл по волнам и скакал по облакам.
Виктор услышал бой часов и приглушенный гул бульваров. Образы прошлого развеялись. Он обошел комнату: на мебели лежал толстый слой пыли, письменный стол был завален шляпными картонками — их тоже обыскивали.
На полу перед сосновым гардеробом лежали две мужские рубашки: казалось, их раскинутые рукава взывают о помощи. Виктор поставил на стол коптившую лампу, потянул на себя створки и обнаружил ворох одежды, достойный распродажи в Тампле. Выходя, он заметил на зеленовато-бронзовой обивке стен два выгоревших прямоугольника — раньше тут висели картины.
Виктор сделал глубокий вдох, чтобы преодолеть отвращение, которое внушала ему эта комната, и перебрался в туалетную — ему всегда нравилась эта чересчур нарядная, но удобная комната. Он вспомнил, сколько времени проводила здесь его любовница, сидя перед зеркалом и выискивая, не появилась ли на лице предательская морщинка, и растрогался при виде баночки с кремом «Фарнезе», купленным в «Королеве Пчел», — Одетта очень им дорожила. Виктор поборол искушение понюхать крем и обозрел расставленные на круглой мраморной столешнице рядом с умывальником румяна, помаду и флаконы с духами. Стакан с зубной щеткой, зубной порошок, разноцветные куски мыла вызвали в памяти образ кокетливой Одетты в муслине, кружевах и ленточках, оттенявших ее нежную светлую кожу. Виктор проверил шкафчик с полотенцами и банными рукавичками и обнаружил там такой же беспорядок, как и в гардеробе Армана.
Он перешел в спальню, стараясь не смотреть в сторону кровати, напоминавшей корабль с траурными парусами, плывущий в царство мертвых. В шкафу могут обнаружиться еще какие-то секреты. Он уже собирался открыть дверцы, но тут ему в голову пришла новая мысль, и он вернулся в туалетную.
Сбежавшая с любовником женщина может забыть зубной порошок, но не пудру и духи. Одетта так заботилась о своей внешности и цвете лица, что даже в ресторанчик на углу не пошла бы без макияжа. Всего этого в туалетной комнате быть не должно.
Виктор колебался, разрываясь между намерением покинуть квартиру и почти извращенным желанием продолжать поиски. Он осмотрел оттоманку, на которой Одетта по утрам просматривала газеты, пальму «в трауре», круглый столик, превращенный в алтарь памяти Армана де Валуа. У него закружилась голова, перед глазами все поплыло. Зеркальный палисандровый шкаф колыхался, как дрейфующий айсберг. Через несколько мгновений все встало на свои места, и Виктор продолжил осмотр: штанга в гардеробе прогибалась под весом траурных платьев и черных меховых накидок. Справа от гардероба стояла этажерка: книги сбросили с полок и отшвырнули к стене.
Что могло заставить Одетту так долго носить траур?! Виктор выудил из гардероба розовый муслиновый пеньюар, пахнущий гелиотропом, и вспомнил, как утомленная любовными ласками Одетта торопливо накидавала его, становясь похожа на абажур.
Виктор усмехнулся, заметив на полке череп, который глядел на него в упор пустыми глазницами. О, да тут играют «Гамлета»? Он хмыкнул, подбадривая себя, собрал с пола книги с загнутыми — о ужас! — страницами и устроился на оттоманке. Виктор читал вслух названия и складывал томики в стопку: «Книга пророчеств», «Гадания», «Законы оккультизма», «Астральное тело и астральный план», «Медиумические феномены», «Спиритическая доктрина».
— Многовато для женщины, которая не любит читать… — пробормотал он. — Так, посмотрим, что тут у нас? «Фотографии астрального тела». Забавно, стоит полюбопытствовать.
Он перелистал томик с интригующим названием «У Виктора Гюго: отчет о спиритическом сеансе в Джерси», вышедший из-под пера некоего Нумы Уиннера. Одетта наверняка не прочла ни одной строчки великого писателя, но, судя по карандашным пометкам на полях, ее очень заинтересовали диалоги, в которые он якобы вступал со «стучащими духами», когда жил в изгнании в Марин-Террас.
Виктор отложил книгу и открыл папку под названием «Сатанизм в эпоху инквизиции». Гравюры с изображением пыток, уготованных еретикам Святым Престолом, окончательно убедили его в безумии Одетты. Виктора передернуло от отвращения, и он решил вернуть книги и папку в шкаф, но не смог этого сделать: на полке что-то лежало. Виктор принес из гостиной стул, залез на него, пошарил рукой в глубине и достал толстый конверт с надписью «Личное». Сердцебиение, приступ паники и дурнота заставили его покинуть квартиру. «Теперь я понимаю, что ощущают женщины. Как сказал бы Кэндзи, “плоть страдает от потрясений рассудка, как земля от последствий тайфунов”. Только бы не заболеть инфлюэнцей».
Виктор спрятал конверт под куртку и, повесив сумку и треногу на плечо, вышел.
Он сидел в прокуренном зале «Бибулуса», на столике-бочонке перед ним стояла кружка пива, рядом лежал взятый из квартиры Одетты конверт. Виктор сделал несколько глотков, собираясь с духом, и вынул из конверта с десяток перевязанных шелковой ленточкой писем — все они пришли из Колумбии и были адресованы мадам де Валуа, а еще блокнот с записями о назначенных встречах и пачку отдельных листков. В глубине коридора, ведущего из мастерской, появились Морис Ломье и четверо его учеников. Виктор поспешил убрать бумаги в конверт и отвернулся от стойки. Он надеялся, что Морис Ломье его не заметил, но не тут-то было…
— Холм обуржуазивается! — громко провозгласил тот. — Похоже, нам скоро придется сменить местожительство. Если, конечно, мы не
решимся показать, кто тут хозяин!
Его слова были встречены раскатами одобрительного хохота, художники бросали на Виктора насмешливые взгляды, а он притворялся невозмутимым. У него были заботы поважнее. Как сообщить Таша об исчезновении Денизы? И тут увидел свою подругу: девушка направлялась к нему, не обращая внимания на призывы Мориса Ломье. Одетая в вышитую блузку и серую юбку, с волосами, сколотыми двумя позолоченными гребнями, она была чудо как хороша. «Позже», — решил Виктор, поднялся из-за стола и протянул руку Таша.
— До завтра, детка, выспись хорошенько! — крикнул им вслед Морис Ломье.
Таша быстро уснула, а Виктор все ворочался, безуспешно пытаясь последовать ее примеру. Когда жестокая судорога свела икроножную мышцу, он не выдержал, встал, стараясь не шуметь, и отправился в комнату, служившую ему гостиной и кабинетом. Подсев к бюро, он зажег лампу и обвел усталым взглядом унаследованные от дяди Эмиля гравюры с изображением фаланстера Шарля Фурье. Всеобщая гармония, которую проповедовал великий утопист, так и не наступила, и неизвестно, хорошо это или плохо. Виктор вытряхнул на столешницу содержимое унесенного из квартиры Одетты конверта. Весь этот вечер, начавшийся в ресторане гостиницы «Континенталь» и закончившийся в спальне, он не переставал думать о Денизе, о том, как рассердится Таша, узнав о случившемся, и о странном исчезновении Одетты. Виктор очень старался, чтобы его спутница ничего не заметила, и ему это удалось.
Хотя притворство подпортило ему настроение, азарт и желание продолжить расследование заглушили угрызения совести. Читать письма Армана к жене было неловко, и Виктор отложил их в сторону, решив заняться блокнотом в черной кожаной обложке, украшенной конным портретом генерала Буланже. Начиная с 1 октября 1889 года Одетта делала записи на каждой странице. Ничего серьезного, банальные дамские дела. «
Понедельник, 6 октября: парикмахер… Среда: чай у А.Д.Б…» А.Д.Б.? Видимо, это Адальберта де Бри. «
Суббота: зайти к Герлену… Понедельник, 13 октября: Нума, с А.Д.Б. Пятница, 24 октября: примерка у Мод… Понедельник, 27 октября: получила пакет от Армана, повесила Даму в его комнате… Вторник, 28 октября: отправила каблограмму Арману…» Виктор заставил себя внимательно прочесть «дамские пустячки» о посещениях куафера и модистки. После 20 декабря они сменились записями, связанными с гибелью Армана: заказ мраморной плиты с гравировкой, встречи с новыми людьми.
«20 декабря: у мадам Арно… 22 декабря: Тюрнер… встреча с Зенобией в 15:30, кондитерская Глоппа, Елисейские поля… 28 декабря: Пер-Лашез… 3 января 90-го: у А.Д.Б… 7 января: Зенобия. 10 января: Церковь Мадлен, поминальная служба по Арману…» Дальше, вплоть до марта, по понедельникам и четвергам после полудня повторялось одно и то же имя: Зенобия.
«Зенобия? Кто бы это мог быть? Родственница Армана?» — спросил себя Виктор, захлопывая блокнот.
Он просмотрел бумаги: завещание, составленное мадам Арно, свидетельствовало, что единственной наследницей Армана была Одетта. Официальное письмо из французского консульства в Колумбии:
Многоуважаемая госпожа!
С прискорбием сообщаем о смерти Вашего супруга Армана де Валуа, геолога Компании по прокладке трансокеанского канала, скончавшегося от желтой лихорадки 13 ноября 1889 года в деревне Лас-Хунтас. Он был похоронен с соблюдением всех надлежащих формальностей. Мы отправили Вам бумаги и личные вещи Вашего супруга.
Примите наши соболезнования и уверения в совершенном почтении.
А вот письмо Армана де Валуа, датированное концом октября. Некоторые строчки подчеркнуты:
Моя дорогая жена!
Посылаю тебе изображение Дамы, которое мы видели в Лурде в 1886-м. Я очень им дорожу, и ты береги его. Повесь в моей комнате над бюро, рядом со святым архангелом Михаилом. Как только получишь это письмо, телеграфируй ответ, дабы я был уверен, что все дошло до тебя в целости и сохранности. Мои дела в порядке. Я возвращаюсь в Панаму и в конце ноября отплыву во Францию. Буду в Париже к Рождеству. Целую тебя, в ожидании встречи.
Арман
«Какой холодный тон!.. Не знал, что “дорогой Арман” был таким ханжой», — подумал Виктор.
Он быстро пробежал глазами третье письмо — от Одетты к мужу.
Мой дорогой Арман!
Как ты поживаешь, мой утеночек?
«Смотри-ка, его она тоже звала этим смешным прозвищем», — с некоторой досадой констатировал Виктор.
…я вернулась в Париж только вчера. Мы чудесно провели время в Ульгате… познакомились с очаровательными людьми, среди которых был и знаменитый спирит Нума Уиннер…
«Нума Уиннер… Автор опуса о вертящихся столах в Джерси?»
…Он заверил, что скоро всем твоим неприятностям придет конец… Не помню, писала ли я тебе, что мсье Легри, твой знакомый, книготорговец с улицы Сен-Пер… какие-то отношения с русской эмигранткой, распутницей, которая позирует обнаженной. Я нисколько не удивилась — этот человек никогда не надевает цилиндра и держит слугу-китайца.
— Ба! Восхитительно, — пробормотал Виктор. — Что ж, я ее бросил, и она мне отомстила.
Виктор вдруг подумал, что Одетта, возможно, переживала из-за их разрыва, но прогнал эту мысль и сложил бумаги в конверт, поскольку в них не оказалось ничего интересного. Он зевнул. Не стоит выдумывать лишнее, основываясь на том факте, что женщина оставила в туалетной комнате свои кремы, пудру и румяна. Одетта просто где-то уединилась с любовником, а ее горничная воспользовалась случаем и украла кое-что по мелочи. Все просто, как апельсин.
Виктор решил вернуться в постель, откинул одеяло и понял, что сделать это будет не так-то просто: Таша лежала по диагонали. Он пощекотал ее, но она даже не шевельнулась, и он примостился на краешке, в который уже раз удивляясь тому обстоятельству, что столь независимые по натуре люди, как он и Кэндзи, попали женщинам под каблучок. «Ладно я, но он — такой сильный, такой равнодушный к женским прелестям…» Виктор попытался прогнать из головы все мысли, но воображение рисовало ему картины любовных игр компаньона с некоей Айрис. Устыдившись, он прижался к Таша и забылся тревожным сном.
Глава пятая
В глубине зала два эрудита в черных сюртуках листали труды по генеалогии, вполголоса обмениваясь комментариями. Виктор беседовал с длинноволосым человеком лет шестидесяти, которого интересовали документы о маршальше Лефевр. Закончив разговор, он проводил посетителя до двери и отвесил ему почтительный поклон.
— Жозеф, потрудитесь аккуратно упаковать этот пакет и немедленно доставьте его мсье Викторьену Сарду. Черт! Опять эта бабища явилась, — проворчал он, возвращаясь за стол.
К его превеликому удивлению, Жожо приветливо улыбался графине де Салиньяк и ее племяннице Валентине.
— Вы наконец получили «Каменную душу», молодой человек? — поинтересовалась графиня.
Жозеф не ответил — все его внимание было поглощено девушкой, — и она холодно поинтересовалась у Виктора:
— Неужели для того, чтобы застать вас в магазине, мсье Легри, нужно записываться в лист ожидания?
— В последнее время у меня было очень много работы, мадам. — Он собирался продолжить, но тут в магазин ворвалась новая посетительница — пухленькая жизнерадостная дама лет сорока в клетчатом плаще с мальтийской болонкой подмышкой. Это была Рафаэль де Гувелин.
— Я знала, что найду вас здесь, Олимп! — бросилась она к графине и вскричала, потрясая газетой: — Вы читали «Л'Эклер»?! — Не дожидаясь ответа, она прочла:
Два доктора медицины исследовали проблему жизни и смерти на примере казненных на гильотине. Один из ученых пришел к выводу, что смерть кладет конец всему, другой утверждает, что сердце бьется еще несколько мгновений, а в отсеченной голове работает мозг…
— Что скажете? Увлекательно, не так ли? Напоминает опыты нашей подруги Адальберты.
— Это просто смешно! — презрительно фыркнула графиня де Салиньяк.
— Мадам де Бри посещает казни? — удивился Виктор.
В глазах Жозефа загорелось любопытство, и он переместился поближе к Рафаэль де Гувелин, надеясь, что она забудет газету и он сможет вырезать статью.
— После смерти сына она страшно увлеклась спиритизмом. Кстати, Одетта, потеряв мужа, пошла по ее стопам. Когда скончался мой супруг, мне такое и в голову прийти не могло! Так что же, мсье Легри, я жду! — бросила графиня.
— Бедняжка Одетта! — воскликнула Рафаэль де Гувелин. — Нельзя обвинять женщину в том, что она горюет по мужу! Но я с вами согласна, Олимп, глубокий траур, длящийся больше трех месяцев, — это уже слишком. Мы должны были увидеться в субботу у Адальберты — она, кстати, не слишком хорошо себя чувствует, сердце пошаливает, — поговорить о дорогих усопших, поддержать друг друга, но Одетта нас подвела, очевидно, решила в последнюю минуту посоветоваться со своим ясновидящим шарлатаном, этим… никак не могу запомнить его имя! В конце недели я собираюсь заехать на бульвар Оссман, хотите что-нибудь передать Одетте, мсье Легри? Она теперь очень одинока… — И она бросила многозначительный взгляд на Виктора.
На его лице не дрогнул ни один мускул.
— Лучше перенесите визит, сейчас Средопостье, в центре будут массовые гуляния… — Графиня де Салиньяк замолчала, уставившись в какую-то точку за плечом Виктора.
— Мсье Легри, там какая-то молодая особа, — перехватив ее взгляд, слащавым тоном произнесла Рафаэль де Гувелин.
Виктор обернулся: на верхней ступеньке винтовой лестницы стояла Таша с распущенными волосами. Она кивнула собравшимся и вернулась в комнаты. Виктор последовал за ней.
— Это и есть та самая русская распутница? — спросила графиня у Рафаэль де Гувелин.
— Тяга мужчин к подобным созданиям загадочна и непонятна. Животные, моя дорогая, они просто животные!
Жозеф воспользовался тем, что дамы увлеклись разговором, и незаметно отвел Валентину в сторонку.
— Вы так любите вашу тетушку? Никогда с ней расстаетесь, — шепнул он.
— Она не отпускает меня ни на шаг, — краснея, ответила девушка. — Но завтра я собираюсь взглянуть на весенние новинки в галерее Лувра. Одна… — уточнила она.
Жозеф понял намек, но знал, что ему будет трудно улизнуть, поскольку один его патрон отправился в путешествие, а другой забыл обо всем, кроме любви.
В зал вернулся Виктор и учтиво преподнес каждой посетительнице экземпляр «Каменной души» на японской бумаге.
Рафаэль де Гувелин направила лорнет на книгу, склонилась к Виктору и шепнула:
— Между нами говоря, друг мой, Жоржу Оне я предпочитаю Ги де Мопассана, его романы куда гривуазней. Что скажете?
— Совершенно с вами согласен. Если увидите мадам де Валуа, передайте ей мои наилучшие пожелания.
— Непременно, дорогой друг, непременно передам. Вы идете, Олимп?
Графиня сухим тоном подозвала племянницу, и Валентина неохотно рассталась с Жозефом. Дамы вышли, за ними последовали оба эрудита.
Во время обеденного перерыва Жожо вскарабкался на приставную лесенку, достал очередное яблоко и газету, по-детски радуясь, что присвоил «Л'Эклер» Рафаэль де Гувелин. Виктор машинально листал журнал заказов, занятый мыслями о случившихся накануне событиях.
— Послушайте-ка это, патрон! — неожиданно воскликнул Жозеф.
ТРУП ИЗ СЕН-НАЗЕРА
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Причина смерти неизвестного с грузового судна «Гоэланд» наконец определена. По мнению делавшего вскрытие патологоанатома, речь идет об убийстве. Рост мужчины метр семьдесят пять, возраст — между тридцатью пятью и сорока пятью. Волосы и борода темно-каштановые, правая нога чуть короче левой, что при жизни приводило к легкой хромоте. Проломленный в двух местах затылок указывает на то, что жертве нанесли несколько жестоких ударов по голове и смерть была практически мгновенной. Тело могли столкнуть в трюм несколько недель, а то и месяцев назад. Господа Лекашер и Горон всю вторую половину дня проверяли журналы входа и выхода судов из порта Сен-На…
— Довольно! — раздраженно воскликнул Виктор. — Я позволил вам выставить в витрине детективные романы, что вряд ли привлечет серьезных библиофилов, но умоляю, избавьте меня от ваших мрачных происшествий!
Жозеф от возмущения столь злонамеренным искажением истины даже выронил газеты.
— Это… это несправедливо, мсье Легри! — заикаясь произнес он. — Вы сами приохотили меня к этому литературному жанру, и насчет витрины я вам ни словечка не говорил, вы сами предложили сделать это перед Рождеством! Раз вы так, я уберу книги — все до единой, — и немедленно!
Виктор не смог удержаться от смеха.
— Простите, Жозеф, не сердитесь, просто у меня сейчас кое-какие проблемы. Беру свои слова обратно.
— Легко сказать — не сердитесь, — пробурчал Жозеф, подбирая рассыпавшиеся листы газеты.
Его взгляд упал на крупный заголовок, и он медленно, как завороженный, поднес страницу к глазам. Виктор удивленно следил за действиями своего приказчика.
— Что еще стряслось? — поинтересовался он.
— Вверху, справа, — дрожащим голосом ответил Жозеф. — «Утопленница…»
Виктор выхватил у него газету.
Вчера, в начале вечера, моряк Жан Берешар, ждавший окончания работ на Крымском мосту, выловил из воды бездыханное тело молодой женщины. Судя по всему, несчастная свела счеты с жизнью. Тело перевезено в морг для опознания. Утопленница, стройная блондинка лет двадцати, была просто одета, на правой руке у нее имелся дешевый браслет с брелоком в виде собачки.
— Это Дениза, — пролепетал Жозеф.
Виктор и сам был очень взволнован, но попытался успокоить его:
— Почему вы так решили? С чего бы Денизе…
— Говорю вам, это она! Позавчера, в воскресенье, мы ходили на ярмарку, и я выиграл для нее этот браслет в тире.
— Сотни девушек носят подобные безделушки.
— В газете написано, что она блондинка.
— Перестаньте, Жозеф, в Париже тысячи блондинок… — Виктор не добавил, что только одной молоденькой белокурой девушке назначили встречу на Крымском мосту.
— Мсье Легри, я сейчас же отправляюсь в морг.
— Хорошо, мы закроем магазин, и я поеду с вами. Только предупрежу Таша…
В магазине было очень тепло, но Жозефу показалось, что у него кровь стынет в жилах.
По пути в морг они не разговаривали. Жозеф вспоминал, как заливисто смеялась Дениза, сидя на карусельной лошадке, как она порозовела от удовольствия, когда он надел ей на руку браслет, а потом с аппетитом поедала угощение Эфросиньи Пиньо. Она слишком любила жизнь, чтобы броситься в воду, мсье Легри прав, это не она, пусть это будет не она… А Виктор смотрел в окошко фиакра, пытаясь понять отчаянный поступок девушки, и находил одно-единственное объяснение: на такой шаг ее толкнуло чувство вины. Но разве человек сводит счеты с жизнью из-за банальной кражи? Или была другая причина? Он начинал всерьез беспокоиться об Одетте.
Городской морг, по виду напоминавший греческую гробницу, находился за абсидой собора Нотр-Дам. Виктор часто ходил по мосту Архиепископства, не обращая внимания на это нависавшее над Сеной здание. Он и представить не мог, что ему когда-нибудь придется зайти внутрь. В голову пришла услышанная недавно фраза: «Люди ходят поглазеть на утопленников, как на показы мод», так что толпа зевак перед дверью его не удивила, а вот Жозеф не ожидал увидеть в столь зловещем месте множество женщин — молодых и старых, продавщиц из магазина, возвращающихся на работу мидинеток, матерей семейства с отпрысками на руках. Были здесь и отлучившиеся со стройки рабочие, и прогуливающие школу дети, и всякие подозрительные типы.
— Хорошенькое развлечение, — буркнул Жозеф.
— Запах крови привлекает акул, как мед — мух, — процитировал одну из поговорок Кэндзи Виктор.
В зале морга царила мрачная атмосфера, сильно пахло хлоркой. Сквозь маленькие сводчатые окна на столпившихся перед трупами посетителей струился свет тусклого дня. Сначала Виктор и Жозеф ничего не могли разглядеть из-за чужих спин и довольствовались репликами зевак, без которых с радостью обошлись бы.
— …Суют их в ячейки и держат на холоде, говорят, при минус пятнадцати. Здесь-то, в зале, температура нулевая — рай для покойничков!
— …Не только утопленники, но и удавленники, и те, кто под колесами погиб, убитых они не выставляют, а жаль.
— …Почти семьсот в прошлом году, многие захотели посетить Выставку, вот трупов и прибавилось.
— Два часа ночи. Пьяница стучится в дверь морга. «Что вам нужно? — кричит сторож. — Я с позавчера в загуле, домой не возвращался и забеспокоился: вдруг, думаю, сюда попал?»
Все расхохотались над анекдотом, который рассказал здоровяк в кепке. В то же мгновение толпа колыхнулась и вытолкнула Легри и Жозефа в первый ряд любопытных зрителей.
На оцинкованных столах, за стеклом, в ожидании опознания лежали тела, по большей части обнаженные, не тронутые разложением благодаря заморозке. У изголовья каждого были сложены их нехитрые пожитки.
Стоявшая рядом с Жозефом женщина рыдала, указывая пальцем на тело мужчины:
— Это Даниель, боже мой, Даниель, он искал работу, но его никуда не брали, я бы никогда не подумала, что… — Она замолчала, не в силах продолжать, и ее молодая спутница выкрикнула в отчаянии:
— Расступитесь, да расступитесь же наконец, вы, мерзкие стервятники! Как не совестно устраивать такие ужасные выставки!
— Успокойтесь, дамочка, — отвечал один из санитаров, — мы привлекаем публику в надежде, что кто-нибудь опознает тех, кого нашли без документов.
Жозефа словно подталкивала в спину какая-то враждебная сила. Вдруг он остановился, не в силах отвести взгляд от тела хрупкой девушки со спутанными белокурыми волосами, рядом с которым лежала одежда — черное платье, жакет, измятый чепец. На столе были разложены остальные вещи — лиловая шаль, распятие и зеркало.
— Дениза… — Жозеф отшатнулся, боясь, что его стошнит.
— Вы знаете эту молодую женщину? — вскинулся санитар.
Виктор сильно сжал плечо юноши, приказывая ему молчать.
— Нет, — ответил он за Жозефа.
— Но я слышал, как этот мсье произнес имя — Дениза.
— Ему показалось, что эта наша кузина Дениза Эльзевир, она сбежала из дома, — сообщил санитару Виктор. — К счастью, он ошибся. Волнение, сами понимаете…
Бедный как смерть Жозеф стоял, уставившись в пол.
— Люди часто ошибаются, — понимающе кивнул служащий.
— Бедная девочка, такая молодая… — пробормотал Виктор.
— О, мы тут всяких видали — и детей, и стариков… Нищета толкает людей на безумные поступки. Но насчет этой мы не уверены, что она покончила с собой, — у нее здоровенная рана на затылке. Судебный медик сделает вскрытие и определит, умерла она до или после утопления. Потому-то мы и хотим, чтобы родственники объявились как можно скорее.
— Где ее нашли?
— У Крымского моста. Больше всего покойников поставляет нам Сена. Топятся в основном мужчины. За последнюю неделю выловили семерых.
Не в силах слушать дальше, Жозеф начал пробираться к выходу, расталкивая зевак. Вслед ему неслись брань и оскорбления.
Виктор нашел его в сквере у подножия Нотр-Дам. Юноша сидел на скамье, устремив невидящий взгляд на расхаживающих по песку голубей.
— Еще вчера мы с ней гуляли, гуляли и смеялись, я рассказывал ей о канале Урк… Что мы теперь будем делать, мсье?
— Вернемся обратно.
Разъяренная Таша влетела в магазин и набросилась на Виктора, наливавшего Жозефу рюмку коньяка:
— Ты должен был мне рассказать!
— О чем?
— Что мою комнату залило! Дениза — просто образцовая служанка! Ничего себе, навела порядок в мансарде! В результате два холста погибли. А ведь я предупреждала, чтобы она не трогала ведра! — Девушка раскрыла ладонь. — Будь любезен, верни мне ключ, который я дала твоей протеже.
— У меня его нет.
— Как это нет?! Лжец! Я только что видела мадам Ладусетт. Вчера ты сказал ей, что Дениза оставила мой ключ под ковриком.
— Таша, я должен тебе кое-что объяснить…
— Нечего объяснять! Ты боялся, что я уйду до конца недели. Ты снова показал, что не доверяешь мне! Что это, скажи на милость?
Девушка помахала перед носом Виктора голубым листочком.
— Я подобрала его с коврика у кровати. Хорошо, что у консьержки есть второй ключ, иначе я бы так и стояла под дверью собственной квартиры!
Виктор забрал у Таша пневматическое письмо и пробежал его глазами.
Мадам де Валуа отрекомендовала Вас как честную и усердную девушку. Я нашел Вам место через бюро по найму «Хорошая прислуга». Встречаемся в понедельник, в полдень, у ворот церкви Сен-Жак-Сен-Кристоф, что рядом с Крымским мостом, уладим формальности, и я провожу Вас к новым нанимателям. Возьмите вещи с собой, оставьте ключ мадемуазель Таша под ковриком.
В. Л.
Виктор ошеломленно смотрел на свои инициалы.
— Я этого не посылал…
— Ну конечно! — воскликнула Таша. — В. Л. — это не Виктор Легри, да?
— Ничего не понимаю, клянусь, я тут ни при чем!
— Но ты обещал дать Денизе рекомендацию, я сама слышала. Жозеф, вы ведь присутствовали при том разговоре…
Таша обернулась и увидела, что Жожо стоит у прилавка, закрыв лицо руками.
— Что случилось? Вам нехорошо?
— Дениза… она… — бесцветным голосом произнес юноша, распрямляясь. — Патрон, вы уверены насчет этого письма?
— Я пока что не потерял память, — сухо ответил Виктор. — Кто-то выдал себя за меня.
— Раз это не вы… значит, ее туда заманили… Кто? Думаете, она… Я опасаюсь худшего!
— Да о чем вы говорите, в конце концов? Что случилось с Денизой? — воскликнула Таша.
— Она умерла, — после небольшой паузы сказал Виктор.
— Как это — умерла? Что с ней случилось?
— Она утонула. Нам остается одно, Жозеф, нужно сходить в бюро по найму.
— Ты шутишь! — вмешалась Таша. — Взгляни на мальчика — он бледен как полотно и едва стоит на ногах…
— Со мной все в порядке, мадемуазель Таша. Мсье Виктор прав, мы должны проверить, ведь если Дениза туда ходила, это многое объясняет.
— Бедняжка утонула, и вы ничего не можете изменить. Будь то самоубийство или несчастный случай, разбираться должна полиция.
Таша с тревогой взглянула на Виктора, но тот, не слушая, торопливо одевался. Жозеф допивал коньяк.
— Ты не побудешь здесь до нашего возвращения? Конечно, если у тебя не назначена встреча, — шепнул Виктор, целуя девушку в шею.
— Конечно, дорогой. Хочу дать тебе совет…
Дверь захлопнулась, прежде чем Таша успела договорить. Она задумчиво накрутила локон на палец.
Фиакр ехал по набережной Луары, в конце которой находилась внутренняя гавань Ла-Вилетт. С барж выгружали песок, гравий, уголь, гипс, зерно, муку, лес и множество других материалов, необходимых окрестным заводам. Экипаж переехал канал Урк по разводному мосту. Жозеф и Виктор успели рассмотреть установленные по обеим сторонам стальные колонны с огромными шкивами на цепях. Этот механизм поднимал мост, когда под ним надо было пройти судну с высокой мачтой. Они невольно представили себе тело Денизы, уходящее под воду.
Фиакр обогнул церковь Сен-Жак-Сен-Кристоф и поехал по Крымской улице. Бюро по найму «Хорошая прислуга» располагалось на втором этаже кирпичного дома в тупике Эмели рядом с кварталом Гослен. На эмалированной табличке была изображена рука с вытянутым указательным пальцем, ниже было написано:
Агентство располагается
на третьем этаже
На узкой темной лестнице им встретилась девушка с листком бумаги в руке. Сердце у Жозефа сжалось: он вспомнил рассказ Денизы о том, как она приехала в Париж.
Виктор открыл захватанную множеством пальцев дверь, и шум разговоров стих. С деревянной скамьи у побеленной известкой стены на них с любопытством смотрели несколько девушек. Каждая из них принарядилась, надев свое лучшее ситцевое платье в цветочек или полоску, и только наметанный глаз разглядел бы в полумраке заплаты и потертости на этих туалетах. Они шептались, делились страхами и надеждами, пугливо поглядывая в глубину комнаты, где за столом сидел человек, от которого зависела их участь. Чиновник подзывал их одну за другой и заносил личные данные в формуляры, заверенные полицией. «Мясо», — подумал Жозеф, вспомнив словечко, которым Дениза называла таких девушек.
— Попробую что-нибудь разузнать, — сказал Виктор, направляясь к кабинету патрона, и Жозеф остался один на один с хихикающими девушками. Упитанная брюнетка знаком пригласила его сесть между ней и блондинкой с усталым лицом.
— Хотите встать на учет? — поинтересовалась она с сочным акцентом уроженки юга.
— О… нет, пришел кое о чем справиться.
— Это второе агентство, куда я прихожу за сегодняшнее утро. В первом мне предложили место буфетчицы в приюте для глухонемых за двадцать сантимов в час, по десять часов в день. Килограмм хлеба стоит сорок су, вот я и отказалась, а мне заявили: «Нам такие привереды не нужны!» Я, конечно, завелась и все им высказала. Я ведь не кухарка, а горничная! Мерзкие тупицы!
— Так оно и есть, — согласилась блондинка, — а ведь если бы мы не стояли в очереди к их окошкам, они бы не сидели по другую сторону!
— Откуда вы? — спросила ее брюнетка, вытягивая шею.
— С севера. Я работала по ночам на разгрузке сахарной свеклы. Они нанимают женщин, потому что те более умелые и ловкие, чем мужчины, их не пугают ни дождь, ни грязь, а платить им можно вдвое меньше! Я совсем не видела своих детей, падала с ног от усталости и почти ничего не зарабатывала.
Она вытянула перед собой растрескавшиеся пальцы, но тут же спрятала руки: в бюро появилась нарядная пара, им требовалась служанка. Женщина высокомерно оглядела девушек из-под широких полей модного капора и сделала брезгливую гримаску. Дверь кабинета открылась, и появился Виктор. Жозеф поднялся, поднес руку к шляпе.
— Мадам… Желаю вам удачи, — шепнул он и последовал за своим патроном.
Когда они вышли на площадку, Виктор покачал головой.
— Он утверждает, что не записывал никого под именем Дениза Ле Луарн.
Они вернулись к каналу и остановились на середине моста. Виктор делал вид, что разглядывает окрестности. Справа, в меркнущем свете дня, высились массивные здания. Слева на воде раскачивались баржи и шаланды, на набережных краснели крыши складских помещений, таяли в тумане металлические конструкции мостов.
— Хочу раздавить негодяя, который ее убил, — сквозь зубы проворчал Жозеф.
— У нас нет формальных доказательств, что это убийство.
— Но мы оба в этом не сомневаемся, не так ли?
Виктор не стал отвечать и направился по Крымской улице к Бют-Шомон. Увидев кабачок, они вошли и заказали выпивку.
Жозеф залпом выпил стакан «Вина Мариани»
[12]и начал чертить на засаленном столе кабалистические знаки.
— Зачем было вызывать Денизу в бюро по найму, где никто о ней не слышал? Подумайте, патрон, она получает голубой листочек, подписанный вашими инициалами, доверчиво отправляется на встречу, а потом ее находят в Сене с проломленным черепом. Автор письма все о ней знал, перечитайте текст.
Виктор вытащил из кармана помятый листок.
— Вы правы, — согласился он, — отправителю известно имя Таша, он знал, что Дениза ищет новое место, и утверждал, что мадам де Валуа передала ему рекомендации. Так кто же он? Друг дома?
— Или… сама мадам де Валуа! Как утверждает мсье Лекок
[13], не следует принимать во внимание видимость правдоподобия.
— Перестаньте, Жозеф, я готов согласиться с Эмилем Габорио, утверждающим, что дерзость и оригинальность мышления оправдывают себя в умозрительных заключениях, но не в этом случае… нет, и еще раз нет. Я начинаю опасаться, что Одетте де Валуа угрожает опасность.
— Она вернулась домой?
— Откуда вы знаете, что она отлучалась?
— Дениза рассказала мне, что хозяйка исчезла, когда они были на кладбище. Девушка ужасно перепугалась.
Виктор сделал глоток вермута.
— Мадам де Валуа все еще отсутствует. Вчера в конце дня я пошел к ней и обнаружил, что квартиру обыскивали. Мансарду Таша тоже перевернули вверх дном. Должен признаться, я считал, что Дениза обманула нас, желая скрыть какой-то проступок. Но теперь… Только ничего не говорите Таша — я навел у нее порядок.
— А что, если внезапное исчезновение мадам де Валуа как-то связано со смертью Денизы?
— О чем вы?
— Вспомните, в морге мы видели все вещи Денизы, но кое-чего не хватало: картины с изображением Пречистой Девы, а ведь Дениза очень ею дорожила. В субботу, во второй половине дня, когда мы шли на улицу Нотр-Дам-де-Лоретт, она показала мне олеографию, расплакалась и сказала, что хозяйка будет в ярости, ведь она хотела отнести в часовню именно ее. «Это не кража, — уверяла Дениза, — я взяла ее на время, а мадам отдала святого архангела Михаила». В тот момент я ничего не понял, но теперь…
— Мне она тоже об этом говорила, но я не придал ее словам значения.
Какое-то смутное воспоминание мучило Виктора. Он нахмурился, задумчиво постукивая пальцами по стакану. И вдруг перед его глазами возникли два светлых прямоугольника на темной стене.
— Вот оно что! — воскликнул он. — Они висели в комнате Армана.
— Что вы сказали, патрон?
— Ничего, не обращай внимания. — Виктор решил не посвящать Жозефа во все детали дела и стал пересчитывая вслух сдачу. Но не тут-то было!
— Я вспомнил, патрон, она называла эту картину «Дамой в голубом». Что, если квартиру мадам де Валуа и комнату мадемуазель Таша обыскивали, чтобы найти эту самую «Даму»? Может, она очень ценная? Как вы полагаете?
«Дама»… Виктор где-то недавно натыкался на это слово… Кабинет! Он сидит в своем кабинете, за столом, и пытается разобраться в ворохе бумаг. Письмо! Письмо, в котором были подчеркнуты некоторые фразы…
Виктор вскочил.
Они сидели за кухонным столом лицом друг к другу и без малейшего аппетита ели приготовленные Жерменой телячьи рулетики. Виктор отправил Жозефа домой, о чем теперь весьма сожалел: в присутствии юноши Таша не докучала бы ему так сильно. Не успел он вернуться в магазин, как она принялась жаловаться на его долгое отсутствие. Виктор извинился, сказал, что визит в бюро по найму очень его встревожил, и Таша потребовала, чтобы он немедленно отправился в полицию и сообщил инспектору о том, что случилось с Денизой. Он ограничился неопределенным кивком, Таша раздраженно оттолкнула тарелку с фруктовым салатом и бросила ложку на стол.
— Поклянись, что сходишь.
— Куда?
— Сам знаешь!
— Нет смысла с этим торопиться. Мне наверняка не поверят, а если даже и поверят, то замучают вопросами.
— Я все поняла: ты решил сам искать убийцу. Хочешь знать мое мнение? Ты слишком много читаешь! С меня довольно! Частные расследования — это опасно, в прошлый раз я едва тебя не потеряла, так что не начинай сызнова.
— Ты давишь на меня, — заметил Виктор, растроганный ее заботой, — хотя сама ненавидишь, когда я поступаю так с тобой.
— Ничего подобного! Я не рискую жизнью, когда отправляюсь работать в мастерскую. А когда ты задерживаешься, я теряю рассудок!
— Я бесконечно благодарен тебе за заботу и воспринимаю эти слова как доказательство твоей любви. Передашь мне сахар?
— Ты надо мной издеваешься! Ладно, с глухим мне разговаривать не о чем, я иду спать!
Виктор дождался, когда за Таша закроется дверь, кинулся в свой кабинет, открыл конверт с надписью «Личное», достал письмо и перечитал его.
Моя дорогая жена!
Посылаю тебе изображение Дамы, который мы видели в Лурде в 1886-м. Я очень им дорожу, и ты береги его.
Почему Арман подчеркнул эту фразу? Он написал слово «Дама» с большой буквы, то есть имел в виду совершенно конкретную даму. В письме упоминается Лурд… Лурд! «Дама», которую упоминала малышка Дениза! Портрет Пречистой Девы! Он вспомнил фразу, сказанную Жозефом в кабачке: «Она показала мне картину… она называла ее “Дамой в голубом”. Мадам де Валуа хотела отнести ее в склеп мсье де Валуа, а Дениза подменила ее на святого архангела Михаила». Виктор вернулся к чтению:
Повесь в моей комнате над бюро, рядом со святым архангелом Михаилом. Как только получишь это письмо, телеграфируй ответ, дабы я был уверен, что все дошло до тебя в целости и сохранности.
«Вот почему Арман так дорожил этой картиной: она очень ценная! — догадался Виктор. — А я-то удивился его неожиданной религиозности… Дениза подсунула Одетте святого архангела Михаила, чтобы оставить себе “Даму в голубом”. Некто пытается ее найти. Теперь все встало на свои места. Злоумышленник проникает в квартиру к Одетте. Ищет и ничего не находит. Перепуганная Дениза убегает. Незнакомец следит за ней, доводит до книжного магазина, ждет, потом провожает к дому Таша. Там у него возникает проблема: как попасть в мансарду? Он решает выманить Денизу на улицу с вещами, среди которых будет и “Дама в голубом”, и в воскресенье вечером посылает ей пневматическое письмо, подписавшись моими инициалами. Как он прознал про рекомендации?.. Дениза приходит на Крымский мост, и он убивает ее. Почему он пошел на крайнюю меру? Она отказалась отдать картину? Или оставила ее на улице Нотр-Дам-де-Лоретт? Видимо, да. Убийца нашел ключ от мансарды Таша, сбросил тело Денизы в воду, отправился на улицу Нотр-Дам-де-Лоретт и тщательно обыскал комнату. Нашел ли он “Даму в голубом”? Нужно будет проверить… Кто этот убийца? Он меня знает, раз подписался моими инициалами… Старик с кладбища! Тот, который будто бы видел меня раньше! Придется его расспросить. Наведаюсь-ка я в развалины Счетной палаты».
Виктор в задумчивости покусывал ручку. Он всегда хотел сочинить детективный роман, и теперь ему казалось, что он сам придумал эту запутанную интригу. «Нет, так я сойду с ума. Надо успокоиться и все записать». Виктор схватил ручку.
Одетта. Связь между ее исчезновением и убийством служанки.
Туалетная комната: забытая косметика.
Спальня: декорирована в предельно мрачных тонах, эзотерические книги. Почему? Одетта такая легкая, даже воздушная, ее волнует только собственная внешность, возможно, она попала под чье-то влияние? Неужели она искренне оплакивает мужа, к которому никогда не испытывала ни нежности, ни влечения? Что произошло после смерти Армана?
Виктор сверился с записной книжкой Одетты. Каждый понедельник и четверг — одно и то же имя: Зенобия.
Зенобия. Выяснить, кто это и какую роль играет в жизни Одетты.
Складывая письмо Одетты, он наткнулся на фразу:
«…познакомились с очаровательными людьми, среди которых был и знаменитый спирит Нума Уиннер…»
«Где я видел или слышал это имя?.. Дениза упоминала его тогда, в “Потерянном времени”… Что она сказала? Ну же, вспоминай! ДА! “Мадам де Бри водила хозяйку к магу… Мистер Нума…” Да, и еще: это имя автора книги о спиритических сеансах у Виктора Гюго… Немаловажная деталь!».
Нанести визит Адальберте де Бри. Получить адрес Нумы Уиннера.
Вернуться к Одетте: книги.
Счетная палата: допросить с пристрастием папашу… Моску.
Виктор погасил лампу и остался сидеть в темноте, с грустью вспоминая Денизу, которая теперь лежала на прозекторском столе.
Глава шестая
Окоченевший от холода папаша Моску с трудом поднялся на ноги, держась за стену, и едва не свалился между мусорными баками. Он уже две ночи спал на заднем дворе дома на улице Сен-Пер, рядом с пристройкой. Третьего дня Барнабе передал ему визитку Виктора Легри, который был как две капли воды похож на мужчину из медальона, и с тех пор старик не осмеливался вернуться домой: он боялся, что тот, кто убил Жозефину и засунул труп в тачку, теперь охотится за ним. Вот папаша Моску и шатался по кварталу, не осмеливаясь сам заговорить с Легри.
Его маневр не прошел незамеченным. Мадам Баллю, консьержка соседнего с книжной лавкой дома, была обеспокоена присутствием всклокоченного старика в обтрепанном плаще с набитыми всякой дрянью карманами.
— Вот ведь беда, эта обезьяна снова здесь, выскакивает, как черт из табакерки, видно, что-то затевает. Нет, это уж слишком, я не позволю ему мочиться на мой фонарь!
Разгневанная матрона подхватила ведро и вышла на улицу.
…Виктор вскочил, откинув одеяло. На улице кого-то убивали. Он ринулся к окну и увидел мадам Баллю, которая размахивала ведром над головой, наскакивая на грозившего ей кулаком старика. Того самого старика с кладбища!
Виктор в мгновение ока натянул рубашку, жилет, брюки и редингот. Таша наблюдала из-под ресниц, как он сражается с кнопками на гетрах и напяливает шляпу. Виктор схватил трость и наклонился, чтобы поцеловать любовницу. Она зажмурилась, а когда открыла глаза, он уже бежал вниз по лестнице.
Виктор вихрем промчался мимо багровой от возмущения мадам Баллю, призывавшей в свидетельницы мадам Пиньо:
— Вы только взгляните на этого грубияна! Сказала ему, чтоб не мусорил на моем тротуаре, а он обзывает меня ведьмой!
Таша подняла занавеску и успела увидеть бегущего к набережной Малакэ Виктора. Она попыталась утешить себя тем, что роман с сумасбродом придает ее жизни остроты, но тревога не оставляла ее: Виктор явно собирался разворошить очередное осиное гнездо.
Яростные порывы ветра разгоняли собравшиеся над Сеной черные тучи. Папаша Моску то и дело оглядывался. На набережной Малакэ букинисты выгружали из двуколок коробки с книгами и раскладывали свой товар на парапете. Виктор шел за папашей Моску, прячась за их спинами. На набережной Конти он укрылся за углом полицейского поста, а потом прыгнул в стоявший у тротуара фиакр.
Они выехали на Новый мост, по которому двигалась плотная толпа: служащие, домохозяйки с плетеными корзинками, школьники в серых блузах, продавцы жареной картошки и каштанов. Виктор вынужден был метаться из стороны в сторону, наклоняться, делая вид, что уронил трость, приседать на корточки за серыми каменными прилавками. Конная статуя Вечного повесы предоставила ему убежище, пока старик ругался с велосипедистом, на полной скорости выскочившим на площадь Дофина.
— Кретин на двух колесах! — вопил он.
Они добрались до улицы Труа-Мари и направились к продуваемой холодным ветром набережной Межисри. Приказчики в куртках с поднятыми воротниками спешили выкурить последнюю сигарету, прежде чем встать за прилавок магазинов «Ла бель жардиньер». Торговцы кормом, птицами, охотничьим и рыболовным снаряжением снимали ставни с окон своих лавок.
Виктор лавировал в толпе, не выпуская из виду папашу Моску. Они миновали театр Шатле и попали в водоворот экипажей, выезжающих к фонтану Пальме. Виктор пробирался между тележками с овощами, фиакрами, почтовыми тильбюри, пожарными экипажами, запряженными белыми першеронами. На мгновение ему показалось, что он потерял старика, но тот оказался всего в нескольких метрах впереди: прокладывал себе дорогу, бранясь и оскорбляя прохожих. Они оставили позади здание «Опера Комик», перешли авеню Виктории, сквер башни Сен-Жак, где несколько буржуа читали газеты, миновали улицу Риволи, Севастопольский бульвар и свернули направо, на улицу Пернель.
Виктор замедлил шаг. Он увидел, как старик вошел в лавочку под вывеской «Серебро и подержанные украшения», и спрятался за стоявшей у водосточного желоба тележкой, стараясь разглядеть, что происходит внутри лавки.
Папаша Моску достал медальон, с трудом открыл крышку и, вытащив оттуда фотографию, протянул вещицу хозяину, лица которого Виктор не видел. Старик получил две монетки, молниеносным движением спрятал их в карман и выскочил на улицу. Виктор отпрянул, больно ударился затылком об одну из балок, но успел пригнуться. Папаша Моску постоял на тротуаре, словно раздумывая, что делать дальше, и решительно направился вниз по улице. Виктор хотел было последовать за ним, но устал и замерз. Он посмотрел на витрину — там были навалены часы, столовое серебро и табакерки, нанизанные на стержень обручальные кольца и сверкающие на черном бархате броши. Продавец подошел и добавил еще коралловые бусы, перламутровый пенал, серьги с бриллиантами и медальон в форме сердечка. Виктор не без ностальгии вспомнил, что дарил похожую вещицу Одетте в самом начале их романа, когда питал к ней пылкие чувства. Он повел любовницу в дорогой ювелирный магазин на Вандомской площади и, пока она рассматривала украшения, молился про себя, чтобы ее запросы оказались разумными. К счастью для его кошелька, кольцам и браслетам она предпочла медальон на цепочке, но захотела сделать гравировку: «О. от В.». «Я вложу внутрь твою фотографию, утеночек. И ты всегда будешь со мной». Он спросил: «А если твой муж захочет взглянуть?» Одетта рассмеялась: «Он? Исключено. Мы уже много лет спим в разных спальнях». Виктор сделал вид, что поверил, — его это устраивало.
Он уже собирался уйти, но вдруг передумал и толкнул дверь магазинчика, вспомнив, что покупал Таша дорогие книги, но никогда не делал личных подарков. Этот отливающий всеми цветами радуги пенал отлично подойдет для карандашей и рашкулей
[14]. Высокий тощий продавец с рыбьими глазами за толстыми стеклами очков показал Виктору пенал, и при ближайшем рассмотрении на крышке обнаружился скол.
— Очень жаль, — пробормотал Виктор и решил взглянуть на гребни из слоновой кости.
— Сколько?
— Двадцать пять франков за оба. Берете?
Виктор расплатился, взял пакет, но задержался. Может, Таша примет от него медальон… и даже положит внутрь его фотографию, подумал он, и эта идея его развеселила.
— Покажите мне медальон — тот, в форме сердечка.
Торговец выложил вещицу на прилавок, и Виктор перевернул медальон, чтобы взглянуть на пробу.
— Это серебро, — поспешил заметить хозяин.
Виктор нажал на кнопочку и увидел внутри сделанную мелкими буквами надпись: «О. от В.»
Его сердце ударилось в галоп, голова закружилась, ноги стали ватными, перед глазами все поплыло.
— Вам дурно,
мсье?
Голос доносился откуда-то издалека. Одетта! Значит, она мертва. Виктор пошатнулся.
— Мсье… — позвал голос.
Нет, это абсурд. Одетта, должно быть, продала медальон. Чушь, она слишком им дорожила! Она его потеряла, ну конечно, потеряла. Виктор начал успокаиваться, дыхание выровнялось, предметы обрели прежнюю форму и цвет.
Подслеповатый продавец не спускал с него глаз. Виктору стало неловко, и он попытался улыбнуться.
— Да-да… Красивая вещица, — выговорил он срывающимся голосом. — Ее принес тот старик с длинными седыми волосами?
Торговец напрягся.
— Вы из полиции?
— Вовсе нет, просто хочу знать…
— Я не обязан называть своих клиентов. Так вам нужен медальон или нет?
— Послушайте, это очень серьезно. У вас наверняка есть журнал покупок, и, если вы позволите мне заглянуть в него…
— Я не нарушаю законов, мсье, так что можете жаловаться, сколько угодно.
— Боже упаси! Я покупаю медальон, сколько вы за него хотите?
— Тридцать франков, вещь того стоит! — с вызовом произнес торговец.
Виктор достал бумажник, отсчитал сорок франков и в упор взглянул на собеседника.
— Ладно, хорошо, — сдался тот, убирая деньги. — Я не хочу неприятностей. Медальон принес старик, но прежде я его никогда не видел.
— Конечно… — Виктор кивнул и вышел.
Улица показалась ему вражеской территорией.
Как безобидная побрякушка могла нагнать на него такой ужас? Был ли старик в квартире Одетты? Кто он — вор или убийца? Ему почудилась обтянутая сухой кожей рука, срывающая цепочку с шеи трупа. «В медальоне была моя фотография, вот почему он узнал меня на Пер-Лашез!» Виктором овладела холодная ярость. Он прижмет этого мерзавца!
Он почти бегом несся по улице.
«Неужели Одетта могла продать медальон вместе с моей фотографией? Пожалуй, могла, она такая легкомысленная и рассеянная… Или же… старик где-то подобрал медальон. Но тогда с чего бы ему удирать, столкнувшись со мной на кладбище?»
Виктор шел в толпе парижан, стекавшихся с окраин к магазинам, где торговали корсетами, шляпами и фарфором, и разговаривал сам с собой. Он был расстроен. Надо было прислушаться к словам Денизы. Умолчав об исчезновении Одетты, он только усугубил ситуацию. Таша права, он должен сообщить о случившемся в полицию.
Папаша Моску сжимал в кулаке две пятифранковые монеты — ничтожная плата за такую чудесную вещицу. Старик понимал, что его провели, но чувствовал облегчение, избавившись от медальона. Он вынул из кармана фотографию Виктора, разорвал в клочки и выбросил в водосточный желоб на углу улицы Сен-Мартен напротив церкви Сен-Мерри. «Нет нужды хранить его физиономию, она и так отпечаталась у меня в башке!»
Потрескавшиеся стены домов образовали узкий темный проход, где торговали вином, сухофруктами и колотым сахаром. Папаша Моску углубился в лабиринт средневековых улочек, и шум большого города остался у него за спиной. На улице Тайпен стояли дома, укрепленные подпорками, за пыльными окошками навалом лежали тряпки и ржавые железяки. В меблирашках на улице Бризмиш, где он ночевал, пока не переселился в Счетную палату, горели фонари.
«Здесь берут за комнату от 40 сантимов до одного франка за ночь» — было написано на табличке. Старик без сожаления вспоминал те времена: хозяин ночлежки на рассвете безжалостно будил постояльцев. Папаша Моску махнул рукой старому приятелю Биби Лапюре
[15], но, видно, тот, сойдясь с поэтами из Латинского квартала, сделался снобом, потому что притворился, что не заметил его. Старик бросил беглый взгляд налево, где на Венецианской улице бродячие торговцы цветами украшали свои тележки фиалками и мимозой, и поспешил на улицу Рамбюто.
«А кольцо? — задумался он. — Что с ним делать? Ничего, продам другому скупщику, чтобы замести следы. Хорошо, что я додумался встать лагерем на улице Сен-Пер. Душегуб из медальона — наверняка и есть тот самый проклятый А.Д.В., что разгромил мой бивуак! — не смог меня найти, потому что не знал, что искать нужно у себя под носом!»
Тротуары на улице Рамбюто были заставлены тележками зеленщиц, на которых вокруг весов с медными тарелками громоздились овощи и фрукты. Толстые щекастые тетки в фартуках и сабо, перекрикивая друг друга, зазывали покупателей:
— Чудные апельсины, сочные севильские апельсины! Эй, старичок, попробуй апельсин, улетишь в неба синь!
— Ему милей моя редиска, правда, дорогой? Похрусти редиской, станешь чист, как киска!
— Да он брюзга! Сгрызи мою морковь, будешь весел и здоров!
Папаша Моску сбежал от их шуточек и насмешек в тихую гавань улицы Архивов. Метров через сто он остановился. Может, вернуться и оценить кольцо у ювелиров, которые вместе с перекупщиками толпятся возле ломбардов? Нет, лучше спросить совета у мамаши Бриско, она подскажет верный адресок, решил он.
Старик оказался в тихом квартале. За старинными фасадами открывались просторные дворы, с которыми соседствовали фабрики игрушек, мастерские и магазинчики по производству и продаже бронзы. Он прошел мимо мэрии Третьего округа и сквера у Тампля, где сидел лукавый Беранже с закрытой книгой в руках. Вид липы, под которой, если верить легенде, Людовик XVI проверял у сына уроки, навеял папаше Моску патетический панегирик «великому победителю королей», и он затянул охрипшим голосом: «Наполеон — наш император, он велик и милосерден!»
Папаша Моску пересек рынок Тампля, где на знаменитой площадке второго этажа находили последний приют тряпки, не продавшиеся на первом. Там в нескольких павильончиках торговали вещами из тех, что выбросили богачи. Папаша Моску устал, ему не терпелось добраться до места, и он шустро лавировал между прилавками с обувью и сюртуками, грудами юбок и занавесок, коврами и перинами. Он вспомнил свой разгромленный бивуак и снова впал в отчаяние. «Этот господин с фотографии хочет меня укокошить! Не жаловаться же легавым! Хотя… почему бы нет? Я получу кров и еду, буду жить в тепле, и никакой Груши меня не достанет…»
— У меня уже есть! — рявкнул он в лицо молоденькой модистке, предложившей ему поношенный котелок.
— Отдам за ломоть хлеба, будете в нем кум королю!
— Лапы прочь, Жозефина!
Старик покинул рынок и пошел по узкой улочке де ла Кордери, в центре которой находилась маленькая треугольная площадь. Именно там располагался кабачок мамаши Бриско.
Виктор не сразу отыскал в коридорах префектуры бюро по розыску пропавших, которым руководил некто Жюль Борденав, и изложил причину своего прихода молодому чиновнику с опухшими от усталости глазами, который едва справлялся с зевотой.
— Мадам Одетта де Валуа, я записал. Вы — член семьи?
— Н-нет…
— Родственник?
Виктор покачал головой. Клерк вздохнул.
— Так кто же вы этой даме?
— Друг.
— Друг или… любовник? — утомленно поинтересовался собеседник Виктора.
— Друг. И очень беспокоюсь за нее: она с прошлой пятницы не возвращалась домой.
— Эта дама замужем?
— Да, то есть теперь она вдова.
— Понятно, — кивнул полицейский. — Когда скончался ее супруг?
— В ноябре или декабре, точно мне неизвестно, он работал на строительстве Панамского канала и заразился желтой лихорадкой.
— Да-да, канал… — буркнул чиновник, болтая пером в чернильнице. — И как долго он там работал?
— С сентября 1888 года. Но какое отношение…
— Если я правильно понимаю, мадам… де Валуа — поправьте, если я ошибаюсь, — жила одна с сентября 1888 года?
— Я сказал вам об этом минуту назад! — ответил Виктор, теряя терпение.
— Я не сомневаюсь в искренности ваших намерений, дорогой мсье, — сказал чиновник, опуская перо в чернильницу, — но согласитесь: нельзя начинать поиски пропавшего по запросу друга. Каждый гражданин Республики имеет право передвигаться в любом направлении. Скорее всего, дама отлучилась, не поставив вас об этом в известность, такое случается каждый день.
Вполне удовлетворенный собственной логикой, он уткнулся в бумаги.
— Так вы отказываетесь принять мое заявление?! — рассвирепел Виктор.
— Повторяю, дорогой мсье, вы ей не ее муж и не родственник. Вряд ли вам это известно, но мы каждый год регистрируем от сорока до пятидесяти тысяч заявлений от членов семей пропавших. Большинство провинциалов отправляются в Париж и пропадают без следа. Мы перегружены…
— Мне так не кажется! Прощайте, мсье, и спокойной вам ночи! — воскликнул Виктор и на прощанье сердито хлопнул дверью.
Он успокоился, только оказавшись на мосту Искусств. На площади Института он купил газеты и пролистал их в поисках упоминания о смерти Денизы, но ничего не нашел.
Виктор поднялся к себе, не заходя в магазин. Таша допивала кофе. Она ничего не спросила и выслушала его путаные объяснения молча.
— Ты крепко спала, и я не стал тебя будить, а мне нужно было отправиться на набережную Сен-Мишель, к папаше Дидье, он букинист, специализируется на торговле афишами, но время от времени к нему попадают старинные издания, и он попросил оценить одно собрание сочинений…
— И ты совершил удачную покупку?
— По правде говоря, нет, все тома были слишком потрепанные, но папаша Дидье пригласил меня в кафе, а там я встретил приятелей — собратьев по цеху, и…
— Все ясно. Мне нужно показать еще несколько эскизов издателю, ты будешь дома вечером?
— Надеюсь…
Таша подошла к Виктору, поднялась на цыпочки, поправила упавшую ему на лоб прядь волос и поцеловала.
— Я побежала, увидимся.
Она упорхнула, а Виктор спустился в магазин, где Жозеф расставлял на полке полное собрание сочинений Ретифа де ла Бретона.
— Это невозможно продать, — буркнул он, увидев своего патрона, но тоже ничего не сказал по поводу его отсутствия в час открытия магазина и не вернулся к сюжету о Денизе.
Виктор обошел стеллажи, взял в руки одну книгу, другую, потом вдруг заинтересовался свежим изданием Дидро, провел пальцем по затылку Мольера и был удовлетворен, не обнаружив на нем пыли. Через десять минут он не выдержал.
— Я вернусь через час, — коротко бросил он Жозефу.
— Хорошо, патрон.
Дверной колокольчик звякнул, выпуская Виктора на улицу, и из задней комнаты тут же появилась Таша.
— Поспешите, Жозеф, и будьте осторожны.
— А если он возьмет фиакр?
— Вы что-нибудь придумаете. Не упускайте его из виду ни на мгновение, меня волнует только одно — чтобы с ним ничего не случилось. Деньги у вас есть?
— Не волнуйтесь и положитесь на меня, я не подведу.
Жозеф надвинул кепку на глаза и кинулся догонять направлявшегося к Сене хозяина.
Виктор пристально вглядывался в зияющее провалами окон здание. Он пересчитал высокие аркады и колонны. Счетная палата, где когда-то соседствовали Министерство торговли и Министерство общественных работ, была мечтой для любителя античности: классические формы, заросшие зеленью развалины. Но Виктору, воспитанному на английской культуре, это здание больше напоминало замок с привидениями, которые так любила описывать Анна Радклиф. Закопченные каменные стены, обрушившаяся кровля, выбитые стекла и — странная деталь — трепещущий на ветру обрывок шторы на одном из окон, которая дополняла ощущение запущенности и таинственности.
— Замок Синей Бороды, — сдавленным голосом пробормотал Виктор, направляясь к улице де Лилль.
Он позвонил в дверь привратницкой. Бдительная консьержка впустила его только после того, как внимательно изучила визитку.
— Извините за беспорядок, я как раз начала уборку.
— Я ищу старика с длинными седыми волосами. Хочу отблагодарить его за то, что украсил цветами могилу моей жены на Пер-Лашез.
— А, это папаша Моску. Я его давненько не видела, должно быть, отсыпается после запоя. Скоро появится, не сомневайтесь.
— Покажите, где он обретается, я оставлю ему немного денег.
— Простите, мсье, не могу, он разозлится. В конце прошлой недели кто-то устроил в его комнате такой разгром! Беднягу это так поразило, что он позвал меня. Видели бы вы этот кошмар! Помню, я напугалась, когда увидела в Лувре «Плот Медузы», но тут меня просто ужас охватил. Будто ураган прошел. А папаша Моску выглядел так, словно призрак увидал, ну да, призрак, хотя с его-то ремеслом… Готова поклясться, что в этом деле нет ничего сверхъестественного. У нас тут шляются молодые бездельники, обжимаются в кустах с девицами — позади дома настоящие дебри. Вот они-то смеху ради и устроили погром… Я сказала полицейским, но что им до моих слов, у них хватает дел поважнее. Приберегите ваши деньги, папаша Моску их все равно пропьет.
Она проводила Виктора на крыльцо и уже собиралась уйти к себе, но спохватилась:
— Погодите, я кое-что вспомнила, сегодня ведь среда, так что, если хотите его поблагодарить, сходите в Тампль. Он там что-то покупает, перепродает, болтает с приятелями, а потом отправляется есть суп к мамаше Бриско на улицу де ла Кордери, в «Бриско, не останешься без обеда». Там его и найдете.
На беду Жозефа, добравшись до набережной д'Орсэ, Виктор взял фиакр.
«И что мне теперь делать? — задумался юноша. — Мадемуазель Таша будет в ярости. Ладно, слежку я прекращаю, но в эти развалины наведаюсь. Ей богу, дыр там больше, чем в швейцарском сыре!»
Лавочки были слишком тесными и темными, чтобы старьевщики могли выставлять там свой товар, вот они и раскладывали вещи прямо на тротуарах. Папаша Моску азартно торговался за помятый рожок с продавцом, предлагавшим публике старую военную форму, ржавые шпаги и лохмотья, которые выдавал за наряды императрицы Евгении. Последнее слово осталось за папашей Моску. Он с довольным видом засунул инструмент в глубокий карман и направился к заведению мамаши Бриско.
Потолок в маленьком зале был низкий и закопченный, столы и лавки стояли тесно. Кое-кто из посетителей дремал, другие играли в карты и домино. Огромная металлическая печь отапливала зал. Здесь подавали луковый суп — фирменное блюдо заведения. Женщина с курчавыми седыми волосами и могучей грудью, шаркая носами, обносила посетителей горшочками. Это и была хозяйка заведения мамаша Бриско.
— А вот и наш папаша Лашез! — громогласно поприветствовала она вошедшего старика. — Садись поближе к огню! Хочешь супу?
Не дожидаясь ответа, она поставила перед ним дымящийся горшочек.
— Надеюсь, хлеб ты принес? Не забыл, что я тут хлеба не подаю?
— Обойдусь. Подай мне полсетье
[16] красного.
— Слушаюсь, мой генерал.
Съев суп и выпив вино, папаша Моску осоловел и, когда хозяйка похлопала его по плечу, едва не свалился со стула от испуга.
— Готовь денежки, старик, ты последний, все разошлись, я закрываю лавочку.
— Мне нужен твой совет, красавица. Я хочу избавиться от одной фамильной драгоценности…
— Показывай. — Она поднесла кольцо к свету. — Мне нравится. Где ты его стянул, старый прохвост?
— Получил в наследство от родственницы.
— Ври кому-нибудь другому. Я его возьму, но вместо денег буду месяц кормить тебя до отвала, идет?
Они затеяли долгий спор, и старик одержал победу: месяц превратился в три. Виктор наблюдал за посетителем и кабатчицей через окно. Он обрадовался, что отыскал папашу Моску, и решил дождаться его, укрывшись в сарае. Ждать ему пришлось почти полчаса: старик вышел в тот самый момент, когда Жозеф выскочил из фиакра на другом конце улицы.
Не подозревая, что за ним следят, папаша Моску направился к Тамплю. За ним по пятам следовал Виктор, которого, в свою очередь, «вел» Жозеф.
Старьевщики зазывали покупателей, нахваливая свой товар:
— Отличное пальто! Взгляните на этот потрясающий фрак, мсье!
Сытый и довольный, папаша Моску на ходу приветствовал знакомых. Он как будто кого-то искал. Неожиданно он врезался в собравшуюся вокруг разносчика толпу, вынырнул рядом с полицейским и принялся кашлять, что-то невнятно бормоча, а потом отхаркался в сторону второго агента. Виктор застыл перед грудой подсвечников и не заметил Жозефа, наблюдавшего за происходящим из-за штабеля матрасов. Стражи порядка призвали на помощь своего бригадира.
— Что случилось? — спросил он.
— Вообразите, шеф, этот человек нарочно кашлянул мне в лицо. Я спросил, в чем дело, а он ответил: «Не собираюсь с тобой разговаривать!» — и толкнул моего товарища.
— Я сразу понял, что этот тип — смутьян, — подхватил его напарник. — Когда я подошел, он сплюнул в мою сторону. Я приказал ему прекратить, а он заорал: «Грязный легавый! Разве не видишь, что я болен?»
Бригадир смерил папашу Моску строгим взглядом.
— Что скажете в свою защиту?
— Простите, полковник, бронхи у меня забиты…
— Разве это дает вам право харкать в лицо служителям правопорядка?
— Со всем моим уважением, командир, но кашель ведь не сдержишь!
— Можно прикрыть рот ладонью! Кроме того, вы, если не ошибаюсь, назвали моего подчиненного «грязным легавым»!
— Я?! Да никогда в жизни, император мне свидетель! Я всего лишь посетовал на собственные несчастья и хворобу!
— Вы усугубляете свою вину, поминая императора. Забираю вас в участок, там уж я вылечу вашу простуду.
Папаша Моску воззвал к окружающим, и Виктор едва успел спрятаться за кучей тряпья.
— Какая несправедливость! — вопил старик. — Это все из-за Груши! Это он сказал: «Легавый! Грязный легавый!» — и удрал, а я расплачиваюсь!
На самом деле папаша Моску был страшно доволен, что полицейские отведут его в участок, но продолжал ломать комедию.
— Бедняга чокнутый, а они его загребли, какой позор! Инфлюэнца есть инфлюэнца! — воскликнула одна из старьевщиц.
Раздались свистки и улюлюканье, шуточки и насмешки. Жозеф увидел, что Виктор присоединился к толпе зевак, сопровождавшей папашу Моску, и, напомнив себе девиз Лекока: «Тот, кто вовремя стушевался, видит яснее, выйдя из тени», решил применить его на практике.
Виктор дождался, когда зеваки разошлись, вошел в комиссариат и поинтересовался у дежурного судьбой старика.
— Не беспокойтесь, проведет ночь в камере и успокоится. Учитывая погоду, так для него же будет лучше.
Виктор поблагодарил дежурного и вышел на улицу, решив вернуться на рассвете и забрать старика. Небо стало свинцовым, на грязных тротуарах таяли снежинки. Виктор зажал трость подмышкой, сунул руки в карманы и пошел прочь. Вслед ему из-под козырька подъезда смотрел худенький лицеист.
— Погода совсем рехнулась, — проворчал Жозеф, вытирая ноги о коврик перед бюстом Мольера.
— Вы его потеряли! — воскликнула Таша.
— Меня едва не застукали, и я счел за лучшее скрыться, но, если хотите, могу вернуться… — ответил раздосадованный юноша.
Он сделал вид, что хочет обслужить двух рассматривавших новинки франтов, но Таша удержала его за рукав.
— Не сердитесь, я просто очень волнуюсь. Рассказывайте, прошу вас.
Жозеф дал ей детальный отчет.
— Не бойтесь, опасность патрону не грозит, я не дам его в обиду.
— Спасибо, Жожо, я знаю, что могу на вас положиться. Мне пора. Напомните мсье Легри, что мы с ним встречаемся вечером в «Золотом солнце».
Таша ушла. Франты оплатили «Современные маски» Фелисьена Шансора, и Жозеф, вскарабкавшись на любимую лесенку, принялся просматривать газету «Сьекль» в поисках новостей о Денизе. Он ничего не нашел, но одна статья привлекла его внимание.
ТРУП В СЕН-НАЗЕРЕ
До сегодняшнего дня дело о неопознанном трупе, выловленном в Сен-Назере, никак не продвигалось, и звезда господ Горона и Лекашера готовилась закатиться. Однако позавчера рано утром инспектор Лекашер обратил внимание на короткую информацию в «Котидьен де Л'Уэст», в которой упоминалось о том, что докеры нашли бумажник, застрявший за контейнером в трюме № 2 грузового судна «Гоэланд». Бумажник находился в крайне плачевном состоянии, но в нем оказались документы, которые были отосланы в префектуру на экспертизу.
Жозеф вклеивал вырезку в блокнот, когда появился Виктор.
— Хорошо, что вы вернулись, патрон. Из-за непогоды клиентов у нас немного, так что есть время пораскинуть мозгами. Я все время думаю о Денизе…
— Я тоже, но пока ничего не ясно.
Беседу прервал приход любителя иллюстрированных изданий о бабочках. Жозеф шепнул Виктору:
— Мадемуазель Таша ждет вас в девять вечера в «Золотом солнце».
В оранжевом свете газовых фонарей по бульвару Сен-Мишель текла толпа спешащих по делам студентов, вольных преподавателей и разношерстных представителей богемы. Всех их как магнитом влекло на террасы кафе, где правила бал богиня грез и забытья, «зеленая фея» — абсент. Сидя за столиками, они лорнировали ножки проходивших мимо женщин, которые приподнимали юбки, чтобы не запачкать подол талым снегом. Представительницы прекрасного пола бежали на свидание или спешили на остановку омнибуса неподалеку от массивного фонтана.
Заурядная пивная «Золотое солнце» располагалась на площади, в угловом доме. Каждый вечер сюда устремлялись молодые длинноволосые бородачи в старомодной одежде. Некоторых сопровождали дамы легкого поведения с сильно напудренными лицами.
Виктор вошел. Лестница в глубине зала вела на цокольный этаж, расписанный Гогеном. В зале стояло пианино, на трехногих столиках и стульях лежали шляпы, воздух пропах трубочным и сигарным дымом и дешевыми духами. Художники ставили свои холсты у стены и заказывали выпивку стоявшему за стойкой хмурому бармену. Морис Ломье — в вишневой бархатной куртке, с большим бантом на шее и в мягкой фетровой шляпе — встречал их дружеским тумаком и предлагал садиться, повторяя одну и ту же шутку:
— Займи свое место, Цинна
[17]!
Раздосадованный Виктор повернулся, чтобы уйти, и увидел Таша. Она чудесно выглядела в бледно-зеленом платье с белым кружевным воротником и пышными, сужающимися на запястьях рукавами.
— Прелестный наряд, никогда его не видел, ты не…
— Это мамино платье, я берегу его для особых случаев.
Виктор почувствовал себя уязвленным: выходит, свидания с ним Таша не считает «особым» случаем.
— Оно слишком узкое в талии, приходится надевать корсет, и ровно через час я начинаю задыхаться, — добавила она, угадав его мысли. — Пойдем к пианино. Хочешь бокал шампанского от Мориса? Твое здоровье!
Виктор едва успел пригубить вино (не слишком охотно — из-за Ломье), как к ним подошел странный старик в дырявом плаще и сдвинутой на одно ухо шляпе, угодливо поклонился и попросил «мелочишки для бедняги Поля и сигарету для себя». От него несло перегаром. Виктор дал ему денег, чтобы отделаться.
— Что это за чучело? — спросил он, когда тот удалился.
— Великий пианист.
— Неужели?
— Видел его зубы? Черный, белый, черный, белый…
— Смешно! — воскликнул Виктор. — И все же, кто он на самом деле?
— Этот голодранец и бездельник отзывается на нежное прозвище Биби Лапюре.
— А какого «беднягу Поля» он имел в виду?
— Верлена. Биби Лапюре называет себя его секретарем, но на самом деле просто носит записочки любовницам поэта. А еще подрабатывает натурщиком на Монмартре.
— Верлен, — задумчиво произнес Виктор. — Великий поэт, возможно, гений. Жаль, что он губит здоровье в кабаках.
О, как вы мучите сердца!
Умру пред вашими ногами…
[18]
— О, да ты и стихи любишь? Я полагала, ты увлекаешься только полицейскими романами.
— Мы знакомы меньше года! Неужели ты полагаешь, что успела хорошо узнать меня, если…
— Я хочу представить тебя моей новой подруге, — перебила его Таша. — Мадемуазель Нинон де Морэ, мсье Виктор Легри.
Он поднял глаза. Перед ним стояла стройная молодая женщина в собольей шапочке на черных волосах и длинных, до локтя, перчатках. Он поцеловал ей руку и успел заметить упругую округлую грудь в вырезе платья, влажные губы и миндалевидные, искусно подведенные глаза.
— Рад знакомству, — пробормотал он.
— Идем, я покажу, какие картины отобрала для выставки, — предложила Таша.
— Чья это затея? Ломье?
— Нет, выставку придумал Леон Дешан, главный редактор «Ла Плюм». Два раза в месяц, по субботам, он устраивает публичные поэтические чтения.
Морис Ломье подскочил к Нинон.
— Ничего не говорите, я догадался! Вы пришли ради меня! — воскликнул он, обнимая молодую женщину за талию.
Нинон изящным движением развернула веер, отгораживаясь от взглядов мужчин. Виктор не мог не оценить ее манкого очарования.
— Морис, — обратилась к Ломье Таша, — вот четыре холста, к началу следующей недели я закончу еще пять.
— Плохо, дорогая, нам будет непросто решить, как развесить картины, если… Ладно, показывай. Снова эти твои крыши! — недовольно проворчал он. — Ты ведь знаешь, как я не люблю этот сюжет. Почему ты не выбрала обнаженную мужскую натуру? — Он отступил на шаг, оценивая общее впечатление. — Не хватает мужественности.
— Но Таша ведь не мужчина! — возразила Нинон.
Таша весело рассмеялась.
— Спасибо, что заступились за меня, Нинон, но только мужественность и впечатляет этих господ, внушая им уверенность в себе.
Морис спросил, взяв Виктора под руку:
— Ужели возможно принимать женщин всерьез, дорогой Легри? Что они создали? Только не называйте имен Сафо и мадам Виже-Лебрён
[19], умоляю!
Нинон улыбнулась Ломье и сладким голоском задала следующий каверзный вопрос:
— А сколько гениев-мужчин узнала бы История, проводи они две трети жизни за чисткой картошки и стиркой пеленок?
— Не может быть, чтобы вы имели в виду себя! — запротестовал Ломье.
— Где ты познакомилась с этой девушкой? — шепотом поинтересовался у Таша Виктор.
— В «Бибулусе», вчера вечером, она помогла мне отнести холсты к багетчику. Ты был в морге, так что… Она сказала, что хочет мне позировать, но я отказалась.
— Почему?
— Я не смогу ей платить. Нет, нет, я знаю, что ты хочешь предложить, это не обсуждается, и потом, женские «ню»…
— Жаль.
— Что значит — жаль?
— Я бы попросил дозволения присутствовать на сеансах.
— Хитрец! Можешь обратиться к Морису, если хочешь, — он уже подцепил Нинон. Подожди меня внизу, я сейчас приду.
Виктор сел за столик в зале, где старые мрачные холостяки поедали сосиски, и развернул газету. Почти все статьи были посвящены отставке канцлера Бисмарка, в рубрике «Происшествия» ничего нового не оказалось.
— Дорогой друг, не верьте ни единому слову из того, что там написано, они все выдумывают!
— Не возводите напраслину на прессу, именно ей мы обязаны нашим знакомством!
Виктор поднял глаза от газеты: Таша и Нинон сели рядом с ним.
— Таша рассказала мне о вас, — улыбнулась ему Нинон. — Книготорговец, фотограф, рыцарь без страха и упрека, сыщик-любитель… Не многовато ли для одного человека?
— Насчет четвертого пункта она явно преувеличивает, — заметил Виктор.
— Лицемер! — воскликнула Таша. — Признайся, что обожаешь лезть в дела, которые тебя не касаются, и прошлым летом даже рисковал из-за этого жизнью!
— Я оказался вовлечен в то дело помимо своей воли…
— Перестаньте спорить и просветите меня, — вмешалась Нинон. — Таша уверяет, что вы страстный любитель детективных романов. Мне они кажутся скучноватыми, написанными по одной и той же схеме: добро торжествует над злом, убийца пойман, осужден и казнен, обыватели могут спать спокойно.
— Не могу с вами согласиться, — покачал головой Виктор. — Преступление завораживает порядочных людей. Авторы этого жанра увлекают нас на тайные тропинки, туда, куда мы сами никогда не осмелились бы ступить в реальной жизни.
— Вот как? Что ж, возможно, я поторопилась с суждением. Но меня куда больше волнует путь мужчины к сердцу женщины. Помогите мне заполнить этот пробел, мсье Легри, договорились? — спросила Нинон, наградила Виктора долгим рукопожатием и удалилась.
— Пантера, — прошептал Виктор, глядя ей вслед.
— Денизу опознал кто-нибудь из близких? — спросила Таша.
— Нет.
— Что ты решил?
— Дай мне еще два дня.
— Ни днем больше, ясно? Не хочу делить жизнь с эквилибристом, который может в любое мгновение упасть и разбиться.
— Ты действительно хочешь разделить со мной жизнь? — поймал ее на слове Виктор.
— А что мы, по-твоему, делаем? — рассмеялась она.
По пути домой он вдруг решил отдать Таша гребни из слоновой кости, купленные на улице Пернель. Она растроганно поцеловала его и не сказала, что ненавидит такие вещи, потому что они олицетворяют для нее страдание и смерть. Виктор нащупал в кармане медальон Одетты: это маленькое сердечко хранило секрет, который ему предстояло разгадать.
Снег шел, не переставая.
Мадам Пиньо собрала тарелки и приборы и отнесла их на кухню.
— Наелся, сынок?
— Да, мама, — ответил Жозеф.
Она взяла стальную кочергу, поворошила в печи, подбросила туда лопату угля и подняла штору на окне.
— Снег все валит и валит, не погода, а чистый кошмар. Если не потеплеет, останусь завтра дома.
— И правильно, мама, в твоем возрасте не стоит переутомляться.
— Не волнуйся, я выдержу. Твой бедный отец говорил: «Ты крепкая, как скала, Эфросинья».
— Пойду в папин сарайчик.
— Только не сиди допоздна, сынок.
Жозеф закрылся в сарае и поставил керосиновую лампу на стол, заваленный патронами, гильзами, осколками снарядов, островерхими касками прусских артиллеристов. Все это осталось ему от отца, который во время Франко-Прусской войны служил в Национальной гвардии. Еще тут были старые книги, гравюры, кипы газет, тщательно рассортированные по годам. Здесь Жозеф сочинял свои истории, писал роман, изучал газетные вырезки и мечтал о Валентине де Салиньяк.
Этим вечером юноша был не в духе. Он сел и хмуро уставился на лежавшие перед ним свежие газеты. Дениза не шла у него из головы. Жозеф попытался сосредоточиться на романе, но не смог, закрыл школьную тетрадь, на обложке которой красовалось: «Любовь и кровь», открыл новый блокнот, написал на первой странице «Происшествие на кладбище Пер-Лашез», поставил дату: «Март 1890 г.», покусал кончик ручки и наконец решился:
Вернуться в Счетную палату.
Патрон что-то от меня скрывает.
Зачем он следил за этим стариком?
Жозеф взглянул на пришпиленную к стене фотографию, на которой были запечатлены двадцатилетняя мадам Пиньо и ее упитанный жених. Они стояли у парапета набережной Вольтера и улыбались в объектив.
— Ты прав, папа, нельзя опускать руки. Когда человек чего-то очень хочет, он добьется своего. Решено: я займусь этим делом всерьез, и ты будешь мной гордиться.
Глава седьмая
Солнце пригревало совсем по-весеннему, снег таял, но Жозефа это не радовало. Как может небо сиять лазурью, когда «Л'Эклер» напечатала на четвертой полосе:
УТОПЛЕННИЦА С КРЫМСКОГО МОСТА
Судя по результатам вскрытия, неизвестную, чье тело нашли три дня назад в канале Урк, сначала оглушили, и только потом бросили в воду. Убийство из ревности?..
Жозеф вырезал заметку и вклеил ее в новый, приготовленный с вечера блокнот, потом пролистал другие газеты и нашел в «Пасс-парту» еще одно упоминание о Денизе:
Утонувшая в канале Урк девушка получила жестокий удар по голове, а потом ее утопили. Тело до сих пор никто не опознал. Полиции пора принять меры для обеспечения безопасности граждан…
Наверху хлопнула дверь, Жозеф спрятал газеты и блокнот, торопливо натянул халат и схватил метелку. По лестнице спустилась Таша.
— Патрон не с вами? — спросил он, смахивая пыль со стола.
— Он ушел очень рано, сослался на встречу с клиентом, но наверняка солгал, уж слишком озабоченное у него было лицо…
— Можете не продолжать, сам знаю: брови чуть вздернуты, лоб наморщен, как будто вот-вот укусит.
Жозеф изобразил насупившегося бульдога, и Таша не удержалась от смеха.
— Думаю, он опять играет в сыщика-любителя, и мне это совсем не нравится, — прошептала она.
«Можно подумать, это нравится мне! — мысленно возмутился Жозеф. — Патрон обещал, что я буду в курсе дела, а сам меня ни во что не посвящает! Вот и доверяй после этого людям!» Жозеф был так зол, что стукнул метелкой по макушке Мольера.
«Я еще покажу, на что способен. После обеда я “заболею”. За пять лет беспорочной службы я ни разу ни на что не жаловался, так что… Пусть только попробует сказать, что я шатаюсь без дела! И мадемуазель Таша заодно помогу!»
Жозеф продолжил уборку, бормоча себе под нос угрозы и упреки в адрес Виктора.
— В чем дело, Жожо? — спросила Таша.
— Я вчера простудился, когда следил за мсье Легри, я разбит, я болен — вот в чем дело!
Юноша собирался продолжить, но тут его внимание привлек остановившийся у магазина фиакр. Он подошел к витрине.
— Ну и ну! Мадемуазель Таша, смотрите-ка, кто вернулся!
Виктор покинул комиссариат в самом что ни на есть отвратительном настроении. Он опоздал! Папашу Моску освободили за двадцать минут до назначенного времени, потому что камера понадобилась для пятерых грабителей, которые ночью обчистили какую-то квартиру. Виктор взглянул на часы: пять минут десятого. Нужно возвращаться в магазин, иначе Таша рассердится. Он купил свежий номер «Сьекль» и развернул газету.
Папаша Моску сидел у печки, уплетал кровяную колбасу с картошкой и рассказывал гризеткам и местным пьянчужкам, как провел ночь в участке, в компании дам легкого поведения.
— Одна была немолодая и ужасно толстая. Она сказала, что так наголодалась при пруссаках, питаясь крысами и земляными грушами, что теперь ест за четверых. Дай ей бог здоровья!
Старик глотнул вина.
— Ее имя мадам Сен-Жен, так звали подругу Бонапарта. Ох и любил же он женщин, а от своей Богарне был просто без ума… — Папаша Моску чуть не подавился: имя Жозефины, которым он наградил «свою» покойницу, прояснило его затуманенные винными парами мозги, и он вспомнил, где зарыл труп: там же два куста сирени, которые он пересадил на могилу.
Кто-то начал колотить его по спине, но он отмахнулся и вскочил. «Нужно собирать вещи и смываться, не то я пропал». Старик уже сделал несколько шагов к двери, но, услышав очередную насмешку в свой адрес, вернулся к столику:
— Я не кролик! — взревел он.
— Нет, ты — свинья! — подхватил чей-то пьяный голос.
— Знаю, знаю, Груши, ты затаился и поджидаешь меня! А вот шиш тебе! Я вернусь незаметно, когда стемнеет, и ты меня не заметишь, ведь ночью все кошки серы.
— И круглы, как бочки! — заорал другой пьяница.
— К бою! — завопил папаша Моску. — Я отсижусь тут, в тепле, с бутылочкой, а если кто против… — Он привстал, но не удержался на ногах и рухнул на табурет, выкрикнув во все горло: — Тому я проткну саблей бок!
Виктор остановился перед отелем на площади Республики как вкопанный, уставившись в газету, которую держал в руках. Прохожие толкали его, ругались, обзывали придурком, но он ничего не замечал. Все его внимание было поглощено крупным заголовком на газетной полосе:
УБИЙСТВО НА КАНАЛЕ УРК
Молодая утопленница, выловленная моряком в канале Урк, получила смертельный удар по затылку, прежде чем попала в воду.
Виктор обессилено опустился на лавочку, газета выскользнула у него из рук. Так, нужно все обдумать, и быстро. «У меня нет ничего, кроме смутных догадок и расплывчатых предположений. В тот день, когда я отправился к Таша, чтобы поговорить с Денизой, мадам Ладусетт сообщила, что девушка в семь утра ушла в бюро по найму. Я поднялся в мансарду около десяти и увидел, что там все перевернуто вверх дном, следовательно, комнату Таша обыскали не
после, а
до убийства, между, скажем, половиной восьмого и моим появлением».
Виктор смотрел на роющегося в отбросах бездомного пса и думал, что, вероятно, Жозеф прав, следует взять на вооружение методы героев Габорио: «Я оставляю легкие ребусы детям. Мне же нужна необъяснимая тайна, чтобы я мог ее разгадать…» «Прими логику мсье Лекока, — сказал себе Виктор, — представь себя преступником: что бы ты сделал на его месте? Присланное пневмопочтой письмо выманило Денизу из комнаты Таша, ты прячешься где-то поблизости и подстерегаешь ее. Она выходит. “Дамы в голубом” при ней нет. Ты удивлен. Идешь следом, проверяешь. В узелке не может быть плоского прямоугольного предмета размером тридцать на сорок сантиметров. Должно быть, девушка оставила “Даму” наверху. До назначенной тобой встречи еще много времени, ты возвращаешься в дом № 60, незаметно для консьержей пересекаешь двор, поднимаешься. Находишь под ковриком ключ. Входишь. Тщательно все обыскиваешь. Ничего! Между тем, ты уверен, что Дениза картину не забирала. Ты бежишь к церкви Сен-Жак-Сен-Кристоф. Ты в бешенстве. Видишь Денизу. Начинаешь ей угрожать, спрашиваешь, где картина, куда она ее спрятала? Дениза напугана и все отрицает, она боится быть уличенной в краже. Ты отнимаешь у нее узелок, она убегает, ты догоняешь ее, наносишь удар, она падает. Она мертва. Вокруг никого. Ты сбрасываешь тело в воду, роешься в ее вещах… Увы, мерзкая девчонка тебя провела, ты в растерянности…»
Виктор вскочил.
«Убийца не нашел “Даму в голубом”, он все еще ищет картину! А раз он ее ищет… Надо все проверить».
Виктор устремился к стоянке фиакров.
Ничего не найдя в мансарде, Виктор сбежал вниз по лестнице, но увидел во дворе Хельгу Беккер на велосипеде и остановился, закуривая сигарету. Он проверил каждый холст, предположив, что «Дама в голубом» спрятана в раме одного из них, но ее нигде не оказалось.
Виктор постучал в дверь привратницкой, и на пороге появилась мадам Ладусетт со шваброй в руке.
— А, это вы, мсье Легри! Я беспокоюсь из-за ключа, это вы его взяли? Мадемуазель Таша была в ярости, уж вы мне поверьте.
— Знаю, знаю, все уже улажено. Вы не помните, какие вещи были при маленькой служанке, когда она выходила из дома?
— Почему вы спрашиваете? Она что-то украла?
— Ни в коем случае, просто мне нужно знать, не прихватила ли она по ошибке плоский длинный сверток, похожий на толстую книгу или картину.
— Плоский и длинный? Нет, я ничего такого не заметила. При ней был только матерчатый узелок. Если она стащила картину, я тут ни при чем! Нечего пускать к себе жить кого ни попадя!
— Вы правы, мадам Ладусетт, я поменяю замок.
Виктор вошел в магазин и увидел за прилавком Таша, она листала монографию о Рембрандте.
— А где Жозеф? — спросил он.
— Он заболел, и я отправила его домой.
— Заболел?!
— Да. Надеюсь, это не инфлюэнца.
— За пять лет с ним такого ни разу не случалось.
— Кстати о «случалось»: к нам присоединился мсье Мори.
Виктор обеспокоенно взглянул в сторону лестницы.
— Он тебя видел?
— Конечно, я же не невидимка.
— Что ты ему сказала?
— Я сказала: «Здравствуйте, мсье Мори. Надеюсь, путешествие было приятным».
— И что он ответил?
— «Немного укачивало, но все прошло как нельзя лучше».
— Ты надо мной смеешься.
Таша взглянула на него с иронией.
— Вижу, его мнение занимает все твои мысли. А ведь тебе тридцать лет, ты давно уже совершеннолетний. Думаю, в свете последних событий ты попросишь меня удалиться?
— Как ты можешь так дурно обо мне думать? Я хотел, чтобы ты сюда переехала. Ты тут у себя дома и никуда не уедешь! Удалиться… да за кого ты меня держишь? Плевать я хотел на мнение Кэндзи! — запальчиво выкрикнул Виктор.
Таша подошла и приложила палец к его губам.
— Успокойся. Я в любом случае должна вернуться к себе, нужно подготовить последние полотна для багетчика, скоро открытие выставки…
Виктор схватил ее за руку:
— Я тебе запрещаю.
— Запрещаешь выставляться? — ледяным тоном переспросила она, отстраняясь.
— Возвращаться в мансарду, пока я не сменю там замок. Дениза унесла ключ, а ее… Ты ведь можешь подождать до завтра?
Виктор выглядел по-настоящему встревоженным, и Таша смягчилась:
— Напрасно ты думаешь, что я здесь
у себя, я даже не совсем
у тебя: мы оба
у него. Но я останусь еще на один день, а сейчас пойду в «Бибулус». До вечера.
Она вышла и помахала ему через стекло. Виктор решил немедленно поговорить с Кэндзи.
Его компаньон, одетый в домашнюю куртку и серые брюки в черную полоску, сидел за столом и писал письмо.
— Истинно британская элегантность! — воскликнул Виктор, пожимая ему руку.
Он был рад видеть Кэндзи, хотя никогда бы в этом не признался.
— Я привез вам бархатный жилет, — сказал Кэндзи, — он там, в пакете на буфете, а Жожо — галстук из лилового шелка. Наш помощник плохо себя чувствует.
— Знаю, Таша мне сказала, — ответил Виктор, разглядывая подарок. — Спасибо, Кэндзи, вещь просто изумительная!
Он осмелился произнести вслух имя любовницы, и теперь путь к отступлению был закрыт. Но его друг и компаньон ловко перевел разговор на другую тему:
— Вы наверняка удивлены моим стремительным возвращением. Я быстро разобрался с делами в Лондоне, так что не было никакого смысла бродить в густом тумане.
«Бедняжка Айрис! — подумал Виктор, вспомнив прелестное юное личико с фотографии. — Кэндзи уделяет ей слишком мало времени. Наверное, нелегко любить человека, который полностью контролирует свои чувства!»
— А вы наверняка удивились, найдя здесь Таша?
Кэндзи невозмутимо закончил письмо, поставил внизу подпись, сложил листок и только после этого ответил:
— Да.
— Все очень просто. Я… Она…
Виктором овладел неясный страх: как в детстве, когда он таскал из коробки печенье и сваливал все на собаку. Сказать правду значило поставить под угрозу согласие и взаимопонимание между ним и крестным.
— Хозяйка выгнала ее из мансарды… Мадемуазель Хельга Беккер хочет поселить там кузину из провинции.
— А разве она вправе выселять жильца, который исправно вносит арендную плату?
— Как видите… Таша останется тут всего на несколько дней, пока подыщет себе новую мастерскую.
Кэндзи улыбнулся, разгадав уловку, и надписал на конверте адрес. «Мисс Айрис Эббот» — прочел Виктор, раздосадованный, что его, как школьника, поймали на лжи. Звонок колокольчика над дверью магазина принес ему избавление.
— Пойду вниз, нужно обслужить клиента.
— Я скоро к вам присоединюсь, — пообещал Кэндзи.
К прилавку важно прошествовал мужчина в котелке с моноклем в глазу.
— Добрый день, мсье. У вас есть «Иудейская Франция» с иллюстрациями Эдуарда Дрюмона
[20]? Я ищу это издание, но, судя по всему, тиражи
распроданы.
— Зачем вам она? — поинтересовался Виктор, чувствуя, как в душе поднимается ярость.
— Чтобы быть в курсе, мсье, чтобы быть во всеоружии…
— Я торгую книгами авторов, которыми восхищаюсь, а не теми, кто сеет ненависть и искажает истину. Господин Дрюмон в этом смысле способен дать сто очков вперед всем остальным. Прощайте, мсье.
— И этот человек называет себя книготорговцем! Да вы и на бакалейщика не тянете!
Разгневанный клиент с такой силой толкнул дверь, что колокольчик захлебнулся звоном. Виктор облокотился о прилавок, испытывая облегчение оттого, что выпустил пар.
— Глупцов на земле не меньше, чем рыбы в море, — прокомментировал из своей комнаты Мори.
Виктор улыбнулся. Его старший друг ненавидит низость и всегда едко высмеивает. За это можно простить ему природное высокомерие.
Он пролистал «Пасс-парту» и наткнулся на статью о деле Гуффе. Речь в ней шла о злоключениях двух французских полицейских в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Они безуспешно гонялись за неким Мишелем Эйро, предполагаемым убийцей гусара, расчлененный труп которого нашли в Миллери засунутым в мешок. Статью написал Исидор Гувье. Виктор вспомнил невозмутимого крепыша, с которым познакомился год назад на Всемирной выставке. Хваткий репортер когда-то работал в префектуре полиции, он может дать ценный совет.
Виктор поднялся на второй этаж со словами:
— Мне нужно отлучиться, но я скоро вернусь.
Кэндзи уже надел сюртук и заканчивал повязывать галстук.
— Уже иду, — ответил он. — Можете купить мне «Фигаро» и отправить это письмо?
Виктор взял конверт, тронутый оказанным ему доверием. Возможно, Кэндзи смирится с продолжительным пребыванием Таша в их доме? «А я смирился бы с присутствием Айрис?» — спросил он себя.
В дальнем зале «Бибулуса» на помосте сидела новая модель. Таша с удивлением узнала в ней Нинон де Морэ. Из всей одежды на той были только длинные черные перчатки. Скрестив ноги, выгнув спину и выставив вперед грудь, она была словно языческая богиня, а вокруг толпились мужчины, которым карандаш, уголь и кисти заменяли курильницы с благовониями. Стоявший прямо напротив Нинон Морис Ломье то и дело прерывал работу и подходил к натурщице с просьбой повернуть шею или закинуть руку за голову. Он был так поглощен делом, что не обращал внимания на шуточки учеников.
Таша пробиралась среди мольбертов, поглядывая по сторонам. Набросок Ломье был сделан в обычной для него манере, сочетавшей стилизованный под Энгра рисунок, ровные, как у Гогена, мазки и витражную технику клуазонэ. Сама Таша любила Ренуара и Моне, ей были интересны их эксперименты со светом, тогда как Морис Ломье был адептом тени.
Он был так увлечен работой, что даже не заметил ее появления. «Он штампует “произведения искусства” и напичкан теориями, — сказала себе Таша, — а мне необходим идеал, я хочу выразить себя».
Она достала блокнот и набросала карикатуру на Ломье. И тут он ее наконец увидел:
— На помощь, дорогая! Мне нужно с кем-нибудь разговаривать, пока я изображаю «женщину-змею», иначе сойду с ума!
Таша сделала вид, что закашлялась, чтобы не расхохотаться. Нинон тоже хихикнула и воскликнула дрожащим голосом:
— Он думает, я комок глины! С меня хватит, мне холодно, я устала и хочу есть!
Растрепанный Ломье умоляюще взглянул на нее:
— Дорогая, прошу вас, не шевелитесь!
— У меня все тело затекло, я должна размяться! Идемте, Таша…
Нинон спрыгнула с помоста, не обращая внимания на негодующие вопли художников, завернулась в жемчужно-серый шелковый пеньюар и направилась за ширму, чтобы одеться.
— Это несерьезно, Нинон! — возмутился Ломье. — Мы начали всего час назад.
— Всего! Вы терзали меня
целый час! Это слишком долго. Я упаду в обморок, если немедленно не поем.
— Обещайте, что потор
опитесь… — со вздохом сдался Ломье.
— Мы устроим девичник, и я вернусь, обещаю, друг мой.
— Девичник? Да они исчезнут на целый день! — воскликнул один из учеников, глядя вслед удалявшимся под ручку Нинон и Таша.
…Девушки сидели за столиком в ресторанчике на улице Толозе и смеялись, вспоминая негодование художников.
— Спасибо, что представили меня Морису, — сказала Нинон, разрезая отбивную. — Он хорош собой и довольно мил.
— Представила? Я тут ни при чем, он сам вцепился в вас, как клещ.
Нинон положила себе вторую порцию пюре.
— Чем вы занимались раньше? — спросила Таша.
— Раньше? Разве это важно? Для меня имеет значение только сегодняшний день. Знаете, дорогая, есть две вещи, которых я не могу себя лишить: мужчины и деньги. Это непременное условие моего счастья. Без денег женщина не может чувствовать себя свободной.
— Но ведь именно мужчины зачастую лишают нас независимости, вы так не думаете?
— Нужно уметь ими пользоваться, как они пользуются нами. Они подобны вещам, замечательным вещам, которые служат для удовлетворения наших желаний и становятся «неудобными» в тот самый момент, когда вознамериваются управлять нами. Я вас шокирую?
— Нет и… да. А любовь? Как же быть с любовью?
— С любовью? Любовь изобрели мужчины, чтобы подчинять нас своим правилам. Поверьте, Таша, если женщина влюблена, но бедна, она попадает в зависимость от мужчины.
— Я не разделяю эту точку зрения, и кроме того, если ты одержим страстью к искусству, деньги отступают на второй план.
— Не выдумывайте, Таша. Почему нельзя зарабатывать искусством? За любовь же часто платят.
— О, но ведь платят…
— Проституткам? Безнравственным женщинам, которых презирают приличные люди? Но разве проституция — не историческое наследие человечества? Разве художник не продается, когда обменивает свой талант на деньги? А актер, произносящий чужие тексты? А журналист, пишущий на потребу публике? А книготорговец, берущий с читателей деньги за произведения, которых не писал?
— Вы имеете в виду Виктора?
— Виктор. Победитель. Красивое имя. Но берегитесь, его победа может дорого вам обойтись.
— Вы не убедите меня, Нинон. Я люблю просыпаться рядом с ним, в его объятиях.
— Я тоже люблю просыпаться рядом с мужчиной. Но при условии, что потом он встает и уходит.
— Прекратите. Вы подрываете мои моральные устои! — рассмеялась Таша.
— Я была бы счастлива это сделать. Кстати, я нахожу совершенно аморальным, что вы единолично пользуетесь вашим книготорговцем.
— Берегитесь, Нинон, я ревнива! — шутливо предупредила Таша, но тут же спросила себя: «Неужели я уподобилась Виктору?». — Если хотите очаровать книготорговца, советую обратить внимание на его компаньона Кэндзи Мори, — добавила она.
— Он японец?
— Да. Кажется, он избегает женщин.
— Предпочитает мужчин?
— Нет, конечно. Он увлечен одной молоденькой англичанкой.
— Вы возбуждаете мое любопытство. Он хорош собой? Обаятелен?
— У Кэндзи есть свой шарм — конечно, если вы любите мужчин в возрасте и при этом не слишком любезных.
— Что люблю — так это бросать вызов. Спорим, я приручу вашего женоненавистника? У меня еще никогда не было любовника-азиата. И детектива-любителя, кстати, тоже. — Нинон подмигнула Таша. — Кстати, а какую задачку разгадал этот ваш Победитель, помните, вы что-то говорили…
— В прошлом году на Всемирной выставке произошло несколько убийств. Он их раскрыл. Об этом писали все газеты.
— Я провела прошлый год в Испании. Но, — Нинон приложила палец к губам, — это тайна за семью печатями. Я заплачу, нам пора возвращаться. — Она поднялась и отодвинула стул. — Вы не будете доедать?
Таша не ответила. Отбивная показалась ей совершенно безвкусной. Она все бы отдала за соленый огурец и борщ со сметаной.
Виктор шел по улице Круа-де-Пти-Шамп. Он не заходил в этот квартал с тех пор, как Таша перестала работать на «Пасс-парту». Странно было снова оказаться здесь. Ему вдруг показалось, что они с Таша встретились только вчера.
— Цикорий, цикорий, дикий цикорий!
Виктора обогнала зеленщица с тележкой. Он вышел на галерею Веро-Дода, к решетке, за которой начинался ряд ведущих к зданию редакции дворов. Мальчишка с ранцем за спиной плевал в лужу, с интересом разглядывая, как от плевка расходятся круги, девчушка играла с куклой — подбрасывала ее вверх, ловила, укачивала, чтобы утешить, другая собирала растущие между булыжниками мостовой одуванчики. «Когда я в последний раз дарил Таша цветы?» — подумал Виктор.
Он вдруг увидел идущую навстречу женщину в соломенной шляпке с веточкой желтой акации на полях. Она была одета по последней моде, платье подчеркивало тонкую талию и высокую грудь. Да уж, Эдокси Аллар, секретарша из «Пасс-парту», умела себя подать! С тех пор, как эта женщина-вамп положила на него глаз, Виктор избегал встречаться с ней наедине. Он поспешно отвернулся к стене, где висел старый рекламный плакат, и сделал вид, что внимательно читает объявления:
БАЛ В МУЛЕН-РУЖ
Площадь Бланш
Каждый вечер и по воскресеньям
Большой сбор по средам и субботам
Эдокси Аллар проплыла мимо в облаке одуряющего аромата. Виктор решился повернуться, только когда хищница, по его расчетам, отошла на приличное расстояние, но не был, уверен что успеет пригласить Исидора Гувье выпить прежде, чем она вернется, и отправился обедать в «Восточное кафе» на углу улицы Пти-Шамп и авеню Опера.
«Не зайти ли к Одетте? Бульвар Оссман в двух шагах… — размышлял он, попивая кофе. — Вдруг она вернулась?». В глубине души Виктор знал, что это не так, а при мысли о новой встрече с Ясентом… Он оплатил счет и направился в сторону почты на улице Лувра.
Жозеф ходил взад-вперед по сарайчику, радуясь, что ему ловко удалось получить день свободы, и раздумывал, как будет вести расследование. Денизу убили, и убили из-за «Дамы в голубом». Старик-клошар, за которым следил патрон, сыграл какую-то роль в этой трагедии. Жозеф решил отправиться в особняк Счетной палаты и, по примеру героя Жюля Верна, приготовил соответствующее случаю обмундирование: шарф, кепку, твидовый пиджак прямого покроя — подарок Мори и кожаные коричневые ботинки. Лампы Румкорфа
[21] у Жозефа не было, пришлось ограничиться свечами и спичками. Он рассовал их по карманам, где уже лежали блокнот и карандаш, написал матери записку, прикрепил к стене у раковины и вышел из дома, воображая себя Лекоком. «Мне нужна борьба, чтобы проявить свою силу, и препятствия, чтобы их преодолевать», — повторял он, вышагивая по опустевшим набережным.
— Вот газета, которую вы просили купить.
Виктор положил номер «Фигаро» на заставленный каталогами стол.
— Прямо из типографии, пахнет свежей краской, — заметил Кэндзи, взглянув на часы.
Он встал и развернул газету, облокотившись на прилавок.
Виктор с любопытством взглянул на друга: в ежедневных выпусках Кэндзи читал исключительно литературную хронику. Загляни он через плечо Мори, удивился бы еще больше.
«Случится катастрофа, если я за двадцать четыре часа не найду помещение под мастерскую», — думал Кэндзи, просматривая колонку объявлений о сдаче внаем. Он опасался, что не сможет долго выносить присутствия Таша в своем доме, хотя отдавал должное ее такту и дружелюбию. Кэндзи отказывался поверить, что эта девушка для Виктора — не мимолетное увлечение. Он совершенно иначе представлял себе идеальную спутницу жизни приемного сына — покорной, сдержанной, заботливой, умеющей создать уют в доме, вести хозяйство и дела в магазине, образованной, но вовсе не творческой натурой. Ни одному из этих критериев Таша не отвечала. Кэндзи старался быть с ней любезен, но боялся, что она посеет раздор между ним и Виктором.
В магазин вошел Анатоль Франс, и Кэндзи оторвался от чтения, чтобы принять знаменитого писателя. Виктора снедало любопытство, и он попытался завладеть газетой, чтобы выяснить, что так заинтересовало Кэндзи, но тот опередил его и спрятал «Фигаро» в ящик стола. Разочарованный Виктор поклонился писателю и ушел к себе.
Войдя в квартиру, он подобрал с пола юбку, шаль и шпильки: Таша разбрасывала свои вещи, как Мальчик-с-пальчик — камешки в лесу. Разобранная постель благоухала росным ладаном, так же пахло в богемной мансарде на улице Нотр-Дам-де-Лоретт, когда он обыскивал ее в поисках «Дамы в голубом».
Совершенно упав духом, Виктор упал на кровать и зарылся лицом в пропитавшиеся запахом Таша простыни.
Вкусный аромат тушеного с овощами мяса щекотал ноздри Жозефа и дразнил его голодный желудок. Мадам Валладье отвечала на вопросы, снимая пену с бульона.
— Вы уверены, что его тут нет? — спросил Жозеф, прижимая кулак к бурчащему животу.
— Абсолютно. И меня это слегка беспокоит. Он устает от походов в Тампль и всегда быстро возвращается.
— Значит, они его не отпустили.
— Не отпустили? Кто не отпустил?
— Полицейские. Он вчера устроил скандал на тряпичном рынке, и жандармы его замели. Не волнуйтесь, долго старика не продержат. Мое почтение, мадам, — Жозеф поклонился и вышел из привратницкой.
«Какой милый юноша, — подумала мадам Валладье, — жаль, что мне не хватило смелости пригласить его поужинать!»
Жозеф добрался до набережной д'Орсэ, пройдя по улицам де Лилль и Бельшас. Он без особого труда забрался на росший на тротуаре клен, соскользнул по стволу и приземлился за оградой, ободрав ладони о колючки ежевичника. Уличные фонари освещали путь к развалинам дворца, Жозеф то и дело спотыкался, путаясь в зарослях плюща, и хвалил себя за то, что сообразил надеть походные ботинки. Он поднялся по лестнице и пересек квадратный зал с развороченным полом. Луна светила между железными балками, оплавившимися во время уничтожившего здание пожара. Жозефом овладел азарт покорителя Амазонии. Он шел по сводчатому коридору, топча проросшие сквозь пол сорняки, и строил грандиозные планы: «Как только доберусь до твоей территории, папаша Моску, окрещу ее, ну, скажем, островом Пиньо, жемчужиной архипелага… Святых Отцов
[22]!» Эти мечтания помогали ему отвлечься от мыслей об аппетитном запахе рагу мадам Валладье. Он споткнулся о нижнюю ступеньку лестницы и решил, что пора зажечь свечу. Язычок пламени трепетал на сквозняке, выхватывая из темноты лица на фресках. Ошеломленному Жозефу казалось, что они смотрят прямо на него. Женщина с приложенным к губам пальцем призывала его к молчанию. Полуобнаженный воин на противоположной стене отвязывал от дерева лошадей, нетерпеливо топчущих землю копытами. Жозеф осторожно пробирался наверх, вертя головой по сторонам, чтобы рассмотреть растрескавшиеся изображения. Названия на потускневших медных табличках едва читались: «Созерцание», «Закон, Сила и Порядок», «Война», «Мир, защищающий искусства и земледелие»… Он вспомнил фразу Теофиля Готье о художнике Теодоре Шассерьо: «Это индеец, учившийся в Греции». Живописные аллегории на темы античности пробуждали в Жозефе воспоминания о детстве, когда он запирался в отцовском сарайчике и читал волшебные сказки, объедаясь яблоками.
Бесконечно длинный коридор судебных исполнителей со сводчатым потолком и полуразрушенными перегородками, где на заросшем травой полу валялись ржавые железки, вывел Жозефа на открытую террасу. Подобно скалолазу, взирающему на мир с покоренной им вершины, он смотрел на крыши соседних домов, белые стены казармы на улице Пуатье и растущие во дворе частного особняка огромные платаны с птичьими гнездами. На горизонте тучи играли в догонялки с луной. Жозеф наклонился вперед, чтобы разглядеть парадный двор, и заметил, что стена заросла диким виноградом и плющом. У него закружилась голова, и он с трудом восстановил равновесие.
«Стоп, кратчайший путь нам не подходит!»
Он лег плашмя на живот, опустил руку со свечой вниз и разглядел отверстие в стене коридора, замаскированное выцветшей тряпкой.
«Будь я проклят, если это не убежище папаши Моску! Курс на первый этаж, вперед, марш!»
Проникнув за занавеску, Жозеф присвистнул от удивления: затейливый пейзаж острова Пиньо странным образом напоминал обстановку сарайчика на улице Висконти.
«Надо же, сколько в Париже чудес! Здесь так же здорово, как в слоне папаши Гюго! Вы только посмотрите на весь этот хлам! Военная ветошь, медали… Ух ты, книги! Так, посмотрим. Жюль Верн, «Вверх дном» — не читал. Ты нашел волшебное местечко, папаша Моску, за которое вряд ли платишь хоть су. Теперь надо оглядеться».
Юноша обошел помещение, пытаясь найти какие-нибудь указующие знаки, но не знал, на что именно обращать внимание. Свеча догорела, он зажег другую и обнаружил надпись, сделанную на стене над грудой одеял.
Где ты их спрятал?
А.Д.В.
Жозеф достал блокнот.
Обливаясь потом под теплой накидкой, папаша Моску брел по набережной д'Орсэ. Его одолевали сомнения, и он не знал, на что решиться.
«Чертова погода то и дело меняется, утром — зима, к вечеру — оттепель. Что же мне делать? Черт бы побрал эту треклятую жизнь! Я проголодался и пошел бы к Маглон, но если Груши устроил засаду в темноте — а мерзавец на это способен, — я пропал!»
Он с тоской думал о светлой, наполненной запахами вкусной еды кухне мадам Валладье. На плите наверняка стоит котелок супа, вкусного густого горохового супа, который так славно согревает кишки и нежно предает в объятия Морфея. Старик направился к улице Пуатье, но страх снова скрутил ему внутренности. Он остановился под фонарем и подумал, что отдал бы сейчас полжизни за встречу с полицейским патрулем.
«Ишь, размечтался! Небось бьют сейчас баклуши в участке, попивают винцо, играют в картишки. Когда честному человеку нужен легавый, его днем с огнем не сыщешь! Куда все подевались? Ни фиакров, ни прохожих!»
Тут он заметил у стены дома замотанную в шали и платки фигуру, облегченно вздохнул и направился к ней со словами:
— Прошу вас…
— Чего тебе надо?! — завизжала в ответ женщина. — Неужели нельзя оставить человека в покое?
Она заковыляла прочь, тяжело опираясь на палку, а папаша Моску лепетал ей вслед:
— Эй, не бойтесь, я просто хотел… Да подождите же, черт бы вас побрал!
Женщина исчезла. Старик так и не решил, как поступить.
«Не стоять же мне тут всю ночь! Решено! Рядом с моей Океанидой я буду в полной безопасности! А завтра, чуть свет, схожу проверить могилку Жозефины под большим платаном, положу туда ломонос и сирень, ей понравится. Ну же, Моску, тра-та-та-та, вперед, это тебе не Березина!»
Он согнулся пополам, чтобы пролезть в замаскированную кустом акации расщелину: этот тайный вход вел прямо во двор Счетной палаты. Чтобы подбодрить себя, старик распевал во все горло:
Утри слезы, красотка Фаншон,
Я приду и утешу тебя.
У меня остался один глаз,
но слава меня нашла…
Жозеф услышал вопли папаши Моску, поспешно задул свечу и попытался найти убежище в нескольких метрах от парадной лестницы.
Старик поднимался по ступеням, освещая себе дорогу фонарем. Вдруг тишину развалин разорвал ухающий крик. Жозеф подпрыгнул, сердце у него зашлось от страха.
— Это я, чертова птица! Ты что, своих не узнаешь? Постыдилась бы так пугать старика!
Папаша Моску пошел дальше, цепляясь за перила, и остановился передохнуть рядом с Океанидой.
— Ну что, красотка, все в порядке?
Дама с обнаженной грудью смотрела сквозь него невозмутимым, как стоячая вода, взором.
— Что глядишь глазами, как у мороженого судака? Это я, Моску, твой дружок!
Вокруг царило полное безмолвие. Старик слышал, как стучит кровь у него в висках, и не шевелился, угадывая рядом чужое присутствие. Слева от него мелькнула какая-то тень, и в то же мгновение перед глазами разорвалась яркая вспышка. Он увидел бесстрастное лицо Океаниды и перевалился через перила.
Жозеф почувствовал сотрясение металла, услышал глухой удар, инстинктивно пригнулся и нырнул под лестницу. Из-за туч выглянула луна, и он смог разглядеть склонившуюся над неподвижным телом тень. Он попытался втиснуться поглубже в нишу, но под ногой у него скрипнула щебенка, и тень распрямилась. Жозеф втянул голову в плечи и затаил дыхание. Тень двинулась в его сторону, но передумала и скрылась а темноте. Юноша стоял, не в силах сделать ни шага и едва дыша от пережитого ужаса. Выждав несколько минут, он вылез из укрытия и, то и дело пугливо озираясь, подошел к тому месту, где лежало
нечто.
Он не сумел сдержать крик, когда понял, что именно разглядывала тень:
— О нет, Боже, только не это!
Папаша Моску лежал на спине, глядя открытыми мертвыми глазами в пустоту, его рот был искажен предсмертной мукой.
Жозеф опустился на колено, склонился над телом и пощупал плащ старика: его пальцы стали липкими от крови. Мертв! Папаша Моску мертв! Голова пробита. Жозефа едва не стошнило, он лихорадочно тер ладонь об пол, объятый таким вселенским ужасом, когда мечтаешь только об одном — проснуться в собственной постели и сказать себе: «Это был всего лишь дурной сон!»
В конце концов он справился с дрожью и заставил себя еще раз взглянуть на тело старика. Тот зажимал в кулаке какой-то маленький блестящий кругляшок. Жозеф не сразу решился забрать его у мертвеца. Он сунул кругляшок в карман и вдруг почувствовал, что за ним наблюдают. Все происходило так стремительно, что его разум едва поспевал за телом. Он кинулся бежать по коридору, пересек квадратный зал, взобрался на груду обломков, не удержался, кубарем скатился вниз по лестнице и застыл, ожидая смертельного удара.
Через несколько секунд он с трудом поднял голову и не сразу смог сфокусировать зрение. От земли поднимались завитки тумана. Вокруг не раздавалось ни звука. Ему удалось встать на ноги.
«Нужно вернуться, я не могу бросить несчастного старика».
Хрустнула ветка, и Жозеф замер, прислушиваясь.
«Если бы патрон был здесь!.. Нет, мне никто не нужен, я справлюсь сам».
Азарт взял верх над страхом, Жозеф зажег свечу, развернулся и помчался назад к лестнице.
— О Господи! — выдохнул он.
Папаша Моску испарился.
Жозеф покачал головой, не веря своим глазам. Там, где он только что видел безжизненное тело, лежало что-то светлое и мягкое. Платок? Нет, перчатки.
Глава восьмая
Прикрывшись газетой, Кэндзи наблюдал за Виктором, разбиравшим тома Буффона.
— Я попрошу доктора Рейно осмотреть Жозефа. Его мать заходила рано утром — вы еще спали, и сказала, что у него сильный жар.
— Не беспокойтесь, мсье Мори, я сама предупрежу доктора, — пообещала спустившаяся в гостиную Таша.
— Как мило с вашей стороны… — буркнул японец.
Девушка подошла к Виктору и чмокнула его в губы, пристально глядя на Кэндзи. Тот спокойно выдержал ее дерзкий взгляд, а Виктор притворился, что его безумно заинтересовал атлас сетчатокрылых насекомых.
— До вечера, — шепнула Таша, взъерошив любовнику волосы.
Как только она вышла, Кэндзи отложил газету.
— У меня для вас хорошая новость, — сообщил он. — Я нашел вашей подруге жилье. — Если не ошибаюсь, ее попросили съехать?
— Э-э… не ошибаетесь.
— В таком случае, все улажено. Я побывал в одной старинной типографии — она как нельзя лучше подойдет для мастерской, да и арендная плата вполне разумная, хотя потребуется кое-какой ремонт.
— Но она не желает расставаться со своим кварталом! — огорченно воскликнул Виктор.
— Это в двух шагах от ее прежнего дома — номер 36-бис по улице Фонтен.
— Пойду взгляну на Жозефа, — проворчал Виктор, вскочив со стула.
Он так разнервничался, что не сразу попал руками в рукава пиджака.
Жозеф лежал на кровати под тремя перинами. Его мать и Таша провожали доктора. Мадам Пиньо заламывала руки, взывая к святым угодникам:
— Иисус-Мария-Иосиф! Я знала, что все это плохо кончится! Сегодня он вернулся заполночь, и я сказала себе: «Не в привычках моего мальчика шляться где ни попадя, что-то тут нечисто!» Так оно и оказалось! И вот вам результат. Он умирает, мой сын на пороге могилы! Он кончит, как его бедный отец, а меня запрут в Сальпетриер, с психами!
— Ну-ну, мадам Пиньо, успокойтесь, доктор сказал — это банальная простуда. Ингаляции, горячий суп, несколько порошков церебрина — и Жозеф поправится.
— Бродить по улице, в такую-то погоду! И он еще посмел заявить: «Не волнуйся, мама, я собираю материалы». Собирает — у кокоток, вот что я вам скажу!
— Жозефу двадцать лет — самое время крутить романы.
— Мой Жожо любит только меня! Что, если я поставлю ему банки?
— Нет, мама, только не банки! — взвыл Жозеф, приподнимаясь с подушек.
— О Боже, мне пора на работу, кто же сварит моему бедняжечке суп?
— Не беспокойтесь, мадам Пиньо, Жермена обо всем позаботится, а мы с мадемуазель Таша составим Жозефу компанию, — пообещал, входя в комнату, Виктор.
— Уж и не знаю…
— Прошу тебя, мама, оставь нас, мне нужно поговорить с патроном, — взмолился Жозеф.
— Могу я предложить вам помощь, мадам Пиньо? — поинтересовалась Таша, подталкивая толстуху к двери.
— Сама справлюсь, — пробурчала зеленщица. — Не забудьте добавить в суп сметаны! — Дав последние указания, она удалилась со своей тележкой.
— Она ушла? — опасливо поинтересовался Жозеф.
Виктор кивнул и протянул Таша вчерашнюю газету:
— Прочти.
Она пробежала глазами обведенную карандашом заметку.
— Боже мой, какой ужас! Бедная девочка! Но за что? Это имеет какое-то отношение к твоей подруге Одетте де Валуа?
— Мадам де Валуа исчезла, консьерж не знает, куда она могла отправиться… Среди вещей Денизы твоего ключа не нашли, Таша, и я очень обеспокоен. Потому-то и…
Виктор обнял девушку, она прижалась к нему и прошептала:
— Ты должен был мне все рассказать!
— К чему? Тебе хватает хлопот с подготовкой к выставке.
— Ты прав, но все это ужасно печально! Пообещай, что сегодня же сообщишь в полицию.
— Уже сообщил, но у них как всегда полно других дел, — ответил Виктор, вспомнив усталое лицо чиновника из бюро по поиску пропавших.
— Я запрещаю тебе встревать в это расследование! Не забывай, как ты мне дорог.
— Я тоже тебя люблю, моя милая, но женщины вечно волнуются по пустякам! Беги, а то опоздаешь.
Виктор смотрел, как Таша торопливо идет через двор к воротам, и хвалил себя за ловкость: он сумел не солгать, ничего не пообещав.
Жозеф сел в постели и попытался пригладить шевелюру влажной рукавичкой.
— Откройте окно, патрон, здесь можно задохнуться.
— И думать забудь. Что это за запах?
— Мама жгла эвкалиптовые палочки перед приходом доктора.
— Могу я закурить?
— Конечно, патрон. Послушайте, я должен вам кое-что рассказать. Вчера со мной приключилась неприятность. Я отправился в Счетную палату и… старик, папаша Моску, умер — его убили!
Спичка обожгла Виктору пальцы, он зашипел и уронил ее на кровать.
— Умер? Что значит — умер?
— А то и значит. Его сбросили с лестницы, и он разбился, но труп испарился. Я ничего не сказал полиции, ни словечка, но эта тайна не дает мне покоя, боюсь, убийца меня выследил…
— Вы видели убийство?
— Слышал грохот и видел склонившуюся над телом тень.
— А потом тело исчезло? Вы бредите, Жозеф!
— Клянусь честью, патрон, вы должны мне верить!
Жозеф разволновался и попытался встать, но Виктор не позволил.
— Какого черта вас туда понесло? Временное помрачение рассудка? Кто вас надоумил? Да отвечайте же, черт побери! — рявкнул он, яростно тряся юношу за плечи.
— Ай! Больно, патрон! Все случилось из-за вас!
Виктор опомнился.
— Ну хорошо, начните с начала и постарайтесь изложить все яснее.
— Дело в вас, патрон. Мадемуазель Таша попросила меня проследить за вами — боялась, что вы нарветесь на неприятности, она ведь вас знает! Я увидел, что вы ходите за стариком, и кое-что смекнул. Вы меня отстранили, вот я и решил показать, на что способен.
— И преуспели. Браво! Продолжайте.
«Итак, Таша установила за мной слежку», — думал Виктор, не зная, радоваться или негодовать.
Жозеф принял позу капризной примадонны, собирающейся спеть арию, потребовал стакан воды, четвертушку яблока и сигарету. Ему нравилось держать Виктора в нетерпеливом ожидании.
— Когда я вернулся к лестнице, тела старика там не оказалось. Я везде искал, проверил все углы и закоулки и спросил себя: «Во что ты вляпался, Жожо?» Я был уверен, что убийца меня подкарауливает. С вами никогда такого не было, патрон: вроде и нет никого вокруг, а ты чувствуешь, что кто-то за тобой наблюдает?
— Интуиция?
— Нет, патрон, уверенность. Я не чокнутый. Сказал себе: «Ты должен любой ценой от него оторваться, он ведь не знает твоего адреса». Перешел на другой берег, поднялся до Больших бульваров — где светло и много народу, покрутился там, а около полуночи прыгнул в фиакр и вернулся домой.
— Возможно, старик только прикинулся мертвым, — предположил Виктор.
— У меня пальцы были… в крови. Его перекинули через перила, а потом унесли труп — ловкий фокус, что и говорить. А зачем вы за ним следили, патрон?
Жозеф поежился, и Виктор с трудом скрыл улыбку.
— Эй, нечего на меня смотреть, словно я и есть убийца! Папаша Моску работает на Пер-Лашез, вот я и подумал, что он мог видеть там на прошлой неделе мадам де Валуа и Денизу.
— Ну конечно, — прошептал Жозеф. — Знаете, патрон, я много думал об этом деле. Во вторник утром, когда нас посетили графиня с племянницей, я слышал, как мадам де Гувелин говорила об одном ясновидящем, только имя она забыла. И я вспомнил, что Дениза на ярмарке бормотала о какой-то недоброй силе, будто бы витающей в квартире вашей бывшей лю… подруги. Она считала, что ясновидящая, к которой ходила мадам де Валуа, просто-напросто навела порчу на дом. Вам не кажется, что это след?
— Не знаю.
— Нужно все проверить. Дениза и вправду была напугана. Она даже не захотела погадать у феи Топаз, не показала ей ладонь, а когда я пошел взглянуть на реконструкцию знаменитых преступлений, осталась ждать снаружи. Ну, я настаивать не стал, зрелище и впрямь страшноватое…
— Ближе к делу.
— Думаю, я смогу найти эту самую ясновидящую. Она живет в доме рядом с панорамой, а на фасаде — голые тетки. Дениза говорила: «Мы поднялись на третий этаж». Господи, да будь я в форме, тотчас бы туда помчался.
— Никуда вы не пойдете! Принимайте лучше лекарства, вы нужны мне в магазине.
— Есть еще кое-что, патрон.
Жозеф пошарил под подушками, достал свой блокнот и показал Виктору загадочную фразу, обнаруженную на стене берлоги папаши Моску: «Где ты их спрятал? А.Д.В».
«Что означают эти буквы? — задумался Виктор. — Латинская надпись “Ad vitam” — “навечно”? Или “Ad valorem” — “в соответствии с ценностью”?»
— Внимание. Опасность. Мщение
[23], — предположил Жозеф.
— Эта надпись может означать все, что угодно. Не исключено, что ее сделали много лет назад.
Делясь сомнениями с Жозефом, Виктор вдруг подумал о медальоне Одетты и вспомнил слова мадам Валладье: комнату папаши Моску разгромили, значит, некто что-то искал.
— Еще одна деталь, патрон. На том месте, где должно было лежать тело, я нашел вот это. — На лице Жозефа появилось самодовольное выражение.
— Перчатки? И что с того? Куда они могут нас привести?
— Это улика, патрон, никогда не следует…
— …Пренебрегать уликами, согласен. А сейчас мне пора возвращаться в магазин. Лечитесь хорошенько. Позже я принесу вам супу, и мы обсудим план действий. Если буду новости, сообщу.
— Обещаете, патрон? Не пренебрегайте моей помощью, ладно? Сами видите, голова у меня варит!
Как только Виктор ушел, Жозеф спрятал перчатку.
Картины в светлых деревянных рамах были очень тяжелыми. Таша и Нинон вздохнули с облегчением, вскарабкавшись на седьмой этаж.
— Земля обетованная, — выдохнула Таша, доставая ключи от нового замка.
Войдя, девушки поставили картины у стены, и Таша заперла дверь.
— Виктор просил никому не открывать, и я чувствую себя одним из семерых сказочных козлят. У-у! Боюсь, боюсь, боюсь! Большой злой волк сидит в засаде!
— Да он просто хочет лишить тебя свободы, этот твой «победитель»! Восстанем против него! — воскликнула Нинон.
— Ты права! Мужчины слишком долго нами помыкали!
— Станем их повелительницами!
Нинон упала на стул, Таша плюхнулась на кровать, и обе весело расхохотались. Таша ни с кем близко не сходилась с тех пор, как покинула Россию. Нинон напоминала ей любимую старшую сестру Рахиль и лучшую подругу Дусю, хотя те были простодушны, а француженка отличалась вольностью нравов и речей.
— Без тебя я и за три похода к багетчику вряд ли управилась бы, а у него шаловливые ручонки… Спасибо!
— Не за что! В благодарность налей мне выпить.
— У меня только вода.
Когда Таша вернулась с кувшином и стаканом, Нинон стояла перед портретом Виктора, на котором он был изображен обнаженным.
— Красивый мужчина! Я охотно провела бы с ним время…
— Тебе мало Мориса?
— Хватает — за неимением лучшего.
— Ты никогда ничего не чувствуешь к мужчине?
— Очень редко. С чего бы мне блеять, как робкой овечке, у ног этих самодовольных, гордящихся своими рогами козлов? Пусть суетятся вокруг меня, а я буду принимать решение: «Тебя беру, а ты пошел прочь!» Картина чудо как хороша, ты ее выставляешь?
— Не шути так! Виктор с ума бы сошел, узнай он о твоем предложении!
— Это странно, стыдиться ему нечего, даже наоборот.
— Ладно, тогда я лучше уберу его.
Таша сняла холст с мольберта и прислонила к стене за пустыми рамами. Она выбрала два небольших холста — бледно-желтые, почти белые груши в компотнице и корзинку с апельсинами в голубоватом ореоле — и показала их Нинон.
— Как тебе?
— Не люблю натюрморты…
— А я обожаю работать над формой, цветом… Морис не желает, чтобы я занималась этим в «Золотом солнце», он и мои парижские крыши едва терпит.
— А ты не пробовала писать обнаженных женщин?
Удивленная вопросом Таша подняла глаза на Нинон и смутилась, увидев на ее лице чувственную и чуть насмешливую улыбку.
— Да, в мастерской, как обязательный сюжет. Таковы правила, сама знаешь… Но я больше люблю писать мужчин.
— И напрасно. Женское тело прекрасно, оно должно хорошо продаваться. Если надумаешь, я стану твоей моделью.
Таша покраснела.
— В моем предложении нет ничего двусмысленного, обещаю вести себя благоразумно и позировать бесплатно.
Смущение Таша как рукой сняло. Это весьма заманчивое предложение. К чему отказываться? Во всяком случае, если у нее ничего не выйдет, Нинон хотя бы не станет над ней издеваться.
— Договорились, попробуем после выставки.
На лестнице они столкнулись с Хельгой Беккер, которая несла под мышкой длинный бумажный рулон.
— Взгляните, что за прелесть! Я слегка потянула, и он отклеился. Я их коллекционирую, уже собрала пятнадцать штук, — объяснила она, разворачивая рекламную афишу, на которой была изображена прелестная молодая женщина в канотье и юбке-брюках, крутящая педали велосипеда среди гусиного стада. На ядовито-желтом фоне красовалась надпись большими синими буквами: «Велосипед Руайяль вывезет вас на королевский путь».
Девушки вышли на улицу Нотр-Дам-де-Лоретт. На стене дома, где раньше висела украденная Хельгой Беккер афиша, обнаружился старый, наполовину разорванный избирательный плакат. Вооруженный секирой галл и Марианна во фригийском колпаке призывали граждан прийти на выборы в законодательное собрание 22 сентября 1889 года. Таша узнала манеру иллюстратора-литографа Адольфа Вилетта
[24]. Она подошла ближе и прочла:
А. Вилетт
Кандидат-антисемит
IX участок, 2й округ
Избиратели!
Евреи кажутся великими лишь потому,
что мы стоим на коленях!..
Восстанем!
Иудаизм — вот наш враг!
В нескольких местах плакат был испачкан чем-то коричневым. Таша вдруг стало ужасно горько, сердце защемило от боли. Она вспомнила окровавленное лицо человека, лежащего в пыли перед домом на улице Воронова. Сбежать от всего этого и… Ей никогда не забыть витавшую в воздухе ненависть, крики отчаяния, стоны, казаков с саблями наголо… Стекла разлетаются на тысячи осколков, мебель порублена в щепки, в воздухе хлопьями снега летает пух из распоротых перин…
Она прислонилась к стене и постаралась успокоиться.
— Что ты там делаешь, Таша? Нам пора, Ломье будет в ярости!
Нет! Она должна обо всем забыть! Виктор ее любит. Она во Франции, в Париже… Таша дернула за отклеившийся угол, сорвала плакат со стены и разорвала его на мелкие клочки.
Виктор смотрел на акварель Констебля, но мирный пейзаж цветущей английской деревни не приносил ему успокоения. Неужели папашу Моску и впрямь убили? Или он ушел сам, по доброй воле? Какую роль старик сыграл в исчезновении Одетты? Он забрал ее медальон. Участвовал ли он в похищении? Или в убийстве? Виктор отбросил эту мысль, и тут его осенило: А.Д.В. — это же Арман де Валуа!
Он покопался в лежавших на столе бумагах, нашел письмо из французского консульства, внимательно перечитал и понял: формальных доказательств, что в Лас-Хунтас похоронили именно Армана, не существует. Кто его опознал? Возможно, он жив и здоров. Что, если они с Одеттой в сговоре, и все дело в… Но в чем? Неужто в этой «Даме в голубом», которую Арман берег как зеницу ока? А Дениза и папаша Моску поплатились за нее жизнью.
У него было две ниточки: пресловутый Нума и ясновидящая. Виктор решил отправиться на разведку к Адальберте де Бри, а потом расспросить Рафаэль де Гувелин.
Он еще раз перебрал содержимое конверта. Перелистал записную книжку. Зенобия. Странное имя. Виктор был заинтригован. На листке, датированном 22 декабря 1889 года, рукой Одетты было написано:
«Тюрнер… встреча с Зенобией в 15:30, кондитерская Глоппа…»
Виктор раздраженно оттолкнул от себя блокнот, тот упал, и на пол из-под обложки вылетел конверт. Он поднял его и взглянул на дату: 18 декабря 1889 года.
Дорогая мадам!
Мы не знакомы, и я до недавнего времени даже не подозревал о Вашем существовании.
Вполне вероятно, что Вы настроены скептически и усомнитесь в искренности моих намерений. Умоляю, забудьте о предрассудках и доверьтесь мне. Небо ниспослало мне дар общения с усопшими. Один из них уже несколько недель проявляет настоятельное желание вступить со мной в контакт. Он называет себя Арманом де Валуа и говорит, что не может обрести покой после смерти в далекой стране. В этом мире он жил на бульваре Оссман и был женат. Я позволил себе навести справки и узнал Ваш адрес, питая надежду, что Вы — та самая особа, с которой я должен связать Армана. Поверьте, дорогая мадам, не в моих правилах поступать подобным образом, но, учитывая обстоятельства, я не колебался ни минуты. Мы можем встретиться 22 декабря, у Глоппа, это кондитерская в конце Елисейских полей. Буду ждать Вас там в следующий четверг, начиная с 15:30. Я сяду за столик у прилавка и буду в лиловой шляпе.
С почтением к Вам,
Зенобия.
— Бред какой-то…
Виктор убрал бумаги и записную книжку в конверт, сунул его в карман куртки и спустился вниз.
— Как дела у Жозефа? — поинтересовался Кэндзи.
— Банальная простуда, ничего страшного.
— У вас усталый вид.
— Обычная мигрень, пойду прогуляюсь.
— В семь у нас назначена встреча, мы идем смотреть мастерскую, — сообщил Кэндзи.
— Мастерскую? — упавшим голосом переспросил Виктор.
— Улица Фонтен, не забудьте.
— Не беспокойтесь, обязательно буду.
Ему следовало помнить, что Кэндзи упрям, как осел! Виктор подозвал фиакр.
Особняк Адальберты де Бри располагался на улице Барбе-де-Жуи, 22, близ Дворца инвалидов. Белые фасады соседних зданий смотрели на мир сквозь деревянные переплеты окон. Виктор позвонил и тут же почувствовал на себе недоверчиво-вопрошающий взгляд мадам Юбер. Экономка с минуту наблюдала за ним в глазок, потом впустила и молча провела в парадную гостиную. Виктор заметил, что глаза у нее заплаканы, а рот она прикрывает скомканным платком.
В гостиной сидели Бланш де Кабрезис, герцог де Фриуль, Рафаэль де Гувелин, графиня де Салиньяк, ее племянница Валентина, офицер в мундире с наградами, Матильда де Флавиньоль и католический священник в сутане. Лица у всех были мрачные, голоса звучали приглушенно. Виктор поцеловал дамам руки, поприветствовал мужчин, и Рафаэль де Гувелин шепнула ему:
— Какое ужасное несчастье, друг мой! Кто вас предупредил?
— Расскажите же наконец, что стряслось?
— Так вы не знаете? Бедняжку Адальберту вчера вечером разбил паралич. Я тут же приехала и провела у ее постели всю ночь. Подумать только, женщина, которая вечно болтала без умолку, теперь не может вымолвить ни слова! Все вокруг были уверены, что Адальберта дотянет до ста лет, она ведь пережила трех мужей, а теперь ее сердце может остановиться в любой момент, и жизнь висит на волоске. Прошу меня извинить.
Мадам де Гувелин вернулась к плачущей Матильде де Флавиньоль. Мимо Виктора прошла горничная с пустыми стаканами на подносе. Он догнал ее в прихожей и окликнул:
— Простите, мадемуазель, позвольте представиться: Виктор Легри.
— Очень польщена, мсье, я — Сидони Тайяд.
Девушка поставила поднос на столик и сделала книксен, подняв к Виктору круглое курносое личико.
— Как произошло несчастье? — спросил он.
— Мадам де Бри уже собиралась ложиться. Ее лакей Грасьен передал мне письмо, которое принесла мадам Юбер. Я сразу отнесла конверт хозяйке, и она сказала: «Положи на туалетный столик и завари мне вербену». А когда я вернулась, она лежала на ковре без чувств, как мертвая! Грасьен перенес ее на кровать и побежал за врачом. Доктор тщательно осмотрел хозяйку и сказал, что у нее приключилась пели… гепи… не помню, как дальше.
— Что было в письме?
— О, мсье, я бы никогда не посмела его вскрыть… Я четыре года верой и правдой служила…
— Могу я на него взглянуть?
— Думаю… да.
— Буду очень вам признателен, мадемуазель.
Сидони поспешила выполнить просьбу любезнейшего господина.
— Не знаю, правильно ли я поступаю…
Виктор незаметно сунул ей банкноту.
— Конечно, правильно.
Мадам Юбер позвала Сидони, и, одарив Виктора на прощание томным взглядом, девушка удалилась. Он быстро вытащил из конверта письмо и спрятал в карман. Когда горничная вернулась, он протянул ей пустой конверт.
— Я полагал, что в послании содержалось какое-нибудь дурное известие, которое спровоцировало приступ, но ничего не нашел. Положите письмо на место, мадемуазель, и окажите мне последнюю услугу. Вспомните, вы что-нибудь слышали о некоем Нуме Уиннере?
— Ну конечно! Этот англичанин выдает себя за факира! У мадам было слабое сердце, ей следовало избегать ненужных волнений, но она не могла справиться с собой, ее так и тянуло на проклятые сеансы черной магии!
— Вам известен его адрес?
— Я много раз провожала туда мадам, но никогда не видела, что они там делали, потому что ждала в прихожей. Он живет на улице Ассас, в доме № 134.
Виктор поспешил закончить разговор — к ним направлялись Рафаэль де Гувелин и Бланш де Кабрезис.
— Я вспомнила, мсье Легри! — воскликнула Рафаэль. — Я долго ломала голову, пытаясь вспомнить имя того ясновидца, и вспомнила!
— Какого ясновидца?
— Того самого, которого посещала Одетта, мы говорили о нем на днях в вашем магазине… Его зовут Зенобия. Знаете, что помогло мне вспомнить? Пальма в горшке! Все дело в ассоциации, понимаете? Пальма — Пальмира — Зенобия, царица Пальмиры!
— Значит, речь идет о женщине.
— Ничего подобного, эти люди иногда берут женские прозвища, восточные или мифологические — Кассандра, Сивилла и тому подобные…
— А… где он живет?
— Не знаю. Одетта сказала только, что получила письмо, в котором этот человек утверждал, что располагает важными сведениями о ее покойном муже.
— Неужто вы увлеклись оккультными науками, мсье Легри? — спросила Бланш де Кабрезис.
— Простое любопытство, дорогая мадам, ничего больше.
Виктор хотел уйти по-английски, не прощаясь, но заметил караулившую его в прихожей Валентину де Салиньяк. Девушка стояла под монументальным панно работы Луизы Абема
[25], она была очень бледна и судорожно сжимала в руках зонтик.
— Мсье Легри, я… я заказала книгу мсье Жозефу, но не смогла…
— Жозеф заболел.
— Заболел?! Это опасно?
— Нет-нет, не тревожьтесь, у него обычный бронхит. Он активно лечится. Всего наилучшего, мадемуазель.
Виктор улыбнулся и откланялся. Валентина совершенно успокоилась: Жозеф хотел прийти к ней на свидание, он не виноват, что заболел!
Виктор был очень доволен, что ему удалось узнать адрес Нумы Уиннера, но когда на улице Бабилон он прочел письмо, которое стащил у Адальберты де Бри, его хорошее настроение мгновенно улетучилось.
Того, кто проник за черту, ждет падение в бездну, если он не будет хранить молчание и выдаст тайны смерти.
Ты победила, мама, я не вернусь НИКОГДА.
Молчи, молчи, МОЛЧИ!
Твой сын
— Хозяин сегодня не принимает, — сообщил учтивый дворецкий, когда Виктор пришел на улицу Ассас.
Виктор проявил настойчивость, сообщил, что попал в безвыходную ситуацию, и сослался на мадам де Бри. Слуга взял визитную карточку и провел посетителя в маленькую гостиную. Стены были завешаны картинами, на стеллажах стояли редкие книги. Виктор взглядом знатока оценил пастели Одилона Редона
[26], гравюры Уильяма Блейка, акварели и офорты Виктора Гюго. Все без исключения сюжеты были мистическими. Тома полного собрания сочинений Свифта в красном сафьяне вызвали у Виктора дрожь вожделения, и он пожалел, что не может покопаться на полках.
В комнату, опираясь на костыли, вошел высокий седовласый мужчина. Он улыбнулся, и Виктору показалось, что хозяин дома одним взглядом оценил и классифицировал его.
— Садитесь в кресло-качалку, а я займу вон то, низкое и широкое, — сказал Нума Уиннер, похлопав себя по левой ноге, загипсованной от колена до щиколотки. — Итак, вы торгуете книгами! Благородное занятие. Что будете пить?
— Благодарю вас, я, пожалуй, воздержусь.
Невзирая на отказ, Нума Уиннер доковылял до стеллажа и снял с полки два толстенных тома, за которыми были спрятаны стаканы и хрустальный графин.
— Моему дворецкому Леону лучше об этом не знать, он бережет мою печень, как курица свое яйцо. Попробуйте, коньяк великолепный, двенадцатилетней выдержки. Полагаю, вам нужна консультация? Договоритесь о встрече с моим секретарем.
— Я пришел не за этим. Прошу вас, прочтите — это могло спровоцировать удар, случившийся у мадам де Бри.
— У Адальберты? Когда?
— Вчера вечером.
Нума поудобнее устроился в кресле.
— Печальное известие… Бедняжка Адальберта… Говорите, было письмо?
Виктор поднялся и передал ему листок. Тот прочел послание и задумался.
— Плохо, — сказал он наконец. — Я ощущаю недобрые намерения.
— Не хотите заодно взглянуть вот на это? — спросил Виктор, не сводивший глаз с лица ясновидца, и протянул ему записку, где Одетте назначали свидание у Глоппа.
— Зенобия, — пробормотал Нума.
— Вам знакомо это имя?
— Как вам сказать… — Голос Нумы звучал хрипло, так, словно ему надо было откашляться.
— Я полагал, что все вы, так или иначе, знаете друг друга, — не отступался Виктор.
— Вынужден вас разочаровать, дорогой друг, у меня нет справочника ясновидящих, а их список постоянно пополняется. Откуда у вас эти письма?
— Почему бы вам не прозондировать мой мозг и не узнать самому?
— Перестаньте, мсье Легри, никогда не поверю, что вы воображаете себе ясновидящего этаким чародеем Мерлином с совой на плече, хрустальным шаром или картами таро, имеющего единственной целью выманить побольше денег у несчастных простаков. Я не умею читать мысли и не могу предсказывать будущее…
— Весьма досадно для вас, ведь тогда вы не сломали бы ногу.
— Сумей я даже предвидеть, что так глупо поскользнусь, ничего не сумел бы изменить, рано или поздно это все равно бы случилось. Разве непредсказуемость не добавляет очарования нашей жизни? Ужасно скучно знать все наперед и никогда не ошибаться!
— Когда это с вами стряслось?
— Три недели назад, когда я выходил из кабриолета. Повторю свой вопрос: кто это писал?
— Понятия не имею. Письмо за подписью Зенобии было адресовано одной моей приятельнице, мадам де Валуа. Она исчезла, и с тех пор о ней ничего неизвестно.
В первый момент Виктору показалось, что Нума даже не услышал его слов. Тот сделал глоток коньяка и глубоко задумался. Его лицо хранило бесстрастное выражение. Наконец он заговорил:
— Мадам де Валуа посетила меня в Ульгате, нас познакомила Адальберта де Бри. Полгода спустя Одетта поинтересовалась моим мнением насчет Зенобии, и я посоветовал ей быть очень осторожной. Мадам де Бри рассказала, что Зенобия просит Одетту о встрече, заявляя, что якобы владеет какой-то тайной. Адальберта безуспешно пыталась отговорить вашу приятельницу от встречи. Сейчас развелось множество мошенников, которые изучают раздел некрологов, а потом обманывают доверчивых людей. Из всех щелей лезут медиумы и лжепророки, пичкают глупцов всяким вздором и «стригут» с них деньги. Маги, каббалисты, оккультисты, пустозвоны и врали проникли во все слои общества.
— Но вы, конечно, к ним не принадлежите.
Нума улыбнулся.
— Вы совершенно правы. Я не жгу ладан, не читаю заклинаний, не люблю полумрак. И с отвращением отношусь к шарлатанам, которые злоупотребляют доверием отчаявшихся людей. Способность быть медиумом дается человеку при рождении, и торговать ею недопустимо.
— На что же вы живете?
— Редактирую научный журнал «The Scientific News», он выходит в Лондоне, и являюсь членом вашей Академии наук. Видите ли, мсье Легри, хорошие медиумы — такая же редкость, как великие артисты. Одни работают с физическим телом, другие — с психикой. Я наделен даром «яснослышания», назовем это так: различаю голоса бесплотных существ, недоступные для обычных людей, интерпретирую их и воспроизвожу собственным голосом.
— Мадам де Бри поведала мне, что покойный сын говорил с ней через вас. Простите, но я никак не могу поверить в подобную чушь.
— Люди в массе своей склонны отрицать то, что недоступно их пониманию или выходит за рамки здравого смысла. Знаете, почему я согласился вас принять? Войдя в эту комнату, я почувствовал, что вы не один. Я мельком видел сопровождающую вас пару, что со мной бывает крайне редко. Мужчина немолод, у него согбенные плечи и лысина во всю голову. Женщина моложе, у нее в руках букет из веток… лавра.
Нума замолчал, уставившись взглядом в пустоту. Его слова произвели на Виктора такое сильное впечатление, что он невольно подался вперед.
— Что в этом…
— Оборви нить, — внезапно произнес Нума механическим голосом.
Виктор вздрогнул.
— Ее смерть освободила нас с тобой. Любовь. Я ее нашла. Ты поймешь. Нужно… Подчинись зову сердца. Ты возродишься, если разорвешь цепь. Гармония. Скоро… Скоро…
Нума расслабился, похрустел суставами. Он выглядел очень уставшим.
— Они ушли.
— Кто — они?
— Не знаю.
— Сожалею, но вы меня не убедили.
— Вы сомневаетесь, хотя вам были предъявлены факты. Я не стану убеждать вас, мсье Легри, мне это ни к чему. Говоря о спиритической сфере, нельзя оперировать рациональными доводами. В отношении же вашего дела могу дать один единственный совет: будьте крайне осторожны, это опасная игра.
Он поднес стакан к губам и закрыл глаза, давая понять, что встреча окончена.
Виктор поднимался по авеню Обсерватории, где велосипедисты соревновались в скорости с омнибусами. Дойдя до танцзала Бюлье, он вдруг вспомнил произнесенные Нумой в трансе слова и застыл как вкопанный. Лавр! У него на виске забилась жилка. В памяти всплыл эпизод из греческой мифологии о любовных похождениях Аполлона. Бог домогался любви прекрасной нимфы, и она превратилась в лавровое дерево. Ее звали Дафна. «Как мою мать», — подумал он.
Виктор был потрясен. Неужели жизнь свела его с настоящим медиумом?
Он так глубоко погрузился в раздумья, что едва не налетел на кормившую воробьев старушку. «А дядя Эмиль? Откуда Нума узнал, что он был лысым и обожал слово “гармония”? Нет, я отказываюсь в это верить!»
На улице Шартро остановился фиакр. Виктор махнул рукой кучеру.
— Хочу объехать парижские панорамы
[27].
—
Все панорамы? — переспросил кучер, почуяв выгодного седока.
— Все.
«Здание с кариатидами нетрудно будет обнаружить», — подумал Виктор, устраиваясь на потертом сиденье.
Возница, толстяк с бычьей шеей, решил пожалеть свою лошадь и начал с улицы Лепик на Монмартре, где за строящимся собором Сакре-Кёр, на углу улиц Шевалье-де-ла-Бар и Ламарк, находилась панорама Иерусалима. Виктор оглядел ветхие дома и скверики с чахлой зеленью и скомандовал озадаченному его поведением кучеру:
— Езжайте дальше!
— Рекомендую панораму Столетия.
— Где это?
— В саду Тюильри.
— Есть поблизости другие?
— Еще бы!
На Елисейских полях находились целых три панорамы. Кучер одобрил решение Виктора пренебречь зальчиком на холме и отправиться на улицу Бери, где он сможет полюбоваться Рейсхоффенским сражением. Выйдя оттуда, Виктор констатировал: никаких кариатид.
— Странный тип, — проворчал толстяк-кучер и щелкнул кнутом.
Капризному пассажиру не понравились ни выстроенная напротив Летнего цирка диорама осады Парижа в 1870 году, ни возведенное Шарлем Гарнье по соседству новое здание, где разместился панорамный вид Иерусалима эпохи Ирода.
— Осталась всего одна, — бросил через плечо возница, — та, что посвящена Бастилии.
«Будем надеяться, там мне наконец повезет», — подумал приунывший Виктор.
Они миновали Июльскую колонну и выехали на площадь Контрэскарп, выходившую к Сене у площади Мазас. В центре поросшего деревьями островка стояла панорама Парижа 1789 года.
Виктор решил обследовать квартал и расплатился с кучером, добавив щедрые чаевые.
— Я было решил, что вы слегка… того, мсье, однако тут вы попали в точку! Грандиозная панорама! Кажется, будто сам идешь на штурм Бастилии! Даже птицы поют. Гвоздь программы — галерея пыток, там одни восковые фигуры, но посмотреть есть на что! Отсечение головы, пытка водой и огнем, распластывание, гаротта! Пошла, Зефирина!
Впавший в уныние Виктор вышел на авеню Ледрю-Роллен. Голые фасады, мощеные булыжником мостовые. Он решил обследовать бульвар Дидро, вернулся назад и, не пройдя и двух метров, наткнулся на карниз с двумя грудастыми кариатидами. Он с трудом удержался, чтобы не крикнуть: «Я нашел!».
Ему пришлось дать волю воображению, чтобы обвести вокруг пальца очередного консьержа. «Обязательно составлю сборник своих выдумок», — пообещал он себе.
— Графиня де Салиньяк попросила меня немедленно переговорить с жильцом с третьего этажа.
— Вы опоздали. Мадам и мсье Тюрнер съехали.
У Виктора бешено заколотилось сердце. В записной книжке Одетты фамилия Тюрнер соседствовала с именем Зенобия!
— Когда?
— Позавчера утром.
— И как скоро вернутся?
— Никогда. Они отказались от квартиры.
— Возможно, они оставили вам адрес? Мне поручено действовать крайне деликатно. Тюрнеры задолжали графине крупную сумму денег, но она хочет избежать скандала.
— Мне очень жаль, но это все, что мне известно. Тюрнеры были странной парой. Держались неприступно, всех сторонились. Въехали в декабре. Вещей у них было очень мало. Никаких слуг, а квартиру после себя оставили в идеальном состоянии. Почты они не получали, визитов им никто не делал, за исключением дамы в трауре, она приходила раз или два в неделю. Они ужасно торопились съехать: мадам Тюрнер рассказала, что в семье возникла проблема. Ее муж уехал накануне. Она внесла плату до июня, не торгуясь. Это нормально, ведь март уже начался. Комнаты сдаются. На балконе третьего этажа висит табличка.
— Можете описать мсье и мадам Тюрнер?
— Он ходил с тростью. Хромал, не хромая.
— Как так?
— Ну, он хромал, но это было не слишком заметно, просто у меня глаз наметанный.
— Вы с ним о чем-нибудь разговаривали?
— Здравствуйте и до свиданья, только и всего. Я и видел-то его раз пять или шесть, а вот с ней встречался регулярно.
— Он был высокий, маленький, блондин или брюнет?
— Да этот Тюрнер вечно ходил набычившись и шляпу на глаза надвигал, так что насчет цвета волос я затрудняюсь…
— А жена?
— Красавица-блондинка с осиной талией, а уж бюст…
— Я бы посмотрел квартиру, одна из моих тетушек хочет переехать.
Виктор обошел все четыре комнаты, открыл окна, чтобы полюбоваться видом, раскритиковал обои, обшарил кухню — короче, сделал все, чтобы разозлить консьержа. Почувствовав, что тот доведен до крайности, он сказал, что хочет остаться один и «проникнуться атмосферой», чтобы принять решение.
Виктор обыскал все шкафы и полки, порылся в двух письменных столах: везде было пусто. Он заглянул в ящики комода, не смог до конца закрыть верхний, вынул его, поставил на пол, нашел сложенный гармошкой листок и быстро сунул его в карман, услышав на лестнице шаги консьержа.
— Нет, не подходит, я ощущаю негативные флюиды, — сообщил он и пошел прочь, а консьерж покрутил ему вслед пальцем у виска.
На улице Виктор развернул смятую бумажку и прочел надпись в верхней части:
Гостиница «Розали»
Владелица госпожа П. Кайседо
Кали
Виктор присел на бортик фонтана во дворе Арсенала, глядя на лежавший на коленях конверт. Сделанная мелким неразборчивым почерком надпись «
Личное» расплывалась перед глазами. Он на мгновение смежил веки и вообразил, что город исчез, а сам он парит в пустоте. Перед мысленным взором возникли казавшиеся вполне реальными пейзажи. Постепенно приходило понимание. Виктор решился открыть конверт: он знал, что найдет, но должен был убедиться — и убедился: внутри лежало письмо, отосланное Одеттой из Парижа 29 июля 1889 года и адресованное ее дорогому супругу:
Г-ну Арману де Валуа
геологу Компании по строительству трансокеанского канала
гостиница сеньоры Кайседо «Розали»
Кали, Колумбия
Виктор сравнил адрес с тем, что был на бланке, найденном в квартире Тюрнеров. «Кайседо. Гостиница “Розали”. Кали…» — повторял он про себя. В голове возникали все новые вопросы. Был ли господин Тюрнер Арманом де Валуа? Прикинуться мертвым очень просто. За десять лет две трети приехавших в Панаму на заработки французов умерли от желтой лихорадки, эпидемия погубила и множество людей других национальностей, так что похоронить чье-то тело под своим именем не составляло труда. Еще один довод в пользу этой теории — консьерж сообщил, что Тюрнер хромал, а Одетта в свое время говорила, что ее муж носил подпяточник, дабы скрыть врожденную хромоту.
Виктор убрал бумаги. Часы показывали 18:30, пора было отправляться на встречу с Кэндзи.
Виктор поднялся по улице Фонтен, остановился, чтобы прочесть программу «Концерта Путаников» в пивной некоего Карпантье, поправил волосы и шляпу, глядя на свое отражение в стекле витрины, и пошел дальше. В мощенном булыжником дворе дома № 36-бис, под акацией, его поджидал Кэндзи.
— Мне дали ключ, так что мы можем идти, — сказал он Виктору.
Бывшая типографии была загромождена ржавыми прессами, деревянными ящиками и картонными коробками. Виктор подключил воображение и представил, как будет выглядеть помещение, если все вычистить, вымыть и перекрасить. Мастерская получится просторная, да еще и с водопроводом. Нишу, где стоит литографическая машина, можно превратить в уютный альков и поставить там широченную кровать. Невысокая арендная плата стала решающим доводом «за». Но как уговорить Таша? Очень просто: пусть пока поживет на улице Нотр-Дам де-Лоретт, а он все устроит с ремонтом, выберет момент и устроит ей сюрприз. Удовлетворенный найденным решением, которое на данный момент ни к чему его не обязывало, Виктор решил открыть окно, но шпингалет отвалился и остался у него в руке.
— Вас что-то смущает? — поинтересовался Кэндзи, обеспокоенный его молчанием.
На языке вертелась подходящая к случаю восточная пословица — «Когда кукушка совьет гнездо, ее голос станет песней», — но Виктор счел за лучшее не дразнить компаньона.
— Я прикидывал объем работ. Придется проверить, не течет ли крыша.
Лицо Кэндзи просветлело: он мог надеяться на счастливое разрешение дела. Подруга Виктора не сразу покинет их дом, но он терпелив, он подождет. Развеселившись, Кэндзи подошел к нише и спросил:
— Вам не кажется, что этот альков идеально подходит для кухни?
Таша раздевалась с хорошо рассчитанной неторопливостью, и Виктор не выдержал.
— Я люблю тебя, — прошептал он, сунув ладони ей под сорочку, — позволь мне помочь.
Она включилась в игру и дала себя раздеть. Виктор увлек ее на кровать, и девушка обняла его.
Нужно ловить момент, иначе он никогда не осмелится сказать ей о мастерской.
— Я был сегодня в одном месте. Квартирка для нас с тобой. Комната очень большая, ты сможешь там работать.
— О чем это ты?
Виктор почувствовал, как напряглась Таша, и еще крепче обнял ее.
— Плата невелика, ты легко ее осилишь, а я займусь обстановкой… Злишься?
— А комната и вправду большая? — промурлыкала Таша.
Мысли о расследовании не давали Виктору покоя, и он поднялся с постели среди ночи. Таша спала, обнимая подушку. Он натянул длинные кальсоны, девушка застонала во сне, он наклонился и поцеловал ее в щеку, очень довольный своим маневром: она согласилась завтра же посмотреть будущую мастерскую.
Виктор подсел к секретеру и зажег лампу. Ему не терпелось сличить почерк. Он положил перед собой доставленное Денизе по пневматической почте письмо, разгладил листок ладонью, пристроил рядом послание за подписью Зенобии и анонимную записку, которую получила мадам де Бри.
Нужно выбрать букву — скажем, «т». Сравнить нажим и наклон… Нет, он не бредит, буквы совершенно идентичны!
Все они написаны с наклоном влево.
Значит, эти три послания — дело рук одного и того же человека.
Глава девятая
Уж грелся на солнце, свернувшись кольцом на плоском камне. Раздался хруст: два черных остромордых чудища приближались по траве к его убежищу. Уж испуганно скользнул в кусты.
Ноги в остроносых туфлях нерешительно топтались на месте.
— Я видела змею! — вскрикнула худенькая девушка.
— Тебе показалось, Элиза. Здесь тебе не Сенегал, а Париж! — успокоил ее шестнадцатилетний паренек с бачками, в кепке.
— А как мы найдем выход? — спросила она, отцепляя подол юбки от колючего ежевичника.
— Я знаю это место как свои пять пальцев, лучше убежища не найти. Тут живет один старый болван, но он вечно пьян в стельку, так что…
— Ой, Фердинанд, там какой-то зверь!
— Это просто кот, не бойся, идем.
Он провел ее за руку вдоль обвалившейся стены к укромному уголку под выступом, скрытым занавесом густого ломоноса.
— Шикарное местечко! Настоящее любовное гнездышко!
Парень расстелил на траве куртку, но девушка отпрянула.
— Ты рехнулся? Земля же мокрая!
Кавалер схватил подружку за подбородок и впился ей в губы жадным поцелуем.
— Мне больно! — жалобно пролепетала она, вырываясь.
Фердинанд разозлился и оттолкнул ее.
— Чего ломаешься? Сама ведь согласилась!
— Ага, но… мне страшно, понимаешь?
— Да ты всего боишься — змей, кошек, кустов!
— Как же не бояться, в первый-то раз?! И потом… вдруг ты меня обрюхатишь?
Он глумливо хмыкнул.
— Ничего, может, хоть чуток поправишься, а то плоская, как доска! Уж и не знаю, что там у тебя под корсажем! Ладно, раз так — я сваливаю, желающие и без тебя найдутся. Взять ту же Жени — она хоть сейчас со мной пойдет, а уж у нее есть за что подержаться!
Он закинул куртку за плечо.
— Не бросай меня, Фердинанд, ты говорил, что любишь.
Парень с недовольным видом поддел камень носком ботинка.
— Слюнявые поцелуйчики еще не любовь.
— Обещаешь быть нежным? — прошептала девушка, прижимаясь к нему всем телом.
Парень снова бросил куртку на траву, завалил подружку на спину и принялся целовать, нетерпеливо расстегивая пуговички на платье. Возбужденно пыхтя и не расцепляя объятий, они покатились по земле и наткнулись на торчавшую из земли палку. Фердинанд вскрикнул от боли.
— Это еще что за дрянь? — разозлился он, схватился за возникшее на их пути препятствие, резко дернул и, не рассчитав силу, опрокинулся навзничь. Девушка расхохоталась, а он с глупым видом уставился на свою добычу — палка оказалась зонтиком.
— Тебе смешно, а я ногу ушиб!
— Красивая штука, дай-ка мне! Погляди на ручку — похоже на слоновую кость. Можно я его возьму? Отвечай, Фердинанд! Ты что, оглох?
Парень не шелохнулся. На его лице застыло выражение ужаса. Девушка медленно опустила голову, проследив взгляд своего дружка: он смотрел на землю у корней сиреневого куста. Прошло несколько бесконечно долгих секунд, прежде чем из ее горла вырвался вопль ужаса.
Пять розовых перламутровых пятнышек в центре зеленой лужицы
не были цветами.
Золотистый свет проникал через грязное стекло, оставляя на полу сверкающий крапчатый рисунок. «Как на картинах Сёра», — подумала Таша, обходя мастерскую. Придя сюда в первый раз, она ужаснулась, но теперь ее охватили возбуждение и азарт. «Здесь я поставлю мольберт. За ним — подиум для натурщика. Там — столик. А вон в том углу я буду заниматься гравюрами, конечно, если смогу добыть станок».
Таша восхищенно замерла перед раковиной. Из крана капала вода. Какое счастье: здесь есть водопровод! Больше не придется по сто раз на дню таскаться в коридор!
— В алькове поставим двуспальную кровать — самую широкую, какую найдем. Покойся с миром, доска факира, покойся с миром, ты славно нам послужила! — воскликнул Виктор.
— Но-но, умерь пыл! Я не миллионерша!
— Я ведь сказал, что обстановка будет моим подарком. И отделка, разумеется, тоже. Тебе необходима туалетная комната — знаю-знаю, это тривиально, но…
Виктор увлеченно делился с Таша грандиозными планами, а она вспоминала своего предыдущего любовника Ханса, художника из Берлина. Она оставила его не потому, что он женился, — ее бесило, что Ханс позволяет себе вмешиваться в ее творческий процесс. Должна ли она держать Виктора на расстоянии по той только причине, что он стремится облегчить ей жизнь? Он ведет себя благородно и великодушно, не покушаясь на ее независимость. И никогда не пытался влиять на ее творческую манеру. Чем она, собственно, рискует, принимая его предложение? Она заявила, что станет сама платить аренду, но гуашь такая дорогая, что, даже отчаянно экономя на еде и нарядах, она может не потянуть все расходы.
— Итак?
— Ну что же, думаю… Да, я согласна!
Виктор порывисто обнял Таша.
— Здесь ты создашь шедевры! — шепнул он.
— Ты прав, пора сюда перебираться, иначе мои бедные холсты скоро зарастут плесенью. Крыша снова течет.
— Ничего удивительного, дождь идет не переставая. Послушай, что я предлагаю…
— Ты меня пугаешь.
— Раз ты все равно съезжаешь из мансарды, перевези картины ко мне, на время. Я освобожу для них место в столовой.
— Но… что скажет Кэндзи?
— Ему нет дела до обстановки моей квартиры. Сегодня же и начнем. Сейчас Средопостье, так что после обеда магазин не откроется. Я одолжу тележку у мадам Пиньо. Согласна?
Таша покусывала ноготь на большом пальце, решая, не слишком ли он напорист.
— А ты будешь приходить навещать свои полотна, когда захочешь, это будет отличный повод увидеться со мной.
— Какой же ты хитрец! — воскликнула Таша и наградила его звонким поцелуем в щеку.
Карнавал был в самом разгаре. Кучер фиакра сделал отчаянную попытку объехать шествие масок, но в конце концов застрял на пересечении бульваров Сен-Жермен и Буль Миш.
— С этими бесноватыми дальше не проехать, — недовольно буркнул он.
— Ничего, мы пройдемся пешком, тут недалеко, — успокоил его Виктор.
Улицу заполонила буйная толпа. Навстречу Таша и Виктору двигался кортеж поварят и маркиз, студенты пели и танцевали, осыпая друг друга конфетти. Подхваченная людским половодьем парочка добралась до «Золотого солнца» и с веселым смехом ввалилась в зал.
— Ну что, вырвались из объятий весельчаков? — спросила Нинон, поднимаясь им навстречу из полуподвального помещения ресторана.
Вишневое платье выгодно подчеркивало ее фигуру, на руках как всегда были доходящие до локтя перчатки. Морис Ломье выкрикивал противоречивые приказания, и два его подмастерья уже валились с ног от усталости.
— Нет, нет и нет! Опять криво! Поднимите левый угол! Ниже! Правее, теперь правее, черт побери!
Ученики, опасно балансируя на табуретках, пытались повесить картину размером метр на два. В какой-то момент они едва не уронили ее, и Ломье завопил, воздевая руки к небу:
— За что Господь послал мне этих тупиц?! Неумехи! Вы сорвете МОЮ выставку!
Он пнул ногой стул, напоролся на гвоздь, взревел и задергался, как одержимый, изрыгая затейливые ругательства. Подмастерья ретировались за пианино.
— Со вчерашнего дня нервы у него ни к черту, — вполголоса сказала Нинон. — Пойдем, выпьем анисовки, Таша, это тебя взбодрит. Я ненадолго похищу ее у вас, мсье Легри?
Не дожидаясь ответа, она увлекла за собой подругу.
— Видеть его больше не могу! Знаешь, что он осмелился мне предложить, когда я уходила от него в полночь? «Птичка моя, учитывая, сколько времени мы проводим вместе, советую тебе переодеться сквознячком, будешь иметь шумный успех на карнавале». Все, кончено! Я сыта по горло. Если пожелаешь, могу сегодня же стать твоей личной натурщицей.
У Таша перехватило дыхание, и она не сразу ответила:
— Я еще не готова. Виктор предложил приютить мои картины, у меня стало слишком влажно. Поможешь нам переехать?
— С радостью, это избавит меня от общения с этим некоронованным королем, — согласилась Нинон, кивая на Мориса Ломье.
Тот уже немного успокоился.
— Только не спрашивайте, больно ли мне! — рявкнул он, отвечая на встревоженные взгляды своих горе-помощников. — Вы повесите наконец эту чертову картину? — Тут он заметил Виктора. — А, мсье Легри, вы тоже здесь?
Виктор кивнул. Он смотрел на одно из полотен Таша, где был изображен Париж на рассвете — янтарно-золотое, в туманной дымке, солнце над серыми крышами с печными трубами, выплывающими из ночи, как рангоуты кораблей.
— Я назвал бы ее «Что видит без очков слепой крот», — язвительно заметил Ломье.
— А мне кажется, Таша удалось изумительно поэтично передать цвета нашего неба, — ответил Виктор, стараясь подавить раздражение.
— Лучше бы оттачивала рисунок, вместо того чтобы отражать свое подсознание.
— Разве Поль Гоген, чьим горячим последователем вы являетесь, не утверждает, что писать надо по памяти, а не с натуры?
— Я разрабатываю собственную теорию, согласно которой память следует за натурой. Но главное — линия, линия и еще раз линия! В этом смысле ничто не заменит работу в мастерской.
— Тогда порадуйтесь за Таша — у нее скоро будет собственная мастерская.
Морис Ломье хмыкнул.
— Значит, она все-таки пошла на содержание! — Во взгляде, которым он смерил Виктора, был вызов. — Согласилась, как и все они. Приобщите ее к своему увлечению?
— Если она захочет. Знаете, что сказал о фотографии Энгр? «Она восхитительна, но говорить об этом вслух не следует».
Первым в поле зрения Кэндзи попал сдвинутый на затылок капор, украшенный фиалками и вишнями и увенчанный вуалеткой. Потом он охватил взглядом роскошную брюнетку в красном платье и черной накидке, окутанную ароматом пряных духов.
— Вы — Кэндзи Мори? — решительным тоном спросила она.
Он вежливо поклонился.
— Очень рада. Меня зовут Нинон де Морэ. Таша не упоминала мое имя?
Кэндзи молча покачал головой.
— Нет? Как жаль… Она хвалила ваши знания и утонченный вкус. Таша вами восхищается.
Это заявление ошеломило Кэндзи.
— Я не знал, — только и смог прошептать он.
— Вы родились в Японии, путешествовали на Востоке. Вы именно тот, кто мне нужен.
— Я… Не хотите присесть?
— Нет. Стоя мы становимся ближе. Я люблю ощущать дыхание пространства между собой и собеседником, — промолвила Нинон, поднимая вуаль.
Она не двинулась с места, но Кэндзи не покидало ощущение, что они оказались почти вплотную друг к другу, и он молился, чтобы в лавку не зашел какой-нибудь покупатель.
— Я в отчаянии, мсье Мори. Раз Таша ничего вам обо мне не рассказала, позвольте пояснить: моя внешность обманчива, на самом деле я не богата и сама зарабатываю на хлеб — пишу для художественного журнала. Мне поручили статью о японских эстампах. В вашей коллекции они есть?
— Конечно! — с энтузиазмом воскликнул Кэндзи. — Хокусай, Утамара, Кийонага — конец XVIII — начало XIX века.
— Вы мой спаситель! Я уже и не надеялась найти эротические эстампы!
Кэндзи переменился в лице.
— Я сказала глупость? Разве не все эстампы посвящены плотской любви?
— Как вам сказать… Нет. Художники, которых я вам назвал, разрабатывали множество разных сюжетов, но…
— Значит, у вас нет вещей этого жанра? Какая незадача, вы были моей последней надеждой, теперь все пропало!
— Вообще-то, я мог бы показать вам несколько образчиков, вот только…
— Да?
— Боюсь оскорбить вашу стыдливость. Живописные изображения полового акта оскорбляют чувства европейцев. Их считают неприличными, тогда как на Востоке эротизм воспринимают как искусство и…
— Я разделяю вашу точку зрения, мсье Мори. Ведь я не только журналистка, но и модель, причем часто позирую обнаженной.
Не будь ее тон таким спокойным и обыденным, Кэндзи мог бы подумать, что она хочет его смутить.
— Итак, вы согласны? Я обещала Таша и мсье Легри, что помогу им сегодня вечером переехать. Думаю, мы увидимся, вы ведь тоже придете?
— Приду? Я? Но куда? — растерянно пробормотал он.
— К Таша, забрать ее картины и перенести сюда. А потом вы уделите мне немного времени и покажете свои сокровища. Прошу вас, мсье Мори, скажите «да»!
— Идет. Скажем… сегодня вечером, в половине восьмого, после… переезда. Я живу на втором этаже.
— Замечательно! Вы просто прелесть, мсье Мори! Побегу переоденусь в альпинистский костюм — в мансарду Таша не так-то просто вскарабкаться!
Она послала ему воздушный поцелуй, и сердце Кэндзи затрепыхалось, как выскочившая из аквариума золотая рыбка.
Виктор свернул с улицы Жакоб на улицу Сен-Пер. Мадам Пиньо, которая пребывала в вынужденном простое из-за карнавала, не сразу, но все же согласилась одолжить ему свою тележку. Он был у дома № 18, когда из книжного магазина вышла женщина в большой шляпе с вуалеткой, украшенной цветами, дружески помахала Кэндзи и направилась в сторону набережной. Виктор поставил тележку во дворе, открыл дверь, и в нос ему ударил пряный аромат духов.
— Вы провели дезинфекцию? — спросил он стоявшего за прилавком Кэндзи и чихнул.
— Вам не нравится запах?
— Та, что пользуется этими духами, явно хотела сохранить инкогнито, — буркнул Виктор, прижимая к носу платок. Он нагулял аппетит и надеялся, что Жермена уже что-нибудь приготовила. — Вы обедали?
— Нет… еще нет… — рассеянно ответил Кэндзи.
«Та надушенная покупательница явно произвела на него впечатление», — подумал Виктор, принимаясь за утку с апельсинами.
Кэндзи присоединился к нему за столом.
— У вас есть планы на вторую половину дня? Герцог де Фриуль показывает свою коллекцию инкунабул, — небрежно бросил он, беря крылышко.
— Я предложил Таша перенести картины сюда, в ее комнате слишком сыро.
— Пожалуй, я вам помогу.
— Вы?! — Виктор застыл, не донеся салфетку до рта.
— Да, я. Не зачисляйте меня в инвалидную команду!
Они совершенно выбились из сил, пока добирались до улицы Сен-Пер. День был чудесный, идеальная погода для карнавала, но не для того, чтобы тащить тяжеленные картины через квартал, запруженный толпами участников карнавала.
— Ну разве они не прелесть? — воскликнула Нинон, указывая Таша на Виктора и Кэндзи. — Будь у меня твой талант, я написала бы с них картину и назвала ее «Реванш».
— Ты слишком сурова, они славно потрудились. Я зауважала Кэндзи.
Девушки шли за тележкой. В длинных ярких блузах, с распущенными волосами, они были похожи на цыганок.
— Не заблуждайся, Кэндзи оказался тут ради меня. Он думает, я репортерша, воспылавшая страстью к искусству Востока.
Таша подавилась смехом.
— Тс-с! Не выдавай меня, — шепнула Нинон, проходя в ворота дома № 18.
Мадам Баллю стояла посреди двора, уперев руки в бока, и с неудовольствием взирала на процессию.
— И что вы намерены делать со всем этим барахлом, хотела бы я знать? Надеюсь, не поволочете по лестнице? Я только что натерла ее воском!
Мужчины, не удостоив ее ответом, подхватили по несколько картин и цепочкой поплелись через двор к дому. Нинон потянула на себя ручку парадного, не удержала тяжелую дверь и прищемила палец. Кэндзи и Виктор кинулись на помощь.
— Вам больно?
Нинон безмятежно улыбалась и, казалось, вовсе не чувствовала боли.
— Ничего страшного, перчатка смягчила удар. Будет синяк, но это не беда.
— Нужно сразу же подставить пальцы под холодную воду. Идемте со мной, — приказал Кэндзи.
Он отвел ее в туалетную комнату.
— Покажите руку.
— Как вы заботливы, друг мой! Я позирую в костюме Евы, но никогда не раздеваюсь в присутствии мужчины. Подождите здесь. Какая роскошная ванна! Должно быть, славно отдыхать тут после тяжелой работы!
С этими словами она захлопнула дверь, оставив смущенного Кэндзи за порогом.
Виктор и Таша поставили картины у стены в столовой.
— Твоя подруга околдовала Кэндзи, он редко так суетится из-за женщины. Надеюсь, она не съест его с потрохами.
— Не переживай за него, он уже большой мальчик.
Таша оглядела сдвинутую мебель и обратила критический взор на портрет Виктора в стиле «ню».
— Хочу написать другой, добавить света. Будешь мне позировать?
— Если перестанешь огрызаться всякий раз, когда я пытаюсь о тебе позаботиться, — отвечал он, заталкивая «обнаженную натуру» за буфет.
— Зачем ты его прячешь? Стесняешься?
— Просто не хочу выставлять анатомические подробности моего тела на всеобщее обозрение.
— Но мои-то — вот они, смотри не хочу, — возмутилась Таша, кивнув на стену, где висел ее портрет.
— Твои куда красивей.
— Лицемер!
Она замолчала, услышав, что возвращаются Кэндзи с Нинон. Вчетвером они закончили разгружать тележку и отправились на кухню угоститься лимонадом.
— А не перекусить ли нам? Приглашаю вас в «Фуайо», — предложил Кэндзи.
— Сегодня? Там будет уйма народу, ведь карнавал еще не закончился, — заметила Таша. — Идите, а мне нужно вернуться в «Золотое солнце».
— Я обещал мадам Пиньо вернуть тележку, как только мы закончим, — с извиняющейся улыбкой сказал Виктор, — заодно проведаю Жозефа, а потом сяду за письма.
— А вы, мадемуазель Нинон? — посмотрел на девушку Кэндзи.
— Сожалею, мсье Мори, мне надо зайти домой переодеться, у меня важная встреча в половине восьмого.
— Покупайте «Пасс-парту»! Последние новости! Труп из Сен-Назера опознан! — выкрикивал мальчишка-разносчик.
Виктор поставил тележку к тротуару, махнул мальчишке рукой, взял у него газету и торопливо развернул.
ТРУП ОПОЗНАН
Гражданин США Льюис Айвз, судя по найденному в его бумажнике билету, 26 ноября 1889 года поднялся на борт трансатлантического лайнера «Лафайетт», курсирующего между Францией и Центральной Америкой. Согласно сведениям, полученным в консульстве, после того как потерял работу прораба на строительстве канала, господин Айвз стал старателем. Он проживал в колумбийском городе Кали, у сеньоры Кайседо, владелицы отеля “Розали”. К сожалению…
Виктор перечитал заметку еще раз и чуть не выронил газету. У него закружилась голова. Гостиница «Розали», та самая гостиница «Розали». Адрес Армана и адрес, найденный у загадочной четы Тюрнеров…
Улицу заполонили прекрасные яванки, коты-в-сапогах, пьеро и коломбины, а Виктор все стоял в задумчивости, пытаясь вспомнить, какое происшествие упоминал недавно его неугомонный приказчик.
Жозеф очнулся от тяжелого забытья, услышав, как хор веселых голосов распевает во все горло под его окном:
Мое сердце сходит с рельсов,
Как Версальский поезд.
Жозефина! Жозефина!
Жми на стоп своей машины…
Жозеф вспотел и хотел было попросить у матери стакан воды, но вспомнил, что она ушла за горчичным порошком к мадам Баллю. И тут он заметил, что в комнате кто-то есть.
Плотная штора приглушала свет, и некто в плаще с капюшоном казался медленно колышащейся тенью, призраком.
— Кто здесь? — с дрожью в голосе выдохнул Жозеф.
Тень бесшумно двинулась к его кровати.
— Ответьте, — молил перепуганный юноша.
Безмолвный призрак неумолимо приближался. Папаша Моску пришел за ним! Жозеф уже чувствовал у себя на шее ледяные пальцы мертвеца… Он выпутался из простыней, рванулся из постели, споткнулся и рухнул навзничь.
— Иисус-Мария-Иосиф! Что с тобой, сынок?! — воскликнула Эфросинья Пиньо, кидаясь к нему.
— Он… он ушел?
— Кто он?
— Призрак!
— Тебе приснился кошмар, сынок, здесь никого нет и не было. Ложись, я поставлю тебе горчичник.
Жозеф хотел было возразить, но в дверь постучали, и он нырнул под перину.
— Как там наш больной? — узнал он голос Виктора.
— Я здесь, патрон. Умоляю, скажите матушке, чтобы не ставила мне…
— Присмотрите за ним, мсье Легри, я только что нашла его на полу! — крикнула из кухни мадам Пиньо.
— Жозеф, покажите ваши газетные вырезки о сен-назерском трупе!
— Зачем? Это никак не связано с тем, что нас интересует.
— Не спорьте, это очень важно!
— Ну вот! Вчера вы меня на смех подняли, а сегодня… Ладно, ладно, я понял.
Жозеф достал из-под подушки свой блокнот. Виктор пролистал его, без сил опустился на стул и молча протянул Жозефу «Пасс-парту».
— Спасибо, патрон, я просил маму купить, но она забыла.
— Читайте, — велел Виктор.
Жозеф быстро пробежал глазами статью.
— Итак, его звали Льюис Айвз? Отличная загадка, я использую ее в моем расследовании. Как, по-вашему, патрон, инспектор Лекашер знает свое дело?
Виктор сделал глубокий вдох, стараясь сохранять спокойствие.
— Сен-назерский покойник — не Льюис Айвз, а Арман де Валуа, — процедил он сквозь зубы.
Жозеф обомлел.
— Арман де Валуа? Это невозможно! Он умер от желтой лихорадки в Панаме и… Черт! А.Д.В. — это Арман де Валуа! Как же я не догадался! Но почему вы так в этом уверены?
— Меня навела на мысль одна маленькая деталь. Слушайте внимательно: «…Рост мужчины — метр семьдесят пять, возраст — от тридцати пяти до сорока пяти. Волосы и борода — темно-каштановые, правая нога чуть короче левой, что при жизни приводило к легкой хромоте…»
— Не понимаю, патрон.
— Арман де Валуа хромал.
— Не может быть! Вы в этом уверены?
— Абсолютно. Одетта называла его хромоножкой. Правда, заметить это мог только очень наблюдательный человек.
Возбужденный неожиданным поворотом дела, Жозеф сел в постели.
— Если все так, значит, тот, кто убил Денизу и папашу Моску, пытается заставить нас поверить, что Арман жив.
— Возможно, но с какой целью?
— Чтобы повесить на него все преступления, конечно!
— Это нелепо! К чему такие сложности? Все убеждены, что Арман де Валуа погиб в Колумбии.
— Дайте подумать… Возможен другой вариант: А.Д.В. жив и здоров и выдает себя за хромого беднягу Льюиса Айвза, чтобы безнаказанно творить злодеяния. Кто заподозрит покойника?
— Но зачем тогда ему оставлять автограф в логове папаши Моску? Это же глупость! Нет, такая версия не годится. — Виктор мерил шагами комнату, заложив руки за спину.
— Мы не с того конца взялись за дело, — подвел итог Жозеф. — По сути, у нас одни догадки и предположения. А доказательств — ноль.
— Не спешите с выводами. Есть кое-что еще. Я рассказал бы раньше, но вы слишком плохо себя чувствовали. Благодаря вам я нашел дом на площади Бастилии рядом с панорамой, где квартировала ясновидящая. А еще выяснил, что Арман де Валуа и Льюис Айвз жили в Кали в одной гостинице и что между ними и ясновидящей существовала некая связь. Дениза была права.
— Я это знал, я это знал, я это знал! — воскликнул Жозеф и стукнул кулаком по газете.
Внезапно что-то в статье привлекло его внимание, и он замолчал, но тут в комнату вошла мадам Пиньо с горчичниками.
— Готово, сынок! Вот увидишь, это пойдет тебе на пользу!
— Боже, мама, ты сбила меня с мысли! Что ты хочешь… Нет, только не это! На помощь, патрон! — фальцетом воскликнул Жозеф.
— Простите, мадам Пиньо, — встал на его защиту Виктор, — но я сомневаюсь в пользе подобного лечения.
— И напрасно, мсье Легри. От лихорадки и жара нет лекарства лучше. А вы, при всем моем к вам уважении, ничего в этом не смыслите. Давай, сынок, задери рубашку и не спорь!
Жозеф подчинился, жалобно протестуя. Когда холодный горчичник коснулся его кожи, он вздрогнул.
— Он всегда был неженкой, — сообщила мадам Пиньо Виктору. — Не вертись. Как же ты похож на отца! Так, а теперь мне нужно все подготовить на завтра — я уйду ни свет, ни заря. Все бы ничего, только вот спину ломит…
— Я вам помогу, — предложил Виктор, обменявшись с Жозефом заговорщицким взглядом.
Не успели он и мадам Пиньо выйти за порог, как юноша сорвал горчичник, сунул его под подушку и стал тихонько напевать:
— Мари Тюрнера причесывала дам… — Он замолчал, вспомнив прогулку с Денизой по бульвару Капуцинок, а потом вернулся к мысли, прерванной появлением матери. Где, в какой газете он видел это имя? Внезапно его осенило. Праздник. Зазывала: «Заходите, дамы и господа, посмотрите реконструкцию…» Его бросило в жар.
— Черт возьми! — воскликнул он.
— В чем дело, сынок? С тобой все в порядке?
Встревоженная мадам Пиньо вбежала в комнату, за ней по пятам следовал Виктор. Жозеф едва успел нырнуть под перину.
— Все хорошо, мама, просто жжет очень сильно, ай! Как больно!.. Вот, ты довольна? А теперь оставь нас, мне нужно поговорить с патроном о работе.
Мадам Пиньо неохотно повиновалась.
— Тебя это не убьет, не ной… — ворчала она. — А то, что не убивает, делает нас сильнее.
— Патрон, в сарайчике, на нижней полке одного из стеллажей, лежат сложенные по годам газеты. Принесите мне стопку за 1879-й!
Виктор молча направился в сарай.
В слабом свете, лившемся из пыльного слухового окошка, он не видел, как некто в маске медленно протянул руку к паре перчаток, лежавшей между двумя островерхими касками, и уже готовился схватить вожделенную добычу, но тут Виктор споткнулся, задел стопку книг и ухватился за спинку стула, чтобы не упасть. Рука незнакомца застыла в воздухе, потом длинные пальцы ухватили одну из перчаток, вторая упала на пол.
— Вам нужна свеча, патрон? — крикнул ему из окна Жозеф.
— Нет, я уже нашел.
Злоумышленник выскользнул во двор за несколько секунд до того, как Виктор добрался до стеллажа. Он наступил на перчатку, не заметив ее.
Виктор принес газету, и Жозеф стал лихорадочно перелистывать страницы. Его внимание привлек крупный заголовок:
ДЕЛО КАЙСЕДОНИ:
МАРИ ТЮРНЕРА ОПРАВДАНА
— Вот оно! Нашел! Я не сумасшедший! Не знаю, почему, но думаю, в этом что-то есть!
— Да объясните же мне наконец! — воскликнул Виктор.
Жозеф закрыл большим пальцем две последние буквы в фамилии «Кайседони».
— Прочтите, патрон.
— Кайседо… Боже праведный!
Виктор отобрал у Жозефа газету.
— Кайседони… Кайседо… Тюрнера… Тюрнер, — как завороженный пробормотал он и выбежал из комнаты, не сказав ни слова изумленному Жозефу.
Виктор прошел дворами к редакции «Пасс-парту», располагавшейся в старом двухэтажном здании рядом с типографией и граверной мастерской. С наслаждением вдыхая запах краски и бумажной пыли, миновал наборный цех. В помещении стоял оглушающий грохот. Толстяк Гувье в сдвинутом на затылок котелке с потухшей сигарой в зубах смотрел, как метранпаж заканчивает набирать текст. Виктор похлопал его по плечу.
— Гляди-ка, кто к нам пришел! Целую вечность вас не видел! Как жизнь, мсье Легри? — прокричал Гувье, перекатывая сигару из одного угла рта в другой. — Идемте, здесь ни черта не слышно.
Толстяк привел Виктора в свой маленький тесный кабинет. Он ничуть не изменился за те несколько месяцев, что они не виделись. Все тот же коричневый костюм, невозмутимое лицо, брюзгливо отвисшая нижняя губа. Неуклюжие движения, нарочито медленная манера говорить и добродушный вид делали этого человека похожим на неотесанного мужлана, в действительности же Исидор Гувье был первоклассным профессионалом.
— Как идут дела в газете? — поинтересовался Виктор.
— Лучше не бывает. Реклама спасла нас от банкротства, мы даже набрали новых сотрудников. Тиражи неуклонно растут. Одно плохо — Зидлер взял Эдокси Аллар в Мулен-Руж, будет там ножками махать. Вот уж подложила нам свинью эта любительница танцев! А как поживает малышка Таша? Я видел ее карикатуры в «Жиль Блаз». Она чертовски талантлива! Чего не скажешь о ее преемнике. Что вас к нам привело, мсье Легри?
— Мне нужна ваша помощь, Исидор. Я ищу сведения об одном процессе десятилетней давности: дело Кайседони. Припоминаете?
— Еще бы! Я был тогда агентом Сюрте. В убийстве подозревали любовницу жертвы, прелестную юную малышку. Доказательств не было, и ее оправдали. Но почему вас это заинтересовало, мсье Легри? Извините мое любопытство…
— Я взялся за роман об уголовном расследовании.
— Понимаю, этот жанр приобретает все большую популярность. Чем могу быть вам полезен?
— Хотелось бы побеседовать с кем-нибудь из свидетелей по делу Мари Тюрнера.
— С этим проблем не будет, я сейчас подниму архив. Как мне с вами связаться?
— Звоните в магазин, улица Сен-Пер, 18.
— Ждите завтра моего звонка.
Они спустились на первый этаж.
— Я вызвал экипаж, могу вас подвезти, а по дороге продолжим разговор, — предложил Гувье.
Они сели в фиакр, и Исидор назвал адрес:
— Набережная д'Орсэ, Счетная палата!
Виктор едва сумел скрыть удивление:
— Счетная палата?
— Да, там нашли труп. Прочтете завтра в газете. Хочу пообщаться со славным инспектором Лекашером, расследование поручено ему. Он воспылал неожиданной страстью к археологии и роет носом землю.
— Кто убитый?
— Женщина. Парочка обжималась в кустах и наткнулась на зонт. А он лежал на груди у аппетитной блондинки — лет тридцати, если верить эксперту. Парочка здорово перепугалась, думаю, находка надолго отобьет у них охоту к свиданиям на свежем воздухе! Я был в префектуре, когда об этом стало известно, и час спустя добрался до места преступления. То еще зрелище, можете мне поверить. Жертву сильно ударили по затылку. Дамочка из богатых: на ней каракулевое манто и платье от «Релижьез», это лавка на улице Тронше, там торгуют траурной одеждой. Полиция проверит их книги и быстро установит личность убитой. Женщина была замужем, осталось обручальное кольцо на пальце, убийцу оно, как ни странно, не заинтересовало. Для очистки совести я зашел в бюро по розыску пропавших. Чиновник, его имя Жюль Борденав, вспомнил визит некоего господина, обеспокоенного участью знакомой дамы, чей муж скончался в Панаме. Борденав выяснил, что дама ему не родственница, и не принял заявление. Тупые бездари! Их бы следовало навечно сослать сажать репу! Исполни он свой долг, того человека легко было бы прижать, это наверняка любовник, а может, и убийца, кто знает. «Я так ее любил, что убил!» Неплохой заголовок, согласны?
Они проезжали мимо Королевского моста.
— Пожалуй, тут я сойду, — прерывающимся от волнения голосом сказал Виктор.
— Приходите еще, поболтаем. И поцелуйте от меня Таша, хоть она и предательница. Ах да, мсье Легри, я ищу секретаршу, которая умеет держать язык за зубами и печатать, у вас нет кого-нибудь на примете?
Слезы застилали Виктору глаза. Он брел по набережной, сам не зная куда. Несмотря на прекрасную погоду, его била крупная дрожь. Одетта мертва! Как это произошло? Он должен немедленно встретиться с Лекашером и сообщить, что убийца — папаша Моску.
Виктор замедлил шаг. На другом берегу Сены высилось массивное здание пустующей Счетной палаты. «Нет, нельзя этого делать!» — шепнул ему внутренний голос. Виктор представил себе недоверчивый взгляд инспектора. «Он не поверит в твою историю, у тебя нет ни фактов, ни доказательств, — одни впечатления. Как выразился бы Жозеф, твое расследование сугубо импрессионистично…»
Виктор очнулся только на улице Лувра, когда оказался среди праздных гуляк в накладных носах и масках. Народ все прибывал, террасы кафе брали приступом. На площади Побед он столкнулся с вереницей арлекинов и полишинелей, за ними, в увитых гирляндами колясках, ехали белошвейки и прачки, которые бросали в прохожих серпантин и отпускали шуточки. Замыкали процессию тяжелые повозки с оркестрантами, направлявшимися на ночной бал в Оперу.
Виктор не знал, как выбраться из толпы. Хромоножки со Двора чудес, нищие паломники из Компостелло, ряженые, наевшиеся мыла, чтобы изображать эпилепсию, шулеры с краплеными костями, ковыляющие на костылях псевдокалеки кружили вокруг него в дьявольской сарабанде.
— Кто без маски, платит выкуп! Подайте! Подайте!
Виктору пришлось кинуть им горсть мелочи, только тогда они разомкнули кольцо.
Таша снова посмотрела на часы. Она собиралась провести вечер с Виктором и отказалась ужинать в «Золотом солнце», а теперь томилась в ожидании. Ноздри ей щекотал запах приготовленного Жерменой кролика под грибным соусом. Зазвонил телефон. Таша не сняла трубку, думая, что ответит Кэндзи, но он, очевидно, не услышал звонка, и девушка спустилась вниз, оставив дверь комнаты приоткрытой.
— Это я, дорогая, — услышала она голос Виктора. — Прости за опоздание. Я застрял. Вокруг чертова прорва народу, ни один фиакр не проедет.
— Откуда ты звонишь?
— Из кафе, с Риволи.
— Хорошо, я жду тебя. Звонил Гувье. Назначил тебе свидание в «Жан Нико», завтра утром, в десять.
Она медленно поднималась по лестнице, пытаясь понять, что могло отвлечь Виктора от дел дома и в магазине. Зачем он встречался с Исидором? Видимо, все-таки продолжает расследование. Как остановить его? Ультиматумы губят любовь. Девушка остановилась и прислушалась: ей показалось, что в комнате Кэндзи кто-то смеется.
— Погорячее! — крикнул женский голос, и послышался шум воды.
Глава десятая
С раннего утра сыпал противный мелкий дождь, и в пивной «Жан Нико» было полно журналистов и типографских рабочих. Исидор Гувье сидел за столиком в глубине зала, курил сигару и пил грушевую водку. Виктор повесил мокрый плащ на спинку стула и заказал кофе.
— Простите, что вытащил вас из дома в такую непогоду, мсье Легри. Я звонил, чтобы отменить встречу, но мне никто не ответил.
— Магазин сегодня закрыт, мой компаньон взял выходной, — объяснил Виктор. Утром он имел счастье видеть, как одетый в элегантный костюм в полоску Кэндзи удрученно созерцает небо, а потом бежит к фиакру, придерживая рукой канотье. Виктор подозревал, что у его друга назначена встреча в кабачке на берегах Марны с женщиной, благоухающей духами. Романтическое свидание может оказаться под угрозой.
— Вынужден вас огорчить, мсье Легри, — я просмотрел все свои досье, но улов оказался очень скудным. Вот, держите, я записал для вас адрес женщины, которая дала на суде показания в пользу Мари Тюрнера. Не уверен, что она жива и никуда не переехала. Имейте в виду — она жила у черта на куличках!
— Благодарю, это уже кое-что. А кстати, труп из Счетной палаты уже опознали?
— Нет, тело находится в плачевном состоянии, им полакомились черви, так что зрелище не слишком аппетитное. Но зато нашли еще одного покойника! Некий папаша Моску, он жил там много лет. Ему тоже проломили голову, но позже. Полицейские не знают, что и думать. Это должно вас заинтересовать, мсье Легри, хорошее начало для запутанного детективного романа.
— Предпочитаю отталкиваться от раскрытых дел! — воскликнул Виктор, сдерживая дрожь.
Гувье взглянул на него с участием:
— Однако, вы впечатлительны! Тут нечего стыдиться, я вполне вас понимаю. Тридцать лет веду уголовную хронику, много чего повидал, но так и не привык. Вам нужно взбодриться. Официант, две водки!
Виктор был так потрясен смертью Одетты, что не спал полночи. Перебирая возможные варианты развития событий, он неизменно приходил к одному и тому же выводу: Жозефа провели, папаша Моску жив, он убил Одетту и скрылся. Смерть старика разрушала эту версию.
— Вынужден вас покинуть, мсье Легри, мне пора. Удачи, до скорого и держите меня в курсе.
Гувье пошел к выходу, раздвигая толпу плечом. В тот момент, когда он толкнул дверь, солнце прорвало завесу черных туч и осветило улицу.
…Три гнедые лошадки не торопясь тащили за собой омнибус «Лувр — Бельвиль». Все двадцать восемь сидячих мест были заняты, люди стояли даже на площадке. Ехавший на империале Виктор был зажат между толстой дамой с корзинами и бородачом, страдающим хронической икотой.
На пустыре между старыми, выдвинувшимися на тротуар домами щипал траву ослик и присматривал за своими козами пастух.
С обширного лысого газона, разбитого поверх бывших гипсовых карьеров между улицами Бельвю и Манен, молочник предлагал молоко «прямо из американский прерий».
Омнибус заполонили домохозяйки в платочках, накупившие на рынке овощей. За ним с веселыми криками бежали мальчишки. Девчушка споткнулась о камень, молоко из железного бидона пролилось на землю, и бродячий пес принялся лакать из белой лужицы.
Омнибус остановился у дома № 25 по улице Бельвиль.
— Конечная! — крикнул кондуктор.
— И когда только они построят этот треклятый фуникулер! — воскликнула толстая пассажирка, поднимая с пола корзины. — Обещают, обещают, а толку чуть.
— Они вам могут и луну с неба посулить, вы что, поверите? — спросил бородач и икнул. — Эй, подождите, кому говорят!
Виктор спустился по лестнице. Кто-то толкнул его, он обернулся и заметил быстро удалявшегося лицеиста.
На узком тротуаре перед домами сидели на стульях женщины и старики, чистили овощи, вязали или играли в карты. Бродячие торговцы кричали во все горло, предлагая свой товар: «Четыре су за литр!», «Корм для птичек!», «Кроличьи шкурки, теплый мех!» Из-за своих садов, дворов и колодцев Бельвиль казался большой деревней. Виктор искал улицу Рампоно, где жила свидетельница по делу Мари Тюрнера Франсина Блаветт, и сожалел, что с ним нет Таша. Ей бы понравилась здешняя атмосфера. Он пообещал себе, что вернется и сфотографирует эти лачуги, пока строители фуникулера не снесли их. Прав был Бодлер, когда говорил:
Где старый мой Париж!..
Трудней забыть былое,
Чем внешность города пересоздать!
Мадам Блаветт была жива и здорова и оказалась дома, но Виктору, по ее словам, несказанно повезло, потому что в столь поздний час она обычно
шляется в других местах.
— Уж простите за такое выражение — набралась от актеров. Будь у меня талант, сыграла бы четырех мушкетеров. Одна. Женские роли не по мне.
Она пригласила Виктора к себе, в тесную двухкомнатную квартирку на четвертом этаже дома, возле которого разгуливали квохчущие куры. Небольшого роста, пухленькая, лет сорока, она говорила с сильным бургундским акцентом. Виктор спросил ее о Мари Тюрнера, и она начала рассказывать:
— Мари жила этажом ниже, с бабушкой. Славная была девушка, работала не покладая рук — вышивала салфетки на продажу. Она выросла у меня на глазах. Боже, до чего прелестная была малышка! Может, слишком худенькая, но держалась как принцесса. В ней была та самая изюминка, которая так привлекает мужчин, если вы понимаете, о чем я. Розали, бабка Мари, прекрасно понимала, что за внучкой нужен глаз да глаз, и отдала ее в обучение к подруге-модистке, у той была лавка близ Батиньоля.
— Анатоль! Анатоль-зануда! — раздался какого-то странного тембра голос из соседней комнаты.
— Помолчи, Меленг! — прикрикнула мадам Блаветт и, заметив изумление на лице Виктора, пояснила: — Это мой скворец. Я назвала его в честь Гюстава Меленга
[29], он дебютировал у нас и только потом стал играть с Фредериком Леметром и прославился в Париже, где заработал кучу денег и…
— Анатоль-зануда! — повторила птица.
— Заткнись, Меленг! Этой песенке его научил мой сосед-комик, он играет в кафе «Тамбурин» на Монмартре, вместе с мадам Миркой и Альфредой. Благодарение Богу, что он не выбрал последнюю строку: «У меня в корсете птица!»
— Так вы актриса?
— Ну да! Двадцать лет служу у Лесажа и в Бельвиле, начинала билетершей, потом стала кассиршей. Если еще не видали, обязательно посмотрите «Отверженных».
— Хитрец-молодец! Хитрец-молодец! — не унимался скворец.
— Значит, Мари Тюрнера работала у модистки?
— Не слишком долго. Она покорила сердце одного иллюзиониста, он выступал на Бульварах и взял ее в номер. Потом они повздорили, и Мари ушла в салон Лантерика, мыла головы клиентам. Ей не повезло — она повстречала Данте Кайседони. Артистом он был не очень, так, средней руки, начинал суфлером. Они прямо здесь, у меня, и познакомились! Я гладила ему рубашки, а она пришла одолжить сахару.
— Его, кажется, убили?
— Я как раз к этому подхожу. У них была любовь с первого взгляда. Не знаю, что она в нем нашла, разве что смазливое лицо. Этот флорентийский красавчик… был игрок, и малышка кормила его, поила и одевала, а запросы у него были ого-го, он любил все самое лучшее. А как иначе соблазнишь великосветских дамочек? Губа у него была не дура, подруг он менял как перчатки, а свидания устраивал в меблирашках на бульваре Сен-Мишель. Все это, конечно, открылось только потом. Мари оплачивала его долги, а ведь у них с бабушкой никогда лишнего су не водилось…
— А потом?.. — прервал излияния мадам Блаветт Виктор. — То есть после его смерти?..
— Данте закололи ножом, пырнули несколько раз, и в убийстве сразу заподозрили Мари, потому что рядом с телом нашли окровавленный платок с инициалами
«М. Т.». Ее арестовали. Она все отрицала. На ее несчастье, в день убийства она повредила руку ножницами, и в больнице ей ампутировали фалангу большого пальца. Легавые тут же решили, что она поранилась орудием преступления. Но Мари повезло с адвокатом, а у полиции не было ни одного веского доказательства. Вокруг Данте вечно крутились темные личности, многим его смерть была на руку. Мы с иллюзионистом были свидетелями защиты, рассказали, какая Мари милая, добрая и верная девочка. Она была такая молоденькая и хорошенькая, что присяжные ее оправдали. Неделю спустя умерла Розали — сердце у старушки не выдержало волнений, — и Мари съехала. Мы обе плакали, расставаясь. «Я не могу остаться, Франсина, слишком много тяжелых воспоминаний…» — так она сказала.
— Анатоль! Анатоль!
Мадам Блаветт молча встала и закрыла дверь.
— С тех пор вы больше не видели Мари? — спросил Виктор.
— Никогда.
— И не знаете, что с ней сталось?
— Она помирилась со своим фокусником. Они сделали новый номер и представляли его несколько месяцев, а потом решили попытать удачи в Америке. Мари сообщила, что уезжает, и пообещала писать мне. Десять лет прошло, но я так и не получила от нее весточки.
— А как звали фокусника?
— Медерик Делькур. Он выступал в театре «Робер-Уден»
[30], что на бульваре Итальянцев в доме № 8. Одна моя соседка недавно водила туда внука. Два года назад театр перешел к другому хозяину, и они теперь дают довольно забавные представления. Соседка показала мне программку, и среди имен артистов я нашла Батиста Делькура, должно быть, родственник того самого…
Виктор сердечно поблагодарил мадам Блаветт и пообещал прислать ей подписанный экземпляр своей книги «Самые великие криминальные тайны», как только допишет и издаст ее.
Во время вылазки в Бельвиль он нагулял аппетит, но решил сэкономить время и перекусил двумя круассанами и кофе со сливками. Выйдя на Большие бульвары, он на мгновение ощутил себя деревенским жителем, неожиданно оказавшимся в самой гуще бурной столичной жизни. Копыта лошадей цокали по мостовой, переругивались возницы, разносчики распевали куплеты, зеваки сидели на террасах кафе, глазея на прохожих.
Виктор задержался под навесом театра «Робер-Уден»: до начала утреннего представления оставалось еще полтора часа. Он взбежал на третий этаж, к кассам, где молодой человек в рубашке с засученными рукавами, весело насвистывая, прикреплял к стене афишу.
— Мы еще закрыты, — сообщил он.
— Знаю, мне нужно поговорить с мсье Батистом Делькуром.
— У вас назначена встреча?
— Нет, я пишу статью о магии и хотел бы взять у него интервью.
— Тогда вам лучше побеседовать с мсье Жоржем Мельесом, он вам много чего может рассказать. Не знаю, согласится ли мсье Делькур поговорить с вами, он сейчас репетирует, вон там.
Виктор вошел в темный зал, и прямо у него на глазах вдруг ожил полотняный экран. Проехал поезд, взлетела в небо голубка, взмыл шлагбаум переезда, подбросив вверх козу.
«Пластины из цветного стекла. Весьма изобретательно! Специальная система создает иллюзию движения», — подумал Виктор.
— Какого черта вы здесь делаете? — прозвучал недовольный голос из глубины зала.
Занавес отдернули, и свет ослепил Виктора. Седовласый мужчина стоял перед треногой с волшебным фонарем.
— Я ищу Батиста Делькура.
— Считайте, что нашли.
— Мне посоветовала встретиться с вами мадам Блаветт. Я пишу о самых громких уголовных процессах последнего десятилетия и хочу посвятить главу Мари Тюрнера. Она уехала в Америку с человеком по имени Медерик Делькур. Не член ли он вашей семьи?
— Двенадцать лет назад у меня был сценический псевдоним — Медерик Великий. Теперь я Батист. Послушайте, мсье не-знаю-как-вас-там, все это осталось в прошлом. Я тогда достаточно дерьма нахлебался и не хочу снова во всем этом копаться.
— Понимаю и прошу простить меня за то, что пытался обмануть вас. Никакой книги я не пишу. Меня зовут Виктор Легри, и мне жизненно необходимо поговорить с вами о Мари. Она вернулась в Париж. Больше я ничего сказать не могу, но мне очень нужна ваша помощь. Мари в опасности. Я хочу защитить ее, но для этого мне нужно узнать некоторые детали ее прошлого.
— Вы из полиции?
— Конечно, нет, с чего вы взяли?
— А с того, что я не верю ни единому вашему слову! Говорите, она в большой опасности? С чего бы это? Вы что, ее нынешний дружок? Если так — мне вас жаль. Так и быть, старина, я уделю вам полчаса. Можете угостить меня стаканчиком.
На вид Батисту Делькуру можно было дать около пятидесяти: жесткие седые волосы, усталые глаза за стеклами очков, лицо бороздят глубокие морщины. Он сидел, поставив локти на стол, и цедил слова, медленно, с трудом:
— Так любишь только раз в жизни, вы вряд ли меня поймете. Я понял, что погиб, как только ее увидел. Мне следовало бежать сломя голову, но я дал слабину. Она стала моей ассистенткой. Я не смел даже лишний раз взглянуть на нее, не говоря уж о том, чтобы прикоснуться. Однажды я набрался храбрости обнять ее. О, не подумайте ничего дурного! Мари оттолкнула меня — я был слишком стар для нее. Я ведь и правда годился ей в отцы. Она ушла от меня и стала работать в парикмахерской. Как только выдавалась свободная минутка, я шел к салону и пытался разглядеть ее через стекло витрины. Поджидал у выхода. А потом появился Данте и произошло убийство. Вы в курсе?
— Более или менее.
— Я писал ей, посылал передачи до и после процесса. Дал на суде показания в ее пользу. Когда Мари оправдали, она согласилась вернуться ко мне: больше ей некуда было пойти, ее бабушка умерла. Я учил Мари моему ремеслу, готовил с ней номера: «Женщина, разрезанная надвое», «Волшебная трость», «Бездонный шкаф» и много чего еще… Мари схватывала все на лету. Я научил ее быстро менять сценические костюмы. Наши выступления имели успех, и один импресарио предложил мне турне по Соединенным Штатам. Мари уговорила меня согласиться: она во что бы то ни стало хотела покинуть страну, где ей сломали жизнь. Да и деньги нам посулили очень хорошие. Мы отплыли на «Америке», в октябре 1880-го, и по воле случая путешествовали в обществе Сары Бернар, ее тоже пригласили на гастроли. Несколько раз мы видели вдову президента Линкольна, и это было незабываемо. Но главное, чем мне запомнилось то плавание, — Мари впервые отдалась мне.
Он замолчал, протер очки и снова водрузил их на нос. Его коньяк оставался нетронутым.
— Я был счастлив, весь мир лежал у моих ног: Нью-Йорк, Бостон, Цинциннати, Батон-Руж, Новый Орлеан. Потом была Мексика — Тампико, Мехико, Веракрус. В конце концов мы оказались в Колумбии, в Панаме, прибыли к началу работ по закладке канала. Мадемуазель де Лессепс, дочь знаменитого инженера, пригласила нас участвовать в празднествах. Скажите мне, где сейчас Мари?
— Не знаю. Я надеялся, что вы меня просветите на сей счет.
— Мне пора, пров
одите меня?
Они прошли через фойе, где уже знакомый Виктору молодой человек расставлял стулья.
— Если любите магию, мсье, загляните в антракте в зеркало Калиостро: увидите, как изменится в нем ваше отражение, — сказал Виктору он. — А потом… но это сюрприз! Мсье Мельес и впрямь гений.
— Прибереги красноречие для другого случая, Мишу, — одернул его Делькур. — Входите, мсье Легри, мне пора переодеваться к представлению.
Батист Делькур надел черный бархатный костюм и напудрил лицо.
— Так на чем я остановился? Ах да. Панама. Ужасный климат. Невыносимая жара, влажность, мошкара. Муравьи… За два года до нашего приезда город полностью сгорел. Десятки полуразвалившихся зданий, пришедшие в упадок монастыри, превращенные в магазины, казармы, воинские склады, уродливый кафедральный собор — еще хуже, чем в Мехико. Хижины, бараки, забитые готовыми работать за гроши неграми, мулатами, метисами, индейцами, китайцами, индусами… На участке, отведенном под строительство будущего канала как грибы росли дома. Нам предстояли выступления в Колоне, Кали, Медельине и Боготе, но я заболел и вынужден был все отменить. Мы устроились на Тумако, маленьком островке на юге страны, вдали от ядовитых испарений. Я метался в лихорадке, исхудал, едва не умер. Сам не знаю, как выкарабкался, а когда три месяца спустя пришел в себя, Мари уже звалась Пальмирой Кайседо и…
— Пальмирой?
Батист был поглощен делом — он повязывал перед зеркалом бант, но уловил удивление в голосе Виктора и рассмеялся.
— Она воображала себя императрицей. Видели бы вы, как она красовалась среди своих приближенных!
— Зенобия, царица Пальмиры, — прошептал Виктор.
— Что вы сказали?
— Ничего, просто мысли вслух. Продолжайте, прошу вас.
— Дама полусвета, вот кем она стала! Знаете, мне следовало догадаться, когда она сошлась с тем итальянцем… Но я был от нее без ума. Правду говорят — любовь слепа. Мне показалось, Мари искренне рада моему выздоровлению. Она познакомила меня со своим покровителем доном Белизарио Кордобой, богатым табачным плантатором, владевшим гасиендой в окрестностях Картахены, и объявила, что уезжает с ним. У нее была заветная мечта — стать респектабельной дамой. «Хочу, чтобы меня называли мадам». Я пошел ва-банк и предложил ей руку и сердце. Она рассмеялась мне в лицо. Я был слишком стар, слишком сентиментален и слишком глуп. Я вернулся во Францию в конце 1882 года, пережил тяжелые времена, сменил имя и снова начал выступать в этом театре. Начал жизнь сначала.
— Вы не получали известий от Мари?
— Пять или шесть лет назад она написала мне. Один раз. Сообщила, что купила в Кали гостиницу «Розали» — кажется, так звали ее бабушку. Французское заведение: французская кухня, французские вина. Мари просила об услуге: ей нужны были олеографии для украшения номеров, чудовищная мазня, какую вешают в изголовье кровати. Она точно знала, чего хочет: ей нужна была точно такая же картинка, как та, что висела в квартире ее бабушки на улице Рампоно…
— Пречистая Дева, — закончил за него Виктор.
— Значит, вы все-таки из полиции… В какую переделку она снова попала? Впрочем, я ничего не хочу знать.
— Можете описать мне эти картинки?
На лице Батиста Делькура отразилось недоумение:
— Она прислала мне цветной набросок: Мадонна в голубом плаще стоит у грота со сложенными на груди руками. Мари написала, что ей нужна дюжина штук. Я знал одного мазилу, который штамповал портреты генералов Буланже и виды «Опера Гарнье». Он выполнил заказ, и я отослал его Мари. Вот и все. Мне уже пора, я вас не провожаю.
— Мсье, мсье! — с видом заговорщика прошипел молодой человек, когда Виктор проходил мимо. — Если вы упомянете мое имя в книге, я расскажу про трюк господина Мельеса и объясню, как он заставляет зрителей поверить, что волшебник Алькофрисбас бегает за собственной головой, которую украл скелет. Уверен, он не будет на меня в обиде…
Виктор вышел, не дослушав.
Едва очутившись на улице, он мгновенно почувствовал опасность. Он не понимал, откуда она исходит, и несколько раз обернулся, хотя сам не знал, что ожидает увидеть, потом несколько раз глубоко вздохнул, чтобы прогнать страх. Он думал о том, что услышал от Делькура. Прелестная Мари Тюрнера и циничная Пальмира Кайседо. Ангел или демон? У него возникло предчувствие, что если он будет медлить, появится новая жертва. «Кто способен мне помочь? К кому обратиться? Может, к медиуму? К Нуме…».
Виктор уже пять минут нажимал на кнопку звонка, но ему не открывали. Он разозлился и начал барабанить по притолоке кулаком. Дверь квартиры напротив приоткрылась, и над цепочкой появилось лицо девушки в белом чепце.
— Не тратьте время зря, мсье. Мадам просила передать, что мистер Уиннер вчера отбыл в Англию.
— Вы знаете, когда он вернется?
— Не раньше лета.
— Где я могу его найти?
— Спросите у привратника, он должен пересылать ему почту.
Виктор задумчиво спускался по лестнице. На последней ступеньке он запнулся за что-то правой ногой, пошатнулся, попытался удержаться за перила, но не сумел и рухнул лицом вниз. У него перехватило дыхание, в голове зазвенело, перед глазами закружился калейдоскоп лиц: Нума, Мари, Пальмира, «Дама в голубом», кривляющиеся карнавальные маски…
Казалось, прошла целая вечность, прежде чем он сумел подняться на ноги, держась за стену. Колени дрожали, но он заставил себя сделать шаг, другой, убедился, что ничего не сломал и не вывихнул, и обернулся. На уровне его глаз крупными красными буквами кто-то написал:
Отступись!
А.Д.В.
На ватных ногах он подошел к ступенькам, несколько минут смотрел на проволоку, которая и стала причиной его падения, потом нагнулся и поднял испачканный известкой гвоздь. На лестничной площадке раздался веселый детский смех. Женщина прокричала вслед ребятишкам:
— Поль, Анри, не бегите! Ох, и задам я вам, когда поймаю!..
Виктор встрепенулся и вдруг понял, что подстроивший ему ловушку злоумышленник не мог уйти далеко. Он схватил проволоку и увидел, как некто выбежал из дома на улицу д'Ассас и садится в фиакр. Дверца захлопнулась, экипаж тронулся и свернул на улицу Мадам. Виктор выскочил на мостовую и побежал следом, но быстро выдохся. Мебельный фургон загородил фиакр, и он потерял свою цель из виду.
Виктор присел на лавочку напротив булочной и стал обдумывать сложившуюся ситуацию. Убивать его не собирались — хотели только напугать. Он получил предупреждение. Видимо, преступник так и не нашел «Даму в голубом», иначе давно бы скрылся. Виктор смотрел на зажатую в руке проволоку и безуспешно пытался понять, где Дениза могла спрятать олеографию. Среди картин Таша? Во время переезда он еще раз проверил каждое полотно и ничего не нашел. Виктор посмотрел на витрины булочной, перевел взгляд на проволоку, которую не переставал крутить в пальцах, и выплывшая из подсознания неясная догадка обрела реальные очертания, как фотографическая пластина в проявителе. Он вскочил. «Зеркало! Я забыл о зеркале в мансарде Таша!»
Чета Ладусеттов ужинала в привратницкой.
— Простите, что отрываю вас от еды, — заглянул к ним Виктор, — но я потерял ключи от нового замка и вынужден просить у вас запасные.
Мсье Ладусетт вытер губы, бросил салфетку на стол и встал.
— Не то чтобы мне нравилось карабкаться наверх, мсье Легри, но это для меня вопрос чести.
— Не глупи, Аристид, вспомни о своем ревматизме! Это же мсье Легри, на него ты можешь положиться, как на себя самого!
— И навлечь на себя гнев хозяйки? Тевтонцы выиграли войну, это факт, ничего не попишешь, кто-то всегда проигрывает. Но им не отнять у нас чувства долга!
— Да ладно тебе, Аристид, — перебила мужа мадам Ладусетт. — Мадемуазель Беккер — лучшая из домовладелиц, да и во Франции живет давным-давно.
— Ну и что! Пойдемте, мсье Легри, Шупетта составит нам компанию. Я отведу вас и вернусь к своему тушеному мясу, а когда захотите уйти, скомандуете: «Курсант Шупетта, строиться!», она все поймет и как вестовой прибежит за мной, а я все запру… Животные вовсе не дураки! Мы с супругой ходили вчера в цирк Фернандо поглядеть на ученых лошадок. Вот уж чудо из чудес, доложу я вам!
Они поднялись на седьмой этаж, и папаша Ладусетт открыл дверь.
— Не забудьте, мсье Легри: «Курсант Шупетта, строиться!» — и я мигом вернусь.
Виктор дождался, пока старик уйдет, подошел к висевшему рядом с нишей зеркалу и перевернул его. Ничего. Виктор был разочарован, но решил обыскать комнату еще раз. Он горько рассмеялся. С чего начать? Пресловутое доказательство из воздуха не материализуется! «Хочешь сравняться с Лекоком, действуй кропотливо и тщательно». Виктор начал с чемоданов, хотя сомневался, что олеография может быть спрятана на дне одного из них, и запустил руки под ворох юбок и корсажей. Потом он решил отодвинуть буфет, но обнаружил лишь толстый слой пыли, затем заглянул под раковину, наконец ощупал матрас и простучал кулаком стены в поисках тайника. Шупетта внимательно наблюдала за его действиями, дружелюбно помахивая хвостом.
— Помоги мне, собачка, нюхай, нюхай, вдруг что-нибудь найдешь!
Шупетта яростно почесала ухо.
Виктор взмок от усталости.
— Приведи папу, Шупетта, давай, иди! Нет, не так. Солдат Шупетта, строиться! Ну надо же, забыл. Ладно, идем, пошли вниз, ну же, Шупетта!
Виктор сделал шаг к собачонке, наступил на раму, и носок ботинка застрял между крестовиной и холстом. Шупетта весело гавкнула, как будто рассмеялась.
— Заткнись, шавка!
Собака поджала хвост и отступила в коридор.
Виктор озадаченно посмотрел на попавший в ловушку носок ботинка, наклонился, чтобы высвободить ногу, и застыл в изумлении.
— Не может быть, это слишком просто…
Подпрыгивая на одной ноге, он схватил первый попавшийся под руку томик, сунул его за раму, потом вынул и произнес торжествующе:
— Да! Она должна быть именно там!
Виктор топнул ногой, рама развалилась, холст треснул.
Виктор возбужденно оттолкнул обломки рамы, распрямился и тут заметил на пороге чью-то тень. Он рванулся к ней, вытянув вперед руки, но дверь захлопнулась у него перед носом. Он попытался повернуть ручку, но та не поддалась. Боже, как глупо он попался!
— Шупетта… Шупетта… — позвал он, прислонясь лбом к двери. — Эй, кто-нибудь! — И снова принялся судорожно трясти ручку.
Не зная, чем себя занять, Таша разглядывала висящую над кроватью Виктора фотографию. Да, Дафнэ Легри была очень хороша. Но какое печальное и задумчивое у нее лицо! Виктор очень похож на мать, только нос у него другой — видимо, отцовский. Странно, что он никогда ничего о нем не рассказывал. Таша вспомнила своих родителей. Единственная фотография, на которой они были сняты все вместе, давно потерялась. Увидит ли она когда-нибудь мать и сестру Рахиль? Украина так далеко! Где теперь ее отец Пинкус? Она снова взглянула на портрет Дафнэ. Довольно притворяться, она слишком обеспокоена, и отвлечься не удастся. Виктор должен был встретиться с ней в «Бибулусе» и не пришел. На него это непохоже, что-то случилось!
Таша вышла из дома и, безотчетно ускоряя шаг, добежала до улицы Висконти. Мадам Пиньо долго не открывала.
— А, это вы! А я не хотела вас пускать, знаете, время позднее, следует быть настороже, особенно одинокой беззащитной женщине с больным сыном на руках…
— Жозеф случайно не знает, где сейчас мсье Легри?
— Сынок, ты сегодня видел своего патрона?
Жозеф попытался выбраться из-под грозивших задушить его перин.
— Да нет, он заходил вчера вечером, чтобы вернуть твою тележку. Это вы, мадемуазель Таша? Не беспокойтесь, он, наверно, отправился оценивать книги и скоро вернется.
— Славный у меня мальчуган, не так ли?! Чувствует себя ужасно, а вас успокаивает. Весь в отца! Идемте, я вас провожу.
Едва мадам Пиньо вышла за порог, как Жозеф схватил лежавшую в изножье кровати одежду, мгновенно натянул ее и затолкал скомканную ночную рубашку под подушку.
Юноша хорошо знал Виктора и был совершенно уверен, что его отсутствие с делами никак не связано. «Когда же мне удастся отучить его вести расследование в одиночку!» — посетовал он, снова лег в постель и натянул одеяло до подбородка.
Кэндзи покинул фиакр, сожалея, что не может продолжить ночную прогулку по весеннему Парижу, и медленным шагом двинулся мимо спавших за деревянными ставнями магазинов.
День прошел чудесно, он наслаждался каждым мгновением. Раннее утро, задымленный перрон Северного вокзала, бледно-желтое платье и белый зонтик Айрис, носильщик с чемоданом. Поездка в Сен-Манде, на шоссе де л'Этан, в пансион мадемуазель Бонтан. Голубые огоньки первых гиацинтов в саду, светлая, обставленная просто, но со вкусом комната. Кэндзи вспомнил восторг Айрис, открывающей разложенные на кровати подарки. Увидев платье из розового бенгалина и кружевную шляпку, украшенную первоцветом, она воскликнула: «Как вы щедры!», чем доставила ему большое удовольствие. Когда она переоделась и надушилась провансальским жасмином из «Королевы пчел», они отправились в ресторан на берегу озера. За обедом он приревновал Айрис к молодому человеку, завороженному ее красотой. Всю вторую половину дня они бродили по Венсеннскому лесу и строили планы на будущее.
Проходя мимо комнат Виктора, Кэндзи услышал какой-то слабый шум. Зайти и сказать, что он вернулся? А вдруг там Таша? Он решил сначала переодеться.
Воздух пропитался пряным ароматом женских духов, и Кэндзи поспешил открыть окна. В памяти всплыл образ лежащей на кровати обнаженной Нинон в перчатках до локтя. Ей, в не меньшей степени, чем Айрис, он обязан ощущением бодрящего, живительного блаженства, которое ощущал с самого рассвета. Ему хотелось разделить свое счастье с другом, и он решил постучать к Виктору, тем более, что тот еще наверняка не уснул. На стук никто не ответил, и Кэндзи уже повернулся, чтобы уйти к себе, когда вдруг услышал, как по комнате кто-то ходит. Он забеспокоился: что, если в квартиру проник грабитель?
Он осторожно приоткрыл дверь, увидел, что газовые лампы зажжены, и направился было в столовую, но тут заметил на полу бездыханное тело. Рыжие волосы… Это Таша! Он бросился на помощь, но едва успел протянуть к девушке руку, чтобы пощупать пульс, как кто-то обхватил его сзади и прижал к лицу пропитанную хлороформом салфетку. Кэндзи потерял сознание.
Воздух в фиакре был спертый, и Виктор высунулся в окошко подышать. В рассеянном желтом свете фонарей фигуры прохожих напоминали зыбкие тени, подобные той, что заперла его в комнате Таша. Он так и сидел бы взаперти, не забеспокойся папаша Ладусетт о Шупетте. Старик поднялся в квартиру и нашел собачонку в туалете, потом услышал крики Виктора и освободил его из заточения, пообещав отправить за решетку маленького негодника, балующегося с ключами.
Виктор постучал в стекло и велел кучеру везти его на улицу Висконти. Он хотел кое-что проверить.
Жозеф похрапывал с открытым ртом, и мадам Пиньо решила его не будить, позволив Виктору порыться в хранившихся в сарайчике газетах.
— Только не забудьте потом положить все на место, по части порядка мой малыш — маньяк не хуже своего отца, и это еще слабо сказано! И отправляйтесь домой, а то мадемуазель Таша места себе не находит от беспокойства.
Виктор кивнул и взял с ночного столика лампу. Жозеф приоткрыл один глаз, собрался было предложить помощь, но передумал: ему действительно было очень плохо.
Нужная газета лежала сверху. Виктор поднес ее к лампе, чтобы прочесть заметку, наступил на что-то мягкое, опустил глаза, и ему померещилось, что какое-то существо с огромными лапами готовится напасть на него. Горло у него перехватило, и Виктор в ужасе отпрянул назад: он с детства боялся пауков, а этот был просто огромный. «Или нет, это скорее похоже на краба!» Превозмогая отвращение, Виктор нагнулся и тут же облегченно рассмеялся: его напугала обыкновенная перчатка.
Виктор спешно вернулся к себе: теперь он знал, что искать.
Едва он вошел, как хрустнула половица. Виктор обернулся и увидел лицеиста в кепи, который занес трость над его головой. Он инстинктивно выставил перед собой локоть, чтобы защититься от удара, и в то же мгновение кто-то обхватил нападавшего за плечи. Трость упала на пол, Виктор ногой отправил ее под стол и бросился на помощь Жозефу. Он отвесил лицеисту звучную оплеуху, сбил с его головы кепи, и на плечи незнакомцу упала толстая коса. Все трое застыли, как в живой картине Батиста Делькура.
— Рад с вами познакомиться, Мари Тюрнера. Или вас теперь зовут Нинон де Морэ? — тяжело дыша, произнес Виктор. — Мне многое о вас известно. Жозеф, снимите подхват с гардины и свяжите ей руки.
— Мари Тюрнера? Откуда вы это узнали, патрон? — спросил Жозеф, исполняя приказание.
— Ничего ему не известно, — подала реплику Нинон.
— Ошибаетесь. Присядьте, мадемуазель, вы, должно быть, очень устали. Помогите мне, Жозеф.
Они привязали молодую женщину к спинке стула. Она смотрела на них с нескрываемой иронией. Виктор вытащил из-за буфета свой портрет в жанре «ню», перевернул его и вытащил из-под рамы кусок картона. Жозеф ахнул, когда Виктор помахал перед лицом Нинон «Дамой в голубом».
— Вы это искали?
Она пожала плечами и улыбнулась, но отвечать не стала.
— К несчастью для вас, бедняжка Дениза спрятала эту олеографию за единственной картиной, которую я не хотел видеть на выставке. В противном случае, вы нашли бы ее гораздо быстрее и сегодня были бы уже… Где бы вы сегодня были, Пальмира Кайседо? Или мне следует называть вас Зенобия Тюрнер?
— Патрон, я ничего не понимаю! — воскликнул Жозеф.
Улыбка Нинон
стала еще шире:
— Вы сильный мужчина, мсье Легри, мне это нравится. Я рада, что не изуродовала вам лицо. И что вы ничего себе не сломали. На улице Ассас у вас был довольно жалкий вид. Вы побежали за моим фиакром, потому что были уверены, что я хочу скрыться. Ошибочный вывод, дорогой мой, я следила за вами, а не убегала. Мой фиакр свернул на улицу Мадам, вернулся через улицу Флерюс и остановился неподалеку от скамьи, где вы сидели. Вы непредсказуемы, и я не хотела выпускать вас из виду. Когда вы сели в экипаж, я проследила за вами до улицы Нотр-Дам-де-Лоретт. У меня был дубликат ключей от квартиры Таша, и я решила запереть вас, чтобы обыскать ваши комнаты. На беду, ваш дом подобен залу ожидания на вокзале, там ни на минуту нельзя остаться в одиночестве.
Внезапно Виктор осознал, что в комнатах стоит какой-то странный запах, и забеспокоился.
— Кэндзи! — позвал он.
— Не волнуйтесь за него, он спит, как и Таша.
— Что вы с ними сделали?! — грозно рявкнул Виктор.
— Угостила капелькой хлороформа и перетащила в спальню. Они так мило выглядят, лежа рядышком на ковре.
— Ступайте проверьте, Жозеф! — приказал Виктор.
— Я воспользуюсь этой передышкой, мсье Легри, чтобы исправить ошибку в ваших рассуждениях. Я узнала, где находится олеография с Пречистой Девой, еще в тот самый день, когда помогала Таша перенести к вам картины. Мне ничего не стоило забрать «Даму в голубом», но я не хотела применять насилие. А когда отважный рыцарь мсье Легри решил приютить у себя все полотна своей возлюбленной, мне оставалось только одно — соблазнить мсье Мори, дабы попасть в ваше неприступное убежище, что я успешно и осуществила. Все мужчины одинаковы, где бы они ни родились. Я надеялась осуществить свой план ночью, но меня ждал неприятный сюрприз: ваша дверь оказалась запертой на ключ.
Виктор бросил критический взгляд на олеографию.
— Неужели вы пошли на убийство из-за вещицы, которая не имеет никакой художественной ценности!
— Убийство?! Выбирайте выражения, мсье Легри.
— Перестаньте, Нинон, не делайте из меня идиота. Десять лет назад вы выкрутились, но на сей раз вам не уйти от правосудия: вы проиграли.
В комнату вернулся мрачный как туча Жозеф.
— Она не соврала, патрон, они в отключке. Я принесу воды и постараюсь привести их в чувство.
— Я не убивала Данте! — закричала Нинон. — Я невиновна, суд меня оправдал. Да что вы знаете о жизни? Я родилась в бедном квартале, и мне пришлось немало потрудиться, чтобы выбраться из нищеты, а в тот момент, когда я почти преуспела, меня засадили в тюрьму, и все мои усилия пошли прахом!
— Да, тогда вас обвинили несправедливо, из-за раны на руке. Но теперь вы действительно виновны, и у меня есть тому доказательство, — сказал Виктор, доставая из кармана перчатку.
— Та самая, что я подобрал в Счетной палате! — воскликнул вернувшийся с влажным полотенцем Жозеф. — А я-то никак не мог понять, что вы искали в сарайчике. А где другая?
— Неважно, нас интересует именно эта, с дырочкой на левом большом пальце. Вы ведь носите протез, Нинон?
— Зачем спрашивать, если сами обо всем догадались. Но как вам это удалось?
— Сопоставил факты. Рассказ Франсины Блаветт позволил мне понять, почему вы вчера не закричали, прищемив палец во время переезда. Любой завопил бы от боли, а вы даже не вздрогнули. Когда я нашел перчатку, все встало на свои места.
— Ну и чутье у вас, патрон! — восхитился Жозеф. — Но я тоже не промах. Не пойди я за вами — трах! бах! — все было бы кончено.
— Не стоит так радоваться, господа, — холодно заметила Нинон. — Перчатка действительно моя, но это не доказывает моего присутствия на месте… убийства, как вы изволили выразиться. Вы могли подобрать ее где угодно.
— Послушайте, патрон…
— Она права. Сходите за ножом, посмотрим, что это за «Дама в голубом».
Жозеф рылся в ящиках и громко ворчал, выражая свое возмущение:
— Свяжите ей руки, Жозеф! Жозеф туда, Жозеф сюда, Жозеф, подайте нож! И ни разу — спасибо, что спасли мне жизнь, Жозеф! Вот она, людская неблагодарность!
Он принес огромный тесак, нарочно держа его за лезвие. Виктор распотрошил олеографию и нашел внутри какой-то официальный документ на испанском языке со множеством печатей и штампов. Ему удалось прочесть только имя: Арман де Валуа.
— Что это такое? — спросил он Нинон.
— Купчая на участок земли в Колумбии, — ответила она.
— Но я не вижу тут упоминания о Пальмире Кайседо.
— Он принадлежит мне, скажем так, по праву.
— И вы совершили три убийства, чтобы вернуть купчую. Даже не три — четыре, если считать самого Армана де Валуа.
— Милый Арман был мошенником, но он мне, пожалуй, даже нравился. Мы с ним были во многом похожи. Однако меня смогут обвинить только в попытке кражи без взлома, поскольку мсье Мори сам впустил меня.
— Как вы достали дубликат ключей от мансарды?
— Таша дала их мне. Позавчера она забыла там краски и кисти и попросила сходить за ними.
— А где сейчас господин Тюрнер?
Нинон расхохоталась.
— Дайте мне брюки, редингот, котелок и увидите господина Тюрнера. Я обожала играть эти роли, была то мужем, то женой, — Тюрнеры никогда не выходили вместе. Консьерж ни о чем не догадывался. У меня был очень хороший учитель. Я последовала за вами, когда вы вошли в театр «Робер-Уден». Этот дурак Медерик наверняка плакался вам в жилетку. Бедняга чересчур сентиментален!
Виктор взглянул на Жозефа, делавшего пометки в блокноте.
— Вы убили Одетту, Денизу и папашу Моску, — без тени сомнения в голосе произнес он.
— Чистой воды предположения.
— Вы угрожали мадам де Бри. Письмо, якобы посланное ее сыном из загробного мира, едва не убило несчастную женщину: неизвестно, оправится ли она когда-нибудь от удара.
— Ее хватил удар? Мне очень жаль. К сожалению, мы не были знакомы, и я не знала, что у мадам де Бри такое слабое здоровье.
— Вы выдали себя за ясновидящую, играли на доверчивости и горе мадам де Валуа.
— Горе?! И это говорите вы? Она так страстно любила мужа, что изменяла ему с вами. Ее слезы — чистой воды притворство, так что никакого преступления я не совершала.
Жозеф вдруг перестал записывать и поднял руку с зажатым в пальцах карандашом.
— Можно вас на минутку, патрон?
Он отвел Виктора в сторонку и прошептал ему на ухо:
— У меня есть доказательство ее вины! Сейчас сбегаю домой и принесу.
Как только он вышел, Нинон бросила многозначительный взгляд на Виктора.
— Мы здесь одни, отпустите меня, — скажете, что я сбежала.
— Зачем мне это делать?
— Взамен вы получите все, что пожелаете, будете сказочно богаты и любимы, мы станем идеальной парой…
— Весьма заманчиво, но все это у меня уже есть. Кроме того, вы ошиблись — мы не одни.
Он кивнул на дверь, за которой спали два самых дорогих ему существа на свете. Виктор был благодарен Нинон: она могла убить их, как остальных, но не сделала этого.
…Казалось, по опрятной квартирке мадам Пиньо пронесся ураган. Створки гардероба были распахнуты, Жозеф копался в груде вываленной на пол одежды. Он выудил куртку, которую надевал в день нападения на папашу Моску, вывернул карманы, но ничего не обнаружил. «Мама! Куда ты ее подевала? В помойку уж точно не выбросила, ты ведь хранишь все, что может пригодиться на случай новой войны».
Юноша подбежал к стенному шкафу, где его мать хранила мотки бечевки, упаковочную бумагу и коробки из-под печенья с булавками, мелкими монетками и пуговицами. Он высыпал пуговицы на стол и перебрал самым тщательным образом, словно это были золотые самородки. Вот она! Жозеф зажал в кулаке драгоценную добычу и кинулся обратно на улицу Сен-Пер.
— Патрон, патрон, вот доказательство! — Он с победным видом протянул Виктору на раскрытой ладони позолоченную пуговицу от формы лицеиста. Виктор взял пуговицу и приложил ее к темному сюртучку Нинон.
— Ну и что! — усмехнулась она. — В лицее Лаканаль полно школяров в такой же форме! Да, я потеряла пуговицу, но как вы убедите господ полицейских, что она оторвалась от моей одежды именно в развалинах Счетной палаты?
— Она это сказала! Она призналась, патрон, она произнесла «Счетная палата»! Это она! — воскликнул Жозеф.
— Конечно, она, остается только это доказать.
— Черт, как с вами трудно! Я предоставил вам перчатку, отдал пуговицу, газеты, а…
— Стоп! — перебил его Виктор. — Вы только что подали мне идею! Теперь у нас есть все шансы изобличить нашу драгоценную мадам. Безмерно вам благодарен.
Щеки Жозефа заалели румянцем. Посмей он — заключил бы своего патрона в объятия.
«Благодарю вас, Нума, — думал между тем Виктор. — “Подчинись зову сердца”. Именно такое послание передали мне через вас мама и дядя Эмиль, если я все верно понял».
— Бегите в комиссариат, Жозеф, — приказал он и добавил с улыбкой: — Пожалуйста.
Глава одиннадцатая
Инспектор Лекашер остановился перед помутневшим зеркалом, выпятил грудь, распрямил плечи, пригладил густые черные усы и снова обошел вокруг стола, за которым сидел Виктор.
— Согласитесь, дорогой Легри, я был с вами более чем терпелив. Что скажете в свою защиту?
— Исчезла моя хорошая знакомая, и я счел правильным…
— …мешать следствию?
— Я никому не помешал! Напротив, преподнес вам преступницу на блюдечке!
— И снова едва не погибли! Что у вас за интерес в этом деле? Хотели продемонстрировать миру свой блестящий ум?
— Именно так, — согласился Виктор. — Но, возможно, все дело в том, что эта женщина хладнокровно лишила жизни четырех человек, и я хочу, чтобы она понесла наказание.
— Перестаньте же наконец воображать себя сыщиком, Легри, и вернитесь в сообщество библиофилов, к коим я имею честь принадлежать. Кстати, нет ли у вас первого издания «Манон Леско»? Минутку, прошу меня извинить.
Инспектор неслышными шагами подошел к двери и резко распахнул ее. Приникший к замочной скважине Жозеф отшатнулся и с понурым видом вернулся на скамью. Лекашер наградил его суровым взглядом и закрыл дверь.
— Видите? Окружающие слепо вам подражают, просто дикость какая-то!
Он кинул в рот горсть лакричных леденцов и вдруг расчихался.
— Пытаюсь бросить курить, — пояснил он Виктору, когда приступ прошел. — Ладно, на сегодня мы закончили. Но нам понадобятся ваши показания на процессе, вы, как обычно, главный свидетель обвинения.
Виктор встал, и здоровяк-инспектор, которому он едва доставал до плеча, невольно склонился к нему:
— Впрочем, вы отчасти правы, я должен поблагодарить вас. Я много часов допрашивал подозреваемую, ничего от нее не добился и решил последовать вашему совету: попросил ее записать в карточку личные данные и немедленно передал все графологу. Он был категоричен: все три письма, которые вы мне передали, написаны одним и тем же почерком. Она сдалась и сразу во всем призналась.
— Итак, у нас есть доказательство! — воскликнул Виктор.
— Не у
нас — у
меня! И если вы не способны молча выслушать одну длинную историю, я сию же секунду выставлю вас за дверь. Вам известно,
как Мари убивала, но вы не знаете,
зачем она это сделала.
Виктор застыл, как часовой на посту, всем своим видом выражая готовность внимать словам инспектора. Когда тот закончил, он с довольным видом пожал ему руку и откланялся. Жаждущий новостей Жозеф подскочил к Виктору, но тот, не говоря ни слова, увлек его за собой.
Инспектор Лекашер сосал леденец, задумчиво глядя им вслед.
— Чертов сукин сын! Говорит, что торгует книгами, а самому запах крови милее запаха бумаги!
Жозеф подбежал к парапету набережной, чтобы поглазеть, как причаливает «Шарантон». Виктор достал портсигар, и в этот момент кто-то хлопнул его по плечу.
— Браво, мсье Легри, вы ловко заморочили мне голову историей с романом. Не пора ли поделиться сведениями?
— Вы — опасный человек, и я боюсь с вами откровенничать.
— «Пасс-парту» кормится информацией, но это не значит, что мы все предаем огласке. Кроме того, вы мой должник, это я направил вас по следу Мари Тюрнера.
— Истинная правда. Встретимся завтра в одиннадцать в «Жан Нико», идет?
— Патрон! — крикнул Жозеф. — За нами явились мадемуазель Таша и мсье Мори.
Виктор не верил своим глазам: им навстречу рука об руку шли улыбающиеся Таша и Кэндзи. Он поспешил распрощаться с Исидором Гувье.
Они остановились на площади Дофин и уселись на скамейку. Жозеф и Таша засыпали Виктора вопросами, но он молчал и страшился поднять глаза на Кэндзи, воображая, как тому неловко.
— Мадемуазель Нинон де Морэ созналась? — самым что ни на есть естественным тоном спросил вдруг тот и добавил, видя смущение Виктора: — Да что с вами такое?
— Со мной? Ничего. Да, Нинон в конце концов дала показания. Инспектор Лекашер просветил меня на предмет ее побудительных мотивов. Все началось в Панаме весной прошлого года. Полагаю, вы помните, что через семь лет после начала работ у Трансокеанской компании не осталось ничего, кроме долгов.
— Конечно, — откликнулся Мори, — я следил в газетах за процессом строительства. В конце 1888 года Компания попыталась добиться от правительства трехмесячной отсрочки, чтобы погасить долг. Ей отказали, и в феврале 1889 она обанкротилась. Если не ошибаюсь, разорились восемь тысяч мелких вкладчиков.
— Совершенно верно, — кивнул Виктор. — Многие из них покончили с собой. Панама погрузилась в хаос. В рабочих поселках начались волнения, люди разбрелись по стране в поисках хоть какой-нибудь работы. Участились кражи и другие преступления. Британское правительство послало корабли, чтобы срочно вывезти на Ямайку десять тысяч соотечественников. Так же поступили и Соединенные Штаты. Чили, заинтересованная в притоке рабочей силы, открыла бесплатный проезд до Вальпараисо.
— Вы позволите мне делать заметки, патрон?
— Конечно, Жозеф. Арман де Валуа был так уверен в успехе Фердинанда де Лессепса, что неосмотрительно обратил все свои средства в облигации Панамского займа. После банкротства компании он остался без работы и лишился всех денег, но не торопился возвращаться во Францию, полагая, что рано или поздно Соединенные Штаты продолжат строительство канала. Он решил отправиться в Тумако, маленький порт на границе Колумбии и Эквадора, и открыл там торговлю. Именно там, на приеме во французском консульстве, он и познакомился с Пальмирой Кайседо.
— То есть с Мари Тюрнера, — с понимающим видом уточнил Жозеф.
Виктор откинулся на спинку скамьи.
— Пальмира и Арман стали любовниками. Он поделился с ней своей идеей приобрести участок земли в Тумако. Она поддержала его и предложила обосноваться в Кали, где управляла гостиницей «Розали», сказав, что так они смогут собрать необходимые средства. Арман открыл геологоразведочное бюро, чтобы оказывать услуги наводнившим район старателям. В этот момент на сцене появился Льюис Айвз.
— Кто это такой? — спросил Кэндзи.
— Американец. Был прорабом на строительстве канала и, как многие другие, потерял работу.
— Труп из Сен-Назера?
— В Сен-Назере нашли тело Армана де Валуа. Терпение, друзья! Льюис Айвз остался без гроша и решил попытать счастья в золотоискательстве. После долгих скитаний он оказался на юге страны, где бытовала одна легенда. Рассказывали, что в начале века местные темнокожие жители добывали в труднодоступных местах самородки весом в несколько ливров. Вечная мечта об Эльдорадо! Льюис Айвз приехал в Кали, снял номер в гостинице «Розали» и начал поиски близ реки Сипи, известной богатыми залежами минералов. Однажды он повстречал старика-индейца, который добыл в горах зеленые камни и думал, будто это золото. За мачете и несколько мотыг старик согласился показать Айвзу место.
— Захватывающее начало для приключенческого романа! — восхитился Жозеф.
— Если будете то и дело встревать, я собьюсь.
— Умолкаю, патрон, клянусь, я буду нем, как рыба.
— Льюис Айвз был профаном в минералогии, ему потребовался эксперт, и он обратился к Арману. Тот взглянул на камни, сразу понял, что это изумруды, но обманул Айвза, сказав, что находка индейца — не имеющий никакой ценности кварц. Он изъявил желание отправиться к скале и проверить, нет ли там других пригодных для разработки минералов. Айвз доверчиво указал ему на карте точное местоположение жилы, пролегавшей у подножия центрального массива Кордильер, в весьма отдаленном районе. Арман предложил американцу профинансировать экспедицию и рассказал эту историю Пальмире, сознательно умолчав о том, что ему точно известно, где находится участок.
— Какой негодяй! — возмутился Жозеф.
— Пальмира придумала такой план: Арман отправится с Айвзом на разведку, на обратном пути избавится от неудобного компаньона, после чего они вдвоем займутся добычей изумрудов. Но Арман был хитер и не собирался с ней делиться. Незадолго до того, как отправиться с Айвзом в путь, он тайно приобрел концессию на бесценный участок и отослал купчую своей жене Одетте, спрятав ее за рамкой висевшей над кроватью олеографии.
— «Дама в голубом», — прошептал, отрываясь от записей, Жозеф.
— Арман настоятельно просил Одетту уведомить его о получении подарка, что она и не преминула сделать. Тогда Арман забронировал билет до Франции на судно «Лафайетт» — на имя Льюиса Айвза.
— Догадываюсь, что произошло дальше, — задумчиво произнес Кэндзи. — Он убил Айвза и позаимствовал его имя. Остается уточнить один момент. Став «покойником», Арман де Валуа не смог бы разрабатывать месторождение изумрудов, поскольку все документы были составлены на его имя.
— Очевидно, он намеревался затаиться на три-четыре месяца, а потом вернуться и чудесным образом воскреснуть где-нибудь в пустынном районе Колумбии.
— История почище, чем у Гюстава Эмара
[31]! — восторженно выдохнул Жозеф. — «Он был пленен индейцами, бежал и…» Получается, что Нинон невиновна!
— Отчасти. Ее руки чисты, поскольку она невероятна хитра и изворотлива. Как только Арман отбыл в экспедицию, она обыскала его номер, нашла в корзине для бумаг обрывки телеграммы, сложила их и прочла следующий текст:
ПОЛУЧИЛА ДАМУ ГОЛУБОМ тчк БЕРЕГУ КАК ЗЕНИЦУ ОКА тчк ЖДУ ТЕБЯ РОЖДЕСТВУ тчк ОДЕТТА
Пальмира кинулась в бюро по выдаче концессий и выяснила, что ее провели. В агентстве компании морских перевозок ей сообщили, что некий Льюис Айвз фигурирует в списке отправляющихся во Францию пассажиров, и она решила, что поплывет на том же корабле, убьет Армана и заберет у его жены «Даму в голубом».
— Ясно как день, патрон. Она убила своего любовника в Сен-Назере!
Таша заметила смущение Кэндзи и поспешила вмешаться:
— Одетта знала, что купчая спрятана в «Даме»?
— Нет. А вот Нинон знала.
— До чего же я был глуп! — Кэндзи улыбнулся и покачал головой, досадуя на себя. — Я должен был…
— Вы не могли догадаться, — перебила его Таша. — Мне она тоже нравилась.
Виктор встал и поправил шляпу.
— Нам пора возвращаться, я смертельно устал.
Они шли пешком и молчали. Каждый думал о Нинон. Таша вспоминала молодую женщину, которая бесстрашно позировала обнаженной в дальнем зале «Бибулуса», и не могла смириться с мыслью, что Нинон преступница. Кэндзи, сгорая от стыда, спрашивал себя, всплывет ли его имя на допросах. Жозеф чувствовал облегчение: человек в маске, которого он принял за призрак папаши Моску, оказался женщиной. А Виктор невольно возвращался мыслями к малышке Денизе: не воспылай она страстью к «Даме в голубом», Одетта и папаша Моску были бы живы. Он пришел к выводу, что порой хороший вкус играет в искусстве решающую роль.
Исидор Гувье с недовольным видом бросил на заставленный стаканами стол карандашные наброски нового карикатуриста «Пасс-парту».
— Скажу вам честно, мсье Легри, Таша справилась бы лучше. Взгляните, что нам начеркал этот шут гороховый! Он хотел высмеять спиритов и вообразил, что призрак-убийца с тростью вполне подойдет для этой цели. Но его призрак похож на припадочного шейха, а этой тростью и утке лапу не перебить! Кстати о трости, мсье Легри: вам сильно повезло, в рукоять был залит свинец, так что еще чуть-чуть, и…
— Я предполагал нечто подобное, учитывая состояние тел, найденных в здании Счетной палаты, — буркнул Виктор. — Бедняжка Одетта была такой наивной! Но почему Нинон — или будет правильней называть ее Мари? — решилась на убийство?
— Мой информатор из префектуры сообщил кое-какие подробности, так что могу вас просветить. Мари не собиралась убивать Одетту де Валуа, это произошло случайно. Когда она появилась на кладбище, чтобы забрать олеографию, мадам де Валуа приняла ее за призрак Армана, впала в истерику, начала визжать. Мари стукнула ее, чтобы заставить замолчать, но не рассчитала силы удара. Остальное вам известно. А теперь ваш черед, мсье Легри.
Виктор допил свой кассис.
— При одном условии — вы не станете упоминать о моих близких отношениях с Одеттой де Валуа.
— Можете на меня положиться, старина, но не будьте так же уверены в других репортерах. Консьерж с бульвара Оссман, некий Ясент, не слишком высокого мнения о вас и не считает нужным держать рот на замке. Впрочем, я могу его отредактировать, не так ли? Ну что, договорились?
— Договорились. Когда Дениза явилась на улицу Сен-Пер, чтобы сообщить мне об исчезновении своей хозяйки, я повел ее в кафе на углу. Полагаю, Нинон сидела за одним из соседних столиков и все слышала.
— О чем вы говорили?
— О том, что случилось на кладбище и на следующий день в квартире на бульваре Оссман, о странном поведении мадам де Валуа. Я был слегка рассеян, потом отлучился, чтобы выяснить, согласится ли мадемуазель Херсон приютить девушку. Когда мы вернулись в магазин, какой-то лицеист перебирал книги на полках. Это тоже была Нинон, чего я в тот момент, естественно, не знал. Очевидно, она проследила за Денизой и моим приказчиком до улицы Нотр-Дам-де-Лоретт и…
— Перестанем ходить вокруг да около, мсье Легри, меня интересует,
как вы вели свое расследование, остальное мне известно из собственных источников.
— Рассказ рискует занять много времени.
— А я никуда не тороплюсь! Сейчас двенадцать, так что у нас весь день впереди.
— Я закажу еще стаканчик. Присоединитесь?
— Охотно. Альфонс, два кассиса! Говорите, мсье Легри.
Виктор взъерошил волосы, дождался, когда официант отойдет от стола, и начал свое повествование.
Закончил он ровно в два.
— Я нашел решение в самый последний момент. Да и кто бы заподозрил такую красотку?
— Да уж, она чертовски хороша, — согласился Гувье. — Я видел Мари в кабинете Лекашера, ее манере держаться и самообладанию позавидовали бы воспитанницы школы «Комеди Франсез».
— Не совершайте роковой ошибки — она жестокая преступница, так не подавайте ее образ в выгодном свете. Журналисты своими опусами способны представить убийцу героем.
— Как и романисты, мсье Легри, — парировал Гувье.
Виктор поприветствовал мадам Баллю, но та не обратила на него никакого внимания. Она читала вслух статью, напечатанную на первой полосе, а мать и сын Пиньо внимали ей с почти религиозным благоговением.
— Не забудьте о работе, Жозеф, — бросил юноше Виктор.
— Мерзавка! — воскликнула мадам Пиньо, вырывая газету из рук мадам Баллю, которой это совсем не понравилось. — Вы только послушайте! «Я отправилась выслеживать рыжеволосую малышку на улицу Сен-Пер».
— Это она о мадемуазель Таша, — уточнил Жозеф.
— «Та села в омнибус до Монмартра и зашла в кабачок под названием “Бибулус”. Это оказалась мастерская художников, и я поняла, что у меня все легко получится. Облапошить мазил — с этим справится и ребенок».
— До чего самоуверенная особа! — возмутилась мадам Баллю, забирая газету. — «Я сидела в “Утраченном времени” и вдруг увидела старика с кладбища. Мне показалось, что он наблюдает за книжным магазином…» — Я тоже видела, как старик там крутился, и он показался мне подозрительным! — с торжеством в голосе объявила мадам Баллю.
— Я продолжу, отдайте! — закричала мадам Пиньо и так сильно дернула к себе газету, что едва не разорвала ее пополам. — «Я решила вернуться на следующий день, рано утром. Старик был на улице, за ним гналась консьержка». Да это же о вас, мадам Баллю!
— Конечно, я за ним гналась! Он мне нагрубил. Ну-ка, покажите! «Я провела ночь с Ломье, и ему не терпелось возобновить сеансы…»
— Вот потаскуха! — выругалась мадам Пиньо.
— А ведь приходила сюда, как к себе домой. Нет, что ни говорите, но мсье Легри и мсье Мори не… Ладно, сами понимаете, — не договорила она, покосившись на Жозефа, который завладел газетой.
— «Я должна была немедленно убрать того старика. Все бы получилось, но меня заметил маленький сопляк…» Ты слышала, мама?! Маленький сопляк! Это она обо мне! Э-ге-гей! Тут есть мое имя — полностью — Жозеф Пиньо!
— Иисус-Мария-Иосиф! Где?! Покажи мне! — потребовала мадам Пиньо.
— Верните мою газету! — вскричала мадам Баллю.
Каждая тянула газету к себе, и та, разумеется, разорвалась. Растрепанные, побагровевшие от усилий дородные дамы начали обмениваться оскорблениями, а потом пустили в ход кулаки. Жозеф попытался разнять их, и ему досталось от обеих, но он чувствовал себя самым счастливым человеком на свете: «Мое имя — в газете! Обо мне написали! Валентина может мной гордиться!»
Глава двенадцатая
Солнечный луч падал через застекленную крышу на столик, заваленный кистями и тюбиками краски. На холсте Кэндзи Мори сидел с книгой в кресле, положив ногу на ногу. Казалось, с его улыбающихся губ вот-вот сорвется одна из любимых поговорок. Таша удовлетворенно кивнула, отступила на шаг и добавила капельку белил в уголки глаз, оживив их блеск.
— Что скажешь?
Вооружившись молотком, Виктор сражался со строптивым гвоздем.
— Я пребываю в сомнениях и готов устроить тебе сцену ревности. Ваша дружба кажется мне подозрительной.
— Похоже, мне никогда не понять вас, мужчин. Ты мечтал, чтобы мы подружились, и вот теперь, когда…
— Одно меня утешает — Кэндзи позирует тебе одетым.
— Не будь так уверен, это только начало.
— Ты не в его вкусе, он предпочитает брюнеток. Нинон… — Виктор запнулся. — Как и Айрис, полагаю. Маленькие рыжеволосые женщины не интересуют Кэндзи, он оставляет их мне.
Виктор бросил молоток, Таша положила кисть, и они поцеловались.
— Тебе нравится? — шепнул он ей на ухо.
— Что именно? Поцелуи?
— Да нет же, глупышка, мастерская!
— Будешь обзываться, я вернусь к Хельге Беккер! Конечно, нравится. А знаешь, что здесь лучше всего?
— Это? — спросил он, кивнув на стоявшую в алькове широченную кровать под атласным покрывалом.
Таша покачала головой.
— Туалетная комната?
— Нет.
— Мебель?
Она обвела взглядом два кресла в стиле Генриха IV, канапе эпохи Регентства, стол и стулья в стиле Тюдор, купленные Виктором в аукционном доме на улице Друо.
— Она чудесная, но самый лучший подарок для меня — это водопровод.
— Похоже, мне никогда не понять вас, женщин, — со вздохом изрек Виктор.
В дверь постучали. Пришли Жозеф с матерью. Мадам Пиньо преподнесла Таша корзину фруктов, а ее сын — пальму в горшке с цветочного рынка на острове Сите. Поставив подарки перед голландской печью, девушка расцеловала гостей.
— Я теперь год не буду умываться! — поклялся Жозеф.
— А мсье Мори еще нет? — умильным тоном поинтересовалась мадам Пиньо.
— Мы его подождем, благо, Жермена приготовила нам холодные закуски, — ответил Виктор, указав на тарелки с мясным и куриным паштетом, фуа-гра, кресс-салатом и красным салатом-латуком, миску клубники со взбитыми сливками, пироги и бутылки шампанского.
— Просто, но обильно, — добавил он. — Вы помирились с мадам Баллю?
— Конечно, но это обошлось мне в килограмм апельсинов и пять ливров груш, — буркнула мадам Пиньо.
— А она подарила тебе новую метлу, — заметил Жозеф, косясь на аппетитный паштет.
В дверь снова постучали, и Таша открыла: на пороге стоял юный разносчик с охапкой лилий в руках.
— Здесь проживает мадам… Саша Херсон? Празднуете новоселье?
— Таша, — поправил его Виктор, принимая цветы. — Выпьете с нами бокал шампанского?
— Здесь карточка! — воскликнула Таша. — Они от Кэндзи!
— Нет, благодарю, мсье, я никогда не пью на работе, — сказал посыльный. — Но с удовольствием съем кусочек паштета.
Получив бутерброд, он посторонился, впуская Кэндзи с огромным пакетом.
— Это вам, дорогая, — сказал тот Таша.
— Вы меня балуете. Право, не стоило, ваши цветы великолепны.
Девушка поспешила развернуть подарок и продемонстрировала окружающим чайный сервиз на лакированном подносе.
— Какой красивый! — восхитилась она.
— Семнадцатый век. Ничто не может быть слишком красивым для такой женщины, как вы.
— Но-но, Кэндзи, не увлекайся! — вмешался Виктор.
— А что, если мы приступим к угощению? — предложил Жозеф, желая разрядить атмосферу.
Набрав себе полную тарелку еды, он отошел к пальме и принялся объяснять с полным ртом:
— Ей нужны тепло и свет. Знаете, что я прочел во вчерашнем номере «Пасс-парту»? Мари Тюрнера взяла себе этот странный псевдоним «Пальмира» вовсе не потому, что обожает пальмы. Когда она была маленькой, сиамскую кошку ее бабушки звали Пальмира. Она и фамилию — де Морэ — взяла не с потолка. Угадайте, что это значит. Держу пари, не сумеете! Изумруд! Анаграмма
[32]. Фантазии этой женщине было не занимать.
Жозеф смущенно умолк, вняв наконец отчаянным знакам Таша, кивавшей на Кэндзи.
— Не стоит говорить о ней в прошедшем времени, — заметил тот. — Она становится звездой. Говорят, поклонники шлют ей в камеру букеты со всех концов Франции. Принц Уэльский дважды в неделю наносит визит в тюрьму, а герцог де Фриуль будто бы сделал предложение руки и сердца. Она даже начала писать мемуары. Надеюсь, мое имя в них упомянуто не будет. — И он с вызовом взглянул на восхищенных его выдержкой собеседников.
Виктор подумал об Айрис: известно ли ей о его похождениях? Он вспомнил слова, приписываемые Нумой Уиннером Дафнэ Легри: «Ты возродишься, если разорвешь цепь». Был то практический совет или вымысел ясновидящего, их смысл совершенно прояснился: Виктор знал, что теперь он и Кэндзи больше не были сыном и отцом, но стали равны.
— Мне странно и отвратительно подобное увлечение преступными личностями. Не стоит забывать об их жертвах, — заметил он.
— Я нимало не увлечен, можете быть уверены, — ответил Кэндзи, подходя к Таша. — Благодарю вас за участие, — тихо сказал он ей, — но не пытайтесь меня защищать. Больше всего в этой истории пострадало мое самолюбие, а эти раны, как известно, заживают легче всего. Кажется, ваш друг Морис Ломье был задет двуличием любовницы куда больше моего. Он никак не может успокоиться.
— Откуда вам это известно?
— Я был в «Золотом солнце».
— Как мило с вашей стороны.
— Мне очень понравились ваши работы.
— Готов поклясться, что особенно высоко вы оценили портреты, — хмыкнул прислушивавшийся к разговору Виктор.
— Призна
ю, мой вполне удался, — отвечал Кэндзи, разглядывая стоящий на подрамнике холст. — Вы что-нибудь продали?
— Всего одну, но самую любимую — «Парижские крыши на рассвете».
Кэндзи сделал глоток шампанского, спрашивая себя, как долго ему придется прятать эту картину в своем сейфе.
— Лучшая для меня награда — визит Анатоля Франса, — призналась Таша. — Он сказал, что я должна продолжать писать, оставаясь верной своему стилю.
— Лишь тот, кто отказывается предавать себя, достоин плодов искусства, — заключил Кэндзи, отрезая себе большой кусок яблочного пирога.
— Вы это только что придумали! — воскликнул Виктор.
— Кстати, одна бабища два дня назад спрашивала, есть ли у нас «Преданная» Максима Паза с иллюстрациями Эрнеста Кольба, — вставил Жозеф.
— Жозеф! Я запретил вам называть так графиню де Салиньяк… — нахмурился Кэндзи.
— Но в этом нет ничего оскорбительного, патрон! Это алжирский арабский, от испанского «mujer» — женщина! Ладно, тогда я не расскажу, чем кончилась история с конским волосом.
— Прошу вас, Жозеф, расскажите, иначе я умру от любопытства… хоть и не знаю, о чем речь! — воскликнула Таша.
— Хорошо, слушайте: некоторое время назад какие-то люди проникли в конюшни омнибусной компании на улице Орденер и остригли гривы и хвосты двадцати пяти лошадям. Теперь тайна разгадана: злоумышленники продали украденное пастижерам, делающим парики для Оперы.
— Браво, сынок! Ты идешь по стопам инспектора Лекашера! — вскричала Эфросинья Пиньо.
— Но, мама, я ничего такого не нашел, я просто рассказал…
— Ну-ну, не скромничай, я уверена, что нашел. Давайте выпьем за здоровье моего мальчика!
Раздался звон хрусталя. Отразившись в резных гранях, солнечный луч зажег живую искорку в глазах Кэндзи на портрете.
— Спасибо, — прошептала Таша на ухо Жозефу. — Вы спасли жизнь Виктору и заслужили поцелуй и мою вечную благодарность.
Послесловие
В своей работе «Вокруг “Ша-Нуар”» Морис Донней пишет: «В 1890 году в воздухе повеяло свободой. “Парижская жизнь”, знаменитый журнал мод, обновил обложку. “Мулен-Руж” поражал воображение публики постановкой “Quadrille naturaliste”
[33], юбки танцовщиц стали короче, на офицеров надели кепи, мужчины сбрили бакенбарды, женщины сняли кринолины. Очень скоро выражение “конец века” будет у всех на устах. Марианна сбросила свой фригийский колпак. Все говорят о черных перчатках Иветты Гильбер, дамских черных чулках, поют куплеты из “Ша-Нуар” и видят жизнь в розовом свете».
В Париже 1890 год начался эпидемией инфлюэнцы. Ужасная болезнь косит людей направо и налево, особенно служащих магазинов галереи Лувра. К 4 января число жертв достигает 370 человек. В Панаме их намного больше. Из 21 тысячи французов, прибывших на перешеек к началу работ девятью годами раньше, 10 тысяч умерли от желтой лихорадки.
В 1878 году принц Луи Наполеон Бонапарт получил от колумбийского правительства концессию на строительство Панамского канала. Фердинанд де Лессепс, руководивший сооружением Суэцкого канала, взял под эту концессию десятимиллионный кредит. Доверившись рекламным проспектам, сотни тысяч мелких французских вкладчиков купили панамские облигации. Имя Фердинанда де Лессепса, которого называют «великим французом» и «покорителем перешейков», обеспечивает заему невиданный доселе успех. Работы начинаются 1 февраля 1881 года, ими руководят европейские инженеры. Большинство рабочих — цветные с Ямайки, из южных штатов США и Сенегала. Канал должен протянуться на 75 километров и соединить Атлантический океан с Тихим. Его собираются прорыть в самом узком месте американского континента, Панаме, по холмам Кулебры, покрытым 20-метровым слоем глины, что приводит к серьезным техническим затруднениям: дождь превращает глину в жидкую грязь. Машины скользят на грунте, свежевырытые траншеи немедленно вновь заполняются размытой землей. Нормальный ход работ возможен только в сухой сезон, но в этой местности семь месяцев в году идут ливни. Влажность достигает ста процентов. Единственный выход — построить плотину на реке Шагре, которая разливается в сезон дождей на много километров.
Еще одной проблемой являются тянущиеся вдоль береговой зоны многочисленные болота, где водятся миллионы комаров. В 1880 году медициной еще не было установлено, что комар является переносчиком желтой лихорадки. Чтобы избежать нашествия муравьев, ножки кроватей ставили в банки с водой, что равносильно добровольному созданию «комариной фермы» в каждом жилище. В итоге — высочайшая смертность среди инженеров, техников, рабочих и членов их семей.
Семь лет спустя выясняется, что у Компании не осталось ничего, кроме долгов. В декабре 1888 года она просит у властей трехмесячную отсрочку, чтобы попытаться исполнить взятые на себя обязательства. Ей отказывают, а в 1889 году распускают и ликвидируют. Более 870 тысяч мелких акционеров теряют деньги и разоряются. Стремительно растет число самоубийств.
Промышленный рост усиливает противоречия между капиталистами и рабочими. Плата за жилье в Париже непомерно высока, начинается отток населения в пригород, но двухмиллионная столица остается одним из самых густонаселенных городов мира. Четверть парижан объявлены неимущими. Плодами научного прогресса пользуются только привилегированные классы. Электрификация идет крайне медленно, многие дома получат свет только к 1930 году. В обществе обсуждают локомотив Восточной компании, который 2 июня 1890 года побил все рекорды скорости передвижения по железной дороге.
29 июля 1891 года, в Овер-сюр-Уаз, в возрасте тридцати семи лет умирает Винсент Ван Гон, двумя днями раньше выстреливший в себя. Самоубийство художника остается незамеченным, никому и в голову не приходит, что несколько десятилетий спустя его картины так вырастут в цене.
А кто бы поверил, что 9 октября 1890 года начнется эра покорения неба? В этот день сорокадевятилетний инженер Клеман Адер осуществил первый запуск летательного снаряда тяжелее воздуха, который оторвался от земли на 20 сантиметров и пролетел 50 метров.
В моду входит предсказание будущего. Представители всех общественных слоев консультируются с оккультистами, каббалистами, магами, гадалками, спиритами, утверждающими, что способны приоткрыть будущее и общаться с потусторонним миром. Число шарлатанов стремительно растет. Ежедневные газеты пестрят объявлениями: «Мадам Дюшателье, улица Сент-Анн, 45, первая гадалка Европы, отвечает на любой вопрос о будущем». «Мадемуазель Берта, знаменитая ясновидящая-сомнамбула, улица Сен-Мерри, 23, принимает каждый день с 13.00 до 18.00 и по переписке». «Как же отличить настоящих медиумов от шарлатанов?» — задается вопросом французский художник Джеймс Тиссо, который провел серьезное исследование о знаменитых медиумах той эпохи. В 1869 году Лондонское диалектическое общество назначает комиссию из тридцати трех человек для изучения экстрасенсорных феноменов. В 1882 году в Лондоне же создается Общество психических исследований, куда входят известные ученые. Виктор Гюго, Теофиль Готье, Викторьен Сарду и Конан-Дойль увлекаются спиритизмом, введенным в обиход Алланом Кардеком
[34], — он сформулировал принципы, на которых базируется спиритизм: человек состоит не только из материи, в нем заключено мыслящее начало, связанное с физическим телом перемычкой-периспритом. Мыслящее начало оживляет физическое тело и покидает его, как старую одежду, когда завершается очередное воплощение. Развоплотившись, мертвые могут общаться с живыми — напрямую либо через медиумов, видимым или невидимым способом. Мнения на этот счет разнятся, многие убеждены, что спиритизм научно доказывает продолжение жизни после смерти, другие, в том числе иллюзионист и будущий кинорежиссер Жорж Мельес, уверены, что явление духов — просто ловкая инсценировка.
В марте 1890 года все газеты дружно сообщают следующую новость: «Господин канцлер Отто фон Бисмарк покинул правительство! Император Вильгельм II не слишком противился отставке: по его собственному признанию, канцлер был для него “случайным” человеком… Французы задаются вопросом, чего ждать от вооруженной до зубов и ощетинившейся штыками Германии».
6 апреля Франция завершает освоение бассейна реки Нигер и покоряет африканское государство Сегу. Винтовка Лебеля и бездымный порох вызывают восторг на крупных учениях в заморских территориях. Общественное мнение обеспокоено требованиями рабочих.
В том же 1890 году 1 мая официально становится днем солидарности трудящихся, ответивших на призыв социалистов к нелегальным забастовкам. Во Франции существует 280 официально зарегистрированных профсоюзных объединений и 587 нелегальных. В промышленных городах открываются биржи труда.
Рабочие переделывают слова песенки «Булан, булан, буланж, нам нужен Буланже» в: «Восемь часов, восемь часов, восемь часов, нам нужны восемь часов…»
В 1889-м, в год столетия взятия Бастилии, после демонстраций, состоявшихся в Америке 1 мая 1886-го и 1887 года, этот день становится символом борьбы трудящихся за свои права в Европе и США. В 1885 году пролетарские организации Америки приняли решение о том, что 1 мая 1886 года (день подписания новых трудовых договоров) станет днем всеобщей забастовки и выдвижения требования о восьмичасовом рабочем дне. Самая крупная забастовка проходит в Чикаго, где на работу не выходят 40 тысяч человек. Хозяева решают нанять «желтых» (штрейкбрейхеров). 3 мая у заводов Маккормика собираются от 7 до 10 тысяч бастующих, чтобы освистать штрейкбрейхеров. Вмешиваются полиция и армия. Итог: шестеро убитых и множество раненых. На следующий день митинг протеста собирает 150 тысяч человек. Происходят новые столкновения с полицией, есть убитые. Город переведен на осадное положение, пятеро активистов-социалистов арестованы, суд приговаривает их к повешению. В следующем, 1887 году, 1 мая становится днем всеобщей забастовки во всех крупных городах США, что позволяет добиться введения восьмичасового рабочего дня.
Во Франции закон о выходных днях и сокращении рабочей недели будет принят только в 1906 году. В 1890-м законодательство никак не регламентирует рабочий день и условия труда детей и женщин. Женщина получает вдвое меньше мужчины за равное количество рабочих часов и выполнение тех же самых обязанностей. В Париже ежедневная оплата женского труда не превышает 4 франков. Белошвейки и швеи получают 2 франка. Служанкам платят от силы 1,5 франка. Кучера, водители омнибусов и грузового транспорта получают 5 франков и 75 сантимов за 16 часов работы при двух неоплачиваемых выходных в месяц. На парижских рынках работают по 15–17 часов в день, в зависимости от времени года и хода торговли, за 5 франков в день. Официанты в кафе и ресторанах трудятся с восьми утра до полуночи и живут только на чаевые. Помощники мясников работают по 15–18 часов в день и имеют один выходной в год, железнодорожные стрелочники — по 15–16 часов, получая в год от 900 до 1000 франков (из-за переутомления происходит много несчастных случаев). На частных предприятиях мужчины получают 4 франка и 85 сантимов в день, женщины — 2 франка и 46 сантимов. Из 24 тысяч почтальонов, работающих на почтовое ведомство, 10 500 ежедневно проходят пешком 28 километров, некоторые — до 40 километров. Их годовое жалованье составляет 600 франков плюс
форма и две пары обуви. При этом семья с двумя детьми может прожить без посторонней помощи, только если ее доход достигает 1500 франков в год.
«Су — это су», — гласит народная мудрость. Су составляет двадцатую часть франка, или пять сантимов. Сантим — сотая часть франка.
Швея, получающая 2 франка в день, тратит на еду 90 сантимов: 70 сантимов — на хлеб (1 ливр), 10 — на молоко, 25 — на мясо, 10 — на вино, 5 — на уголь, 10 — на овощи, 10 — на масло. Многие тринадцати-четырнадцатилетние подмастерья обедают кульком жареной картошки за 2 су, другие позволяют себе роскошь добавить к этому на 10 су колбасы и на 2 су хлеба.
К какому бы классу общества ни принадлежала женщина, она обязана во всем подчиняться мужу, получая за это мифическую «защиту». Гражданский кодекс и законы относятся к ней, как к существу низшего порядка: только супруг может управлять имуществом семьи и личным имуществом супруги. Закон позволит работающим женщинам самостоятельно распоряжаться своим жалованьем только в 1907 году. Одинокая неимущая женщина на пороге старости имеет мало шансов выжить: работодатели закрывают перед ней все двери, общество о ней забывает.
«…Выражение “конец века” в скором времени будет у всех на устах, люди станут воспринимать жизнь в розовом свете».
Конец столетия воспринимается неоднозначно. В 1890-х много говорят о прогрессе науки, но опасаются неизбежных перемен, люди предаются ностальгическим воспоминаниям о прошлом, пресса и обыватели яростно обличают свободу нравов, ругают летнюю жару и холодные зимы, упадок деревни, пессимистический настрой литераторов и порнографические издания, социализм, финансовые махинации, растущий уровень преступности, 1 130 000 бельгийцев, итальянцев, швейцарцев, испанцев, русских, поляков и прочих эмигрантов, составляющих всего 2,9 % населения Франции.
«Кровь можно перелить в вены человеку, просвещенность — в вены народа», — сказал Виктор Гюго. В конце века Франция должна открыться навстречу миру.
Клод Изнер
«Роковой перекрёсток»
В изгибах сумрачных старинных городов,
Где самый ужас, все полно очарованья,
Часами целыми подстерегать готов
Я эти странные, но милые созданья!
Шарль Бодлер. Маленькие старушки.[35]
Глава первая
Париж, предместье Сен-Манде
26 июня 1891 года, воскресенье
Поспешно вымыв руки, мадемуазель Бонтам бросила страдальческий взгляд на тарелку, полную песочных корзиночек с клубникой, пирожных с кофейным кремом, эклеров и безе, с трудом преодолела искушение и, поставив тарелку в буфет, закрыла дверцу. «Вечером, — подумала она, — когда все уснут…» Мадемуазель Бонтам расправила пышную юбку (она упорно продолжала носить кринолин в память о временах своей юности) и вернулась в гостиную, где ее гость уже надевал перчатки.
— Простите, что покинула вас так надолго, мсье Мори, — кокетливо сказала она. — Мне показалось, что где-то не закрыли кран.
— Да, я слышал шум льющейся воды, — кивнул щегольски одетый японец.
Он надел черный шелковый цилиндр, безупречно сочетавшийся с двубортным пиджаком и брюками в полоску, и попытался вытащить свою трость из украшенной рюшами подставки для зонтов. Волны рюшей и водовороты ткани — на занавесках, чехлах для мебели, заставленных всякими безделушками этажерках и даже на платье хозяйки — заполняли всю комнату, и Кэндзи Мори казалось, что у него вот-вот случится приступ морской болезни. Наконец ему удалось высвободить трость, и он с облегчением вздохнул.
— А где же ваша крестница? — спросила мадемуазель Бонтам.
— Айрис пошла с подругами в город. Я такие прогулки не одобряю.
— Но ведь юным девушкам надо как-то развлекаться.
— Развлечения — преддверие раскаяния, точно так же, как сон — преддверие смерти.
— Какие красивые слова, мсье Мори. И грустные.
— Под стать моему настроению… Не люблю разлучаться с близкими. — Он сделал вид, что разглядывает наконечник трости.
— Как я вас понимаю! — Мадемуазель Бонтам незаметно поправила складки ткани на подставке для зонтов. — Не расстраивайтесь так, мсье Мори, два месяца пролетят быстро, вы и заметить не успеете.
— Я распорядился, чтобы купальный костюм и шляпку доставили сюда в четверг. Вы ведь уезжаете в следующий понедельник, не так ли?
— Если будет на то воля Божья, мсье Мори. Господи Иисусе, ну и путешествие нам предстоит! Мы с барышнями впервые едем на море. Они уже места себе не находят от нетерпения. Представьте, мне пришлось заказать четыре комнаты с кухаркой и двумя горничными — ведь нас шестнадцать человек. Поездка стоила бешеных денег. А раз мы едем больше, чем на шесть недель, нам не дадут туристическую скидку. Раньше мы довольствовались Сен-Сир-сюр…
— Да-да, Сен-Сир-сюр-Морен, — пробормотал японец, начиная терять терпение.
— Но что делать, времена меняются, теперь все только и говорят, что об отдыхе, о пляжах и купаниях…
— Прошу вас, не позволяйте Айрис купаться без присмотра.
— Что вы! Я барышень от себя ни на дюйм не отпущу. А еще я наняла для них учителя по плаванию.
— Да? Тогда за ним тоже надо присматривать, особенно, если он красив.
— Ну что вы, мсье Мори! Я с девочек глаз не спускаю, трясусь над ними, как наседка…
— …Да-да, над цыплятами. Не могли бы вы вызвать мне экипаж?
— Эй, Кола, поди сюда! Мсье Мори нужно… Куда же подевался негодный мальчишка?! Это сын садовника, — пояснила мадемуазель Бонтам, бросая самодовольный взгляд на свое отражение в большом зеркале, украшенном пухленькими ангелочками, и кокетливо поправляя два пышных крашеных локона, обрамлявших ее круглое, словно полная луна, лицо.
В комнату вошел хмурый мальчишка, ковыряя в зубах травинкой.
— Беги за наемным экипажем! — распорядилась мадемуазель Бонтам. — Одна нога здесь, другая там, — не видишь, что ли, мсье ждет!
Выйдя на шоссе де л'Этан, мальчишка оглянулся на приземистое строение в буржуазном стиле, украшенное коваными решетками и медной табличкой с надписью: «Частный пансион для юных девиц К. Бонтам», и направился в сторону ратуши, откуда доносилась громкая музыка.
От ствола каштана отделился красивый молодой человек лет двадцати и бесшумной кошачьей походкой пошел вслед за мальчишкой. Тот уже собрался было перейти через улицу к железнодорожной станции Сен-Манде, где выстроилась вереница наемных экипажей, но ему на плечо легла чья-то рука.
— А, это вы мсье Гастон? — Мальчишка с облегчением перевел дух. — Ну и напугали вы меня!
— Долго же ты возился!
— Это все из-за хозяйки.
— Вот, — сказал мужчина, протягивая мальчишке записку, — сам знаешь, кому это отнести.
— Где ж я вам ее найду?! Они все сейчас на празднике. Сами видели, какая там толпа!
— Это не моя забота. Давай, парень, пошевеливайся.
* * *
— Посмотри, какой красавчик! Вон там, в офицерской форме! У него столько медалей!
— Фи, он покраснел от натуги, вот-вот лопнет. Мне больше нравится тот, что дует в трубу. У него крахмальный воротничок и такой солидный вид…
Десяток юных девиц в светлых платьях выстроились у сцены, с восхищением разглядывая духовой оркестр пожарных. Высокая нескладная девушка в шляпке, напоминавшей корзинку спелых вишен, — та самая, которой понравился офицер, — окинула суровым взглядом свою подругу, низенькую толстушку с непокрытой кудрявой головкой.
— Аглая, у тебя дурной вкус! — упрекнула она. — Почему ты не надела шляпку?!
— Отвяжись! Я так привыкла! Не всем же выпадает честь родиться племянницами биржевых воротил, — огрызнулась та.
Среди зрителей то и дело раздавались восторженные возгласы. Две девушки — худенькая брюнетка в голубом платье и пухленькая блондинка в красном — воспользовались суматохой и незаметно выбрались из толпы.
Запыхавшись, они остановились у качелей в форме лодок.
— Покатаешься со мной, Элиза? — спросила брюнетка, завороженно глядя на качели.
— Нет, Айрис, что ты, мы же только что из-за стола! Опять гороховый суп, да еще в такую жару. Эта старая карга мадемуазель Бонтам, должно быть, закупила тонну гороха по дешевке, вот и пичкает теперь нас.
— Ну, как хочешь, а я пойду кататься, — заявила Айрис, решительно подходя к освободившейся лодке.
Элиза не успела удержать подругу. Какой-то юноша без пиджака, в одной рубашке, уже подал Айрис руку, усадил на скамью и начал раскачивать качели. Та одной рукой придерживала шляпку, а второй вцепилась в борт лодки.
«Может, мне тоже рискнуть?» — подумала Элиза, но стоило ей увидеть, как подруга выпрямляет и сгибает колени, чтобы раскачаться сильнее, как сердце у нее ушло в пятки. Она отвернулась, делая вид, что ее заинтересовали подвиги ярмарочного силача: тот поднимал штангу, на которой сидели два хохочущих лилипута.
— Мамзель Лиза!
Она вздрогнула. Кола, приложив палец к губам, сунул ей в руку клочок бумаги.
— Это от господина, что вам уже писал, — прошептал мальчишка. — Он велел вас поторопить, потому что сейчас представился случай, а потом неизвестно, сколько еще придется ждать. Я вас едва нашел! А мне еще поручено нанять экипаж… Попробуй, найди его! Ох, попадет мне от хозяйки, как пить дать.
— Где он? — спросила Элиза и положила монетку в протянутую ладонь.
— Прячется, — бросил мальчишка через плечо, убегая.
Убедившись, что Айрис все еще качается на качелях, Элиза отошла к палатке торговца сладостями. Там мужчина в рубашке с закатанными рукавами подвешивал на крюк толстые пласты лоснящегося зеленого и розового теста. Несколько чумазых, перепачканных карамелью ребятишек, едва доставая носами до прилавка, завороженно следили за каждым его движением. Элиза развернула записку. Она сразу узнала знакомый корявый почерк и торжествующе улыбнулась. Сбылась ее заветная мечта. Элиза всегда смутно догадывалась, что ей уготована необыкновенная судьба, но ей уже исполнилось семнадцать, а жизнь в пансионе мадемуазель Бонтам текла все так же скучно и размеренно. Девушка начинала терять терпение. Каждое утро она просыпалась с мыслью: «Я просто умру, если в ближайшее время ничего не переменится».
И вот наконец в ее жизни появился незнакомец. Поначалу это был просто случайный прохожий — мало ли кто гуляет у озера, когда мадемуазель Бонтам выводит своих воспитанниц на прогулку. Элиза с ним еще и словом не обмолвилась, но он все чаще становился героем ее девичьих грез. И хотя он с безразличным видом проходил мимо, не задерживаясь взглядом ни на одной из девушек, каждая готова была поспорить, что он приходит к озеру исключительно ради нее. Подруги это не обсуждали — разве можно признаться, что тебе понравился такой экстравагантный мужчина? Так прошел месяц. И вот в один прекрасный июньский вечер Элиза получила записку. Когда все улеглись спать, она подошла к окну спальни и прочитала в слабом свете газового рожка:
Вы самая прикрасная на свете. Я вас люблю.
Гастон
Затем последовали еще двадцать три послания — столь же лаконичные и безграмотные. Элиза благоговейно хранила эти клочки бумаги в тайнике под каминной полкой. Гастон был не мастер писать любовные письма и строил фразы, как в учебнике грамматики: подлежащее, сказуемое, дополнение, иногда, для разнообразия — прилагательные в превосходной степени, но без конца повторял: «любовь», «любовь», «любовь навеки». Элизу впечатляла такая настойчивость, но она не могла решиться написать ответ.
На этот раз ее воздыхатель превзошел самого себя. Такое длинное послание было поистине подвигом для человека, привыкшего выражаться предельно кратко:
Сбигайте от сваих друзей, предумайте отгаворку и преходите ко мне за насыпь у маста, што возли Башни. Я люблю вас.
Гастон
Хватит ли у нее смелости пойти на это свидание, ни слова не сказав даже Айрис? Вот уж кто точно переполошится и расскажет об ее исчезновении мадемуазель Бонтам. Надо срочно что-нибудь придумать. Сослаться на то, что она плохо себя чувствует?.. Это почти правда. Кровь прилила Элизе к лицу, голова у нее закружилась. Она представила, какой видит ее Гастон. Он считает ее красивой! Он ее любит!
Начинало смеркаться. Повсюду зажглись праздничные фонарики, и голоса зазывал стали слышны громче:
— Десять сантимов, всего два су! Военным — за пять сантимов!
Писк рожков, резкие звуки труб, перепевы шарманок и барабанная дробь — все это сливалось в веселую какофонию. Бродячий акробат в облегающем трико примостился на бочке и кричал, что во всем мире не сыщешь лучшего развлечения, чем представление Нуну, знаменитой дрессировщицы блох. Чуть поодаль две немолодые танцовщицы в расшитых блестками юбках изображали жалкое подобие танца живота.
— Спешите видеть! Говорящая голова!
— Вафли! Кому вафли! Вкуснейшие вафли из самого Парижа!
— Хотите яблоко в глазури, мадемуазель? Лакомство для влюбленных! Заверните направо, к Купидону.
Пока Элиза протискивалась сквозь праздничную толпу, ее оттеснили к ярмарочным палаткам, и там ее угораздило столкнуться с Аглаей. Та запихивала в рот очередной пирожок, видимо, на время праздника решив забыть обо всех условностях. А на тротуаре через дорогу стояла разряженная не хуже рождественской елки пышнотелая мадемуазель Бонтам и кричала что было сил, повернувшись к карусели, где катались три ее воспитанницы:
— Эдмэ! Берта! Аспази! Уже поздно, куда подевались остальные?
Элиза затерялась в людском потоке, неспешно двигавшемся в сторону Парижа. Около железнодорожной станции Сен-Манде, аккомпанируя себе на плохонькой скрипке, выступал уличный певец. Песенка была популярная, и возле него собралась приличная толпа.
Мадемуазель! Послушайте меня,
Позвольте предложить вам глоток
«Мадам Клико»…
Девушка обогнула здание станции и уже собиралась ступить на мостовую, но остановилась при виде проезжающего мимо наемного экипажа. Его пассажир выглянул в окно, и она узнала мсье Кэндзи Мори, крестного отца Айрис. Элиза бросилась наутек, стараясь держаться как можно ближе к стенам домов.
Наконец она добралась до насыпи и внимательно огляделась по сторонам, но увидела лишь несколько влюбленных парочек да стаю бродячих собак. Откуда же он появится? Что она ему скажет? Внезапно ее охватил страх. Ей вспомнились слова матери: «Девочка моя, страх — это благо, он предупреждает нас о грядущих неприятностях».
Элизу охватило раздражение, смешанное с жалостью. В свои тридцать пять лет ее несчастная мать так и не узнала, что такое настоящая страсть, хотя недостатка в поклонниках у нее не было. Элиза была уверена, что уж ее-то жизнь сложится по-другому. Еще совсем маленькой девочкой она хвасталась в Лондоне подружкам по пансиону:
— Однажды за мной приедет отец и увезет меня в свое поместье в графстве Кент, потом я выйду замуж за лорда, и он будет от меня без ума!
Но отец, чьего имени она даже не знала, так ни разу и не вспомнил о ней.
По дну оврага пролегала железная дорога. Она соединяла Париж с восточными предместьями и бежала дальше, к берегам Марны — Ножену, Жуанвилю и Сен-Мору. Элиза перегнулась через ограду рядом со шлагбаумом и уставилась на открывшееся ее глазам зрелище. Ей всегда нравились поезда, она мечтала о дальних странствиях, незабываемых встречах, роскоши и свободе… Внизу, на темном перроне, суетились люди. Картина настолько напоминала муравейник, что Элиза с каким-то отстраненным любопытством подумала: а что будет, если бросить туда пару камешков?
Из Венсена, весь в клубах пара, прибыл поезд. До чего же он похож на игрушечный! Не успел состав остановиться, как толпа хлынула на перрон, чуть ли не штурмом беря вагоны. К великому разочарованию новых пассажиров, купе были по большей части уже заполнены. Бесполезная суета в поисках свободного места, пререкания, перепалки… и в конце концов разочарованные люди-муравьи оставались ждать следующего поезда. Внимание Элизы привлек видный господин в цилиндре и с тростью. Он выходил из вагона, куда вошел за пару минут до того, а за ним следовали его жена-муравьиха в сиреневом платье и сын-муравьеныш в коротких штанишках (Элиза не была уверена, что слово «муравьеныш» существует, и решила, что сама его выдумала). Увлеченная наблюдениями за этой суетой, которая казалась ей абсолютно бессмысленной, девушка совсем позабыла про назначенное свидание и привстала на цыпочки, чтобы получше разглядеть открывающийся сверху вид.
Гастон притаился за оградой. Он курил и разглядывал Элизу. Опыта в общении с женщинами ему было не занимать: расстегнул корсаж, залез под юбку — и все дела. Но сейчас он пребывал в нерешительности — уж очень хрупкой выглядела девушка. Как-то у него был роман с одной из таких барышень. Они похожи на нежные цветы, выращенные в тепличных условиях высшего общества: у них белоснежная кожа, безупречное белье, и они умеют отличить винный бокал от коньячного. Как себя с ней вести? Поклониться и поцеловать руку? А что потом? Наговорить комплиментов, восхититься миловидным личиком и тонкими запястьями? На такое он был неспособен. Гастон знал лишь один способ выразить свои чувства — опрокинуть избранницу навзничь и обрушить на нее поток грубых нежностей, на которые падки все женщины. Он прикурил вторую сигарету от первой, давая себе отсрочку перед тем, как пойти в атаку.
А муравей в цилиндре все метался из одного конца перрона в другой, подпрыгивая в поисках свободного места. Вдруг Элизе почудилось какое-то скользящее движение справа, и она отвела взгляд. Девушка почуяла неладное буквально за миг до катастрофы: в поезд на полном ходу врезался состав, прицепленный к локомотиву, который двигался задним ходом со стороны Венсена.
Удар был ужасен. Поезд, который шел задним ходом, врезался в стоявший на станции, буквально смяв последние три вагона. Труба паровоза оказалась на самой вершине груды искореженного металла и доставала аж до свода моста, искореженный двигатель издавал последние вздохи. Все произошло практически мгновенно. Страшный звук удара еще долго висел над вокзалом, а потом стали слышны крики.
[36]
Элиза не могла оторвать взгляда от изувеченных трупов кочегара и машиниста пострадавшего поезда, в ушах у нее звенело от душераздирающих воплей, и она скорее догадалась, нежели увидела, что сотни человек карабкаются вверх по темным склонам оврага, стараясь оказаться как можно дальше от места трагедии. Девушку била крупная дрожь. Казалось, она парит над облаками, судорожно вцепившись в качели, которые сорвались с креплений.
У нее закружилась голова, в глазах потемнело. Люди, спасшиеся во время трагедии, уже выбрались на насыпь и, если б Элиза упала, ее просто затоптали бы. Чьи-то руки подхватили девушку и бережно отнесли в сторону.
Элиза открыла глаза. Отовсюду слышались крики и стоны. Вокруг в отблесках факелов и фонарей метались люди. Она лежала на земле. Кто-то тряс ее за плечо. Потихоньку зрение прояснилось, в затуманенной голове возникли разрозненные обрывки мыслей. Элиза рада была бы снова провалиться в забытье, но тщетно. Она попыталась встать, но ей не хватило сил. Какой-то мужчина сжал ей запястья.
— Что случилось? — прошептала она. Собственный голос доносился до нее словно издалека.
— Не бойтесь, я с вами, — сказал незнакомец, опускаясь возле нее на колени. — Это я, Гастон.
«Несчастный случай, — пронеслась в голове Элизы мысль. — Вот почему я лежу на траве…»
— Гастон?..
Голова у девушки шла кругом, земля уходила из-под ног. Гастон помог ей встать и опереться на перила моста. Крики спасшихся смешивались со стонами раненых. Возле искореженного локомотива суетились пожарные и их добровольные помощники. С треском горели деревянные вагоны, искры летели на заваленные обломками перроны, отражались и гасли в лужицах крови. В поисках спасения люди отчаянно хватались за кусты на склоне, но многие все равно соскальзывали вниз.
— Пойдемте, мадемуазель, — уговаривал Гастон. — Я вас провожу. Пусть спасатели делают свою работу.
Они быстрым шагом прошли мимо приходивших в себя после катастрофы мужчин и женщин и сновавших туда-сюда санитаров и выбрались на ярко освещенное шоссе де л'Этан. Вдруг Гастон увлек Элизу под сень деревьев Венсеннского леса. Девушка испугалась и попыталась воспротивиться. Не говоря ни слова, Гастон прижал ее к стволу каштана и впился губами в ее губы. Ей стало больно. Ни в поцелуе, ни в объятиях не было и намека на нежность, на возвышенные отношения, о которых она мечтала, — Гастон сжал ее так сильно, что она не могла даже пошевелиться. Возмущенная и напуганная, Элиза хотела было оттолкнуть его, но после недавних переживаний сил у нее не оставалось. Постепенно на смену возмущению пришло удивление, затем радостное чувство, но молодой человек прервал поцелуй, и к Элизе вновь вернулся страх, а с ним — и чувство вины.
— Гастон, прошу вас, это неприлично.
Он взял ее за подбородок, заставляя посмотреть себе в глаза, и прошептал:
— В этом нет ничего дурного, ведь я люблю вас.
Эти слова развеяли последние сомнения. Элиза бросилась в его объятия и раскрыла губы навстречу поцелуям. Он ласкал ее медленно, пробуждая дрожь наслаждения.
— Скоро мы встретимся снова? — выдохнул он ей в ухо.
— Да… я… Боже мой! Мы же уезжаем…
— Мы?
— Мадемуазель Бонтам и все мои подруги… В Трувиль, до середины сентября.
— Где вы будете жить?
— На вилле «Георгина».
— Я приеду туда. Мы придумаем, как нам увидеться. А сейчас вам пора, не то ваши подруги поднимут тревогу. Это будет наш секрет, да? Вы хоть немного меня любите?
— О, Гастон!
Он поцеловал девушку в лоб. Элиза, пошатываясь, перешла улицу, оглядываясь на каждом шагу. Гастон не сводил с нее глаз, на его губах застыла странная улыбка.
Но стоило девушке закрыть за собой дверь в пансион, как улыбка тут же исчезла с лица молодого человека. Он закурил и глубоко затянулся.
«Повезло, — думал он, направляясь в сторону озера. — Само небо послало аварию, чтобы мне проще было окрутить эту романтичную дурочку».
Он и сам еще не решил, как будет действовать дальше, но мысль о поездке в Трувиль ему нравилась. Его приятель будет доволен: в ноябре Гастон передаст ему эту цыпочку и тем самым выполнит свою часть соглашения. Набрав пригоршню камешков, он запускал ими по одному в озеро, стараясь, чтобы они отскакивали от черной глади воды.
Глава вторая
Париж,
12 ноября 1891 года, четверг
В небе над сонным Парижем плыл молодой месяц. Сена в переливах рассеянного лунного света неспешно несла свои воды к острову Сен-Луи. На набережную Сен-Бернар выехал наемный экипаж, проехал вверх по улице Кювье и остановился на улице Ласепед. Кучер спрыгнул на землю и огляделся. Убедившись, что его никто не видит, он снял парусиновую шляпу и непромокаемый плащ, бросил их внутрь экипажа, вернулся немного назад и притаился в самом начале улицы Жоффруа Сент-Илера. В синеватом свете газового фонаря серое шерстяное пальто делало его почти незаметным. До полуночи оставалось десять минут.
Без пяти двенадцать окно на первом этаже дома № 4 по улице Линнея приоткрылось, оттуда выглянул Гастон Молина и выплеснул на тротуар содержимое графина. Затем он закрыл окно, подошел к туалетному столику, на котором горела свеча, пригладил волосы и, смахнув соринку со своей шляпы, скользнул взглядом по белокурой девушке, которая спала на продавленной кровати полностью одетая. Она уснула, едва пригубив предложенный им напиток. Свою задачу он выполнил. А что будет дальше — его не касается.
Гастон тихонько вышел из квартиры, стараясь не привлекать внимание консьержа. Как назло, кто-то из жильцов второго этажа выглянул в окно, и Гастон тут же отпрянул к стене дома. Он закурил, обошел фонтан Кювье и направился дальше по улице.
Человек в сером пальто дождался, пока Гастон пройдет мимо, и последовал за ним.
Гастон шел вдоль ограды Ботанического сада. Ему послышалось, будто где-то справа рычит тигр. Он насторожился, резко обернулся, но тут же расслабился и с улыбкой пожал плечами: «Спокойно, парень, — сказал он сам себе, — ничего удивительного, тут же неподалеку зверинец».
Тишину ночных улиц нарушал лишь грохот тяжелых повозок золотарей. Запах от них исходил тошнотворный. Повозки неспешно съезжались по булыжным мостовым спящего города к набережной Сен-Бернар, где золотари переливали их содержимое в плавучие цистерны.
Гастон Молина уже почти дошел до набережной, когда ему показалось, что за ним кто-то крадется. Он оглянулся. Никого. «Не дергайся, — попытался он себя успокоить, — ты просто устал, тебе надо отоспаться».
Вот и винный рынок.
[37] Парижские клошары прятались здесь от непогоды. От разнокалиберных бочонков сильно пахло вином.
«До чего же охота выпить, — мелькнула у Гастона мысль. — Решено, напьюсь, как сапожник».
Вдруг сзади послышался шорох, и рядом с ним выросла темная фигура. Гастон попытался отпрянуть, но его пронзила нестерпимая боль. Он схватился за живот и нащупал рукоятку ножа. В глазах у него потемнело, и он упал.
* * *
Виктор Легри проснулся в крайне скверном расположении духа. Он был уверен, что его компаньон опять придумает тысячу отговорок, лишь бы не принимать прописанные доктором Рейно лекарства.
— Кэндзи! Я знаю, вы уже проснулись! — крикнул он. — Довожу до вашего сведения, что в полдень придет врач.
В ответ донесся только звук закрываемой двери. Виктору ничего другого не оставалось, как спуститься в лавку. Приказчик Жозеф, забравшись на шаткую приставную лесенку, смахивал большой метелкой из перьев пыль с книг и распевал во все горло популярную песенку:
Я капуста, и вам я скажу:
Я с яйцом вкрутую дружу.
Положи меня в суп — я порадую всех.
Всюду ждет меня успех.
Это было уже слишком. Даже не похлопав гипсовый бюстик Мольера по голове, что он обычно проделывал каждое утро, Виктор опрометью бросился через лавку к лестнице в подвал и заперся у себя в фотолаборатории.
Там он провел около часа, наслаждаясь тишиной и покоем. Это была его святая святых — здесь он забывал обо всех проблемах, безраздельно отдаваясь своему увлечению — фотографии. В апреле прошлого года Виктор начал составлять подборку снимков старинных парижских улочек, и она постоянно пополнялась. Поначалу он фотографировал в основном Двадцатый округ, особенно Бельвиль, составляя каталог тамошних улиц, памятников, жилых домов и мастерских, но недавно открыл для себя предместье Сент-Антуан. И хотя набралось уже более сотни снимков, он был собой недоволен — фотографии получались какие-то безликие. «Красиво, — думал он, — но не более того».
Не слишком ли много внимания он уделяет технике? Или просто вдохновения не хватает? Ведь случается же такое время от времени с художниками или, скажем, с писателями. А ведь надо всего лишь по-новому увидеть обыденный облик улиц, и все получится.
Виктор знал, что способен достигнуть желаемого результата. Он подкрутил газовый рожок, чтобы стало светлее, и начал разглядывать только что проявленные снимки: двое тощих ребятишек у распиловочной машины с трудом режут мраморные плиты. Ему невольно вспомнилась иллюстрация к сборнику рассказов Чосера: маленький мальчик стоит, понурив голову, а над ним угрожающе нависает солидный господин в темном сюртуке. Сам Виктор в детстве тоже больше всего на свете боялся прогневить отца. И тут его осенило: «Дети! Детский труд! Отличная тема!»
Воодушевленный этой идеей, Виктор схватил с полки картонную коробку и сложил туда снимки. Ему попалась фотография, на которой были изображены две переплетенные бронзовые руки, а под ними — эпитафия:
Жена моя, я жду тебя.
5 февраля 1843
Друг мой, я здесь.
5 декабря 1877
Один из снимков выскользнул у него из рук и плавно приземлился на пол. Виктор поднял карточку. Таша. Он нахмурился: как ее портрет мог оказаться в конверте с видами кладбища Пер-Лашез? Он точно помнил, что сделал этот снимок два года назад на Всемирной выставке. Очаровательная девушка с задорным выражением лица и не подозревала, что ее фотографируют. Именно в эту минуту Виктор влюбился в нее. Глядя на портрет Таша, он вспоминал, как зарождалась их любовь. С каждой новой встречей чувство к этой прелестной девушке разгоралось в нем все сильнее и сильнее. Ему хотелось постоянно говорить с ней, смеяться, заниматься любовью, строить планы на будущее…
Стоило ему вырвать ее из вихря богемной жизни и поселить в просторной мастерской, как она тут же с головой ушла в живопись. Такое рвение внушало Виктору некоторое беспокойство, но он был счастлив, что дает ей возможность самореализоваться, и надеялся, что после выставки, к которой Таша подготовила три своих натюрморта, ее творческий пыл поостынет. Но когда одно из ее полотен, выставленных в галерее Буссо и Валадона, купили, она так вдохновилась, что теперь, бывало, работала по ночам при тусклом свете газового рожка. А Виктор ценил каждое мгновение, проведенное наедине с любимой. Его очень огорчало, что Таша не разделяет это желание, и он начинал ревновать ее к живописи даже больше, чем к коллегам-художникам.
Не в силах усидеть на месте, он принялся расхаживать из угла в угол. В нем боролись противоречивые чувства: с одной стороны, его привлекали независимость и целеустремленность Таша, но в глубине души он все равно мечтал, чтобы она принадлежала только ему одному.
«Идиот несчастный! — укорял он себя. — Это верный способ ее потерять. Перестань себя изводить! Неужели тебе нужна мещаночка, которую интересует только собственная внешность, наряды да домашнее хозяйство? Да рядом с такой ты со скуки бы помер! Откуда же тогда в тебе эта беспричинная ревность, желание все контролировать, эта тяга к стабильности?»
В детстве в присутствии отца Виктора всегда охватывал страх. Когда отец умер, этот страх исчез, но на смену тут же пришел другой — Виктор стал бояться, что мать влюбится в какого-нибудь мужчину. Эти опасения отравили ему юность. Когда же Дафнэ — так звали его матушку — погибла в результате несчастного случая, Виктор твердо решил стать самостоятельным. Но тут в Париж приехал его опекун Кэндзи Мори, чтобы помочь ему вести дела в книжной лавке, и, сам того не ведая, лишил молодого человека свободы выбора. Именно Кэндзи приучил Виктора вести размеренный образ жизни, деля свое время между книжной лавкой и смежной с ней квартирой, иными словами, между торговым залом и случайными связями, и с годами это вошло в привычку.
Он вновь взглянул на фотографию Таша. Ни одна другая женщина не вызывала в нем столь глубоких чувств. «Нет, — подумал он, — я не хочу ее потерять! Скоро, совсем скоро мы увидимся вновь». Он погасил газовый рожок и отправился наверх.
* * *
В лавке пожилой ученый из Коллеж де Франс что-то тихонько бубнил себе под нос в попытках разобрать текст «Космоса» Гумбольдта, а еще один посетитель — лысый бородач — перелистывал новый перевод Вергилия. Жозеф не обращал ни малейшего внимания на потенциальных покупателей. Он был занят любимым делом — вырезал из газет статьи о всяческих курьезах, разбирал и сортировал их, при этом невероятно фальшиво напевая арию из оперы «Лоэнгрин». Последнее время настроение у Жозефа постоянно менялось: то он готов был прыгать от беспричинной радости, то впадал в меланхолию. Виктор полагал, что юноша переживает из-за болезни Кэндзи, он и сам испытывал подобные чувства.
— Да отложите же вы ножницы, будь они неладны. Обратите, наконец, внимание на то, что происходит вокруг.
— Вокруг не происходит ровным счетом ничего, — пробормотал Жозеф, не прерывая своего занятия.
— Доктор уже приходил?
— Только что ушел. Он посоветовал настой такой, ну, тоне… тону…
— Тонизирующий.
— Точно! Из цветов ромашки, листьев березы и смородины. Можно чуть подсластить и добавить молока. Жермена уже пошла за травами.
— Ладно. Я ухожу.
— А как же обед? Жермена будет в ярости, если вы уйдете голодным. И кому, спрашивается, выслушивать ее упреки? Как всегда, бедняге Жожо! А она, между прочим, приготовила свиные мозги на коровьем масле с молодым луком. Говорит, получилось — пальчики оближешь.
Виктор недовольно поджал губы.
— Придется вам оценить ее стряпню без меня.
— Тьфу ты! Не хватало, чтоб еще и тут меня силой кормили.
Виктор поднялся по лестнице, ведущей в квартиру, а Жозеф вернулся к газетным вырезкам, продолжая насвистывать мелодию из Вагнера.
— Жозеф, избавьте нас, ради всего святого, от этого германского пафоса, — крикнул ему Виктор с лестницы.
— Вечно он недоволен, — пробормотал, подчиняясь, юноша. — Пою: «Вон Арман, он съел флан, и теперь хана зубам» — возмущается. Стоит затянуть оперную арию — снова недоволен! Все, с меня хватит! Один хозяин подцепил какую-то заразу, второй в какую-то заразу влюбился, а я все это терпи!..
…Виктор осторожно прошел через всю квартиру к себе в спальню. Там он надел пиджак, шляпу из мягкого фетра — такие нравились ему больше всего — и сунул в карман перчатки. «Прежде чем идти к Таша, надо заглянуть на улицу Матюренов», — решил он и уже собрался выйти на лестницу, как его внимание привлекло едва слышное позвякивание.
Звук доносился из кухни. Неслышно прокравшись туда, Виктор застал Кэндзи над полной тарелкой с хлебом, колбасой и сыром.
— Кэндзи! Вы с ума сошли! Ведь доктор Рейно запретил вам…
— Доктор Рейно — осел. Я по его милости уже несколько недель питаюсь одним сульфатом хинина да протертыми супами без соли. А эти ледяные ванны? У меня от них двусторонний плеврит начнется. Меня уже чем только не лечили! Надоело вонять камфарой. Если человек умирает с голоду, что он делает? Правильно, он ест!
В домашних тапочках и фланелевой ночной рубашке, Кэндзи сейчас был похож на мальчишку, тайком таскающего с кухни сладости. Виктор с трудом сдержал улыбку:
— Вы бы лучше со скарлатиной боролись, а не с доктором, который не жалеет сил, чтобы поставить вас на ноги. Выпейте сакэ или коньяку, это вам можно. И помните, вам ни в коем случае нельзя выходить из спальни, пока не истечет срок карантина.
— Ну и ладно. Раз все надо мной издеваются, возвращаюсь к себе в темницу. Только устройте мне, пожалуйста, пышные похороны, когда я умру от истощения, — в сердцах сказал Кэндзи, отрываясь от тарелки.
Подавив вздох, Виктор направился к выходу. Ему вспомнилась восточная пословица: «Из тридцати шести способов ведения войны лучший — это отступление».
* * *
— Дурло! Вот глупый пес! Куда ты запропастился, негодник?
Долговязый мужчина в грубом шерстяном плаще вел на бечевке шесть коз, с трудом удерживая их, чтобы они не разбрелись по Ботаническому саду, и ругал своего бестолкового пса.
Маршрут пролегал по набережной Сен-Бернар, улице Бюффона и бульвару де л'Опиталь к площади Орлеанского вокзала.
[39] Здесь мужчина остановился и раскурил короткую глиняную трубку. Его лицо, наполовину скрытое старой шляпой, из-под которой торчали нечесаные, уже тронутые сединой космы, было наивным, как у ребенка, превращенного злым волшебником в старика. Даже голос у него был тонкий, как у подростка.
— Черт побери! Кричи — не кричи, все без толку. Этот прохвост, похоже, самый большой упрямец на всем белом свете.
Мужчина протяжно свистнул в два пальца. Из-за омнибуса тотчас же выскочила огромная лохматая собака — помесь бриарской овчарки и вандейского гриффона.
— Ага! Так вот ты где шляешься! Бросил меня одного, а я тут мучайся с этими козами! Эй, что это там у тебя в зубах? Что ты грызешь? А-а, кажись, я понял: пока я тут возился с козами, ты стащил кость у льва. И не стыдно тебе? Знаешь ведь, что собак сюда не пускают, даже в намордниках и на поводках. Хочешь, чтобы нам влетело?
Дурло опустил хвост, еще крепче зажал в зубах добычу и занял место в хвосте процессии. Быстро миновав больницу Сальпетриер, они прошли по бульвару Сен-Марсель и вышли к конному рынку, который был открыт по четвергам и субботам. В надежде привлечь покупателей хозяева украшали облезлых, хромых, едва живых кляч желтыми и красными ленточками, и несчастные животные часами томились в стойлах в ожидании своей участи.
Не обращая внимания на собравшихся здесь же торговцев поломанными экипажами, козопас провел свое маленькое стадо мимо старьевщиков и грузчиков, которые пришли сюда в поисках какой-нибудь клячи. При виде того как барышники заставляют тощих, похожих на ожившие скелеты лошадей бегать перед покупателями рысью, у него всякий раз сердце сжималось от жалости.
— Живодеры! Готовы до смерти замучить несчастных лошадок, которые возят вас по парижским мостовым. Уж они-то знают, что такое вкалывать. А потом, когда они совсем выбиваются из сил, их ведут на бойню, что в Вильжюифе. Выродки, вот вы кто, — ворчал козопас.
— Ба! А вот и наш друг Грегуар Мерсье! Благодетель всех чахоточных, болящих и немощных доставил нам молоко! Ну, что Грегуар, опять ворчишь на весь белый свет? А между тем, это мне впору ругаться — ты опоздал, приятель.
— Никак не мог раньше, мсье Ноэль, дел у меня много, — ответил козопас, здороваясь с торговцем лошадьми, который нетерпеливо постукивал себя по сапогу рукоятью кнута. — Сами посудите: на рассвете надо выгнать коз на пустырь в районе Мезон Бланш, чтобы они пощипали травку. Потом зайти на набережную Турнель — там у одной женщины больная печень, ей нужно пить молоко от черненькой Нини Морикод, которую я специально для этого кормлю морковью. А потом еще зайти в зверинец Ботанического сада.
— Ты что, обезьян тоже поишь козьим молоком?!
— Все бы вам смеяться, мсье Ноэль! Нет, мне надо было кое с кем переговорить, только и всего.
— Ладно-ладно, давай быстрее.
Грегуар присел на корточки около белой козочки и принялся ее доить. Вскоре он протянул торговцу лошадьми полную миску пенистого парного молока. Тот недоверчиво принюхался:
— Запах какой-то странный…
— Все в порядке, не волнуйтесь! — успокоил его Грегуар. — Я специально даю Мели Пекфан двойную порцию подсоленного сена — и нет лучше средства от малокровия, чем ее молоко.
— Малокровие, малокровие… И вовсе моя женушка не малокровная. Я бы на тебя посмотрел, если бы ты родил близнецов. Пойду, отнесу ей, пока теплое. — Покупатель протянул козопасу монетку и схватил миску с молоком.
— А завтра мне прийти к вам домой, на улицу Поливо? — спросил Грегуар, но Ноэль уже повернулся к нему спиной, не сказав даже «спасибо». — Ага, давай, беги к своей бабе. С ней ты, может, и получше обходишься, чем с лошадьми, но все равно она не дождется от тебя и десятой доли той заботы, какой я окружаю моих козочек, когда у них рождаются козлятки! Да, красавицы мои, папаша Грегуар дает вам каждое утро по кусочку сахара, а вашим деткам — подогретого вина. Вперед, Дурло, идем!
Хорошее настроение вернулось к Грегуару лишь в квартале Крулебарб. Здесь, между речкой Бьевр
[40] и сушильнями кожевников, он наконец-то ощутил себя дома.
Отпущенные на свободу козы принялись резвиться между тополями, что росли по берегам узкой извилистой речки. Вода тут была какого-то бурого оттенка и с хлопьями пены. По берегам ютились лачуги и красильни, из труб валил густой дым. Грегуару было не привыкать к сладковатому запаху, исходящему из чанов, где вымачивали кожи, и испарениям из котлов, где смешивали краски, но он все равно сморщил нос. Сотни перепачканных кровью шкур сохли под навесами в ожидании, когда их опустят в чаны с дубильными веществами. После длительного вымачивания подмастерья доставали шкуры и тщательно выскабливали. От этого в воздухе постоянно стояла завеса из мельчайшей белой пыли.
Не выпуская из пасти добычу, Дурло гнал коз вдоль берега реки мимо засаженных помидорами, горошком и фасолью грядок. Пройдя мимо продавцов торфа и сарая мадам Гедон — она сдавала внаем садовые тачки, — пес побежал быстрее — за зарослями сирени уже показалась улица Рекюлетт. Семьи кожевенников жили тут в старых домах с торчащими наружу балками, глинобитные фасады которых были увиты лозами черного винограда.
Грегуар пропустил собаку и коз вперед, а сам задержался, чтобы поздороваться с консьержем мсье Врето, который подрабатывал «сапожником на все руки», чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Грегуар поднялся по лестнице, отдыхая на каждой площадке. Тридцать лет назад он покинул родную провинцию Бос и обосновался в сердце этого грязного района, где царила нищета и витали ядовитые испарения кожевенных мастерских. Потом устроился работать подавальщиком на хлопкопрядильную фабрику, что возле моста Аустерлиц, женился на прачке, и та подарила ему двоих сыновей. Но счастье их длилось недолго: спустя три года Жанетт Мерсье умерла от туберкулеза. Двое малышей остались без матери. Органы социальной опеки выделили осиротевшему семейству дойную козу, чтобы дети получали молоко, но вскоре и их жизни унесла чахотка. Потеряв всю семью, убитый горем Грегуар решил оставить козу себе и сделаться городским пастухом. Больше он так и не женился.
Грегуар дошел до шестого этажа, где его маленькое стадо уже топталось перед едва заметной в темноте коридора дверью. Вбежав внутрь, они забрались в свои ящики, которые стояли вдоль стен. А Грегуар Мерсье прошел во вторую комнату — из мебели здесь были только походная кровать, стол, два табурета да старый сундук, — снял плащ и залил кипятком отруби, чтобы накормить коз. Для старшей, по кличке Мемер, он приготовил пучок овса с мятой. Теперь осталось только открыть загончик, где томился козел по кличке Рокамболь, а там уже и себе можно кофе сварить. Грегуар всегда пил его рядом со своей любимицей Мели Пекфан. Взгляд его упал на пса. Тот сидел на своей подстилке, вилял хвостом и косился на сахар. Между лапами у него лежала давешняя добыча, которую он не выпускал из пасти всю дорогу от самого Ботанического сада. Грегуар притворился, что ничего не замечает, и пес принялся жалобно поскуливать.
— Лежать!
Пес упал на передние лапы, опустил голову к самому полу и пополз к хозяину.
Грегуар бросил ему кусок сахара и только теперь присмотрелся к его добыче.
— Да это же не кость, это… это… интересно, как вообще можно потерять такую штуковину? О, там еще внутри что-то есть…
Изумленный Грегуар Мерсье напрочь забыл про свой кофе.
* * *
Он вернулся на рассвете, едва переставляя ноги от усталости, и тут же повалился на смятые простыни. Свернувшись калачиком и укрывшись пальто, он снова и снова прокручивал в голове события минувшей ночи. Десяти минут хватило, чтобы проделать путь от винного рынка до улицы Линнея. Светловолосая девушка глубоко спала, одурманенная зельем, так что ему не составило труда донести ее до экипажа. Ни одной ошибки, ни одного свидетеля. Дальше все было проще простого. Она даже не почувствовала боли.
Он поставил кофейник на плиту и подошел к окну посмотреть, что делается на улице. Ничем не примечательный осенний день. До чего же здорово он все продумал. Полицейским придется попотеть, чтобы опознать блондинку, а тем временем его месть свершится. С типом, которого он нанял, тоже все вышло удачно: никакого риска, что тот на него донесет или расколется в полиции. Когда обнаружат его тело, все решат, что с парнем попросту кто-то свел счеты. Да и у кого хватит проницательности связать эти два убийства?
Мужчина опустил занавеску. Ему не давала покоя мысль о соседе Гастона Молина, что так не вовремя выглянул из окна на втором этаже, когда Гастон вел туда девушку. Этот сосед мог видеть, как он шел за Молина. Надо будет подстраховаться, выяснить, кто это такой, и подумать о…
— Да ты рехнулся, — от волнения он даже заговорил вслух.
Конечно, на самом деле он так не думал. Он считал себя исключительно ловким и изобретательным. Его план был исполнен безупречно во всем, кроме одного пункта: когда он уже добрался до перекрестка Экразе,
[41] обнаружилось, что на девушке только одна туфелька. О том, чтобы возвращаться на улицу Линнея, не могло быть и речи — слишком рискованно. Поначалу он запаниковал, ведь ошибка могла оказаться роковой. Но потом его осенило: надо просто снять с девушки вторую туфельку. Он налил себе кофе.
«Фараоны быстро вычислят владельца угнанного экипажа. Ха! И что им это даст?» Он полез в карман пальто за сигаретами и вдруг заметил три маленьких пятнышка на серой ткани. Неужели кровь? За это пальто из шерсти ламы он выложил слишком много, чтобы вот так просто взять и выбросить. «Нет, это точно вино», — в конце концов решил он.
На всякий случай он осмотрел брюки и ботинки: чистые. Усевшись за стол, он перевел взгляд на туфельку из красного шелка, лежавшую рядом с бутылью серной кислоты.
«Полиция решит, что это убийство из ревности».
Мысль показалось ему забавной. От волнения не осталось и следа.
Он открыл ящик письменного стола, достал оттуда бумагу, перо и чернильницу и написал адрес:
Мадемуазель К. Бонтам,
шоссе де л'Этан, дом 15,
Сен-Манде, департамент Сена
* * *
Виктор вышел из дома на улице Матюрен и уселся на скамью, пролистывая журнал «Пари Фотографи», на который недавно подписался. Он рассеянно проглядел работы Поля Надара,
[42] подборку портретов Сары Бернар… Мысли его витали далеко. Он не предупредил Таша, что придет, — хотел сделать ей сюрприз.
Бросив взгляд на карманные часы, Виктор встал. Он нарочно выбрал более длинную дорогу в обход бульвар Оссман — с этим местом у него были связаны весьма неприятные воспоминания, — свернул на улицу Обер и прошел по улице Лафит.
Проходя мимо дома № 60 по улице Нотр-Дам-де-Лоретт, Виктор почувствовал приступ ностальгии. Перед глазами возникла крошечная мансарда, где прежде жила Таша, первые моменты их близости… Ему страстно захотелось разделить с этой женщиной всю оставшуюся жизнь.
Дойдя до улицы Фонтен, он с удовлетворением отметил, что в окне парикмахерской все еще висит объявление:
Сдается мастерская с квартирой.
Обращайтесь к консьержу дома 36-бис.
Решено. Виктор вошел в подъезд.
Во дворе играли в классики дочки столяра: они прыгали на одной ножке, толкая деревянную шайбу по пронумерованным клеточкам. «Небо» классиков указывало на окно бывшего жилища Таша. Посреди двора росла акация. От нее к окну второго этажа была натянута бельевая веревка. Виктору очень нравилось смотреть, как в ветреную погоду белье полощется на ветру, словно паруса корабля. Обойдя колонку, он подошел к черному ходу, ведущему в парикмахерскую, приставил ладонь ко лбу и попытался рассмотреть сквозь грязное стекло внутреннюю планировку: да, помещение немаленькое. Если привести его в порядок, получится замечательная фотолаборатория… Да, это идеальный вариант. Ему осталось пройти всего восемь метров…
Таша, склонившись над круглым столиком, смешивала краски на палитре: лимонно-желтый, веронская зелень, берлинская лазурь. Она писала натюрморт — ветку лавра и два колоска пшеницы в пестрой вазе. В рассеянном солнечном свете распущенные волосы девушки отливали медью. Виктор не выдержал и зарылся лицом в это великолепие.
— Дурак! — по-русски ругнулась Таша. — Ты меня напугал! Вот перепачкаю тебе одежду красками — будешь знать! Ладно, — тут же сменила она гнев на милость и переставила холст к кадке с пальмой, — работа все равно не двигается… Все, хватит с меня натюрмортов!
Виктор, усевшись на стул в стиле Тюдор, внимательно посмотрел на нее:
— Это из-за меня ты недовольна?
— Что ты, глупый, нет, конечно, просто в моих работах не хватает какой-то изюминки, вот и все. Я никак не могу ухватить самую суть.
— Перестань на себя наговаривать. У тебя все прекрасно получается. Сколько можно выискивать несуществующие недостатки?
— Морис Ломье говорит, что…
— Нет! Только не это! Выкинь из головы эти глупости! Он пытается быть оригинальным, подменяя живое творчество сухой теорией.
— Ты определенно его ненавидишь.
— Твой Ломье не вызывает у меня ничего, кроме презрения. Улавливаешь разницу? Он штампует картины одну за другой и называет это искусством. А на самом деле его интересуют только деньги.
— Во-первых, никакой он не
мой, а во-вторых…
— …Я прав, и ты это сама знаешь. Черт возьми! Когда ты перестанешь поддаваться чужому влиянию? Изучай свой внутренний мир, исследуй то, что Кэндзи называет «палатами разума»!.. Прости, я погорячился, но, может, тебе и впрямь пора что-то изменить… уделять больше внимания жизни, людям…
— Ты так считаешь? То же самое мне советовал Анри… Ну, что ты помрачнел? Прекрати ревновать, для этого нет ни малейшего повода. Он мне просто друг, к тому же, безумно талантлив. Мы познакомились на во время Салона независимых и…
— Я тебя ни о чем не спрашиваю, ты свободный человек.
— Виктор! Прошу тебя, прекрати! Это просто невыносимо.
Таша уселась к нему на колени и нежно обвила руками шею. Виктор размяк. До чего же ему хорошо рядом с ней!
— Тебе не кажется, что тут жарковато? — проворковала Таша, расстегивая ему рубашку. — Попозируй мне, я хочу написать портрет мужчины, который меня возбуждает.
— Что, прямо сейчас?
— Я только набросок сделаю. Давай, раздевайся и устраивайся там, на диване.
Она схватила альбом для набросков.
— Я назову этот портрет «Мсье Рекамье
[43] в костюме Адама». Сиди смирно, не шевелись.
Она подошла поправить ему руку, чтобы он смотрелся еще живописнее, а он поймал ее, притянул к себе и стал расстегивать платье. Альбом для набросков упал на пол.
— Ну и ладно, все равно освещение плохое, — прошептала Таша.
Он целовал ей нос, лоб, волосы, а она помогала ему расстегивать платье.
— Таша, выходи за меня замуж. Так все будет гораздо проще.
— Не торопи меня, — прошептала она. — Я еще не готова, не хочу ребенка… У тебя есть макинтоши?
[44]
Виктор выразительно взглянул на нее и нехотя потянулся к пиджаку.
— Ты что, обиделся?
— Ты прекрасно знаешь, что я всегда стараюсь быть осмотрительным, даже если мы не предохраняемся. — Он отвел прядь волос с ее щеки. — Что ж, придется сделать небольшой перерыв, прежде чем перейти к более серьезным действиям. И не вздумай смеяться, — прорычал он, сжимая ее в объятиях.
Они лежали на узком диване, прижавшись друг к другу. Виктор решил, что пора рассказать ей о парикмахерской.
— Таша, я…
Она закрыла ему рот поцелуем, и в тот же миг все остальное потеряло всякое значение. Какая в сущности чепуха все эти планы на будущее…
Таша потянулась. Она выглядела счастливой — глаза блестят, дыхание участилось, грудь вздымается.
— Я тебя, конечно, обожаю, но у меня уже спина болит. В постель! Быстрей! — Последние слова она проговорила уже на бегу.
* * *
Грегуар Мерсье стоял напротив книжной лавки под недовольным взглядом консьержки. Застарелый ишиас уже давал о себе знать. Сколько он тут торчит? Двадцать минут? Полчаса? И когда эти две болтушки уберутся оттуда?
Он сжал свой окованный железом посох, переживая, что козы остались дома под присмотром Дурло. Пес был явно недоволен, когда хозяин отнял у него добычу, — он улегся возле загончика Рокамболя и глухо рычал. Это был плохой знак, и Грегуар боялся, что Дурло решит выместить обиду на козах, — с возрастом характер у него начал портиться.
Грегуар подошел к витрине и уставился на стоявшую внутри женщину, усилием воли пытаясь заставить ее уйти.
Матильда де Флавиньоль не подозревала, что стала объектом таких мысленных усилий, и уходить не собиралась. Она пришла сюда поделиться с мсье Легри своим горем, но ей не повезло: Виктора в лавке не оказалось. «Ублажает, наверное, свою русскую потаскушку», — подумала она. Горбатый блондин-приказчик читал газету и грыз яблоко. «Впрочем, даже он лучше этого азиата с непроницаемой физиономией», — решила мадам де Флавиньоль.
Она рассказывала юноше, что прикрепила к груди траурную ленточку в знак скорби по несчастному генералу Буланже, который пустил себе пулю в лоб в Бельгии на могиле своей любовницы Маргариты де Боннемен, когда в лавку вошла женщина в шевиотовом костюме. Ее седые волосы украшала смешная тирольская шляпа.
— Честное слово, вот кто настоящая валькирия, — пробормотал Жозеф себе под нос. — Мадемуазель Беккер! Вот так сюрприз!
— Гутен таг, мсье Пиньо! Вы единственный, кто может мне помочь!
И Матильда де Флавиньоль узнала, что немка является страстной поклонницей велосипедного спорта и разыскивает книги, посвященные прообразам современных велосипедов.
— Видите ли, мсье Пиньо, я хочу купить подарок Шарлю Террону.
— А кто это? — поинтересовалась Матильда де Флавиньоль.
— Не может быть, чтобы вы о нем не слышали! Это же победитель гонки «Париж-Брест-Париж», которая состоялась шестого сентября прошлого года. Тысяча сто восемьдесят пять километров туда-обратно за семьдесят два часа. Он крутил педали день и ночь, даже не спал. Это великий спортсмен! Представляете, он будет давать уроки у нас в Бюлье!
— Возможно, это хоть немного развеет мою печаль… — оживилась Матильда. — Понимаете, я преклоняюсь перед генералом, настоящим рыцарем, который не смог пережить кончины дамы своего сердца. Я ездила в Иксель на его похороны. Множество французов пришли проститься с ним. Похоже, я никогда не оправлюсь после такого удара… Бюлье, вы сказали?.. А это не тот танцевальный зал, что пользуется дурной славой? Говорят, там танцует канкан сама Ла Гулю…
[45] Мне так грустно! Как вы думаете, если я стану учиться езде на велосипеде…
— У этого занятия есть два неоспоримых достоинства: во-первых, оно укрепляет нервы, а во-вторых — мышцы ног.
— Я немного побаиваюсь садиться в седло…
— A у вас есть чувство равновесия? В таком случае вам будет просто освоить велосипед, у меня как раз есть лишний билет.
И дамы удалились рука об руку, вызвав вздох облегчения не только у Жозефа Пиньо — он наконец-то смог вернуться к газете, от которой его оторвали словоохотливые посетительницы, но и у Грегуара Мерсье — он поспешно вошел в книжную лавку.
«Ну что там еще?» — недовольно поморщился Жожо, поднимая голову от газеты, — в ноздри ему ударил резкий запах.
Видимо, козлом несло от странно одетого курносого мужчины, который вошел в лавку, приблизился к Жозефу, вытащил из складок грубого шерстяного плаща женскую туфельку и положил ее на прилавок.
— Вот, Дурло утром подобрал это, он хватает все, что плохо лежит. Заметьте, я ему не мешаю. Нет ничего превыше независимости и свободы! А когда мы пришли домой, я посмотрел, а это башмачок! Дамочка, которая его потеряла, должно быть, ужасно расстроилась, вещица-то, поди, дорогая. Я вам ее отдам, только надо будет отнести башмачнику, пусть залатает дыры, а то мой пес ее слегка погрыз.
Жожо в изумлении переводил взгляд с красной туфельки, украшенной вышивкой и жемчугом, на странного типа, который ее принес.
— Но почему вы принесли это сюда?! — спросил он.
— Потому что внутри был адрес вашей лавочки, вот тут, на бумажке. — Грегуар достал из кармана скомканный клочок бумаги и протянул Жозефу. Юноша расправил листок и прочитал:
КНИЖНАЯ ТОРГОВЛЯ «ЭЛЬЗЕВИР»
В. ЛЕГРИ — К. МОРИ
Основана в 1835 году
Книги старинные и современные
Подлинники
Каталог по требованию
18, улица Сен-Пер, Париж, VI округ
— А, так вот оно что! Очень странно, — сказал он. — Может, это туфелька одной из наших клиенток?
— Точно! Прямо в яблочко. Но украшать ноги драгоценными камнями…
Жожо решил дать странному типу на чай. Он открыл кассу и протянул ему монетку в сорок су, но тот обиженно отпрянул:
— Грегуар Мерсье не берет денег, которых не заработал. Вот если хозяйка башмачка захочет меня отблагодарить, я не откажусь.
Он отсалютовал, резко развернулся и пошел к выходу.
— Подождите! А где вы обнаружили эту туфельку?
— Сперва я пошел на набережную Турнель, там покупаю миску молока черненькой Нини Морикод, которую кормлю мор…
— И тут ваша собака?.. — прервал его Жозеф.
— Дурло удрал, я слышал, как рычат львы, и подумал, что он стащил у них кусок мяса, — он у меня старый, но еще прыткий, — так вот, я ему посвистел, а он не появился…
— Хорошо, я сделаю все возможное, чтобы вернуть туфельку владелице, — сказал Жожо, не в силах больше выносить вонь. — А где вас можно найти, если она захочет отблагодарить?
— Улица Рекюлетт, квартал Крулебарб, там вам каждый скажет, где найти Грегуара Мерсье.
Козопас ушел, а Жожо продолжал вертеть туфельку в руках:
— Да уж, вот так история… Ее стоит записать в блокнот…
— Жозеф! — прервал его размышления знакомый голос. — Кто приходил?
— Патрон, что вы делаете? Доктор же запретил вам вставать с постели! — всполошился юноша. — Что с нами будет, если покупатели подхватят от вас скарлатину?
— Я уже выздоровел, а карантин закончился тридцать четыре минуты и восемнадцать секунд назад. Покажи-ка, что там у тебя, — потребовал Кэндзи, свесившись через перила.
Жожо скрепя сердце протянул ему туфельку, бормоча: «Ну все, патрон выздоровел, теперь начнется…». Кэндзи внимательно посмотрел на туфельку и переменился в лице.
— Отправляйтесь за наемным экипажем! Живо! — приказал он внезапно охрипшим голосом.
— За наемным экипажем? Да вы шутите! Если мсье Легри узнает, он убьет меня на месте!
— Это приказ! — взревел Кэндзи.
Днем торговля шла вяло: в лавку зашли только поклонник Поля Бурже, дама в пенсне — она хотела приобрести последнюю книгу Эдмона де Гонкура, посвященную художнику Утомаро, — да двое молодых людей, которых интересовали рассказы о путешествиях. Стоило дверному колокольчику звякнуть, как Жожо с надеждой вскакивал, но ни один из его хозяев так и не появился. Как только пробило семь, юноша закрыл ставни, сунул красную туфельку в карман и покинул лавку.
Нескончаемый осенний дождь превратил улицу Висконти, где обитали мать и сын Пиньо, в сплошной поток мутной воды. Жозеф одним прыжком преодолел проезжую часть и укрылся в своем любимом сарайчике. Эфросинья Пиньо уже вернулась с рынка и теперь гремела кастрюлями в тесной кухоньке. Жозеф чиркнул спичкой и зажег керосиновую лампу. От одного вида стеллажей, забитых книгами и газетами, ему становилось легче на душе. Юноша повесил промокший пиджак на спинку стула и принялся напевать пошленький куплетик, который давеча так взбесил мсье Виктора:
Ох, уж эта Лоэнгрин,
на нее ты посмотри:
Эта дамочка — что персик,
только яд у ней внутри.
Перед его мысленным взором возник образ Валентины де Салиньяк. В мае прошлого года, на следующий день после расстрела мирной демонстрации, она вышла замуж за светского хлыща Бони де Пон-Жюбера, племянника герцога Фриульского. Венчание состоялось в церкви Сен-Рош. Душевные раны затягиваются медленно, тут помогает только время. В глубине души Жозеф всегда отдавал себе отчет, что его привязанность к Валентине ни к чему не приведет, ведь, хотя девушка и отвечала ему взаимностью, замуж за него все равно не вышла бы. И, пытаясь справиться с душевной болью, он сделал ставку на грандиозный литературный проект «Любовь и кровь», которому суждено было затмить мистические романы Эмиля Габорио.
— Ох, уж эти женщины! — вздохнул Жозеф. — Сначала они пробуждают в нас вдохновение, а потом гасят творческие порывы. Ну да ладно. Чем бы мне сегодня заняться? Вернуться к «Хроникам страстей улицы Висконти»? Я остановился на том, что Луи-Филипп из дома номер три едва не убил своего соседа Луи Алибо из ружья, замаскированного под трость…
Он схватил рукопись, карандаш и уселся в колченогое кресло.
К нему заглянула круглолицая старушка, его мать.
— Сынок, ты здесь? Мне показалось, кто-то поет. Мог бы, между прочим, и сказать, что вернулся. А кто у нас сейчас будет кушать вкусный капустный супчик?
— Я не голоден, — заявил Жозеф.
— Обязательно надо поесть! Смотри, какой ты бледный, краше в гроб кладут, а руки тощие, как палки. Работаешь на износ, вот что! Я поговорю с твоими хозяевами. Вдруг мсье Мори заразил тебя скарлатиной? Кстати, как он там?
— Нет… Да… Не знаю, — попытался ответить на все вопросы сразу Жозеф. — И вообще, я занят…
— Надо бы тебе поставить банки, они вытягивают болезнь через кожу, наподобие пиявок. Ну, занят, не занят, а чтобы через пять минут сел за стол! — Мадам Пиньо сморщила нос и с подозрением огляделась. — Пахнет у тебя как-то странно. Явно не моим супом.
— Да чем тут может пахнуть? — принюхался Жожо.
Мадам Пиньо придирчиво осмотрела сына.
— Когда ты в последний раз мылся? От тебя воняет козлом. Немедленно в ванную! У тебя пять минут! — приказала она не терпящим возражений тоном и вышла.
Жожо понюхал свою куртку. Ну и обоняние у матушки — почище, чем у ищейки. Ага, да это же туфелька! Он достал вещицу из кармана и поднес к лампе. Жемчужины таинственно мерцали. Прямо как в сказке про Золушку… «Та, кому туфелька придется впору, и будет моей невестой»… Он представил, как Валентина медленно снимает блузку, юбки, корсет… но мечтам мешала резкая вонь, исходившая от красного шелка. Что там болтал этот сумасшедший?.. Козы. Темная улица… как ее там? Собака, львы — зверинец какой-то. Да уж, запах тот еще. Никаких сомнений, воняет козлом. На листочке был адрес книжной лавки. Может, это просто совпадение? Но почему тогда при виде этой туфельки мсье Мори всполошился и умчался, будто за ним сам черт погнался?
— Готов поспорить, тут дело нечисто, — пробормотал себе под нос Жозеф. — Надо все записать в блокнот, кто знает, может, когда-нибудь пригодится…
Но едва он взялся за карандаш, как раздался гневный голос:
— Сынок! Пять минут истекли! Суп стынет!
Глава третья
13 ноября, пятница
В полутемной книжной лавке царила сонная тишина. Над стоящей возле бюста Мольера чашкой с чаем поднимался легкий завиток пара. Кэндзи Мори накрыл большой стол зеленым сукном и принялся расставлять плетеные стулья, которые Жожо приносил ему из кладовки. Тишину нарушал только шум экипажей, время от времени проезжавших по улице Сен-Пер.
— Жозеф, да зажгите же вы свет, ничего ведь не видно, — проговорил Виктор, зевая.
Он спускался с лестницы, осторожно нащупывая каждую ступеньку. Не стоило ложиться спать, вернувшись от Таша на рассвете. Он чувствовал себя так, будто пьянствовал всю ночь напролет.
Спустившись, Виктор нос к носу столкнулся с Кэндзи.
— Что это вы тут делаете? А как же карантин?
— Я уже не представляю угрозы для общества: доктор Рейно объявил, что я здоров.
— И вы решили устроить торжество по случаю своего выздоровления?
— Напоминаю, сегодня мы принимаем у себя членов «Клуба друзей погибающего Парижа». И мсье Анатоль Франс тоже обещал прийти. Жозеф, что это вы жестикулируете?
— Хозяин, там пришла эта бабища… ну, графиня де Салиньяк.
Жожо указал подбородком в сторону высокомерной дамы, укутанной в дорогую, расшитую цветами накидку с капюшоном, которая с мрачным видом стояла у входа в лавку, ожидая, пока ее соблаговолят впустить. Кэндзи поспешил к двери.
— Ну, наконец-то! Я уж решила, что вы оставите меня мерзнуть на улице. Вам не кажется, что вы открываетесь слишком поздно? О, мсье Мори, вы уже вернулись из своего путешествия?
— Да, я… Чем могу служить, мадам?
— Мне нужны три экземпляра последнего романа Жоржа Пейребрюна «Жизель», который только что вышел у Шарпантье и Фаскеля. Желательно подарочное издание.
Зазвонил телефон. Виктор взял трубку. Кэндзи пошел к конторке, а Жозеф схватил купленную по дороге на работу газету.
— Если бы вы были немного лучше воспитаны, молодой человек, то предложили бы мне сесть. Иначе зачем вы расставили тут эти стулья, — высокомерно произнесла графиня.
Жожо поспешно подскочил, но стул графине пододвинул Виктор — он как раз закончил говорить по телефону. Однако та не торопилась садиться, она достала из сумочки лорнет и склонилась над газетой, пытаясь разобрать, что там написано:
ЗЛОВЕЩАЯ НАХОДКА
Сегодня рано утром на рассвете прямо на проезжей части перекрестка Экразе, что между бульварами Монмартр и Пуассоньер, был обнаружен труп задушенной женщины с обезображенным кислотой лицом. Она была одета в…
— Какой ужас! — отшатнулась от газеты графиня. — Эти писаки переходят всякие границы! Их интересуют только кровавые подробности. Если не железнодорожные катастрофы, то смертная казнь или убийство! Вот и книги теперь полны всяких гнусностей. Взять хоть последний роман мсье Гюисманса!
— Это вы о романе «Там, внизу»? — спросил Виктор.
— Именно. Многие почитатели его таланта уже жалеют, что прочли ее. Куда катится Франция!
Графиня удалилась так стремительно, что Кэндзи, который заполнял журнал заказов, даже не успел с ней попрощаться.
— Это она на мсье Анатоля намекала?
— Она выражала обеспокоенность падением нравов в стране, — устало ответил Виктор. — Жозеф, не могли бы вы купить мне сигару?
Юноша был рад случаю улизнуть из лавки. Он схватил свою газету и поспешил к выходу. Кэндзи проводил его взглядом и отправился к себе наверх, сказав, что ему срочно понадобилось написать письмо.
Остановившись у письменного стола, он нервно скомкал промокашку и рассеянно уставился на прекрасный пейзаж работы Кано Танью,
[46] где тушью по шелку была изображена гора Фудзи, — Кэндзи уже давно собирался заказать для него рамку. В его воспаленном воображении вулкан на картине превратился в огромную припорошенную снегом женскую туфельку. Что же все-таки случилось? Надо было сразу расспросить Жозефа, но тогда пришлось бы упомянуть об Айрис, а Кэндзи не хотелось этого делать. Поэтому, узнав в красной туфельке одну из пары, купленной им самим в Лондоне, он помчался в пансион мадмуазель Бонтам. К счастью, Айрис была там — и очень обрадовалась неожиданной встрече, ведь он не предупредил, что придет. Ее объяснения… Кэндзи всю ночь не спал, готовясь к давно назревавшему разговору с Виктором.
Он закрылся в ванной, смочил ладони и приложил их ко лбу. Потом вернулся в комнату и взглянул на знакомую фотографию в рамке с надписью: «Дафнэ и Виктор, Лондон, 1872 год». На снимке была изображена молодая темноволосая женщина: она с нежностью прижимала к себе мальчика лет двенадцати, мечтательно глядя в объектив. Кэндзи снял со стены фотографию и прижал ее к губам.
* * *
…Жозеф читал газету на ходу. Он так увлекся, что, входя в лавку, едва не столкнулся с каким-то господином.
— Надо же! Ну и ну! Нет, это уже слишком, — пробормотал он себе под нос и промчался через лавку словно ураган.
— Я уже отчаялся вас дождаться. Вы принесли сигару? — спросил Виктор. В руках он держал книгу с неразрезанными страницами.
— Мсье Виктор, да вы только послушайте! Здесь написано, что женщина, которую нашли мертвой на перекрестке Экразе, была без обуви. А знаете, что самое интересное? Она была одета во все красное!
— Жозеф! И когда вы только избавитесь от нездорового интереса к преступлениям? — проворчал Виктор.
— Но это просто невероятно! Вчера сюда явился какой-то сумасшедший и принес мне красную туфельку. Держу пари, вы никогда не угадаете, что было у нее внутри, — листок с адресом нашего магазина! А когда мсье Мори увидел ее, он так побагровел, что я даже испугался, что у него новый приступ болезни.
— Когда мсье Мори увидел что? — утомленно переспросил Виктор.
— Да туфельку же! Он послал меня за экипажем, а сам помчался одеваться. Совсем голову потерял.
— И вы его отпустили?! Отлично!
— А что такого! Я вам тут кто, продавец или сиделка?
— Ладно, что было, то было. Лучше расскажите все по порядку.
— Хорошо, я буду говорить четко и ясно, чтобы потом не было недоразумений. Этот тип с туфелькой — от него ужасно воняло козлом и выглядел он как деревенщина — говорил так громко, что мсье Кэндзи услышал. Мне не оставалось ничего другого, как показать патрону туфельку. А он… словно приведение увидал!
— Вы знаете, куда он ездил?
— В Сен-Манде, шоссе де л'Этан, дом 15 — по крайней мере, этот адрес он прокричал кучеру.
— А где сейчас туфелька?
Виктор внимательно осмотрел протянутую Жозефом туфельку. На внутренней поверхности он прочел написанное золотыми буквами название фирмы: «Диккенс и Джоунс, Риджент-стрит, Лондон».
— Вот так штука! — присвистнул Жожо, заглядывая Виктору через плечо. — Да она, оказывается, сделана в Англии. Вы думаете, что мсье Мори… в смысле, он довольно часто ездит в Лондон…
— Что за глупости вы несете! — одернул приказчика Виктор. — Обслужите-ка лучше ту даму, а я сейчас вернусь. — Он положил туфельку в карман.
— Ну да, у меня нездоровый интерес к преступлениям! Уж чья бы корова мычала, — проворчал Жозеф, направляясь навстречу клиентке.
Виктор вышел из наемного экипажа в самом центре Сен-Манде — на улице Республики. Оставив позади железную дорогу, ту самую, где недавно случилась ужасная катастрофа, он направился в сторону городской управы. Мерное постукивание трости по мостовой помогало ему сосредоточиться. «Нет, — думал он, — так нельзя! Я не имею права вмешиваться в личную жизнь Кэндзи. Конечно, мне небезразлично, что с ним происходит, и меня беспокоит его странное поведение, но это не причина быть бестактным. Признайся, ты просто не можешь устоять перед очередной загадкой».
Виктор шел мимо красивых особняков на шоссе де л'Этан, из садов которых открывался вид на озеро и Венсеннский лес, — и думал о том, что надо бы привезти сюда Таша. На память ему пришли строки стихотворения из цикла «Осенние листья» Виктора Гюго. Кажется, именно на кладбище Сен-Манде похоронена возлюбленная поэта Жюльетта Друэ…
Вывеска на ограде дома № 15 гласила: «Частный пансион для юных девиц К. Бонтам».
— Что бы это могло означать? — пробормотал Виктор. — Не любовницу же он тут прячет.
Хозяйка оказалась круглолицей дородной дамой лет сорока с гладкой прической на пробор, одетой по моде времен императрицы Евгении.
— Мое почтение, мадам. Я пришел по поручению мсье Мори. Я его компаньон.
— А, так вы книготорговец? Очень приятно! Проходите-проходите. Милый мсье Мори, вчера он казался таким встревоженным — даже трость забыл, а мадемуазель Айрис заметила это только после его ухода. Так что вы зашли очень кстати — сможете передать ему трость. Вещь-то дорогая.
Виктор застыл возле украшенной рюшами, заставленной фарфоровыми статуэтками этажерки. Айрис! Неужели он, наконец, познакомится с этой таинственной особой, к которой Кэндзи ездил в Лондон… Правда, его компаньон вот уже несколько месяцев не пересекал Ла-Манш, и Виктор решил, что тот порвал с Айрис. Он как-то мельком видел ее на снимке, сделанном в год Международной выставки, но сейчас не мог вспомнить, как она выглядит.
«Надо же, — думал Виктор, — вот, значит, где он ее прячет».
— Присаживайтесь, прошу вас, мсье… — предложила ему мадемуазель Бонтам, указывая на оттоманку.
— Легри, — представился ей Виктор. — Я хотел бы побеседовать с мадемуазель Айрис.
— Простите, но…
— Вот моя визитка.
— Простите мою недоверчивость, мсье Легри, но таковы наши правила. Нет, конечно, воспитанницы пансиона могут свободно гулять по городу, они присматривают друг за другом и держат меня в курсе событий, особенно в том, что касается разговоров с незнакомцами… Мсье Мори не говорил мне, что у него есть компаньон. Вы давно работаете вместе?
— Мне было три года, когда мсье Мори начал работать в лавке у моего отца.
— Ну надо же! — Мадемуазель Бонтам удивленно поднесла пухленькую ручку к губам. — Почему же он ни разу про вас не упомянул?..
— Он человек весьма скрытный.
— Да уж, это точно. Впрочем, не судите, да не судимы будете. Хотите миндального печенья? — Мадемуазель Бонтам пододвинула к собеседнику вазочку.
Виктор с вежливой улыбкой отказался, а она взяла печенье и пошла за своей воспитанницей.
Виктор с изумлением разглядывал приближающуюся к нему девушку. Ей было от силы лет семнадцать. Ее полудетские черты пробудили в нем смутное воспоминание о фотографии, которую он как-то раз случайно увидел на столе у Кэндзи. Хорошенькая, с несколько необычной внешностью: матовая кожа, миндалевидный разрез глаз, тонкий нос с едва заметной горбинкой. Черные волосы, заплетенные в косу, и бант на затылке делали ее еще моложе.
«Неужели Кэндзи в свои пятьдесят два года связался с малолетней девчонкой? — размышлял Виктор. — Нет, тут явно что-то другое. Его привлекает иной тип женщин: зрелые, дородные, яркие. Взять хотя бы последнюю пассию, Нинон де Море
[47] — перед ней и святой не устоял бы… Так кто же эта девочка? Его дочь? Если так, то ее мать должна быть откуда-то из Европы. Да нет, это просто смешно! Уж кому-кому, а мне он о ней рассказал бы!»
Преодолевая неловкость, Виктор решил сразу перейти к делу:
— Здравствуйте, мадемуазель. Позвольте представиться: Виктор Легри, я компаньон…
— Рада видеть вас, мсье Легри! Крестный часто говорил о вас…
— Вот как? А я-то уж думал… Мадемуазель Бонтам сказала, что и не подозревала о моем существовании.
— Крестный далеко не со всеми откровенен. Он обожает таинственность. А все из-за его любви к романам. Я вот, например, такие книги почти не читаю, не хочу забивать себе голову выдумками. Обещаю вам, я непременно возьмусь за него. Надеюсь, с ним не приключилось никаких неприятностей?..
— Нет, но он очень из-за вас переживает.
— Почему? Я ведь ему уже все рассказала про туфельку.
— Вы имеете в виду это? — Виктор вынул туфельку из кармана и протянул ее девушке. Как ни старалась она подавить волнение, от глаз Виктора оно не укрылось. Девушка провела пальцем по дыркам, что остались от клыков Дурло.
— Да, я одолжила свои туфли подруге. Ее зовут Элиза. Она непременно хотела надеть их, хотя они ей чуть великоваты. Странно, что она потеряла только одну… Хотя она такая рассеянная…
— Вот, внутри был этот листок.
— Да, знаю, это я подложила, чтобы не соскакивали. Видно, не помогло… Элизе хотелось выглядеть элегантной и… Если бы я знала, что из-за этого будет столько шуму…
Девушка покраснела и вернула туфельку Виктору. Он понял, что она что-то недоговаривает.
— И где сейчас ваша подруга?
— Гостит у матери.
— Вы уверены? — Виктор пристально посмотрел на Айрис, и она смутилась.
— Мсье Легри, умоляю вас, только никому не говорите!.. Элиза мне доверяет, она уговорила меня помочь ей, и я сказала мадемуазель Бонтам, что мать Элизы звонила, она заболела и просила, чтобы дочь немедленно к ней приехала. Мадемуазель Бонтам мне поверила.
— И как его зовут?
Девушка посмотрела на Виктора с недоумением.
— Как зовут возлюбленного вашей подруги? — повторил он свой вопрос.
— Гастон. Очень милый молодой человек, он тайком навещал нас в Трувиле.
— И где он живет?
— Точного адреса Элиза не называла, но как-то обмолвилась, что ей очень нравится к нему ездить, потому что у него дома слышно, как воют волки.
— Волки?! — удивился Виктор.
— Так она сказала, — пожала плечами Айрис. — Пожалуйста, мсье Легри, не говорите про это крестному — он ужасно рассердится.
— Вы ей первый раз алиби обеспечиваете?
— Второй. Она обещала вернуться в субботу.
— Суббота — это завтра… Хорошо, я буду молчать. Но если Элиза завтра не вернется… А ваши родители живут за границей?
Ответить Айрис не успела — раздался стук, и в комнату, шурша пышными юбками, вошла мадемуазель Бонтам. В руках она держала поднос с чаем.
— Айрис! У вас сейчас урок игры на фортепиано, мадемуазель Плюшар уже ждет. Мсье Легри, думаю, в такую сырую погоду вы не откажетесь от чашечки английского чая. Мсье Мори выписывает его для нас прямо из Лондона.
Айрис присела в реверансе, а мадемуазель Бонтам наполнила чашки, поставила на стол еще одну вазочку пирожных и уселась почти вплотную к Виктору. Это ему совсем не понравилось.
— А вы не знакомы с родственниками Элизы? — осторожно поинтересовался он. — Для мсье Мори очень важно, чтобы его крестница общалась с девушками из приличных семей.
— Вы о маленькой Фуршон? — переспросила мадемуазель Бонтам. — Милейшее создание, ее здесь все любят, и я не понимаю, что… Ну, хорошо, вам я скажу: ее мать певица, но…
Виктор вспомнил одну из пословиц Кэндзи: «Когда обезьяна ничего не знает, она делает вид, что знает все, и в скором времени узнаёт то, что ей нужно».
— Да-да, оперная дива, — кивнул он.
— Оперная? — расхохоталась мадемуазель Бонтам. — Скажете тоже! «Эльдорадо» — это вам не опера, мсье Легри. Не стоит сравнивать ржаную лепешку с тортом. Она исполняет андалузские романсеро.
— Андалузские — что? — не понял Виктор.
— Ну, такие сентиментальные романсы о синем небе Андалузии и прекрасных черных глазах местных девушек. Героя всегда зовут Педро, а героиню — Пакита.
— Она выступает под фамилией Фуршон?
— Конечно же, нет. Простите, но я не могу назвать вам ее сценический псевдоним, это профессиональная тайна, — замялась мадемуазель Бонтам и незаметно прижалась к бедру Виктора. — Хотите еще кекс? Или вот, попробуйте эти мятные вафли, очень вкусно. Сладости — это такое наслаждение. Просто не могу удержаться, хотя надо себя ограничивать. Все, хватит, — сказала она, кладя в рот одно за другим три пирожных. — А хотите угадать мое имя: Камилла? Клара? Клотильда?.. Коримба! Что скажете?
— Прекрасное имя, — сказал Виктор, незаметно отодвигаясь. — Достойное трагедийной актрисы. Думаю, псевдоним мадам Фуршон куда более банален.
— Да уж, куда ему до моего имени! — сказала мадемуазель Бонтам с кокетливой улыбкой. — Хотя поначалу может показаться, что он окутан неким романтическим флером, — так и притягивает взгляды к афише. Кстати, Элиза нас скоро покинет, мать решила ее забрать, сегодня утром я получила от нее письмо с этой печальной новостью. Жаль! Мне так трудно сводить концы с концами… — И она глубоко вздохнула, раздувшись, как воздушный шар.
Это было уже чересчур. Виктор встал. Мадемуазель Бонтам была явно разочарована, но вышла на крыльцо проводить его. Виктор уже дошел до ограды, когда она догнала его со словами:
— Вы чуть не забыли трость мсье Мори!
Разговор с Айрис успокоил Виктора, но в то же время слегка разочаровал. Раз Элиза гостит у матери, версия Жозефа об убийстве на перекрестке Экразе рушится, как карточный домик. «Вечно он сочиняет всякие романтические небылицы!» — усмехнулся Виктор и вдруг застыл на месте: женщина с обезображенным лицом была без обуви, но в газете ни слова не говорилось о ее возрасте. А Элиза потеряла одну туфельку. Может, это просто совпадение… Айрис упомянула о некоем Гастоне, но можно ли ей верить после того, как она уже один раз солгала? А самое загадочное во всей этой истории — поведение Кэндзи. Почему он держит свою крестницу под замком в Сен-Манде?
Вернувшись в книжную лавку, Виктор расставил по местам стулья. После заседания члены «Клуба друзей погибающего Парижа» отправились промочить горло в «Потерянное время», Кэндзи ушел с ними. Жозеф заканчивал оформлять продажу десяти фолиантов новелл Боккаччо в одну двенадцатую листа из тиража, отпечатанного в Лондоне в 1779 году, и Виктору пришлось подождать с расспросами.
— Что именно сказал человек, который принес вчера эту вашу туфельку? — наконец не выдержал он.
— Тот странный тип? Вам повезло: как только он ушел, я тут же занес все в свою записную книжку… Вот, — Жозеф перелистал страницы, — его пес стащил у львов кусок мяса. По-моему, там, где львы, там и цирк. Я спросил у него, где он живет, он сказал, на улице Рекюлетт в квартале Круле-чего-то-там.
— И это ты называешь «повезло»? Да из твоих записей ничего не поймешь!
— Я не виноват, это все мсье Мори, он меня отвлек — попросил нанять ему экипаж, вот я не успел все как следует записать! Но все равно выяснил, кто был тот тип. Его зовут Грегуар Мерсье, он сказал, что в квартале Круле-чего-то-там его каждая собака знает.
— Собака… — эхом отозвался Виктор, почему-то вспомнив слова Айрис: «У него дома слышно, как воют волки».
— А вам что-нибудь удалось разузнать про туфельку? — спросил Жозеф.
— Ничего существенного, — бросил Виктор через плечо, поднимаясь по лестнице.
— Ну да, конечно, — обиделся Жозеф, — все как всегда: вытянет из меня информацию, чтобы играть в сыщика, и даже спасибо от него не дождешься. Да я больше ни слова не скажу!
— Вам случайно не попадался путеводитель по Парижу? — крикнул сверху Виктор, и юноша тут же нарушил эту клятву:
— Он на столе у мсье Мори!
Виктор без труда нашел на карте квартал Крулебарб и улицу Рекюлетт. Это было в Тринадцатом округе, недалеко от речушки Бьевр. Весело насвистывая, он спустился обратно в лавку и, не обращая внимания на угрюмое лицо Жозефа, доброжелательно поинтересовался, как у того продвигается роман «Любовь и кровь».
— Я же вам говорил! Но, видимо, придется повторить, раз уж вы меня не слушаете: я прекратил работу над ней.
— Жаль бросать роман на середине, надо заставить себя довести дело до конца.
— Ну да, скажите еще, что я лентяй! Это мое дело, у меня были на то причины. Не понимаю, почему я вообще должен вам что-то рассказывать, если вы мне не ничего не говорите.
Виктор уже собирался спросить, не замужество ли Валентины де Салиньяк лишило Жозефа вдохновения, но в дверях лавки показался Кэндзи. Он едва заметно кивнул компаньону, напомнил Жозефу, что надо доставить заказ, и прошел в свой кабинет, где хранил материалы для нового каталога. Виктор закурил сигару и выпустил изо рта струйку голубоватого дыма. Что там записал Жозеф? Ах, да! Пес, который стащил мясо у львов. Львы и волки, которые рычат и воют. Есть ли тут какая-то связь?
— Не знаете, где в Париже есть львы и волки? — обратился он к Кэндзи, заглянув в кабинет.
— В Ботаническом саду, — ответил тот, прикрывая нос платком. — Вы заинтересовались зоологией? Что ж, если вы проявите в ее изучении столько же усердия, сколько при торговле книгами, — успеха вам не видать. Прошу вас, не курите здесь.
— Какая муха вас с Жозефом укусила? Вы оба только и делаете, что ворчите на меня. Что ж, не буду навязывать вам свое общество.
Виктор плотнее запахнул полы пиджака, пряча от дождя компактную фотокамеру, которую захватил с собой по привычке. Он прошел мимо клуба Рен-Бланш, потом спустился по старой, источенной жучком лестнице в начале улицы Гобеленов, где резкий запах аммиака чуть не сбил его с ног. Виктор задержал дыхание и дошел до парапета набережной — за ним плескалась речка Бьевр, по берегам которой обосновались кожевенники и красильщики. Желтые, зеленые и красные струи стекали из мастерских в реку, придавая воде какой-то буроватый оттенок. Ее поверхность покрывали мерзкие пузыри и маслянистые коричневые пятна, напоминая жир в бульоне, какой подают в захудалом трактире где-нибудь в квартале Мобер. Виктор с отвращением отвел взгляд от реки и увидел полуразвалившееся строение, стены которого были сплошь покрыты надписями. Стрела, пронзающая сердце, словно указывала ему дорогу, призывая свернуть налево.
Он подчинился и вышел к переулку Море, где теснились ветхие лачуги с деревянными балкончиками. Это зрелище почему-то напомнило ему Испанию. Под навесами, где сушились развешенные на веревках шкуры, возились какие-то бродяги. Голодные собаки и кошки рыскали по мокрым мостовым, шарахаясь от людей и повозок.
Вдоль извилистого берега прачки полоскали белье и пели. Мальчишки пускали камешки по воде. Один из них привязал к концу палки бечевку и играл в рыбака. «Интересно, что за рыба может водиться в этой зловонной жиже?» — подумал Виктор. Ему хотелось достать камеру и заснять эту сценку, но он передумал и подошел к «рыбаку» — грязному, тощему оборванцу лет шести.
— Ну как, клюет?
— Не особо. Только эту и вытащил, — сказал мальчишка, показывая копченую селедку.
— Она клюнула на твою удочку? — удивился Виктор.
— Тс-с, — прижал палец к губам мальчишка, — Я стащил ее у мадам Гедон. Она храпела у себя в комнате, а я залез через кухонное окно. Она ничего и не заметила.
К ним подошел одноглазый кот и стал жалобно мяукать, выпрашивая подачку.
— Нетушки, Гамбетта,
href="#id20200526215031_48" rel="nofollow noopener noreferrer">[48] можешь мяукать сколько влезет, а рыбка все равно достанется Густану.
— Значит, тебя зовут Густан. Скажи-ка, хочешь заработать двадцать су?
— Еще бы! — воскликнул мальчишка и с опаской покосился на прачек.
— У вас есть козопас?
— Ага, папаша Мерсье! Он тут в двух шагах живет.
— Дорогу покажешь?
Они прошли мимо сараев, где хранились шкуры и кожи, паровых машин, куч дубовой коры, от которых исходил кисловатый запах. Там, где мастерские скрывали раскидистые ивы, гнетущее впечатление рассеивалось. Вскоре они дошли до улицы Рекюлетт, где вплотную к лачугам рабочих лепились деревенского вида домишки.
— Вам туда, — указал мальчишка направление. — Вон, видите, где написано «Сапожник». А я пойду — надо помочь братьям дубить кожу, не то отец мне уши оборвет, — сегодня у него выходной, и он уже пьян.
— Вот, держи, — сказал Виктор, протягивая мальчишке монетку в пять сантимов.
Тот застыл, не в силах поверить, что ему привалило такое богатство. Он хотел спросить, не ошибся ли мсье, но Виктор уже зашел в дом.
«Ну и вонь здесь!», — ужаснулся он, присаживаясь на краешек табурета, который ему придвинул хозяин. Одет Грегуар Мерсье был по-деревенски: в рубаху, штаны и деревянные башмаки, и Виктору показалось, что он каким-то чудом перенесся в провинцию Бос.
— Уже иду, мсье, вот он я. Чертова работенка! Я, мсье, дни напролет продаю молоко от своих козочек, тем и кормлюсь. Лежать, Дурло! — прикрикнул он на пса. — Так это вы главный в книжной лавке? А я решил, что вы там навроде посыльного. Да только я ведь уже все сказал вашему продавцу.
— Я хотел уточнить: ваш пес нашел туфельку возле Ботанического сада?
Грегуар Мерсье насупил брови, по лбу у него пошли глубокие морщины.
— Не хотелось бы об этом говорить, собак ведь туда не пускают, — пробормотал он, поглаживая Дурло по голове.
— Не бойтесь, никто не узнает.
— Ну ладно, скажу. Да, там живет мой кузен из деревни — Базиль Попеш. У него камни в почках, и я ношу ему молоко от Пульхерии. Вон, видите ту козочку, вторую справа, такую беленькую с черной бородкой? Я подмешиваю ей в сено липовый цвет, поэтому молоко у нее делается мочегонное.
— А, так значит, ваши козы — в некотором роде ходячая аптека. И что, их молоко правда кому-то помогает? — не поверил Виктор.
— Спросите моих покупателей, сами узнаете. Только вы, того, никому не рассказывайте, что бедняга Базиль болен, а то его с работы выгонят. А ему, между прочим, и так мало платят. Он смотрит за хищниками, а это, скажу я вам, работенка не из легких. Сравнить с ним, так я со своими козочками просто бездельничаю. А бедняга Базиль с напарником должен обихаживать сотню хищников, что живут в семидесяти пяти клетках, это если не считать трех ям с медведями. Там такой гвалт стоит, поди привыкни. Каждый день в любую погоду надо мыть клетки, так что почки хочешь не хочешь, а застудишь. А по мне, так самое паршивое — это смотреть на несчастных зверей в клетках. Мои козочки, так те, по крайней мере, в город выходят, а как наступят холода, я им одеяла повязываю вокруг…
— В котором часу вы пришли к Ботаническому саду? — перебил болтливого хозяина Виктор.
— Вчера? Я шел с набережной Турнель к конному рынку. Было, значит, наверное, часов десять-одиннадцать. У меня все по расписанию, мсье, не хуже, чем в армии: коли не хочешь потерять заказчиков, приходится крутиться. Еда ведь сама в рот не попадает, так-то! А башмачок… да, Дурло, скорее всего, нашел его возле Ботанического сада. Этот пес ладит с козами, вот мне и приходится терпеть его закидоны. Если уж ему приспичит куда-нибудь удрать, я посвищу, и он прибежит. Да, старина, я на тебя часто ору, но когда ты навсегда утихомиришься, буду по тебе скучать, — ласково проворчал Грегуар, почесывая Дурло за ушами. Пес даже глаза закрыл от удовольствия.
Выйдя из домишки, Виктор сообразил, что надо было дать Мерсье монетку, но не смог заставить себя вернуться. Он нацарапал на клочке бумаги: «Базиль Попеш, зверинец Ботанического сада». Если понадобится, можно будет расспросить и этого человека.
Дождь кончился. Виктор тщетно пытался высмотреть маленького Густана. Но на глаза попадались лишь группки подмастерьев, занятых кто вымачиванием кож в чанах с квасцами, кто выскабливанием растянутых на рамах шкур. Если всерьез браться за цикл фотографий «Детский труд», стоит вернуться сюда утром, когда освещение получше, решил Виктор.
Речка Бьевр исчезала в трубе под мостовой бульвара Араго. Виктор вернулся на улицу Гобеленов, оттуда свернул на улицу Монж. Его внимание привлекла табличка «тупик Фотографии». Это знак. Вот только добрый или нет? Он решил, что добрый, но на душе у него по-прежнему было неспокойно — из-за женщины, погибшей на перекрестке Экразе, и из-за юной Элизы. Виктор снова достал листок и под именем Базиля Попеша приписал:
«„Эльдорадо“. Мадам Фуршон. Окутанный романтическим флером псевдоним, что так и притягивает взгляд к афише».
Глава четвёртая
14 ноября, суббота
Купорос[49] — его еще именуют серной кислотой — незаменим для развития науки и промышленности, без него трудно вообразить себе химию. Но это еще и орудие убийства. Почему несчастную, обнаруженную на перекрестке Экразе, сначала задушили, а потом обезобразили кислотой? Из ревности? От инспектора Лекашера не укроется ни одна деталь. И вот еще одна загадка: неподалеку от обезображенного трупа был найден украденный экипаж.
Жожо оторвался от статьи в «Пасс-парту» и попытался угадать, кто ее автор. Статья подписана псевдонимом «Вирус»… Может, это сам Исидор Гувье?
Виктор слушал помощника вполуха. Он изучал каталог, отмечая названия книг, которые собирался купить на аукционе, и пытался убедить себя, что Элиза, по всей видимости, находится у матери. Тут за ним прибыл экипаж, и он отправился на аукцион.
Виктор вышел из зала, где распродавалась коллекция книг Илера де Кермарека, кузена известного антиквара с улицы Турнон, стремительно миновал второй этаж, где проводился аукцион наиболее ценных экземпляров, и пересек помещения первого этажа.
Во дворе старьевщики и перекупщики торговали всякой рухлядью: тут были разнообразные инструменты и ветхая мебель — комоды по четыре франка, наборы посуды по двадцать су, мужская и женская одежда, простыни, перины, одеяла, подушки и прочий хлам.
Дойдя до улицы Друо, Виктор остановился в нерешительности. Отсюда минут пятнадцать-двадцать ходьбы до бульвара Страсбур. Там можно наскоро перекусить, а потом позвонить Кэндзи из телефона-автомата и сообщить, что все прошло удачно и он приобрел Монтеня.
«Кэндзи подождет, — решил Виктор. — Это ему за то, что прячет свою прелестную крестницу чуть ли не в Венсеннском лесу и все время на меня ворчит».
Он влился в поток банковских служащих и сотрудников страховых компаний, наводнивших улицы Прованс и Гранж-Бательер, и в этой толпе дошел до Монмартра. Здесь всегда царила суета. Виктор уселся за мраморный столик уличного кафе.
Тут же подошел официант и быстро смахнул тряпкой хлебные крошки и крупинки сахара, оставшиеся после предыдущих посетителей. Замусоленное меню предлагало комплексный обед за один франк двадцать пять сантимов: телятину с грибами в томатном соусе, камамбер и чернослив. Виктор его и заказал, едва пригубив терпкое вино. Кофе он решил выпить в баре, где ловко управлялась с медной туркой хозяйка. За запотевшими окнами спешили по своим делам прохожие. Интересно, подумал Виктор, сколько среди них потенциальных преступников?
Он подошел к особняку с табличкой «Фигаро», вошел внутрь и направился к стенду со свежим выпуском газеты. Здесь, в здании редакции, можно было получить самую свежую информацию о знаменитостях, биржевых сводках, судьбоносных политических событиях и кровавых происшествиях. Виктор без труда нашел статью под заголовком «Леденящее кровь убийство на перекрестке Экразе» — этот материал разместили рядом с сообщением о самоубийстве генерала Буланже, застрелившегося на могиле своей любовницы.
Перед весьма натуралистичной фотографией изуродованной женщины толпились любопытные обыватели и с нездоровым ажиотажем смаковали подробности этого дела. Они бы еще в морге собрались! Виктору тут же захотелось сбежать отсюда.
Перейдя с бульвара Монмартр на бульвар Пуассоньер, он поневоле остановился. Интересно, перекресток назвали Экразе,
[50] потому что несчастные случаи происходят здесь чаще, чем где-либо? Во всяком случае, вчерашнее происшествие было тому подтверждением. Вдоль тротуара вереницей выстроились наемные экипажи. Лошадям привязывали на морды торбы с овсом, и пока те, пользуясь передышкой, меланхолично жевали, кучера, не сходя с козел, обменивались шуточками.
— Не подскажете, здесь нашли труп? — обратился Виктор к одному из них.
— Меня с утра уже человек тридцать об этом спросили. Если так и дальше пойдет, я стану брать плату за информацию! Вон там, видите, на углу, у лавки сапожника, стоит полицейский, жирный такой, он еще на пса похож, который косточку сахарную сторожит? Это и есть то самое место. Но, говорю сразу, там все отскоблили, никаких следов не осталось.
Извозчики дружно расхохотались, и под их гогот Виктор удалился. «Да уж, не пристало мне осуждать охочую до кровавых зрелищ чернь, если я сам не в силах устоять перед искушением распутать очередное загадочное преступление», — думал он.
Вдоль бульвара Бон-Нувель два пегих першерона с трудом тащили омнибус. Из ноздрей у них валил пар. Виктора раздражали звуки улицы — ритмичный перестук деревянных башмаков по тротуару, грохот колес по мостовой, реплики игроков в бонто.
[51] Он сделал вид, что разглядывает витрину с английскими шляпами, потом сделал еще несколько шагов и остановился у тумбы, обклеенной яркими рекламными плакатами велосипедов фирмы «Папиллон», стиральных машин «Солейль» и вина Мариани вперемежку с театральными афишами. Объявление о предстоящем бале в «Мулен-Руж» привлекало внимание почти японской изысканностью. На первом плане был изображен призрачный силуэт какого-то тощего господина в цилиндре с длинным носом и выступающим вперед подбородком. Позади него светловолосая женщина в платье в горошек высоко поднимала юбку, открывая красные чулки. «Ла Гулю» — гласила надпись. А на заднем плане, будто в китайском театре теней, виднелись силуэты мужчин и женщин. Виктору сразу вспомнились фигуры прохожих за стеклами кафе.
— Ловко нарисовано! — воскликнул какой-то молодой человек, разглядывая ножки танцовщицы.
Виктор отправился дальше. На площадке возле театра «Жимназ» кормилицы в кружевных чепчиках укачивали младенцев в колясках с откидным верхом. Глядя на них, Виктор представил, как Таша нянчится с ребенком. Я еще успею обзавестись семьей, подумал он, гоня эти мысли, и свернул на бульвар Страсбур.
Здание театра «Эльдорадо», с колоннами и толстыми оконными переплетами, напоминало о великолепии времен Второй империи, когда здесь выступала сама Тереза. Виктор изучил афишу:
МСЬЕ КАМ-ХИЛЛ
МСЬЕ ВАНЕЛЬ
МСЬЕ ПЛЕБАН
МАДАМ БОННЕР
МАДАМ ДЮФФЕЙ
МАДАМ ХОЛЬДА
НОЭМИ ЖЕРФЛЕР
Места — от 75 сантимов до 1 франка,
ложи — 2,5 франка
Оказалось, что загадку про окутанный романтическим флером псевдоним не так уж и сложно разгадать. Виктор решил вернуться сюда вечером.
* * *
Жожо облокотился о прилавок и, воспользовавшись минутной передышкой, что-то строчил в блокноте. Ему в голову пришла гениальная идея из тех, что надо немедленно записать, чтобы не забыть. Статья о женщине в красном платье, которую нашли на Бульварах удушенной и с обезображенным лицом, натолкнула его на мысль сочинить детективный рассказ. Он озаглавил свое творение «Предательство и кровь» и даже придумал начало, но дальше этого дело не шло. Определенно, ему не хватало вдохновения.
Звякнул дверной колокольчик. Кэндзи оторвался от своих карточек.
— Ну, наконец-то! — воскликнул он, завидев в дверях Виктора.
— Простите, что задержался. Я зашел пообедать.
— Ну что, купили?
Виктор протянул компаньону сверток. Кэндзи развернул его и извлек фолиант ин-кватро в сафьяновом переплете лимонно-желтого цвета: «Опыты, сочинение Мишеля де Монтеня», издание пятое, 1588 год.
— Сколько за него отдали?
— Четыре тысячи девятьсот франков.
— Дороговато. Впрочем, герцог Фриульский не из тех, кто мелочится. А что там с книгой Клемана Маро?
[52]
— Ее выставили на торги сегодня во второй половине дня. Если повезет, она достанется мне тысячи за три франков. Что скажете?
— Даю вам карт-бланш.
Черты Кэндзи смягчились, на губах появилось подобие улыбки. Последние несколько недель его редко можно было увидеть в хорошем настроении.
— Ну что, вы мной довольны? — спросил Виктор.
— Вполне.
— Как, и это все?
— Одобрение, выраженное взглядом, гораздо более ценно, чем лестные речи. Жозеф, принесите-ка нам сакэ.
* * *
За окном непрерывным потоком лил дождь. В полумраке спальня напоминала пещеру: едва различимые тени скользили по мебели, по оклеенным обоями стенам. На кровати лежал мужчина и прислушивался к голосам, приглушенным лязгом омнибусов и грохотом проезжающих экипажей. Где-то за стеной плакал младенец. Мужчина зажег керосиновую лампу, встал и вышел. Он вернулся с бутылкой рома и стаканом. Первый глоток обжег горло. Второй согрел. Он почувствовал прилив сил. Алкоголь смягчал гнев и помогал яснее представить дальнейшие действия. Ему стоило немалых усилий обуздать ненависть и справиться с нетерпением. Но он не отступит. Ни за что! Он едва не спятил от железной самодисциплины. И теперь пойдет до конца. Мужчина опустошил стакан и задумчиво уставился на бутылку. Нет, больше он пить не будет, — голову надо сохранить ясной.
Мужчина прополоскал рот мятной водой, подкрутил усы и тщательно разгладил седеющие бакенбарды. Казалось, он наконец сбросил оцепенение. Скоро все кончится. Она сполна заплатит за пять лет страданий и одиночества, которые он пережил по ее милости. Он сел за стол. Все продумано до мелочей, его никто не заподозрит. Единственный свидетель плавает в бочке с дешевым вином.
— Все, начинаю новую жизнь, — пробормотал мужчина себе под нос, окинул взглядом пачки визитных карточек и конвертов и улыбнулся: — Теперь главное — детально следовать плану. Мне повезло, все сложилось — лучше некуда. Если даже у ищеек достанет ума и проницательности что-нибудь разнюхать, их расследование пойдет так, как я его направлю.
Звук собственного голоса придал ему сил. Он разложил на столе план Парижа, где были отмечены многочисленные цветочные лавки в Пятом, Девятом и Восемнадцатом округах, откуда последние восемь дней ей по его заказу доставляли охапки красных роз. Шестнадцатого ноября 1886 года эта шлюха обобрала его, выгнала и унизила. Послезавтра он ей все припомнит. Он заказывал розы каждый раз в другой лавке, аккуратно оплачивал и всегда менял внешность так, чтобы ничем не выделяться из многоликой толпы. Его никто не запомнит. Сегодня он сделает заказ в цветочной лавке на улице Обер. Сойдя со сцены, она получит букет, и, польщенная, наклонится, чтобы понюхать цветы. А потом увидит записку.
Мужчина оделся, взял карточки с конвертами. Он и сам пока еще не знал, как все обстряпает. Вдохновение обычно приходило к нему по ходу дела. На часах 18:15. Он внимательно оглядел улицу. Двое слуг болтают у ворот. Маленькая девочка прыгает на одной ножке вдоль канавы, прижимая к груди стопку книжек. Накрапывает дождь. Он надвинул шляпу на лоб и поднял воротник серого пальто. Надо придумать, как вывести пятна с рукава.
Он пошел вниз по улице, не заметив притаившегося за углом молочной лавки невысокого толстенького господина с густой бородой, в котелке и поношенном сюртуке.
На улице Обер можно было встретить кого угодно: гризетки, журналисты и счетоводы приступом брали омнибус. Человек в сером пальто шел напролом сквозь толпу. Он толкнул входную дверь транспортной конторы. Круглые газовые светильники заливали помещение голубоватым светом. Посетители, удобно устроившись в просторных кожаных креслах у покрытых зеленым сукном столов, писали заказные письма. У дальней стены стояла модель парохода. При взгляде на нее сразу хотелось уехать далеко-далеко. Мужчина подошел к стойке, рассеянно пролистал красочную брошюру судоходной компании и сел в первое же освободившееся кресло рядом с металлической чернильницей. Выложив перед собой карточки и конверты, он задумчиво покусал кончик перьевой ручки и написал:
«Шлю эти пурпурные розы золотой девочке, баронессе де Сен-Меслен в память о Лионе и былых моментах счастья». Немного помедлил перед тем, как поставить подпись, потом вывел красивым округлым почерком:
«А. Прево»,
[53] вложил карточку в конверт и надписал адрес:
«Мадам Ноэми Жерфлер, театр „Эльдорадо“, бульвар Страсбург».
Невысокий толстенький господин стоял у входа в транспортную контору, не обращая внимания на дождь, и делал вид, что внимательно изучает тарифы, указанные в выставленных на витрине красочных брошюрах. Его глаза навыкате были такими светлыми, что их можно было принять за бельма. Господин не сводил пристального взгляда со спины человека в сером пальто. Тот запечатал конверт, встал и вышел на улицу Комартен. Невысокий господин нырнул следом в людской поток, время от времени по-воробьиному подпрыгивая, чтобы не упустить человека в сером пальто из виду. Они миновали ярко освещенное кафе, где сингальцы в тюрбанах и белых набедренных повязках ловко лавировали между плетеными столиками, за которыми сидели парижские модницы. Человек в сером пальто зашел в цветочную лавку. Его преследователь остановился возле фонтанчика с питьевой водой, откуда ему было прекрасно видно, как человек в сером пальто указывает продавщице на красные розы, протягивает ей конверт и деньги и выходит. Невысокий господин подождал, пока тот удалится на достаточное расстояние, и зашел в лавку.
* * *
Купив Маро, Виктор зашел поужинать в прокуренную закусочную с витражными окнами. Уходя оттуда, он взглянул на светящиеся стрелки карманных часов: половина седьмого. Спектакль начинается в восемь.
Подвыпившие гуляки толпами бродили по бульвару, время от времени забредая в ярко освещенные увеселительные заведения. Заманчиво сверкали вывески: кружка пенистого пива, серебряная вилка, красные и зеленые бильярдные шары. Тысячи пар ног топтали блестящую после дождя мостовую, извозчики были нарасхват. Зажатая со всех сторон другими экипажами, двухместная карета, пытаясь выбраться из этой давки, обдала прохожих грязной водой из водосточной канавы.
Освещенный подъезд театра «Эльдорадо» был виден издалека. В его крытой галерее собралась самая разношерстная публика: солидные горожане, продавщицы, рабочие, студенты. Подойдя к билетной кассе, Виктор заметил Станисласа и Бланш де Камбрези: он был во фраке, солидный и представительный, она куталась в меха и казалась немного располневшей. Вот уж кого он не ожидал увидеть тут, среди простого люда. Виктор пробрался на галерку и сел во второй ряд.
Еще несколько минут назад он дрожал от холода, успев основательно промокнуть, но сейчас, когда зал заполнился зрителями, ему стало душно. Он стал разглядывать ложи бенуара, расположенные по обеим сторонам партера, потом перевел взгляд чуть выше, на балкон первого яруса — там расположились богато одетые зрители. На балконе второго яруса сидела публика попроще, а здесь, на галерке, и вовсе простонародье. Мужчины в шляпах или картузах снимали куртки и закатывали рукава рубашек.
Справа от Виктора уселась полная тетка с румяным младенцем на руках, а слева на откидном сиденье пристроилась девушка без шляпки в бумазейном жакете поверх украшенного вышивкой платья: она тут же принялась строить Виктору глазки.
— Я впервые в кабаре, — прошепелявила она, поворачиваясь к нему. — Не повезло мне сегодня. Вообще-то я собиралась пойти сюда с одним моим хорошим другом, но ему пришлось остаться в казарме. У вас есть программка?
Виктор нахмурился и покачал головой. От запаха табака, газа и пота дышать было совсем нечем. Девушка, конечно, не пожалела ландышевой туалетной воды, но легче от этого не становилось. Виктор даже подумывал уйти, но потом, увидев, сколько народу набилось на галерке, решил остаться.
— У меня есть, если хотите, — сказала тетка с младенцем, протягивая девушке тоненькую брошюрку за пятнадцать сантимов.
Краем глаза Виктор заметил рекламу, расхваливающую целебные свойства «Кока-колы», а рядом в фигурной рамочке — имя Ноэми Жерфлер.
— Я пришла сюда только из-за Жерфлер, говорят, она любимица публики. Жалко, сегодня не будет Жанны Бло, она так играет полковника Роншонно, — со смеху лопнуть можно, — сказала девушка тетке.
— Видела я ее, эту генеральшу кафешантанов, — огонь-баба. Сто десять кило не мешают ей играть молоденьких девочек. Ее так и прозвали: «Тумбочка» — она поперек себя шире. А однажды напарник даже не смог ее обнять, так ему из зала кто-то крикнул: «А ты в два захода!»
Зрители в партере окликали одетых факельщиками мальчишек, которые подносили им кружки с пивом или вишневый ликер. Пробираясь к своему месту, напитки проливали, не успев поставить на маленькие полочки, прикрепленные к спинкам кресел. То тут, то там слышались недовольные возгласы. Общее нетерпение возрастало.
— Начинайте! Начинайте! — требовали зрители и топали ногами.
— Да поднимайте вы уже эту чертову тряпку! — прокричал какой-то мальчишка с галерки.
За кулисами будто только этого и ждали: газовые светильники медленно погасли один за другим, занавес открылся, и на сцену под бравурные звуки трубы вышел переодетый солдатом комедиант. Его наряд состоял из зеленовато-желтой венгерки, бордовых брюк и кивера. Дойдя до суфлерской будки, он едва слышно затянул песенку под названием «Башмаки обозных солдат». На незадачливого исполнителя обрушился шквал вишневых косточек, и он поспешно отступил к кулисам. Ему на смену вышел крестьянин с огромным бантом на шее. Он запел, и зал тут же подхватил популярную песенку:
Кто у нас ест шоколад?
Папа!
А кто у нас пьет белое вино?
Мама!
Дальше в песенке пелось о брате, который ел сыр грюйер, и сестре, поглощавшей булочки с маслом. Виктор всерьез пожалел, что не взял с собой вату — заткнуть уши. Немного легче стало, когда на сцене появился герой-любовник в неотразимых усах, который проникновенно запел «Колокольчики любви», а потом «Любовь в купе первого класса».
Под выступление следующего актера Виктор, наверное, уснул бы, если бы не соседи. Видно, изобилие стихов вызвало у них приступ голода и жажды, и к запаху табака и немытых тел прибавились новые нотки: чеснока и кислого вина. Девушка достала из сумочки кусок колбасы и протянула ломтик Виктору. Он вежливо отказался. Толстуха с ребенком предложила ему глоток вина. Актер блеял со сцены скверные стихи, зрители жевали в такт.
— А знаете, что, — с полным ртом сказала девушка, — этот тип, что на сцене, мог бы рекламировать сигары — у него такие черные волосы…
— Тс-с! Сейчас выйдет Кам-Хилл! — шикнула на них кормилица.
Под бурные аплодисменты на сцене появился мужчина, облаченный во фланелевый жилет, красный сюртук, брюки до колен, шелковые чулки, белые перчатки и цилиндр. Зрители топали ногами, а те, кто сидел в партере, стучали ложечками по стаканам. Пианист ударил по клавишам. Виктор решил попробовать отключиться: он закрыл глаза и представил, что находится на концерте классической музыки и его убаюкивают печальные аккорды Шумана. Но все было напрасно: стоило ему заслышать звуки «Пляски безногого», как от отрешенности не осталось и следа. Пришлось собрать волю в кулак и дождаться антракта, чтобы спуститься в галерею и передохнуть.
Вернувшись, он обнаружил, что его соседка слева сняла жакет и пересела поближе к толстухе, чтобы обменяться впечатлениями от спектакля. Виктор пристроился на откидном сиденье.
— Ба! Гляньте-ка вон на того толстяка в партере! Он знает всех шлюх Парижа, — оживилась девушка.
— А рядом с ним Прощай-Кошелек, знаменитый вор-карманник. И моргнуть не успеете, как он вас обчистит, — подхватила толстуха.
Виктор твердо решил дождаться выступления Ноэми Жерфлер и попытался поудобнее устроиться на откидном сиденье. Тем временем на сцену вышла дама с косами, уложенными на эльзасский манер, и воинственно запела патриотическую песню: «Прочь, иди своей дорогой, моя корова — тоже француженка… она не даст молока для сына немца». Ребенок на руках у толстухи тут же проснулся и возмущенно завопил. Та расстегнула лиф и обнажила полную грудь, при виде которой младенец мгновенно успокоился.
Наконец появилась долгожданная звезда — Ноэми Жерфлер.
— Она изображает из себя эксцентричную даму, — пояснила девушка.
— Проще говоря, она содержанка, — поправила ее толстуха.
Ноэми Жерфлер была одета испанкой: с фальшивыми локонами цвета воронова крыла и ярким макияжем, в мантилье, перчатках до локтя, муаровом платье и черных кружевных чулках. Огромные серьги и многочисленные браслеты позвякивали при каждом ее движении. Певица расхаживала по сцене, покачивая бедрами и обмахиваясь черным кружевным веером, доставала из висящей на руке корзинки розы и бросала их в зрительный зал, кокетливо обнажая округлое плечико.
— Ну, не томи, покажи уже свои подвязки, — крикнул мальчишка, который сидел неподалеку от Виктора.
— Давай, начинай, — поддержал его другой.
Жерфлер сделала знак музыкантам, подошла к рампе и крикнула в зал:
— Хотите со мной поболтать — ради Бога, только не все сразу. А нет, так молчите! Я не собираюсь срывать себе голос из-за сборища каких-то придурков.
Зрители успокоились, дирижер взмахнул палочкой, пианист заиграл ритмичную мелодию.
— А сейчас я исполню «Убийство из ревности», — объявила мадам Жерфлер и запела:
Глядите, что за господин! Куда он так спешит?
Куда он так торопится, куда он так бежит?
А это он спешит к Софи, любовнице своей,
Которой нету на земле милее и нежней.
— Кажется, у нее есть коляска с двумя лошадьми и брильянты размером с пробку от графина, которые ей преподнес… — начала было соседка Виктора.
— Тс-с! — шикнула на нее толстуха-кормилица.
Но отчего, но отчего отчаянье и горе
Сквозят во взоре у него, да, у него во взоре?
Прознал он, что изменница в час неурочный сей
Ему в постели предпочла кого-то из друзей…
— Один из ее любовников — какой-то князь из России, — на этот раз девушка обратилась к Виктору. — Она не вылезает из казино в Монте-Карло и…
И вот уже взбегает он по лестнице стремглав
И в дверь колотит кулаком, терпенье растеряв,
Не ждет, когда из-за дверей раздастся, как всегда:
«Да-да?»
В развратника прицелившись, нажал он на курок.
Красотка сникла — тут сдержать он хохота не смог:
«Ха-ха!»
— А правда, что ее зовут Ноэми Фуршон? — спросил Виктор.
— Да вы что, спятили?! — уставилась на него девушка. — И как вам в голову могло прийти такое дурацкое имя?
Глядите, что за господин! Куда он так спешит?
Куда он так торопится, куда он так бежит?
Он мчится — каждый скажет вам, кого здесь ни спроси,
— С повинной в комиссариат, на улицу Бюсси.
«Представьте, господа,
Я был без памяти влюблен,
Вином и страстью ослеплен,
Я проучить ее хотел, но тут стряслась беда.
Она ушла во цвете лет. Какой же я балда!»
Рука прижата к сердцу, взмах веером над головой, остановившийся взгляд, зрачки расширены — казалось, мадам Жерфлер хотела загипнотизировать тех, кто еще не попал под власть ее чар.
«Так арестуйте же меня! Я встал на ложный путь.
Преступник я и душегуб, пустил ей пулю в грудь!».
Но вдруг бледнеет комиссар, не в силах он вздохнуть:
«Софи, я так тебя любил! О, как же ты могла!»
И вот лишь кончики сапог торчат из-под стола.
Ну и дела!..
Певица воздела руки кверху, и мужские взгляды устремились на ее обтянутую муаром грудь, некоторые даже вооружились для этого лорнетами.
…Глядите,
Глядите, что за господин! Куда он так спешит?
Куда он так торопится, куда он так бежит?
Он ищет понадежней сук себе на этот раз.
О боже праведный… На сем закончим мы рассказ.
[54]
Ноэми Жерфлер закончила песню и глубоко вздохнула. На мгновение в зале воцарилась мертвая тишина, потом раздались бурные овации. От полноты чувств зрители молотили пивными кружками по откидным столикам, восхищенные крики слились в непрерывный гул. Мадам Жерфлер приподняла юбки, сделала реверанс и послала залу воздушный поцелуй. Она собиралась уйти со сцены, но публика не отпускала ее, выкрикивая: «Браво!» и «Бис!». На лице у певицы застыла неестественная улыбка, на лбу блестели бисеринки пота, а тушь потекла с ресниц, прочертив черные бороздки на сильно напудренных щеках. Наконец занавес опустился.
— Как она прекрасна! — воскликнула девушка, обращаясь к Виктору, но его уже и след простыл.
Он вернулся к кассе, но из театра не вышел, а свернул в темный, заваленный декорациями из папье-маше и старыми плетеными ивовыми креслами коридор. Если подняться по деревянной лестнице, что справа, — попадешь в курилку. А если спуститься — в гримуборные, расположенные прямо под сценой. Виктор пошел на запах пудры, к которому примешивались нотки пачули и вонь испражнений — ведра стояли тут же, в конце узкого коридора. Проходя мимо одной из дверей, он услышал недовольный женский голос:
— Можно подумать, вам сегодня не заплатили. Берите свои пять франков и подите вымойтесь, у вас вся шея черная.
Другая дверь приоткрылась, и видно было, как герой-любовник устраивает сцену ревности «обозному солдату», а комик, не обращая на них внимания, жарит над газовой горелкой селедку, насадив ее на железный прут.
— Эй, да ты тут все спалишь! Хочешь, чтобы нас отсюда выперли? — не выдержал «солдат».
Виктор поспешил к гримерным актрис.
Поклонники мадам Жерфлер — человек пять-шесть — толпились в дверях гримерки, дальше их не пускала костюмерша. Они встретили Виктора насмешливыми взглядами.
— Она же вам ясно сказала: ей надо переодеться, — ворчала костюмерша. — О ней и так уже всякие слухи ходят. Давайте-ка, выметайтесь отсюда!
Поклонники отступили. Мимо них прошел лакей с огромным букетом роз. Виктор приподнялся на цыпочки и в приоткрытую дверь гримерной увидел, как женщина с осунувшимся лицом и прилизанными светлыми волосами, одетая в сорочку и нижнюю юбку, достает из букета и распечатывает конверт. Дочитав записку, она изменилась в лице, вскрикнула и упала без чувств. Поклонники, толпившиеся на пороге, не отреагировали на ее обморок — видно, сочтя это очередной причудой. Но заслышав крик костюмерши: «Мадам! Мадам! Что с вами?!», — все устремились в гримерку.
Виктор тоже вошел. Ноэми Жерфлер уложили на диван и обступили так плотно, что ей нечем было дышать. Виктор разглядывал комнату: баночки кольдкрема, висящая на ширмах одежда, на полу — перепачканная пудрой вата, веер, черный чулок и карточка. Виктор незаметно подобрал ее и прочитал:
Шлю эти пурпурные розы золотой девочке, баронессе де Сен-Меслен в память о Лионе и былых моментах счастья.
А. Прево
Виктор сунул карточку в карман.
— Выйдите! Мадам плохо! — закричала костюмерша, выставляя всех из гримерной.
Оказавшись на бульваре, Виктор задумчиво шел мимо многочисленных кафе, где собрались актеры и гуляки, поглощая пиво и абсент. Он долго бродил по улицам, не замечая, что устал и промок до нитки. Руки он держал в карманах. В одном был томик Маро, в другом — записка, которую он подобрал в гримерной Ноэми Жерфлер.
Глава пятая
15 ноября, воскресенье
Звук приближающихся шагов спугнул крысу, и она шмыгнула в узкий проход между винными бочками, что загромождали палубу старой баржи, стоявшей у причала в порту на набережной Сен-Бернар. Крыса метнулась к борту баржи, нависавшему над темной водой, потом резко развернулась и засеменила к берегу. В неверном свете уличного фонаря мелькнул лишь ее длинный голый хвост. Камень пролетел мимо. Крыса исчезла.
— Мерзкая тварь! — проворчал Базиль Попеш, направляясь к башне с часами. — Попомните мое слово, в один прекрасный день наш милый Париж превратится в столицу крыс.
Со стороны Ботанического сада раздался львиный рык.
— Ба, да это, кажись, Тиберий, что-то ему не спится. Зубы у бедняги разболелись, что ли?
Базиль Попеш свернул на одну из пяти улиц, расходящихся от набережной. Они были названы в честь винодельческих регионов страны: Бургундии, Шампани, Бордо, Лангедока и Турени. Разместившиеся здесь приземистые складские строения образовывали границы винного рынка. На темной улице не было ни души. Базиля передернуло от страха и холода. Он постучал носком ботинка по стене склада — свет прикрепленного к ней фонаря казался почти уютным.
— Интересно, сколько сейчас, пять часов? Полшестого? Мы ведь как раз здесь должны встретиться… Чтой-то Полит запаздывает.
Приглушенный звук заставил Базиля подпрыгнуть от испуга. Он пригляделся и различил силуэт тележки, двигавшейся по дорожке к винному подвалу. Лошадь шла почти бесшумно, будто приведение, даже цокота копыт не было слышно. Базиль Попеш запрокинул голову, прикрыл глаза и с удовольствием втянул пропитанный винными парами воздух. Вдруг кто-то хлопнул его по спине, и он недовольно вскрикнул.
— Без паники, это всего лишь я.
В темноте Базиль узнал расплывшуюся фигуру своего приятеля Полита Горжерана — тот надвинул фуражку на самые брови и курил коротенькую трубку.
— Прости, что опоздал, — был заказ на доставку божоле. Ладно, пошли. Только осторожнее, смотри, куда ступаешь, — тут разлили какое-то пойло, так что скользко почище чем на льду!
По воскресеньям на рассвете Базиль Попеш приходил сюда к бывшему однополчанину Политу пополнить недельные запасы вина взамен на украденное у хищников мясо. Вообще-то врач запретил ему пить, но папаша Попеш и не думал его слушать. Он был убежден, что вино не только поднимает настроение, но и помогает от камней в почках — рано или поздно оно их просто растворит.
Старые, покрытые плесенью, изрядно потрепанные в результате многочисленных перевозок бочки громоздились на огороженном участке, заросшем густым кустарником. Полит поставил сбыт вина на поток и получал с этого неплохие барыши. Он по дешевке продавал его владельцам кабаков, ютившихся в районе Моб, а те, в свою очередь, за весьма скромную плату наполняли этим вином стаканы своих постоянных посетителей.
В то воскресное утро у бочек собралась целая толпа. Полита встретили дружным возгласом:
— Ну что, получим мы сегодня наше пойло?
— Спокойно! Лавочка для особо жаждущих открывается ровно в шесть.
— Ты что, носишь свое вино в церковь к причастию?
Полит растолкал собравшихся и подошел к стоявшей под газовым фонарем бочке.
— Вот увидите, это не вино, а чистый нектар.
Он подставил кружку под медный краник и открыл его. Вино красной струйкой весело зазвенело по металлу, но вскоре в бочке что-то булькнуло, и поток иссяк.
— Ну что там еще стряслось?! — Полит чертыхнулся и подкрутил краник.
— Да в твоей бочке давно уже лягушки поселились! — выкрикнула белобрысая пышногрудая тетка.
Все насмешливо уставились на Полита.
— Что за черт? Не могла же она сама по себе опустеть. Не иначе как ночью к ней кто-то приложился! — Он в сердцах стукнул по бочке. — Да, но звук-то, как от полной. Ну-ка, глянем, что там внутри.
Он нагнулся, подобрал лом и с силой поддел крышку бочки. Она соскочила на удивление легко, и не рассчитавший усилия Полит рухнул в объятия к белобрысой тетке.
— Нет, ну вы посмотрите на этого красавца! Ты что это, никак глаз на меня положил? Смотри, у меня и без тебя есть с кем развлечься!
Полит с глупой ухмылкой склонился над бочкой, но тут же отшатнулся, едва сдерживая тошноту. Остальные тоже поспешили взглянуть.
— Ч-черт! — пробормотал здоровяк в серой блузе и сразу же отпрянул.
Базилю Попешу пришлось прищуриться, чтобы что-то разглядеть, — он не взял с собой очки. Но когда увидел, к горлу подступил ледяной ком. Это напоминало содержимое отвратительных склянок из Музея естественной истории: волосы, струящиеся по поверхности темной, подсвеченной желтым уличным фонарем жидкости, широко раскрытые глаза, застывший в безмолвном крике рот. Не в силах оторвать взгляд от жуткого зрелища, Базиль Попеш склонился еще ниже. А ведь он знает этого утопленника. Хотя они и виделись-то от силы пару раз, он сразу узнал своего соседа с первого этажа.
— Надо бы позвать ажанов, — тихо проговорил кто-то.
Никому не хотелось оказаться замешанным в это грязное дело. Повисла неловкая пауза, а потом, не сговариваясь, люди разошлись.
— Э, меня подождите! — пискнул Полит. — Базиль, где ты там?
Базиль Попеш так быстро мчался по улице Шампани в сторону Сены, что даже взмок. Он видел убитого из бочки, когда на днях высунулся из окна подышать свежим воздухом. Было где-то около полуночи, и еще один человек, в сером пальто, похоже, следил за жильцом с первого этажа. Он, в свою очередь, тоже заметил Базиля и смотрел на него достаточно долго, так что вполне мог запомнить.
«Брось, — уговаривал себя Попеш. — Это не твоего ума дела. И без того проблем хватает. Пусть разбираются без тебя, ты ничего не видел и ничего не знаешь!»
* * *
Пелена облаков разошлась, и солнечный луч скользнул по кровати. Виктор проснулся. Странно, с чего это он лежит на животе? Он резко перевернулся на спину. Таша работала. Из-за мольберта видны были лишь распущенные волосы и босые ноги. В печке уютно потрескивал огонь. Виктор сел, подложив под спину подушку, зевнул и пригладил волосы.
— Сколько можно работать? — проворчал он. — Сегодня ведь воскресенье, иди сюда, ко мне.
— Нет, мне обязательно надо дописать этот этюд, пока вдохновение не ушло. А ты поспи еще, если хочешь.
Виктор раздраженно отбросил одеяло. Спи! Он-то хотел понежиться с ней в постели.
«Вот и люби после этого художниц! — подумал он. — От творчества они получают больше наслаждения, чем от мужчины!»
У него даже промелькнула мысль, что лучше бы Таша была обычной женщиной, которая только и думает, что о своей внешности да о всяких побрякушках.
— Ты что, обиделся? — рассмеялась Таша. — Виктор, милый, эта картина очень много для меня значит… Ты ведь знаешь, какая я упрямая.
Да уж, упрямая. Виктор стал одеваться, не сводя с нее глаз. Таша казалась очень хрупкой, но сила воли у нее просто железная.
— Я все понимаю, — сказал он. — Пойду, пожалуй, не буду тебе мешать. — Это прозвучало фальшиво, и Виктору стало стыдно за свою неискренность.
— Может, поужинаем сегодня вместе? — предложила Таша, но тут же добавила: — Черт! Совсем забыла, у меня же деловая встреча, я буду поздно.
— У меня тоже встреча, — обиженно заметил он. Она накрыла картину куском ткани, бросилась к Виктору и повисла у него на шее.
— С женщиной встречаешься?
— А ты с мужчиной?
— Да нет же, дурачок!
Долгий поцелуй. Виктор успокоился: прекрасные зеленые глаза Таша никогда не лгут. А даже если и солгут, ему все равно не освободиться от их власти.
— А что ты там прячешь? — указал он на мольберт.
— Закончу — покажу.
— Ну скажи! Пейзаж с видами крыш? Обнаженная натура? Натюрморт?
— Секрет.
Стоило Виктору выйти, как на него с новой силой нахлынули сомнения. Он уже представлял себе, как обнаруживает на мольберте Таша подтверждение своих подозрений — набросок мужского портрета. Чтобы отвлечься от этих мыслей, он приказал себе думать об Элизе Фуршон. Как она была одета, покидая пансион? А что, если в красное платье, как та несчастная с перекрестка Экразе? Надо проверить. Ему вдруг захотелось отправиться с Таша на пикник к озеру Сен-Манде, лежать на земле и смотреть на небо сквозь листву на деревьях.
«В такую-то погоду? — оборвал он сам себя. — Нет уж! Так и инфлюэнцу подхватить недолго! Вечером мы увидимся, и когда она окажется в моих объятиях, я скажу, что больше так продолжаться не может! А пока надо сосредоточиться на новой загадке. Отправлюсь-ка я на шоссе де л'Этан, наведу справки. Под каким предлогом? Можно взять фотоаппарат. Мадемуазель Коримба Бонтам будет счастлива получить свой фотопортрет…»
— Мсье Легри! Какой приятный сюрприз! А мы с барышнями как раз собираемся на прогулку. О, вы занимаетесь фотографией?
Виктор стоял посреди тротуара на шоссе де л'Этан, нагруженный фотоаппаратом на треноге и большой сумкой с фотографическими пластинами. Под натиском пышнотелой мадемуазель Бонтам, которая чуть не подпрыгивала от нетерпения, он даже слегка попятился.
— Окажите любезность, сделайте наш групповой снимок! — попросила она.
— Я как раз хотел просить вас позировать мне, — с готовностью откликнулся Виктор.
Ему было немного неловко в окружении празднично одетых девушек, каждая из которых старалась привлечь к себе внимание. А мадемуазель Бонтам в огромной шляпе с зелеными перьями была похожа на огромного попугая.
— Ох, не знаю, хорошо ли я буду смотреться, — проворковала она, вертясь перед фотографом.
— Вы очаровательны, вас можно принять за одну из ваших воспитанниц, — заверил ее Виктор. — Пойдемте к озеру.
К нему незаметно подошла Айрис в элегантном, отделанном мехом сером пальто.
— Как вы можете делать ей комплименты! — возмущенно прошептала она. — Она же настоящая мегера. Это крестный попросил вас приехать?
— Мадемуазель, внимание! Не каждый
день нас фотографируют. Берта, Аспазия, высокие пусть будут сзади. А вы, Айрис, пройдите вперед, встаньте рядом с Генриеттой и Аглаей. Остальные…
— Но так нечестно, — возмутилась Аспазия, — я на три сантиметра ниже Генриетты!
— Жаль, что Элизы с нами нет, — проговорила Берта.
— Она вернулась к матери, — объявила мадемуазель Бонтам и повернулась к Виктору: — Представляете, эта дама даже не заплатила мне за начавшийся триместр. Если она надеется, что я прощу ей долг…
— Вы о юной мадемуазель Фуршон? Дочке Ноэми Жерфлер? — спросил Виктор непринужденным тоном.
— А, так вы раскрыли тайну этого псевдонима, окутанного романтическим флером? Какая проницательность, мсье Легри! Девочки, успокойтесь, встаньте по местам! Не буду вам мешать, мсье Легри!
Виктор установил камеру на треногу, попросил воспитанниц пансиона встать ближе друг к другу и нырнул под черную ткань. Девушки хихикали, толкались и то и дело спрашивали, долго ли им еще изображать из себя статуи.
Когда снимок был сделан, воспитанницы мадемуазель Бонтам разбежались, и та, словно курица, бросилась за ними, придерживая рукой шляпу с перьями. Айрис снова подошла к Виктору.
— Вы ведь ничего не рассказали крестному?
— Я был нем как рыба… Скажите, а как Элиза была одета, когда собиралась на свидание?
— Почему вы спрашиваете?.. А-а, я поняла, крестный попросил вас разузнать, с кем я вожу знакомство…
— Уверяю вас, мадемуазель Айрис, вы ошибаетесь. Пожалуйста, ответьте на мой вопрос.
Девушка окинула Виктора ироничным взглядом.
— Вы что-то от меня скрываете. Ну да ладно, рано или поздно я все равно узнаю правду, — пробормотала она себе под нос. — На Элизе было красное платье и красное пальто. Поэтому она и одолжила у меня туфли. Они с Гастоном договорились пойти на бал в «Мулен-Руж», он там работает. А правду говорят, что у танцовщиц видны нижние юбки и белье?
— Если верить афишам, то именно так оно и есть.
— Много бы я дала, чтобы на это посмотреть.
— Сомневаюсь, что ваш… э-э-э… крестный это одобрит.
— А ему вовсе не обязательно об этом знать. Вы ведь умеете держать язык за зубами, правда, мсье Легри? — Айрис строго посмотрела на Виктора.
От продолжения этого щекотливого разговора Виктора спасло возвращение мадемуазель Бонтам, которая наконец-то собрала воспитанниц в стайку. Виктор стал прощаться, а барышни по наущению своей наставницы наперебой приглашали его отведать восхитительного чаю с яблочным штруделем. Уходя, Виктор с беспокойством взглянул на Айрис. Осознает ли Кэндзи всю глубину своей ответственности за эту девушку?
На обратном пути он зашел в бистро на авеню Виктора Гюго, чтобы за стаканчиком вермута обдумать полученную информацию. Слишком уж много совпадений: красное платье, босые ноги, туфелька, которую нашел Грегуар Мерсье. «Мулен-Руж», Гастон… Кто он, музыкант? Танцовщик? Рабочий сцены?
«Надо будет отправиться туда прямо сегодня, — решил Виктор. — Не зря же я дразнил Таша. А заодно посмотрю на этих пресловутых дамочек».
Ему невольно вспомнились горящие глаза, чувственный рот и волосы цвета воронова крыла. Эдокси, прекрасная Эдокси Аллар, эта томная фея, которая пыталась соблазнить его в коридорах «Пасс-парту», где тогда служила секретарем-машинисткой. Кажется, она, помимо журналистики, занималась еще и танцами. Исидор Гувье как-то сказал, что Зидлер пригласил ее в «Мулен-Руж». Интересно, какой она взяла себе псевдоним? Виви?.. Нет, Фифи… Фифи… Да, точно, Фифи Ба-Рен.
Виктор вышел из экипажа и застыл на месте, не в силах отвести глаз от непрерывного мельтешения пурпурных крыльев мельницы на бульваре Клиши. Толпы гуляк словно магнитом притягивало к этому переливчатому сиянию. А ведь два года назад всего этого и в помине не было. Именно тогда каталонцу Жозефу Оллеру и бывшему мяснику Шарлю Зидлеру пришла в голову мысль открыть неподалеку от Рен-Бланш увеселительное заведение и роскошный ресторан, которые затмили бы «Элизе-Монмартр».
[55] Заведение молниеносно прославилось и стало приносить очень неплохой доход, и все благодаря гвоздю программы, канкану — этот танец придумали в 1830-х годах, и теперь он снова вошел в моду. Но если раньше его считали малопристойным и исполняли в известного рода закрытых залах и кабачках на площади Пигаль, теперь им любовались буржуа и аристократы. Похожие на мотыльков мужчины во фраках и низко надвинутых на лоб цилиндрах вели под ручку ночных бабочек и вместе летели на яркие огни мельницы, перемалывавшей джиги, польки и вальсы.
Виктор заплатил два франка за билет. Пройдя через фойе, стены которого украшали многочисленные картины, афиши и фотографии, он остановился у входа в бальный зал, пораженный его размерами. Множество столиков и стульев окружало площадку, где под ритмичную музыку кружились в танце пары, коротая время до начала представления. Прозорливый Шарль Зидлер знал, чего хочется его клиентам, и поручил отделку этого храма наслаждений Адольфу Виллету. Для оркестра из сорока музыкантов был построен специальный балкон, который поддерживали высокие деревянные колонны, украшенные орифламмами.
[56] В отделке зала преобладали теплые тона, а яркий свет газовых рамп, электрических люстр и бра, многократно отраженный настенными зеркалами, придавал обстановке почти восточную роскошь.
Виктор стал протискиваться к бару, расталкивая англичан в бриджах и твидовых кепи с двойными козырьками и сторонясь дам полусвета, считавших, что бледность, худоба и наимоднейшие наряды от Уорта
[57] придадут их облику особую изысканность.
— Привет, красавчик! Чего тебе налить? — спросила его дородная официантка с копной рыжих волос.
— Ничего, я ищу…
— Ну, ищи-ищи. А как найдешь, дай мне знать. Достаточно просто крикнуть: «Сара!»
Виктор уставился на две большие картины, что висели на стене за стойкой. Они явно принадлежали кисти одного и того же художника. На первой была изображена танцовщица, исполнявшая при большом скоплении народа малопристойный танец перед мужчиной с орлиным носом. Это были те же персонажи, что он видел на афише на бульваре Бон-Нувель. На второй картине наездница верхом на лошади скакала по цирковой арене.
— Тебя мучает любовная тоска, но ты боишься себе в этом признаться. Хочешь, сделаю тебе коктейль? — предложила Сара, склоняясь к Виктору и демонстрируя ему свое более чем откровенное декольте. — Водку со смородиновым ликером, а?
— Хорошо. А кто автор этих картин? — Виктор кивнул на картины.
— Один дворянчик. Сам он коротышка, зато у него длинная, двойная фамилия — Анри де Тулуз-Лотрек. Этот пропойца всегда сидит вон за тем столиком.
Виктор пригубил красноватую жидкость и, поморщившись, отставил бокал.
— Что там намешано?
— Сухое белое, черносмородиновый ликер и капелька водки. Этому рецепту меня научил один русский, князь Трубецкой.
— А кто этот человек с орлиным носом? — спросил Виктор, указывая пальцем на одну из картин.
— Да ты что, красавчик, с луны свалился? Не знаешь Валентина Без-Костей? Сейчас я тебе его покажу. Так, посмотрим, где у нас спрятался этот бес кадрили… А-а, так вот же он, слева от Мом Фромаж и Ла Гулю, видишь, тощий такой. Надеюсь, тебе не надо рассказывать, кто такие его спутницы?
Виктор кивнул. Так вот он какой, знаменитый «Мулен-Руж», о котором столько пишут в газетах! В отличие от Айрис, Виктора это заведение совсем не привлекало. Он не любил большие скопления народа, да и танцы с задиранием юбок оставляли его равнодушным. Он предпочитал любоваться Таша, нежели обтянутыми черными чулками ножками девушек, которые разогревали мышцы перед представлением, стоя возле зеркальной стены.
— Я разыскиваю некоего Гастона…
— Да этих Гастонов тут десятка два, — фыркнула Сара. — Как его по фамилии-то?
— Не знаю. А как найти Фифи Ба-Рен?
— Значит, выслеживаешь всяких подозрительных личностей? Фифи я сегодня еще не видела. На твоем месте я бы прогулялась ближе к фойе, она там обычно пасется.
— Пасется?
— И откуда ты такой взялся? Деньгу сшибает, неужели не ясно?
Музыканты заиграли вальс. Лавируя между парами, Виктор улавливал ароматы иланг-иланга и юфти,
[58] к которым примешивался запах пота и табака. Несмотря на громкую музыку и шарканье ног, до него доносились обрывки разговоров.
— Что у них сегодня на сладкое?..
— Эта малышка такая аппетитненькая…
— Пусть только вернется, я ему все выскажу!..
Он прошел мимо невозмутимого Валентина Без-Костей, который вел в танце рыжую дородную Ла Гулю с челкой до самых бровей, зачесанными наверх волосами и муаровой лентой на шее. Почувствовав, что Виктор обратил внимание на ее пышную фигуру и глубокое декольте, она остановилась, оценивающе оглядела его с головы до ног, подбоченилась и сказала, ни к кому не обращаясь: «Выходит, этим пижонам своих девок не хватает».
Виктора задели не столько ее слова, сколько тон. Он поспешил к фойе, надеясь, что в толпе франтов в черных цилиндрах и красоток с перьями в прическах, возле которых суетились официанты, ему удастся найти Эдокси Аллар.
— Большую чашу глинтвейна! — заказал мужчина в шляпе-канотье, в котором Виктор узнал салонного художника Альфреда Стивенса. Его спутницы, две молоденькие девушки, смотрели на него влюбленными глазами.
Наконец Виктор увидел Эдокси. На ней было узкое платье в белую и красную полоску и высокая шляпа с огромными бантами. Ему почему-то сразу расхотелось подходить к ней, и он сделал было шаг назад — но слишком поздно.
— Мсье Легри! Вот так сюрприз! Сюда, сюда! Идите к нам! — крикнула она.
С ней за столиком сидели трое мужчин: загорелый красавец в надвинутом на ухо сомбреро, элегантный длиннолицый человек угрюмого вида и блондин с моноклем, рассеянно пожевывающий сигару.
— Знакомьтесь, господа, — сказала она, — это мой старинный приятель Виктор Легри, он торгует книгами, мы дружим еще со времен «Пасс-парту». Луи Дольбрез, — она повернулась к красавцу, и тот улыбнулся, поглаживая свою эспаньолку, — поэт, автор песен, его часто можно встретить в «Ша-Нуар». Альфонс Алле, писатель и острослов, он только что напечатался у…
— Да-да, я знаю, у Оллендорфа. Сборник рассказов «Обхохотаться!», которые печатались в еженедельнике «Черный кот». Я получил большое удовольствие, читая вашу книгу, — сказал Виктор угрюмому мужчине.
— А это Альсид Бонвуазан, скоро он станет лучшим парижским репортером после Аурелиана Шоля,
[59] — Эдокси дотронулась до плеча своего третьего спутника. — Присоединяйтесь к нам, мсье Легри.
Виктор пожал руки новым знакомым и пристроился между Эдокси и Луи Дольбрезом, который тут же наполнил и протянул ему бокал шампанского.
— Вы все еще пишете, мсье Легри? Альсид, у тебя есть соперник. Забыла упомянуть, что Виктор — вы ведь позволите мне так вас называть? — так вот, Виктор тоже пишет статьи, и их довольно высоко ценят.
— Да нет, я бросил это занятие. Конкуренция, знаете ли. Зато увлекся… — начал было Виктор.
— …Да, у Виктора есть дела и поважнее! — перебила его Эдокси. — Представляете, он на досуге отбивает хлеб насущный у полицейских следователей. И даже уже раскрыл два очень сложных дела!
— А здесь, в «Мулен-Руж», вы, наверное, блюдете нравственность местных дам? — с иронией спросил Луи Дольбрез. — Поздно, вас уже опередил официальный Папаша Целомудрие.
[60]
— А вот и он, — прошептал Альсид Бонвуазан, кивком указывая в сторону человека в темном костюме, белом галстуке и с часами с цепочкой на животе, который прятался за колонной. — Этот субъект ведет двойную жизнь: ночью он комиссар полиции нравов, а днем — фотограф.
— Какое совпадение! Наш друг-книготорговец тоже увлекается фотографией! — воскликнула Эдокси, прижимаясь бедром к Виктору.
— О, да вы мастер на все руки, — заметил Луи Дольбрез. — И в каком же качестве вы пришли сюда? Как книготорговец, фотограф или ищейка?
— Я ищу некоего Гастона, мне сказали, что он здесь работает.
— Ну, вот и ответ на твой вопрос, Луи, — процедил Альсид Бонвуазан сквозь зубы, — сегодня мы имеем дело с сыщиком.
— Гастон? Это который? Тот, что музыкант? Или рабочий сцены?
— Понятия не имею.
— За горячими новостями — это к Грий д'Эгу, уж она-то всех знает. Эй, Люсьен,
[61] не хочешь с нами горло промочить? — крикнула через весь зал Эдокси.
К ним, подволакивая ногу, подошла девушка с печальными бархатистыми глазами и опустилась на стул.
— Спасибо, Фифи, ты так добра. Эти сытые пижоны… хоть бы кто кружечку пива предложил! А ведь еще совсем недавно готовы были ноги мне целовать, чтобы я научила их знакомых дамочек современным танцам!
Альфонс Алле внезапно очнулся от оцепенения:
— Эй, официант, кружку пива! Хватит прохлаждаться! А где Жанна Авриль?
Грий д'Эгу радостно улыбнулась, обнажив широкую щель между верхними зубами, и сразу стало ясно, откуда взялось ее прозвище.
[62]
— Вот этот господин, — указала на Виктора Эдокси, — разыскивает некоего Гастона, который тут работает.
— Гастона?.. Эй, Арсен, погоди! — Грий д'Эгу схватила за руку официанта, который поставил перед ней кружку. — Если это эльзасское пиво, я и капли в рот не возьму, пока Эльзас и Лотарингия не вернутся в лоно матери-Франции! — Официант отрицательно покачал головой, и она, сделав глоток, взглянула на Эдокси. — Как ты говоришь, Гастон? Если это Гастон Молина, что гулял с Жозеттой, так он слинял по-английски, даже не попрощавшись. Жозетта рвет и мечет, но все знают: как только Гастон явится обратно, она снова не устоит и простит его.
— Это тот, кто вам нужен? — спросила Эдокси у Виктора.
— Может быть, — пробормотал он.
— Ну, так он здесь официантом работает, подавальщиком. А почему он вас заинтересовал?
— Клиент попросил разыскать его, чтобы уладить один щекотливый вопрос. Гастон соблазнил его дочь.
— Вот те раз! И как же он рассчитывает «уладить вопрос»? Слупить с Гастона денег? Так у того ветер в карманах гуляет. А если хочет, чтобы Гастон надел его ненаглядной доченьке колечко на пальчик, то пусть не обольщается: парень не промах, у него тут в каждой забегаловке по законной супруге! — Высказавшись, Грий д'Эгу одним махом допила пиво.
Альфонс Алле вдруг резко вскочил и бросился вслед за худенькой гибкой женщиной в красном платье и черной шляпке.
— Бедняга Альфонс, — вздохнула Эдокси, — он просто с ума по ней сходит.
— А кто это? — спросил Виктор.
— Жанна Авриль. Ла Гулю говорит, что у нее ноги, как спички, но зато она ими быстро машет. Что правда, то правда. Жанна еще девчонкой попала в психушку, и не просто в психушку, а к самому профессору Шарко. Говорят, именно там она плясать и научилась, — вроде бы психам, чтобы те не скучали, нанимают учителей пения, устраивают балы и праздники. Балы у психов — как вам это нравится? Жанна с нами компанию не водит, она даже на сцене ногами дрыгает в одиночку. Не понимаю, что все в ней находят? Кожа да кости!
— Ее прозвали Катастрофа, а еще — Шимоза,
[63] но я бы скорее окрестила ее Стервозой. Глядите-ка, и этот карлик, что картины пишет, тоже от нее без ума!
Грий д'Эгу указала подбородком на столик за колонной. Там в компании трех мужчин и женщины сидел любопытный персонаж с непропорционально короткими ногами, плотно обтянутыми клетчатыми брюками. До Виктора доносился его чуть гнусавый голос, но коротышка сидел к нему в профиль, поэтому пришлось подождать, пока он повернется, чтобы как следует его разглядеть: шляпа-котелок на массивной голове, пенсне на внушительном носу, ярко-алые чувственные губы на фоне черной бороды, проницательный взгляд. На вид ему было лет тридцать.
— Так это и есть Тулуз-Лотрек?
— Собственной персоной, — кивнул Луи Дольбрез. — Называет себя «кофейником с очень уж длинным носиком», пьет не меньше, чем пишет, и глотка у него луженая. Видите вон там трость, он зацепил ее за спинку стула? В набалдашнике спрятана маленькая бутылочка коньяка — как глотнет оттуда, начинает ногами кренделя выписывать. Когда этот недомерок не делает тут наброски с танцовщиц, то отправляется в бордель.
Голос Дольбреза звучал отстраненно, почти безразлично, но видно было, что он едва скрывает неприязнь к художнику. Альсид Бонвуазан негодующе выпрямился:
— Но ведь он гений! Понимаете, гений! Вы видели рекламную афишу, которую он сделал для «Мулен-Руж»? Первая — та, что написал Жюль Шере, — была очень удачной, но эта… В ней больше таланта, чем во многих прославленных шедеврах. Лотрек несколькими штрихами передал атмосферу этого бала, выставив напоказ первобытные инстинкты публики. А его полотна… Говорю вам, он скоро прославится!
— Ну да, малюя Ла Гулю… — пробормотала с завистью Грий д'Эгу.
— А кто сидит с ним? — перебил ее Виктор.
— Очкарик с бородкой — композитор Эрик Сатье, та еще язва, — сказал Луи Дольбрез. — Он на улице Корто живет, мы с ним пересекаемся в «Ша-Нуар». А вон тот долговязый тощий тип — кузен Тулуз-Лотрека, тоже аристократ, его зовут Габриэль Тапье де Селейран. Субъект напротив в мятой шляпе — карикатурист Анри Сомм. Он написал песенку, которую часто поют в «Ша-Нуар»: «Когда у лестницы ступенек нет…». А женщина… Ее я что-то не припомню…
К ним подошел Биби Лапюре
[64] и попытался всучить какое-то старье, явно найденное на помойке, утверждая, что оно досталась ему от Верлена, но Виктор не обратил на него внимания — он не сводил глаз с рыжеволосой дамы в скромной, украшенной розой шляпке, которая сидела за столиком Лотрека. Это была Таша. Она смеялась, сжимая запястье художника, а тот что-то рисовал карандашом на уголке скатерти. Эдокси проследила за взглядом Виктора, лукаво улыбнулась и прошептала ему на ухо:
— Лотрек обожает рыженьких. Что ж, на вкус и цвет… Например, я, в отличие от большинства женщин, абсолютно равнодушна к блондинам. Мне гораздо больше нравятся брюнеты, есть в них что-то такое… Эй, вы меня слышите?
Виктор покраснел, отвел взгляд от соседнего столика и сделал вид, что его больше всего на свете интересует содержимое собственного бокала.
— Разрешите пригласить вас на вальс? — Какой-то толстый лысый господин склонился перед Грий д'Эгу.
— Нет! — ответила та. — От тебя несет петрушкой!
— Господа, нам пора переодеваться к канкану. Как-никак надо напялить двенадцать метров кружев. Кстати, можете нам в этом помочь, — сказала Эдокси, кидая выразительный взгляд на Виктора. — Увидимся у меня, Луи.
Дольбрез кивнул. Когда женщины ушли, Альсид Бонвуазан вскочил, пробормотал что-то насчет интервью с писателем Жаном Лорреном и откланялся.
— Все нас покинули, — сказал Виктору Луи Дольбрез. — Так что там с этим вашим Гастоном Молина? Все еще хотите его разыскать?
— Да я и сам уже не знаю.
— Вот кто может вам помочь… — Дольбрез подозвал человека с огромным бантом на шее, который нес уставленный пивными кружками поднос. — Добрый вечер, Бизар, принеси нам счет, пожалуйста. Знакомьтесь, мсье Легри — книготорговец. Виктор, это здешний метрдотель. Мсье Бизар, мы хотели бы выловить рыбку по имени Гастон Молина.
— Да он уже неделю не является на работу. С меня хватит, он уволен.
— А где он живет?
— Откуда мне знать? Он то с одной гуляет, то с другой.
— Спасибо, Бизар, сдачи не надо.
Метрдотель спрятал в карман крупную купюру и направился к столику Лотрека, где снова зазвучал смех.
— Пьет, не просыхая, а туда же, корчит из себя художника, — пробурчал Дольбрез. — Послушайте, старина, я дружен с Жозеттой, если хотите, могу вас познакомить.
— Очень любезно с вашей стороны.
Виктору не терпелось сбежать от гнусавого голоса Лотрека. Неприязнь, которую испытывал к этому субъекту Дольбрез, объединила их. Они пошли к выходу из зала, лавируя между кружащимися в вальсе парами.
— Вы нигде не встретите более разношерстного общества: князь де Саган, граф де Ларошфуко, герцог Эли де Талейран танцуют рядом с завсегдатаями «Мирлитона»
[65] и девками, которые снимают клиентов на площади Бланш. Биржевые игроки влюбляются в хорошеньких белошвеек, англичане и русские клянутся друг другу в вечной дружбе, а приличные дамы встречаются с сомнительными личностями. По замыслу Зидлера, «Мулен-Руж» — это не кафе, не кабаре и не дом терпимости, но каждый найдет здесь то, что хочет.
— Средоточие дурного вкуса, — заметил Виктор.
А публика между тем покатывалась со смеху, глядя на сцену, где в сиянии прожекторов стоял маленький человечек в красном пиджаке, с коротко остриженными волосами и усами, как у Вильгельма II. Афиша представляла его так:
ЛЕ ПЕТОМАН
Единственный артист, который не платит за авторские права
Бурное веселье зрителей вызывали неприличные звуки, которые тот издавал задом. Кто-то даже забрался на сцену, чтобы лично проверить, что в недрах черных бархатных брюк артиста не кроется никаких потайных устройств. Виктор с отвращением отвернулся.
— Если верить Зидлеру, в каждом человеке дремлет свинья, — сказал Дольбрез.
Несмотря на сырую погоду, в саду было полно народу. Все вышли подышать свежим воздухом. Ослики безропотно возили представителей высшего общества по аллеям, ярко освещенным газом и электричеством. Здесь же располагались карусели, тир, летний кафешантан, над которым возвышалась гигантская фигура слона, отделанная «под мрамор», которую привезли сюда после Всемирной выставки 1889 года. Заплатив всего двадцать су, можно было полюбоваться на чувственный псевдо-восточный танец.
Когда Виктор с Дольбрезом попали внутрь слона, представление закончилось, и зрители пытались аплодисментами задержать на сцене дородную одалиску. Складки шифонового костюма почти не скрывали ее прелестей. Виктор и его спутник прошли в маленькую комнатку за крошечной сценой, где артистка снимала грим.
— Привет, козочка моя! А я привел тебе нового поклонника.
— Очень вовремя! Я просто с ног валюсь от усталости! — Выговор одалиски выдавал в ней жительницу предместий.
— Ну, не сердись, он всего лишь хочет задать тебе парочку вопросов про Гастона.
Жозетта пристально уставилась на них: один глаз у нее был густо подведен, веко второго покраснело — она только что стерла с него тени.
— И слышать о нем не хочу! Негодяй! Он меня обчистил: спер все деньги и образ Святой Девы — мне его отец подарил. Вы что, из полиции? — с тревогой спросила она Виктора. — У Гастона неприятности?
— Нет, — успокоил танцовщицу Дольбрез, — этот господин, как и ты, всего лишь хотел повидаться с Гастоном.
— Чтоб ему пусто было! — выкрикнула Жозетта, поворачиваясь спиной к собеседникам.
— Любовь! — вздохнул Дольбрез.
— Если это он отправил вас ко мне прозондировать почву, передайте: я выкинула все его шмотки, может искать их у старьевщика. Да, и пускай угол себе снимет, а у меня может больше не появляться. Прощайте!
Виктор рассеянно брел аллеей, забыв о Дольбрезе, который задумчиво на него поглядывал.
— Глупо получилось. Мне очень жаль, но, похоже, дочь вашего клиента обесчестил редкостный негодяй. Может, стоит заглянуть в раздевалку для здешних служащих?
Им пришлось вернуться через зал в фойе, к кассам. Тут Дольбрез резко остановился.
— Черт! Шляпу забыл. Минутку, я сейчас.
Виктор чуть шею не свернул, пытаясь проследить за Таша, которая шла к бару под руку с Лотреком. Он уже хотел пойти за ними, но тут вернулся Дольбрез:
— Вот она, нашел. Вы идете?
Он толкнул дверь, и они оказались в тесной комнате с шкафчиками вдоль стен. Из одного из них, с табличкой «Молина», Дольбрез извлек мятую рубашку и початую пачку турецких папирос, достал одну и зажал в уголке рта. Из пачки выпала какая-то бумажка. Дольбрез протянул ее Виктору, и тот с трудом разобрал каракули, написанные на обертке шоколада Колониальной компании:
Шарманса у маей тетки.
Абирто, на лево, во дваре манон, зал петриер.
Ул. Л., прв. 1211
— Что там такое? — с любопытством спросил Дольбрез.
— Судите сами, — протянул ему бумажку Виктор.
— Китайская грамота какая-то. Или по-овернски написано. А может, и вообще волапюк.
[66] Давайте лучше веселиться. Я собираюсь танцевать кадриль. Вы пойдете со мной?
— Идите вперед, я за вами.
Когда Дольбрез вышел, Виктор направился к выходу и, ступив на тротуар, столкнулся с элегантным господином, одетым по английской моде.
— Антонен Клюзель!
— Легри! Виктор Легри! Да мы целую вечность не виделись!
— Почти два года. Как там «Пасс-парту»?
— Отлично! Мы переехали на улицу Гранж-Бательер, в дом номер 40, это рядом с пассажем Вердо, буду рад вас видеть! Извините, бегу, не хочу пропустить выступление нашей Эдокси. Она имеет большой успех, кто бы мог подумать!
На бульваре Клиши народу прибавилось. Виктор отдался на волю людского потока. Горький привкус во рту недвусмысленно намекал на то, что его печень не в восторге от смеси алкогольных напитков, которой его потчевали в этом проклятом кабаре. Перед глазами у него неотрывно стояла картина: Таша сжимает запястье Лотрека и хохочет, хохочет не переставая… Что она скажет, когда Виктор придет к ней на улицу Фонтен? Удастся ли ему сохранить самообладание? И все эти мучения он вытерпел ради жалкого клочка бумаги с абсолютно непонятным текстом! Причем нет никаких доказательств того, что именно Гастон Молина был воздыхателем Элизы Фуршон. Может, он сам получил от кого-то эту записку?..
«Будет тебе наука, — говорил себе Виктор. — Все, что тебе удалось узнать наверняка, — это то, что Таша общается с распутниками. Идиот несчастный!».
Глава шестая
16 ноября, понедельник
Поднимающийся над кофейником пар был похож на приложенный к губам указательный палец, призывающий хранить молчание. Таша сидела, закутавшись в шаль, и позевывая жевала бутерброд. Виктор пытался избавиться от последствий бессонной ночи с помощью чашечки кофе. Он уже жалел, что вернувшись домой раньше Таша, притворился спящим. Если бы он сразу высказал все, что лежало неподъемным грузом на сердце, то сейчас мог бы спокойно смотреть ей в глаза.
А пока он не придумал ничего лучшего, чем заговорить о том, какую карьеру в «Мулен-Руж» сделала Эдокси Аллар:
— Удивительно, как нами иногда играет судьба. А ты знала о том, что она теперь танцует?
Ответ Таша его озадачил:
— У меня не по-лу-ча-ет-ся!
Он вздрогнул.
— Что, прости?
— Не могу я! Не получится у меня! Никогда, никогда, никогда!
— Что не получится?
— Сравниться с ним в мастерстве!
— С кем «с ним»?
— С художником, с которым я вчера виделась, я тебе о нем уже рассказывала — Анри де Тулуз-Лотреком.
Ну вот, она сама призналась. Виктор дрожащей рукой отставил чашку.
— Так это ты с ним встречалась?
— Да, в «Мулен-Руж». Мне в «Жиль Блазе» заказали серию карикатур под названием «Парижская ночь в лицах».
— А я думал… ты мне не…
— Закрой рот, ты похож на рыбу.
— А я-то думал, ты больше не работаешь на эту газету. Ведь иллюстрации к книгам делать гораздо выгоднее. К тому же за квартиру плачу я, а ты недавно продала картину…
— Моя страсть к живописи обходится гораздо дороже, чем твое увлечение фотографией. Рамы, краски… Спасибо, конечно, что ты помогаешь мне. Но деньги за ту несчастную картину, что купили Буссо и Валадон, не покроют всех моих расходов. И вообще, мне нравится вращаться в кругу журналистов. С ними интересно. Скажешь, я неправа?
Виктор не знал, что ответить. Он с трудом уговорил ее принять от него финансовую помощь. Их совместной жизни — точнее, не совместной, а параллельной — постоянно что-нибудь угрожало. Таша отказывалась выходить за него замуж, заявляя, что после свадьбы независимая женщина превращается в маленькую девочку, которой и шагу не дают ступить самостоятельно. А она хотела сама строить свою карьеру. Что на это возразишь?
— Остерегайся этого уродца, говорят, он неравнодушен к рыжеволосым женщинам.
Таша недоуменно вздернула брови.
— С чего ты взял?
— У меня свои источники информации, — ответил Виктор сдержанно.
Таша зарылась лицом в складки шали, и плечи ее мелко затряслись. Неужели плачет? — испугался Виктор, но она подняла голову, всхлипывая от смеха.
— Ой, Виктор, ну какой же ты смешной! «У меня свои источники!» Вылитый инспектор Лекашер!
Она снова расхохоталась. Оскорбленный сравнением с глуповатым полицейским, Виктор вскочил и потянулся за шляпой, но Таша остановила его:
— Да ладно тебе, не сердись, просто я не могу не смеяться, я… — Она опять прыснула, но быстро взяла себя в руки. — Да, это правда, Анри нравятся рыженькие, он даже ко мне клинья подбивал. Надо признать, несмотря на все его уродство, в нем есть своеобразное обаяние. Но даже будь он самим Аполлоном, у него все равно нет ни малейшего шанса на взаимность с моей стороны. Я люблю только тебя. Неужели ты не почерпнул эту информацию из своих источников?
…Жозеф изучал пачку квитанций с заказами. Виктор пытался сосредоточиться на работе, но безуспешно — его мысли вращались вокруг улицы Фонтен. После разговора с Таша к нему вернулось ощущение полноты жизни — казалось, все вокруг вновь пришло в движение. Ее «Я люблю только тебя» и долгий поцелуй вернули Виктору душевное равновесие, и он чуть не признался, что сам был в «Мулен-Руж», но побоялся снова испортить отношения с Таша — ведь она терпеть не могла, когда он начинал расследование очередного преступления. Они поговорили о том, кто теперь займет помещение пустующей парикмахерской, и условились встретиться в мастерской часов в семь вечера, чтобы вместе отправиться в «Ша-Нуар», где Таша собиралась набросать эскиз к портрету какого-то молодого писателя.
— Мсье Легри, я закончил с витриной, выставил там сентиментальные романы. «Это было прекрасно, но немного грустно. Командир отряда пожарных в блестящей каске — и тот не мог сдержать слез», — продекламировал Жожо нараспев. — Все, с меня хватит. — Взяв яблоко и блокнот, он собрался просматривать газеты.
— С таким режимом питания и заболеть недолго, — очнулся от задумчивости Виктор.
— Не волнуйтесь, я отъедаюсь по вечерам! Матушка заботится о моем желудке. И вообще, каждому свое, — вы же дегустируете раков… Я вот что хотел у вас спросить: как вам название «Предательство и кровь»? Так будет называться мой новый роман.
— Броско. Предыдущий вариант был, кажется, «Любовь и кровь»?
— Да, но я передумал его так называть, слишком уж сентиментально получается. Я решил взять несколько не связанных друг с другом фактов и состряпать такую загадку, что любой голову сломает…
— Метод компиляции, — пробормотал Виктор.
— Вот именно! Запутанная интрига. Осталось только решить, что станет ключом к этой загадке. Я делаю ставку на сильные чувства. За точку отсчета возьму убийство на перекрестке Экразе, а убитую девушку назову Золушкой в красном. Добавлю деталей из разных любопытных происшествий, из тех, что давно собираю. С ума сойти можно, сколько всего в Париже случается! Главное — уметь вовремя сориентироваться в обстановке. Вот скажем, сегодня мне попалась настоящая жемчужина. Вы только послушайте:
ТРУП В ВИННОЙ БОЧКЕ
Вчера утром перед открытием винного рынка один из работников…
— Виктор! Ваш обед остынет! — раздался голос Кэндзи.
— Иду! — отозвался Виктор.
Жозеф с сожалением закрыл блокнот.
— И кому я все это рассказываю… Воистину, миром правит чревоугодие!
Он вздохнул и с хрустом надкусил яблоко.
Швейцар в Эльдорадо выслушал Виктора с неприступным видом, но, получив хорошие чаевые, стал гораздо более словоохотлив:
— Она живет неподалеку от театра «Варьете» и пассажа «Панорама», в доме номер один. Если хотите, можете туда прогуляться, это совсем рядом.
— Я знаю. А какой у нее этаж?
— Кажется, второй.
Виктор поймал себя на том, что научился отлично ориентироваться в районе бульваров Страсбур и Монмартр. При известии о том, что Ноэми Жерфлер живет неподалеку от перекрестка Экразе, его охватило дурное предчувствие. Он прошел мимо милых сердцу каждого библиофила книжных лавочек, парфюмерных магазинчиков и кондитерских и остановился у витрины с веерами. «Интересно, — думал он, — понравится ли Таша веер с панорамой Восемнадцатого округа? И вообще, может, ну ее, эту Жерфлер? В конце концов, главное, что Элиза, жива и невредима, гостит у матери. Но как в этом убедиться, если не проверить самому?»
Стоило ему ступить на лестницу, как мимо него проскользнул мужчина в сером шерстяном пальто и низко надвинутой на лоб шляпе. Он пробормотал какое-то извинение и помчался вверх, перепрыгивая через две ступеньки.
Виктор позвонил. Дверь ему открыла неприветливая женщина. Маленькие глазки, распухший от насморка нос, грязный передник — ее внешность мало соответствовала представлениям Виктора о том, как должна выглядеть горничная.
— Я хотел бы поговорить с мадам Жерфлер.
— Ее нет дома, — буркнула женщина.
— А как скоро она вернется?
— Она ушла к портнихе, так что может там и весь день проторчать: у нее столько платьев и побрякушек — хоть маскарад устраивай.
— Маскарад?
Горничная послюнила палец и присела убрать с ковра крошки.
— Ага, — сказала она, выпрямившись, — фрукты, цветы, перья и все такое.
— Ну, тогда, может, ее дочь сможет меня принять?
— Дочь?
— Да. Мадемуазель Элиза.
Горничная смерила его подозрительным взглядом, но потом смягчилась:
— Скажете тоже, — фыркнула она. — Нету у нее никакой дочки.
— Вы в этом уверены?
— Ну, само собой, она мне о своей личной жизни не рассказывает. Но я точно знаю, что официально мадам Жерфлер не замужем. Можете дать мне свою карточку, я ей передам.
— Спасибо, но я лучше зайду в другой раз, — сказал Виктор.
* * *
Человек в сером пальто перегнулся через перила третьего этажа и смотрел на спускающегося по лестнице Виктора, поглаживая в кармане рукоять ножа. Это его успокаивало. Нож был талисманом, с которым он не расставался много лет. Придется ли снова им воспользоваться? Неважно. Когда чувствуешь, что он оттягивает карман пальто, будто верный солдат, всегда готовый выполнить приказ, на душе становится легче. Настоящего друга у него все равно нет, а нож, в случае чего, не подведет.
Так значит, Ноэми еще не вернулась. Ну что ж, это несколько расходится с его планами, но ничего страшного, приятный тет-а-тет можно и отложить. Что значит каких-то несколько часов после стольких лет ожидания? Он с усмешкой подумал о фразе, которую обронила горничная: «Нету у нее никакой дочки». Ошибочка вышла! Точнее было бы сказать: «Нету у нее
больше никакой дочки».
* * *
Терзаясь сомнениями, Виктор вышел на бульвар Монмартр и подозвал наемный экипаж.
Приехав на улицу Фонтен, он заметил на противоположном тротуаре уродливого художника в пенсне. Не от Таша ли он вышел?
Она работала, одетая в перепачканную красками блузу.
— У меня, наверное, галлюцинации, но мне показалось, что я видел Лотрека.
— Да, он заходил. Вы разминулись буквально на несколько минут. Он живет тут неподалеку — переехал в двадцать первый дом еще в апреле. Подожди, я сейчас переоденусь.
Она что, смеется над ним? Неужели не понимает, какие чувства вызывает у него одна мысль о том, что она в таком виде принимала у себя этого горе-художника?
Виктор не смог побороть любопытство и приподнял тряпку, скрывавшую полотно, над которым работала Таша. То, что открылось его взору, лишь усилило беспокойство: растрепанная танцовщица, исполняющая канкан, из пены юбок торчат черные чулки. Таша копировала стиль Лотрека, но ей не хватало его экспрессии: фигура выглядела статично и была похожа на куклу. Ну, и зачем было выбирать такой сюжет?
Таша вернулась быстро, и Виктор едва успел прикрыть картину.
— Как я тебе?
На голове у нее красовалась неизменная шляпка. Она переоделась в блузку с темными манжетами и черную юбку. А еще надела бусы из лазурита, которые Виктор подарил ей на день рождения, и украшенные вышивкой перчатки, доставшиеся от матери. Корсет Таша не носила, и под блузкой угадывались соблазнительные очертания ее груди.
— Ты очаровательна!
Виктор вдруг успокоился и, помогая Таша надеть пальто, запечатлел на ее шее легкий поцелуй.
До кабаре «Ша-Нуар», которое с 1885 года занимало бывшую мастерскую бельгийского художника Альфреда Стивенса на улице Виктора Массе, было всего пять минут пути. Виктор с восхищением разглядывал фасад здания. На уровне второго этажа располагалось огромное панно с изображением кошачьей фигуры на фоне солнечного диска. Свет от двух огромных фонарей падал на деревянную вывеску. Виктор успел прочитать лишь первые и последние слова, выведенные желтыми буквами:
Остановись, прохожий!
Будь современным!
Они поднялись по ступенькам и увидели швейцара в пышной ливрее. В руках он держал алебарду и трость с серебряным наконечником. Швейцар провел их внутрь по длинному коридору, который упирался в еще одну лестницу.
Оставшись одни, они первым делом обошли комнаты первого этажа: зал Франсуа Вийона, затем — Зал стражи, который превратили в уютное кафе. В витраже Виллета на тему культа золотого тельца отражался огонь, пылающий в очаге громадного камина. На верхушке растущей в кадке пальмы спал самый настоящий черный кот.
[67]
Они поднялись по дубовой лестнице. Таша указала на закрытую дверь:
— Вот здесь собирается редакторский совет.
— И часто ты тут бываешь?
— Время от времени я продаю в газету свои рисунки. Поначалу у нас с Виллетом была настоящая война, ведь тиражи достигают двадцати тысяч экземпляров. Но теперь мне на него плевать — он разругался с хозяином.
Они поднялись этажом выше и оказались в Зале торжеств, где шло какое-то представление. Человек десять зрителей уже расселись по местам. Вновь прибывших громогласно приветствовал дородный широкоплечий мужчина с рыжими волосами и бородой, одетый в наглухо застегнутый сюртук.
— Добрый вечер! Добрый вечер! Катались ли ваши светлости на поезде удовольствий? Нет? Тогда поскорей занимайте места!
Виктор протянул официанту купюру, и тот проводил их на свободные места.
— А это что за горлопан? — спросил Виктор у Таша.
— Родольф Сали. Злые языки называют его рыжим ослом. Он известный балагур, его либо ненавидят, либо обожают.
— А ты как к нему относишься?
— Чтобы не давать тебе повода для ревности, скажу, что я его уважаю. Он создал это заведение и всегда сам решает, кому выступать в его кабаре.
Виктор ожидал увидеть здесь бильярд и карточные столы, но никак не зал с пианино в центре, за которым сидела улыбчивая светловолосая мадам Сали. Повсюду были расставлены фаянсовые безделушки и медные вещицы в средневековом стиле, на стенах висели картины и рисунки. Взгляд невольно останавливался на огромном полотне Виллета, изображавшем беснующуюся толпу на фоне зданий Оперы, собора Нотр-Дам, Дома инвалидов.
Зал постепенно заполнялся, и Сали отпускал хриплым голосом шуточки в адрес каждого нового гостя.
— Ну, ты глянь, сплошь одни лавочники! Приветствую вас, адмирал! Извините, я поначалу принял вас за этого прохвоста супрефекта.
И он в лучших традициях Брюана
[68] проехался по депутатам. Вид у него при этом был самый что ни на есть невинный, но бил он своими шутками не в бровь, а в глаз.
— Дамы и господа! — объявил он. — Сегодня нам выпала честь приветствовать нашего старинного друга Луи Дольбреза, в честь которого поют дифирамбы все нимфы холма!
[69] Сейчас он выйдет на сцену и порадует нас своими стихами.
Виктор прекрасно знал, что Дольбрез выступает в «Ша-Нуар», но не ожидал вновь встретиться с ним так скоро.
— К счастью, ни здесь, ни в «Мирлитоне» цензура не свирепствует, но все мы знаем, что эта дама артистов не жалует. Дня не проходит, чтобы наши собратья по ремеслу, выступающие в театрах и кафешантанах, не убедились в этом на собственном опыте. Поэтому им я посвящаю свою «Анастасию»,
[70] — объявил Дольбрез и начал декламировать:
Как же прессе освещать мнение?
Потайным фонарем.
А почему прессе приходится освещать
мнение потайным фонарем?
Потому что не всякая правда удобна.
Даже когда речь идет о скандалах
всенародных.
— Так это его портрет войдет в твой цикл «Парижская ночь в лицах»? — шепотом спросил Виктор.
— Нет, я с ним не знакома. Тс-с. Послушай.
…И что остается жаждущему истины
журналисту?
Лечь спать на голодный желудок.
Голодное брюхо безухо!
Под смех и рукоплескания Луи Дольбрез приподнял свое сомбреро, а потом подошел к зрителю в крылатке, с которым то и дело обменивался репликами. Только бы он меня не заметил, подумал Виктор: ему не хотелось, чтобы Таша узнала, где он был накануне вечером.
— О Монмартр, гранитная грудь, к которой припадают поколения людей, жаждущих идеала. О Монмартр — средоточие разума мира! Тебе никогда еще не доводилось видеть ничего похожего на то, что сейчас предстанет перед нашими восхищенными взорами! — громогласно объявил Сали.
Пианист сел за инструмент.
— Встречайте! Маэстро Шарль де Сиври и знаменитый автор и чтец Морис Донне!
— Вот с него-то мне и надо сделать набросок, — сказала Таша, когда рядом с пианистом появился молодой человек с лошадиным лицом и жидкими подкрученными усиками.
— Не ищите у него изобразительности Анри Ривьера,
[71] чьи образы и игра светотени так завораживают. Наш сегодняшний гость действует тоньше. Даешь фантазию! Даешь шуточную, мистическую, социалистическую и бессвязную поэму «Иные края» в двадцати картинах, посвященную нашему учителю Полю Верлену!
Газовые лампы постепенно гасли. Пианист заиграл бравурную мелодию. Занавес поднялся, и взорам зрителей
явился круглый экран. Свет окончательно погас, и на фоне звездного неба на экране постепенно проступили силуэты зданий. Медноватый отблеск освещал Париж и площадку перед зданием Института Франции,
[72] где стоял памятник Вольтеру. Зрители зашептались. Памятник Вольтеру спрыгнул с пьедестала. Навстречу ему шел поэт по имени Терминус. Он бросился в Сену, увлекая Вольтера за собой в пучину. В лунном свете их тени возвышались над домами, утесами и деревьями, гнущимися под порывами ветра. Морис Донне под звуки похоронного марша, написанного неким Шопенгауэром, без выражения читал текст под названием «Адольф, или печальный молодой человек»:
Он был тощ и невзрачен,
Его вскормила кормилица-пессимистка,
И младенец был глубоко несчастен…
По мере повествования герой становился оппортунистом, «всё-или-нечевистом», потом «зачемистом»…
[73] Виктор почувствовал, что к нему кто-то подсел, повернул голову и увидел Луи Дольбреза.
— Э-э, дружище, да вы, я смотрю, пустились во все тяжкие? Вчера «Мулен-Руж», сегодня «Ша-Нуар» — неплохой маршрут! Или вы все еще разыскиваете этого своего Гастона Молина?
— Я здесь отдыхаю, — прошептал раздосадованный Виктор.
Таша ничего не сказала, но нахмурилась, а это не предвещало ничего хорошего.
Раздались восторженные возгласы зрителей, и в зале вновь зажегся свет.
— Антракт пятнадцать минут, — громко провозгласил Сали. — И надеюсь, вы проведете это время с пользой — у нас можно выпить и закусить за смешные деньги!
— Приглашаю вас пропустить по стаканчику внизу, — сказал Дольбрез. — Да не бойтесь вы! Пиво тут подают чуть ли не в наперстках.
— Видите ли… я здесь не один.
— О! Мадемуазель… или мадам из наших? — Дольбрез поклонился Таша. — Чем более мы безумны… А мы с вами нигде раньше не встречались?
— Я бы запомнила, — ответила Таша. — Извините, вынуждена вас покинуть. Мне надо повидаться с Морисом Донне.
— Хороша! — присвистнул Дольбрез, когда она отошла. — Журналистка?
В Зале стражи яблоку было негде упасть. Они пристроились под картиной Стейнлена
[74]«Апофеоз кошек».
— Пейте, друзья мои, пейте. Это ваш вклад в наше искусство! — надрывался Сали.
Давешний зритель в крылатке, держа в руке стакан с абсентом, подошел к Дольбрезу, шепнул ему на ухо пару слов и исчез в толпе.
— Это Навар. Возможно, вашей подруге будет полезно с ним познакомиться. Он вот уже три месяца посещает наши встречи и скоро станет редактором литературного журнала. Ловкий малый — сумел пробиться в «Эко де Пари» и выпрашивал у меня тексты. Так что, познакомить вас?
— Не стоит, — пробормотал Виктор, продолжая думать о том, расслышала ли Таша слова Дольбреза про «Мулен-Руж».
Он вернулся в Зал торжеств, где Таша делала набросок к портрету Мориса Донне. Этот молодой человек недавно окончил «Эколь Сентраль» с дипломом инженера, но его гораздо больше привлекала поэзия, нежели работа по специальности.
Виктор надеялся, что ему удалось отделаться от Дольбреза, но, когда около полуночи представление закончилось и они с Таша вышли на некое подобие восточного балкона с решеткой, устроенного над сценой, он увидел поэта в глубине зала. Лестницы в тесном помещении за сценой вели к трем расположенным друг над другом платформам. На первой сидели музыканты, на второй — осветители, а на третьей, самой верхней, обосновались кукловоды с марионетками на длинных нитях.
— Система сложная, но ошибок мы никогда не допускаем, — объяснял Анри Ривьер, который командовал здесь, словно шкипер на корабле. — Тут нужна абсолютная точность: приходится одновременно двигать марионетки на трех разных уровнях и поворачивать зеркала так, чтобы создавалось впечатление восхода солнца или разразившейся бури.
Виктор почти не слушал его пояснения. Он присматривался к Таша. Так слышала она слова Дольбреза или нет?
— А как вы добиваетесь эффекта мерцания звезд? — спросила она.
— Передвигаем фонарь за картоном, в котором проделаны дырки.
— А вспышки молний?
— Проще простого: поджигаем пропитанную селитрой бумагу и бросаем ее вниз.
Упоминание о селитре напомнило Виктору текст вчерашней записки, которую он нашел в шкафчике у Гастона Молина. Может быть, «зал петриер» — это Сальпетриер, богадельня, которую построили на месте Малого Арсенала Людовика XIII?
Они раскланялись с Анри Ривьерой. Назойливый Дольбрез предложил им выпить на посошок. Они отказались. Виктору не понравились, что поэт не сводит глаз с Таша.
— Ну как, удалось вам разгадать загадку Гастона Молина? — не отставал тот.
— Я уже и не пытаюсь. Все равно никаких зацепок.
— Ну, не стоит так быстро сдаваться. Попытайтесь еще разок, — сказал Дольбрез.
Виктор с трудом сдерживался, чтобы не вспылить, и на его лице ясно читалось раздражение. Дольбрез не мог этого не заметить, но с улыбкой продолжал болтать.
— О! Вот уж кто точно не боится прокутить ночь напролет! — провозгласил он при виде ввалившейся в Зал стражи толпы посетителей.
— Жан Ришпен, Жюль Жуи, Ксанроф,
[75] Морис Вокер, — перечисляла Таша, — весь цвет французских куплетистов. Виктор, ты узнаешь вон того пьянчугу?
— Верлен, — ответил он, радуясь, что Таша не собирается выяснять отношения.
Но стоило им отойти от «Ша-Нуар», как ее настроение тут же переменилось:
— Почему ты не сказал мне, что был вчера в «Мулен-Руж»? Ты что, шпионишь за мной? Кто такой Гастон Молина? Ты обвиняешь меня в двуличии, а сам ведешь двойную жизнь!
Виктор слушал ее упреки, лихорадочно придумывая правдоподобное объяснение.
— Я пытался помочь другу, — сорвалось у него с языка.
— Кому, Жозефу? Или Кэндзи? Других у тебя нет.
— Ну, хорошо. Речь идет о Жожо. Я боялся, что он наделает глупостей. Парень с ума сходит от ненависти к Бони де Пон-Жюберу. Это тот хлыщ, что женился на Валентине де Салиньяк. Жозеф собрался разыскать его в «Мулен-Руж», а я пошел вслед за ним, чтобы убедить вернуться домой и лечь спать, — придумывал он на ходу.
— Ты видел меня в обществе Лотрека?
— Нет, не видел. Ты ведь знаешь, я терпеть не могу толпу, потому и ушел оттуда как можно скорее.
— А кто такой Гастон Молина?
— Родственник Пон-Жюбера. Он прислал Жозефу письмо с угрозами, требуя, чтобы тот больше не пытался встречаться с Валентиной. Жожо был в бешенстве. К счастью, ему не удалось найти ни Молина, ни самого Пон-Жюбера…
На улице было довольно прохладно, но Виктора бросило в пот. Надо же, он сочиняет небылицы, словно школьник, которого учитель застал на месте преступления. Опыта по части вранья ему явно не хватало — Таша наверняка станет расспрашивать Жозефа, так что теперь придется посвятить юношу в подробности нового дела.
— Ты на меня не сердишься? — осторожно спросил он.
— В отличие от некоторых, я не злопамятна и не ревнива…
* * *
По бульвару Страсбур гулял ветер. Быстро разгримировавшись, Ноэми Жерфлер выскочила из здания театра «Эльдорадо» и поспешила укрыться в ожидавшем ее экипаже. Она лишь на миг задержалась на улице, чтобы внимательно присмотреться к прохожим. Не за тем ли фонарем притаился человек, который прислал ей розы? Она чувствовала, что рано или поздно этот таинственный даритель объявится. Пусть только попробует! Если он вздумает ворошить прошлое, она ему покажет. Ноэми дотронулась ручкой зонтика до плеча кучера, и экипаж тронулся. Она съежилась на сиденье и погрузилась в воспоминания. В голове у нее зазвучали знакомые с детства строки:
И человеку на земле, и птице в небе
Господь велел: «Вейте себе гнездо!..»
Ей довелось хлебнуть немало горя: мать и сестра умерли, когда ей было пять лет, отца-шахтера убили в июне 1869 года во время беспорядков в городке Рикамари. Девушка перебралась в Лион к тетке — та работала кухаркой у владельцев ткацкой фабрики — и устроилась на работу в прядильный цех. Один из ухажеров, неотесанный парень, устроил ей выступление в «Якобинском трактире». Хозяин заведения заметил, что у нее красивый голос. Вскоре она приобрела некоторую известность, публика валом валила на выступления жизнерадостной Леонтины Фуршон. Через некоторое время на свет появилась Элиза. Ноэми не даже пыталась разыскать отца девочки.
И человеку на земле, и птице в небе
Господь велел: «Вейте себе гнездо!..»
С тех пор дни она посвящала Элизе, а вечерами пела в кафешантанах. Затем отдала дочь в пансион, где воспитанниц учили игре на фортепиано, английскому языку и хорошим манерам. Уже тогда Элиза была полна амбиций, знала, что нравится мужчинам, мечтала о красивой жизни, хотела изменить свою судьбу, стать настоящей дамой…
Экипаж медленно ехал по запруженным улицам, но ни шум уличного движения, ни оживленный гомон зрителей, только вышедших из театра «Жимназ», где в тот вечер давали «Нуму Руместана»,
[76] не могли отвлечь Ноэми от воспоминаний. Восемь лет, целых восемь лет она потратила на разработку и воплощение плана, который позволил бы ей, наконец, стать независимой женщиной. Она идеально выбрала жертву и удачно провернула дельце. Результаты превзошли все ее ожидания. И вот, в самый неподходящий момент, появился этот идиот! Теперь вся ее жизнь может пойти под откос. Ноэми не могла отделаться от ощущения, что за ней следят, она чувствовала себя усталой и разбитой. И зачем она только вернулась на родину, ведь в Лондоне ей ничто не угрожало… На что он рассчитывает? Хочет вернуть свою долю?
«У тебя нет никаких доказательств, — думала она, — а если ты вообразил, что сможешь меня шантажировать, — дудки! Ничего у тебя, дружок, не выйдет!»
Начавшийся ливень разогнал посетителей, сидевших на открытой террасе Гран-Кафе-де-Сюэд, закрывались двери театра «Варьете». От перекрестка в разные стороны медленно разбредалась толпа зевак, будто стадо, которое гонят в хлев. Они пришли сюда из любопытства: интересно же посмотреть на то место, где нашли обезображенный труп неизвестной женщины. «Если эти бараны так любят кровавые зрелища, отправлялись бы лучше на бойню», — с презрением подумала Ноэми.
Она вышла из экипажа в двух шагах от пассажа «Панорама» и под ледяным дождем, поминутно озираясь, добежала до двери своего подъезда. В переулке никого не было. Ноэми поднялась по темной лестнице. Дверь отворила Мариетта. «Сколько раз ей говорили, что зевая, принято прикрывать рот рукой! — раздраженно подумала Ноэми. — Бесполезно. Эту неотесанную неряху уже поздно воспитывать». Она приказала подать ей чай с молоком и гренками, а сама быстро прошла в будуар.
На фоне пушистых веточек мимозы, которыми были густо расписаны обои, палисандровая мебель приобретала какой-то болезненный желтоватый оттенок. Не обращая внимания на соскользнувший на пол капор, Ноэми подошла к окну, раздвинула занавески и выглянула на бульвар Монмартр. А вдруг это вон тот человек, что околачивается возле музея Гревен и разглядывает афишу о возобновлении слушаний по делу Гуффэ?
[77] Нет, к нему, скользя на мокрой мостовой, спешила какая-то полная дама. Они обнялись и зашли в один из ярко освещенных ресторанчиков.
Ноэми села за туалетный столик и уставилась на свое отражение в зеркале, разглядывая складку у губ, морщинки и мешки под глазами… Тридцать пять лет, ничего не попишешь!
Сколько раз ей хотелось выкинуть веер, мантилью и парик, бросить все, собрать вещи и уехать! Но не хватало решимости. Она потратила немало времени и сил, чтобы стать Ноэми Жерфлер, обрести счастье, деньги и успех… И теперь была уже не в том возрасте, чтобы начинать все сначала. Отныне ей оставались лишь отголоски былой славы да случайные поклонники. Любовь? Это всего лишь обман, и цена ей, как в той песенке — четыре су:
И человеку на земле, и птице в небе
Господь велел: «Вейте себе гнездо!..»
И все-таки Ноэми еще мечтала встретить настоящую любовь. Ведь она осталась совсем одна, ей не на кого опереться. У нее нет никого, кроме дочери. Хорошо, что вся эта грязь не коснулась ее девочки. В один прекрасный день Элиза удачно выйдет замуж, и ее супруг, конечно же, не оставит тещу умирать в нищете на склоне лет.
Вошла Мариетта с подносом. Чай был мутный, гренки подгорели. Ноэми вздохнула. Ну что за наказание?..
— Поставьте поднос и приготовьте мне ванну. Да не забудьте насыпать в воду лавандовую соль. И перестаньте шмыгать носом, у вас что, носового платка нет?
Мариетта явила на свет огромный клетчатый платок и с трубным звуком высморкалась.
— Просто стихийное бедствие какое-то! — Ноэми страдальчески возвела глаза под потолок. — Подождите…
Мариетта остановилась и обернулась.
— У вас есть поклонник?
— Да, мадам, его зовут Мартиаль, он подручный пекаря. По воскресеньям дарит мне сдобную булочку. Когда мы поженимся, наши дети каждый день будут есть хлеб.
Ноэми оглядела некрасивую физиономию своей горничной, ее сальные волосы и подумала, что жизнь устроена несправедливо.
Мариетта вышла, но минут через пять снова вбежала в будуар.
— Мадам! К вам посетитель.
— Нет, только не сегодня! — воскликнула Ноэми, переодеваясь в домашнее платье. — Как он выглядит: молодой или старый?
— Не знаю, мадам, в прихожей темно. Он сказал, будто близко знаком с вами, вот его карточка.
Ноэми мельком взглянула на кусочек картона и рухнула на стул, будто у нее подкосились ноги.
— Вам плохо, мадам?
— Нет, все в порядке… Проводите этого господина в гостиную.
— А как же ванна?
— Идите к себе, я сама справлюсь. Ну же, пошевеливайтесь!
Руки у Ноэми дрожали так сильно, что она не смогла даже прическу поправить. Сердце, казалось, вот-вот выскочит из груди. Она, пошатываясь, прошла в гостиную. Перед камином спиной к ней стоял мужчина и смотрел на огонь. Услышав звук открывающейся двери, он обернулся.
— Ты!.. — тяжело дыша, проговорила она.
— Добрый вечер, мадам де Сен-Меслен! Очень рад вновь видеть вас, нам ведь есть о чем вспомнить, не так ли? Как вам мои алые розы? По лицу вижу, что понравились.
Он говорил медленно и монотонно. Ноэми ухватилась о дверной косяк. Он широко улыбнулся.
— Вам лучше присесть, у меня есть новости о вашей дочери Элизе. И боюсь, весьма печальные…
Глава седьмая
17 ноября, вторник
Он бродил по пустынным улицам, пока не успокоился достаточно, чтобы обдумать события вчерашнего вечера.
Когда он звонил в дверь Ноэми Жерфлер, его била нервная дрожь, и он даже начал опасаться, что ему не хватит решимости довести дело до конца. Но к тому моменту, как она вошла в гостиную, ему удалось взять себя в руки. Она его сразу узнала. А вот он ее… Неужели за какие-то пять лет черты лица могли так сильно измениться, а фигура — настолько расплыться? Перед ним стояла совершенно незнакомая женщина. Он вспомнил времена, когда любил ее до безумия (тогда ее звали Леонтиной Фуршон), вспомнил золотистое сияние ее волос, наивное, почти детское лицо и жадное до любви тело. Время не излечило боль, причиненную коварным обманом, и он ощутил ее с новой силой. В глазах у него потемнело. Настало время расплаты.
Он предложил ей сесть и стал во всех подробностях рассказывать о последних минутах жизни Элизы, с наслаждением наблюдая, как она с каждым его словом меняется в лице. Она ничего не сказала и даже не заплакала. Потрясение лишило ее дара речи. Она резко вскочила, приложила руку к сердцу и рухнула как подкошенная. В нем что-то дрогнуло при виде распростертой на ковре женщины, которую он, как теперь оказалось, почти не знал. Он отомстил, но это не принесло ему радости, — лишь страшную усталость. Опустившись рядом с ней на колени, он быстро, пока она не очнулась, накинул ей на шею удавку. Когда он поднялся, ее ноги судорожно дрогнули. Он немного постоял, бездумно глядя на нее. К нему постепенно, капля за каплей, возвращалось желание жить. Привычным жестом он оборвал лепестки роз, положил рядом с недвижным телом красную туфельку и записку и вышел.
Бродя по пустынным улицам, он думал о том, что жизнь — это сплошные перемены. С рассвета до сумерек в Париже царит оживление, а по ночам он превращается в город-призрак. Так и с людьми. Сейчас мостовые этого города топтал уже не тот наивный юноша, что шесть лет назад поддался на сладкие обещания.
«Да не дергайся ты, — твердила она, — я все просчитала. Доверься мне, и все будет хорошо: мы уедем вдвоем, только ты и я, и до конца своих дней будем жить на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая».
Она постоянно, день за днем, неделя за неделей, возвращалась к этому разговору, и в конце концов он согласился. К тому же, по ее замыслу, ему почти ничего не надо было делать. Природа наделила ее богатым воображением и недюжинным актерским талантом. Талантом, на который — чего уж кривить душой — купился и он сам. Перед глазами у него стояло каждое слово ее прощального письма:
…И не вздумай мне мстить. Ты меня знаешь: я и мухи не обижу, но если ты меня выдашь, я под присягой покажу, что это ты все придумал и, угрожая похитить мою дочь, заставил меня помогать тебе. Иди ты к черту со своей дешевой сентиментальностью! И держи язык за зубами, не то…
Его сердце было разбито. Она не просто сбежала, прихватив все деньги, она посмеялась над его чувствами. Осознание того, что она никогда его не любила, отравляло ему душу. Как-то раз он напился и напал на полицейского. В тюрьме было достаточно времени, чтобы в деталях обдумать план мести. Говорят, что месть — это блюдо, которое подают холодным. Ему хотелось придать этому блюду остроты.
Он брел, куда глаза глядят, пока вдруг не обнаружил, что ноги сами принесли его домой.
В нетопленой спальне было сыро. Он сел у единственного окна и бездумно уставился на клочья тумана, запутавшиеся в голых ветках каштанов. Так и просидел до рассвета. В голове мелькали обрывки каких-то мыслей. Чтобы довести план до конца, потребуется безукоризненная выдержка. Жребий брошен. Спать он так и не ложился.
* * *
…Виктор страшно устал и мечтал завалиться в кровать. «Или пойти к Таша?» — мелькнула у него игривая мысль, когда он переходил бульвар.
Что это что там еще за столпотворение у пассажа «Панорама»?
Юный подручный булочника с формой для пирогов в руках пытался протиснуться в первые ряды зевак.
— Что там? Кого-то сбили? — спросил Виктор.
— Убили, — прошептал мальчишка.
Виктор подошел к полицейскому и представился журналистом.
— Задушена женщина, — сказал тот, нервно теребя усы. — Тело утром обнаружила служанка. Но вас опередили — ваши собратья по перу уже там. Как они об этом пронюхали? Будто и не люди вовсе, а свора собак.
— Где произошло убийство?
— В доме номер один у пассажа «Панорама». Проходите, не задерживайтесь.
— Вот ведь времена настали, а? — прошамкала какая-то старушка. — Недели не прошло, а тут уже новый труп.
— Если замок без следов взлома, — заметил стоящий рядом мужчина, — значит, она знала убийцу и сама открыла ему дверь.
— Откуда вам известно? — спросил полицейский.
— Да вы газеты почитайте — там приводится статистика. А с цифрами не поспоришь, это я вам как бухгалтер говорю. Шестьдесят процентов жертв убиты своими знакомыми.
— Что верно, то верно, — закивала старушка. — От мужчин сплошные неприятности, уж можете мне поверить.
— Мариетта сразу бросилась звонить в дверь моей хозяйке, — возбужденно рассказывала девушка в форме горничной. — Сказала, что около полуночи к ним пришел какой-то человек, лица она не разглядела. А утром нашла труп Жерфлер — усыпанный лепестками роз, и на груди — красная туфелька.
Виктор выбрался из толпы и побрел к стоянке наемных экипажей. Он с трудом сосредоточился, чтобы назвать кучеру адрес, — в голове вертелось только одно имя: Айрис.
Ему еще не доводилось видеть Кэндзи в такой растерянности. Когда Виктор зашел в кабинет компаньона, тот раскладывал на столе каталожные карточки. Виктор рассказал ему новость, добавив:
— Айрис подвергается большой опасности, находясь в пансионе мадемуазель Бонтам.
— Ч-что вы сказали? — пробормотал Кэндзи, запинаясь и краснея.
— Ее лучшую подругу Элизу Фуршон уби…
— Откуда вы знаете, что Айрис во Франции?
Виктор судорожно придумывал объяснение. По счастью, Жозеф оправился доставить заказанные книги на дом к Матильде де Флавиньоль, и в лавке никого не было.
— Жозеф рассказал мне, как ему принесли туфельку, а он вам ее показал. Вы так переполошились, что он опасался рецидива болезни и поделился со мной… Он слышал, как вы называли кучеру адрес. Я очень волновался за вас и сам отправился в Сен-Манде.
— Так, значит, это вы привезли мою трость… Вы говорили с Айрис? — спросил Кэндзи бесцветным голосом.
— Да, мы побеседовали с вашей крестницей. Она рассказала мне, что одолжила пару туфель Элизе Фуршон. К несчастью, эта юная особа погибла. А следующей жертвой стала ее мать, Ноэми Жерфлер.
— Откуда вам это известно?
— Из газет.
Кэндзи встал. Виктор вдруг заметил, что у того прибавилось седины, а под глазами появились круги, как после бессонной ночи. Он почувствовал к опекуну прилив нежности.
— Надо немедленно забрать Айрис из пансиона, — сказал он. — Я уступлю ей свою квартиру, а сам переберусь к Таша. Мне уже давно пора начать самостоятельную жизнь, а на нашей с вами работе в книжной лавке это никак не отразится.
Кэндзи нервно ходил из угла в угол.
— Я предпочел бы сохранить все в тайне, но в данной ситуации вынужден рассказать вам правду, — сказал он, останавливаясь перед Виктором. — Айрис — моя дочь.
— Я догадывался. А она об этом знает?
— Не знала… до недавнего времени. Айрис было четыре годика, когда умерла ее мать… Это была замужняя женщина… Я не хотел, чтобы девочки коснулись отголоски скандала.
— Но почему вы никогда мне об этом не говорили?
— Лягушка в болоте и слыхом не слыхивала об океане, но ее это не печалит.
— Прошу вас, Кэндзи, избавьте меня от ваших восточных пословиц, скажите прямо.
— Когда ваша матушка поручила вас моим заботам, вы были замкнутым, впечатлительным и эгоистичным юношей. С какой стати мне было делиться с вами моими проблемами?
— Да, но ведь с тех пор я повзрослел. Ох, Кэндзи, вы хоть представляете, к чему могли привести эти игры в прятки? Какое-то время я считал, что Айрис — ваша любовница.
Кэндзи облизал губы.
— Вы с ума сошли, она же еще совсем ребенок! Вы что, следили за мной?
— Нет, конечно! Но конспиратор из вас никудышный. Помните пословицу: шило в мешке не утаишь?
— Избавьте меня от ваших западных нравоучений и поклянитесь, что не расскажете об Айрис никому, даже Таша.
— Даю слово.
Кэндзи надел сюртук и шляпу, взял трость и вышел.
— Представляешь, Таша, — Виктор заговорщически подмигнул бюсту Мольера, — эта девочка — его любовница. Мне просто необходимо переехать, я чувствую себя там третьим лишним.
— Что?! Шестнадцатилетняя девочка? — возмутилась Таша. — Вот все вы, мужчины, такие, ни одной юбки пропустить не можете!
— Нет, не все! Тебе, например, достался редкий экземпляр.
Виктор попытался обнять Таша, и она сделала вид, что сопротивляется.
— А я думаю, что ты не исключение, — проворковала она. — У тебя одна официальная любовница и десяток интрижек на стороне.
— Любовь моя, нашу с тобой связь лишь с очень большой натяжкой можно назвать официальной. Мы все время встречаемся на бегу, иногда мне даже кажется, что ветер в ушах свистит. Так ведь и простудиться недолго, а? Как считаешь?
— Ну, если тебе так приспичило погреться у печки, перестань метаться между улицами Сен-Пер и Фонтен.
— Ты серьезно? Ты правда хочешь, чтоб мы жили вместе?
Она красноречивым жестом обвела мастерскую, где царил жуткий беспорядок.
— Ты такой аккуратный, а у меня тут все вверх дном. Ты сам-то уверен, что хочешь здесь жить? Мы же начнем придираться друг к другу по пустякам. Я терпеть не могу готовить и совершенно не умею вести хозяйство. По-настоящему я люблю только живопись.
— А меня?
— Тебя я обожаю, но ты слишком ревнив. А мне необходимо видеться с художниками, общаться с ними, сравнивать наши работы…
— Кажется, я нашел выход. Если мы переедем в квартиру попросторнее, у каждого будет своя территория: я смогу заниматься фотографией, а ты — спокойно творить. А еще составим график свиданий. Например, по субботам с семнадцати до девятнадцати. Как тебе идея?
— Да что ты несешь?!
— Я снял для нас помещение парикмахерской вместе с квартирой.
— Ты…
— Закрой рот, милая, а то ты становишься похожа на рыбу.
* * *
Человек в сером пальто сделал большой глоток рома, вытер губы тыльной стороной ладони и убрал флягу в карман, но ему тут же захотелось выпить еще. Пройдя через ржавые ворота на территорию Ботанического сада, он миновал клумбы с хризантемами и пошел вверх по извилистым дорожкам альпийской горки. Дойдя до вершины, задержал взгляд на высоком куполе Пантеона и уселся на скамье, что окольцовывала ствол старого ливанского кедра. Бюффон посадил здесь это дерево сто пятьдесят с лишним лет тому назад, оно видело монархию и Революцию, Реставрацию, периоды империи и республики. Миллионы людей истребляли друг друга во имя идей, которые ушли в небытие, а дерево продолжало расти. «Я тоже многое пережил», — думал человек в сером пальто. Став убийцей, он, как никогда раньше, начал ценить собственную жизнь и решил приложить все усилия, чтобы уйти от правосудия.
Ворона в поисках объедков вытаскивала из урны промасленную бумагу от бутербродов. Человек в сером пальто улыбнулся: «А дворник будет ругать посетителей, мол, намусорили… Что ж, такова жизнь — одни бьют посуду, другие за это платят». Он достал из жилетного кармана часы: половина четвертого. Пора проверить, придерживается ли своего расписания старик, за которым он следил уже неделю.
Смотрителя зверинца он нашел в вольере с оленями: сменив подстилку из сена, тот гладил олененка. Человек в сером пальто давно изучил лицо старика во всех подробностях, от пышных, похожих на моржовые, усов до последней морщинки. Всю жизнь приглядывая за животными, смотритель и сам стал похож на своих питомцев: такой же апатичный, диковатый и необщительный. Изо дня в день он ходил по одной и той же аллее: мимо антилоп и зубров — к вольерам с птицами, а там, как правило, останавливался посмотреть, как художники-любители рисуют с натуры хищных грифов или величественных марабу.
Старик перекинулся парой слов с худенькой женщиной, которая пыталась вылепить ястреба из бесформенного кома глины, покачал головой и направился к бассейну с крокодилами, а потом в аллею диких животных, где стояли десятка два клеток с двойными решетками, и там закончил свой обход.
Все шло по плану. Человек в сером пальто сел на железную скамью неподалеку от няньки, которая листала журнал мод, носком ботинка покачивая коляску с ребенком. Он щелчком сбил соринку с рукава и еще раз прокрутил в голове задуманное. Затеряться в Ботаническом саду после закрытия будет несложно. А вот чтобы оттуда выбраться, придется перелезать через решетку, и его могут заметить. Но и эту проблему он решил. Как и другие общественные места, Ботанический сад по ночам убирает целая армия дворников.
«Надо будет затесаться между ними, — думал он. — У меня есть два дня, чтобы раздобыть соломенную шляпу и блузу. Времени достаточно».
Нянька качнула коляску слишком сильно, ребенок проснулся и громко заплакал.
— Да уймите же вы его! — нервно воскликнул мужчина.
* * *
Большие серые тучи висели так низко, что казалось, задевали крыши домов. Оборванец без шапки, запыхавшись и прижав локти к корпусу, бежал по улице Сен-Пер за наемным экипажем. Консьержка мадам Баллю поспешила укрыться в подъезде, но экипаж, останавливаясь, все равно окатил ее водой из лужи.
— Вот негодяи! — проворчала она и, подбоченясь, встала со шваброй в руке у входа во двор, готовая защищать свою территорию.
Из экипажа выскочил мсье Мори и подал руку молоденькой барышне, которую консьержка никогда прежде не видела. Пошатываясь под тяжестью многочисленных шляпных коробок, вслед за ними выбрался Жозеф. Тут подоспел оборванец и подхватил огромный сундук.
— Этого еще не хватало! — возмутилась мадам Баллю. — Нечего всяким попрошайкам мне лестницу топтать! Я, между прочим, только что все до блеска вычистила, на карачках ползала, спины не жалеючи!
— Пропустите его, мадам Баллю, я разрешаю, — бросил Кэндзи Мори.
— Разрешаю, разрешаю… Да плевать мне на твое разрешение. Взяли тоже моду — шлюх у себя селить. А отвечать кто за все это безобразие будет? — крикнула консьержка ему вслед. — Да еще и ноги не вытирают! — набросилась она на Жозефа, который помчался вверх по лестнице, перепрыгивая через две ступени.
— Мсье Легри, они приехали, — объявил он, врываясь в книжную лавку. — Между нами говоря, барышня… Она слишком молоденькая для… ну, вы меня понимаете. А она здесь надолго поселится?
— Не знаю, Жозеф. По-моему, вы суете нос не в свое дело.
— Ну, конечно! Сами все везде вынюхиваете, а потом на меня же и сваливаете.
— Вы несправедливы, Жозеф. Извините, мне пора, меня ждут.
Отец с дочерью пили на кухне чай. В отличие от Кэндзи, который ощущал некоторую неловкость, Айрис выглядела вполне довольной.
— Мсье Легри, как это мило с вашей стороны уступить мне свою квартиру! Наконец-то я узнаю, как живет мой крестный. — Она хихикнула. — Конечно, люди будут болтать… Ну, да мне плевать на эти пересуды. Я так счастлива!
— Устраивайтесь, мадемуазель, — сказал ей Виктор, — а мне пора собираться.
Он бросил на стеганое одеяло перчатки, угольные карандаши и смятые эскизы, а потом еще раз осмотрел квартиру в поисках мелочей, которые могла забыть здесь Таша. Потом аккуратно сложил свои рубашки, жилетки, брюки и вдруг вспомнил, что в столовой на буфете остался портрет обнаженной Таша.
Он размышлял, куда бы его спрятать, когда в столовой появилась Айрис.
— Так вот вы где! А я как раз осматривала квартиру крестного. Забавное смешение стилей. Прошу вас, не надо прятать картину с голой женщиной перед зеркалом. Я ее уже видела. Это и есть ваша возлюбленная?
— Но я, право, не знаю… Ваш крестный…
— Ах, оставьте! Это ведь ваш дом, а я уже не ребенок, — Айрис прошла вслед за Виктором в его спальню. — А она красивая. Как ее зовут?
— Таша, — пробормотал Виктор.
— Чай готов, — объявил Кэндзи, появляясь в дверях.
— А кто эта женщина? — спросила Айрис, указывая на портрет Дафнэ Легри в овальной раме, который висел над кроватью Виктора. — У нее такое милое, задумчивое лицо.
— Это моя покойная матушка, — ответил Виктор, а Кэндзи опрометью бросился на свою половину, сорвал со стены фотографию Дафнэ с маленьким Виктором и спрятал ее в окованный железом сундук, что стоял в изножье его кровати.
Подперев подбородок рукой, Жозеф с серьезным видом рассматривал картины в рамах, сваленные вдоль стен мастерской.
— У мадемуазель Таша заметен прогресс, и серьезный. Когда я стану известным писателем, пожалуй, буду заказывать ей иллюстрации к своим романам, — размышлял он вслух. — Интересно, что это задумал мсье Легри? Бросил чемодан на кровать и умчался куда-то, сказав, что сейчас вернется.
Он отодвинул от очага пальму в кадке, которую подарил Таша прошлой весной. Деревце сильно подросло. Если так пойдет и дальше, скоро пальма дотянется до потолка.
— А вот и он, легок на помине, — проворчал Жозеф, заслышав скрип ключа в замке.
Виктор молча рухнул на стул и развернул номер «Пасс-парту».
— Что нового пишут? — поинтересовался Жозеф, заглядывая ему через плечо.
Заголовок гласил:
ЕЩЕ ОДНА ЖЕРТВА
Ноэми Жерфлер найдена задушенной в своей квартире…
Автор статьи Вирус приводил биографию певицы: она начинала с довольно скромных выступлений в Лионе, затем снискала успех в Лондоне и Брайтоне. Вернувшись в Париж в год Всемирной выставки, произвела фурор на сцене «Эльдорадо».
Театральный мир постигла тяжелая утрата: сегодня на рассвете Ноэми Жерфлер нашли задушенной в собственной гостиной. Ее тело было усыпано лепестками красных роз, а на груди лежала изготовленная в Англии туфелька с клеймом «Диккенс и Джоунс, Риджент-стрит, Лондон». Любопытно, что по размеру туфелька покойнице не подходит…
— Черт! Так ведь туфельку той же фирмы принес нам тогда этот сумасшедший! — воскликнул Жозеф.
Виктор с раздражением свернул газету, но тут же взял себя в руки и спокойно посмотрел на юношу.
— Скажите-ка, Жозеф, когда мы с вами в последний раз вместе вели расследование?
— А вы что, снова ввязались в какое-то дело?
— И да, и нет… Дело в том, что это я предложил мсье Мори перевести свою… мадемуазель Айрис на улицу Сен-Пер. Из соображений безопасности.
— А что произошло?
— Пропала одна из ее подруг по пансиону. Именно та, которой мадемуазель Айрис одолжила свои красные туфельки. Подруге они были чуть велики, поэтому…
Жозеф хлопнул себя по лбу.
— А! Кажется, я начинаю понимать! Значит, ее и нашли убитой на перекрестке Экразе! И это как-то связано с убийством Ноэми Жерфлер, да?
— Пока еще рано что-либо утверждать. Расследование привело меня в «Мулен-Руж», где работал возлюбленный Элизы. Но там меня увидела мадемуазель Таша. Вам хорошо известно, ей не нравится, когда я занимаюсь расследованиями преступлений, поэтому пришлось сказать, что я пришел туда за вами, чтобы вы не наделали глупостей, встретившись с…
— И с кем же я должен был там встретиться? — возмущенно посмотрел на патрона Жозеф.
— С Бони де Пон-Жюбером.
— Ах, вот оно как! И что я, по-вашему, делал в «Мулен-Руж»?
— Собирались вызвать его на дуэль.
— Да уж, фантазии вам не занимать! Мне моя жизнь еще дорога! И вы хотите, чтобы я все это подтвердил? А что мне за это будет?
— Станете мне помогать.
— Обещаете?
— Слово чести!
Жозеф ушел, а Виктор принялся разглядывать найденную в гримерке Ноэми Жерфлер карточку с надписью: «В память о Лионе…».
Именно там она дебютировала. А что сказано в записке из шкафчика Гастона Молина?
Шарманса у маей тетки.
Абирто, на лево, во дваре манон, зал петриер.
Ул. Л., прв. 1211
Ничего не разобрать, кроме упоминания про богадельню Сальпетриер.
— Двор Манон, — пробормотал Виктор, подходя к окну и разглядывая пыльную витрину парикмахерской по ту сторону двора. — Надо будет завтра же заняться обустройством мастерской, чтобы к Рождеству можно было переехать.
Глава восьмая
19 ноября, четверг
Кэндзи сосредоточенно раскладывал на столе каталожные карточки. Внезапный порыв ветра смешал их. В открывшуюся дверь лавки ворвался вихрь перьев, цветов и украшений, оказавшийся при ближайшем рассмотрении эффектной брюнеткой.
— Мсье Мори… Вы меня узнаете?
Кэндзи не сразу вспомнил, почему ему показались знакомыми черные глаза и чувственный рот посетительницы.
— Мадемуазель… Мадемуазель Аллар? — пробормотал он, запинаясь. — Вы… вы очень похорошели!
— Зовите меня просто Эдокси. Спасибо за комплимент. Надеюсь, он был искренним.
— Да-да… н-несомненно, я… Присаживайтесь…
Его смущение позабавило Эдокси, а когда он предложил ей сесть, она прошла к стулу так близко от Кэндзи, что он почувствовал ее дыхание. Он дрожащими руками начал собирать со стола карточки.
— Я пришла повидаться с мсье Легри. Он здесь?
— Он проявляет фотографии у себя в лаборатории. Сейчас я его позову.
Эдокси схватила первый попавшийся каталог и притворилась, что внимательно изучает его. Через несколько минут в лавку из подвала поднялся Виктор, и она с хохотом сбросила маску.
— Ну и выражение лица у вас, мой милый! Ваш компаньон оказался куда более галантен, он мне хотя бы сесть предложил.
— Вы застали меня врасплох. Даже не знаю, какие из книг могли бы заинтересовать вас…
— Я пришла вовсе не за книгами. Уделите мне несколько минут, — Эдокси говорила нарочито громко, чтобы вернувшийся за свой стол Кэндзи тоже слышал. Она насмешливо улыбнулась и дотронулась затянутой в перчатку рукой до щеки Виктора. — Дружочек, я пришла вам помочь, а вы смотрите букой! Помнится, позавчера вы были гораздо любезнее. Я принесла вам новости о Гастоне Молина, но раз вы не хотите разговаривать… О! Вот вы уже и смотрите по-другому! Таким вы мне нравитесь гораздо больше. Что посоветуете, мсье Мори, стоит ли мне рассказать новости этому грубияну?
— Понятия не имею, на что вы намекаете, — проворчал Кэндзи.
— Вот, оказывается, как легко ошибиться. Я готова была поклясться, что у вас нет секретов друг от друга. Неужели Виктор не рассказал вам о затруднении, постигшем дочь одного из его клиентов? А что это у вас за шум там, наверху? Вы переезжаете?
Кэндзи живо поднял голову. На втором этаже хозяйничала Айрис. На Виктора вдруг напал жестокий приступ кашля.
— Вы не простудились? — участливо поинтересовалась Эдокси. — У нас в «Мулен-Руж», когда мы в канкане ноги задираем, такой сквозняк поднимается!.. Грий д'Эгу уверяет, что эта гнилая атмосфера вызывает у мужчин воспаление мозга. Бедняжка Гастон, возможно, именно это и привело к его безвременной кончине.
— Он умер? — не выдержал Виктор.
— Сыграл в ящик. Какой-то злой шутник приколол ему пурпурную ленточку аккурат под ложечку, видать, в награду за какую-то услугу. Жозетту вызывали в морг, и она опознала своего любовника. Сначала лила крокодиловы слезы, а потом костерила его на чем свет стоит. Она, бедняжка, лишилась сразу и поддержки, и своих скромных сбережений. Зато можете радоваться: дочке вашего клиента теперь ничто не угрожает. Да, кстати, она уже вернулась в лоно семьи?
Эдокси подхватила со стола промокашку и принялась небрежно ею обмахиваться. Виктор повел рукой в воздухе.
— Я благодарен вам за то, что вы мне все это рассказали, и обязательно передам информацию моему клиенту, — пробормотал он.
— Не трудитесь! — хмыкнула она. — Не родился еще человек, способный обвести Фифи Ба-Рен вокруг пальца. Руку даю на отсечение, здесь дело не в разбитом сердце. Ну же, рассказывайте, вы взялись за очередное расследование?
— Вам не руку, а язык надо отсечь, — прошептал Виктор и выразительно покосился на Кэндзи, который не поднимал глаз от своих карточек.
— А-а, понимаю, — Эдокси тоже перешла на шепот, — вы от него что-то скрываете. Хорошо, тогда я умолкаю, но с вас — приглашение на ужин.
— Мне показалось, — ответил ей Виктор вполголоса, — или вас с мсье Дольбрезом действительно связывают особые отношения?
— Вас это смущает, мой милый? Луи хороший мальчик, но законченный эгоист. Может часами нудеть о том, что он сделал, делает и собирается делать, без конца повторяя, как он талантлив. Это так скучно!
— Хочу сразу вас предупредить, я больше не…
— Тс-с! Никогда не зарекайтесь… Вот вам моя карточка… Кто знает, может, я смогу помочь вам выручить из беды еще какую-нибудь молоденькую дурочку…
Виктор взял протянутую визитку:
Эдокси Аллар
улица д'Алжер,
16 Париж, Первый округ
Он поцеловал посетительнице руку и, не дожидаясь, пока она уйдет, направился обратно в подвал.
— Нет, мсье Мори, определенно, мужчины — загадочные существа, — заявила Эдокси. — Сначала они молят вас об услуге, а когда вы помогли им, гонят взашей. Бьюсь об заклад, в вашей лавке полно романов, где описывается женское непостоянство. Но как, скажите на милость, быть с непостоянством мужским?
— Мужчина любит ту женщину, которая еще не полюбила его.
— Правда? Было бы любопытно на деле проверить, так ли это, но, увы, я тороплюсь. Вот, держите контрамарку. Если вы еще не успели побывать в «Мулен-Руж», это прекрасный повод прийти и поведать мне о тонкостях отношений между мужчиной и женщиной на Востоке. И не забудьте одеться потеплей, не хочу, чтобы вы там простудились!
Как только она вышла из лавки, перед ней возник Виктор.
— О господи! — вздрогнула от неожиданности она. — Вы выскочили, словно черт из табакерки!
— Простите, Эдокси, я был не слишком любезен с вами.
— «Не слишком любезен»? Это теперь так называется?
— Я не хотел говорить в присутствии компаньона. Полиция уже начала расследование убийства Гастона Молина?
— По правде говоря, «Мулен-Руж» удостоился визита нашего милого инспектора Лекашера. Хорошо еще, что он меня не узнал, не то я наверняка стала бы подозреваемой номер один, — у него остались весьма неприятные воспоминания о «Пасс-парту».
— А вы случайно не слышали, он упоминал мое имя?
— Ну, вы еще не настолько знамениты! Не волнуйтесь, ни Люсьена, ни Жозетта не смогли описать красивого брюнета, который разыскивал Гастона. Однако, если допросы продолжатся, полиция может добраться до Альсида, Луи и меня, и…
— Запомните: очень важно, чтобы мое имя нигде не упоминалось, — Виктор сжал собеседнице локоть.
— Злодей! Мне же больно! Когда даму просят о такого рода услуге, принято соблюдать приличия и проявлять деликатность. — Она высвободила руку, притворяясь сердитой.
— Я вам сейчас все объясню… — начал было Виктор и тут же отвернулся, делая вид, что достает из кармана портсигар: Жозеф, доставив заказанные книги, как раз заходил в лавку, что-то насвистывая себе под нос.
— Странные у вас манеры, Виктор. Наверное, такие нравятся исключительно рыжеволосым дамам… Ну же, не будем ссориться. Я сделаю все возможное, чтобы ваше имя никто не упомянул. И ради вас готова хранить молчание даже под пыткой, неблагодарный вы мой!
Вернувшись в лавку, Виктор увидел Жозефа, который тщетно пытался перевязать стопку книг бечевкой. Сверху доносились приглушенные голоса Кэндзи и Айрис.
— Что, еще один заказ с доставкой на дом? — спросил юношу Виктор.
— Да уж, вот напасть на мою голову! Полное собрание сочинений Зинаиды Флерио
[78] для некоей Саломеи де Флавиньоль, кузины мадам Матильды. А живет она аж в Пасси. Просто наказание какое-то! — ворчал Жожо, затягивая узел на бечевке.
Виктор помог ему, придержав узел пальцем.
— Спасибо!
Скажите, а вы знаете, кто такой был Диоген?
— Греческий философ-аскет, который жил в бочке. А что?
— Мсье Гувье окрестил так в своей статье типа, тело которого нашли в бочке на винном рынке, хотя на самом деле полиция установила его личность. Рассказывать дальше? Вам интересно?
— Продолжайте.
— Я собираюсь сделать его персонажем моего романа. Это был мелкий жулик по имени Гастон Молина. Имя я, конечно, изменю, скажем, на…
— Блестящая мысль! — Виктор был уже у дверей.
— Ну и поделом мне. Ему, оказывается, плевать! Ну, ничего, поглядим, что он скажет, когда я стану знаменитым писателем! — проворчал Жозеф вслед хозяину, справившись, наконец, со строптивой пачкой книг.
Сунув газету под мышку, Виктор мерил шагами тротуар на улице Сен-Пер. Прочитанное никак не шло у него из головы. Исидор Гувье писал об обнаруженном на винном рынке трупе мужчины, который несколько дней пролежал в бочке. Имя Гастона Молина было отлично известно полиции. Он родился в 1865 году в городке Сен-Симфорьен-д'Озон в семье ткача и прачки, в начале 1891 года попался на краже в Лионе, и его приговорили к шести месяцам тюрьмы. Если бы тогда удалось доказать его причастность к серии дерзких ограблений, совершенных неподалеку от Сент-Этьена тремя годами раньше, то таким маленьким сроком Молина точно не отделался бы. Его спасло то, что единственный свидетель, который мог бы его опознать, любил приврать, да к тому же был не чужд культу Бахуса, так что его показаниям судьи не поверили.
«Как распутать этот клубок? — размышлял Виктор. — Молина соблазнил Элизу, дочку Ноэми Жерфлер. Но зачем ему было убивать всех остальных?» Он еще раз перечитал подобранную в гримерке певицы записку. Его не оставляло ощущение, что разгадка где-то рядом.
Шлю эти рубиновые розы золотой девочке, баронессе де Сен-Меслен, в память о Лионе и былых моментах счастья.
А. Прево
В очередной раз проходя мимо лавки, Виктор увидел, как Жозеф приоткрыл дверь и вывесил объявление: «Перерыв до 14:30», и вспомнил, что собирался пообедать с Таша.
В эльзасском ресторанчике на бульваре Клиши Виктор купил две порции жареной свинины с кислой капустой и бутылку белого вина. Он мчался к Таша, подняв воротник сюртука, чтобы хоть как-то защититься от пронизывающего холода, и насвистывая себе под нос популярную песенку. Однако в мастерской его ждал сюрприз: Таша была не одна. Рядом с ней у очага удобно расположился Луи Дольбрез. Этот тип ее просто преследует!
— О, да вы поесть принесли! Как вовремя! У меня уже в животе урчит, — ничуть не смутился Дольбрез.
— Простите, но мы собирались пообедать вдвоем… — начал было Виктор.
— Ну-ка, покажите. Да что вы! Здесь вполне хватит на троих! Видите ли, должен признаться, я сейчас на мели. Знаете, чем я питаюсь вот уже неделю? Листьями шпината, которыми меня любезно подкармливает моя квартирная хозяйка. Заметьте, даже без сметаны — это было бы для меня непозволительной роскошью, — а шпинат горький, как полынь.
— Все вы врете, — рассмеялась Таша. — Ну, хорошо, возьмите в шкафу тарелку, положите себе капусты и садитесь на кровать. Только смотрите, ешьте поаккуратнее, не насвинячьте там!
— Что он здесь забыл? — возмущенно шепнул ей на ухо Виктор. Он был уверен, что она прогонит Дольбреза.
— Он взял мой адрес у Сали и вчера пришел посмотреть картины. Очень хвалил мой стиль. И вообще, знакомство с ним может пригодиться — у него широкие связи в театральных кругах. А еще он мне посоветовал попробовать писать декорации, вот я и предложила зайти сегодня. Хочу сделать набросок к его портрету.
Виктор чуть не подавился.
— Имей в виду, за портрет он тебе точно не заплатит, — только и сумел вымолвить он, когда вновь обрел дар речи.
— Ну и что, мне же нужны натурщики, — беззаботно ответила Таша.
— Может, ты к нему неравнодушна?
— Прошу тебя, Виктор, успокойся. Вечно ты придумываешь невесть что!
— Эй, мсье Легри, вы уже читали, что пишут в газетах? — обратился к Виктору Дольбрез. — Гастон Молина, которого вы разыскивали, дал дуба, его труп выловили из винной бочки. Забавное совпадение, вы не находите?
— Гастон Молина… Не о нем ли вы говорили тогда в «Ша-Нуар»? — нахмурилась Таша. — Что-то ты темнишь, Виктор.
Это было уже слишком. Терзаясь ревностью и опасаясь града вопросов, Виктор отставил тарелку, схватил шляпу и промямлил, что ему пора. Таша удивленно посмотрела на него.
— Как! Вы даже капусту не доедите? — с издевкой спросил Дольбрез.
В ответ лишь хлопнула дверь.
Виктор отправился в кафе и заказал грог с лимоном, полный решимости выкинуть из головы Таша и мужчин, что так и вьются вокруг нее. Он взял с полки первую попавшуюся газету — это оказался специальный выпуск «Пасс-парту».
На первой полосе напечатали продолжение статьи об убийстве певицы Жерфлер, где в подробностях описывалось место преступления. Рядом с телом несчастной певицы нашли красную туфельку и два загадочных послания, которые, по всей видимости, должны навести полицию на след.
Виктор так увлекся этой новой загадкой, что тут же забыл про испорченный обед и решил немедленно отправиться на улицу Гранж-Бательер.
Бросив взгляд на бюст Эмиля де Жирардена на углу улиц Монмартр и Круассан, Виктор остановился. Тротуар загромождали кипы свежеотпечатанных газет, завернутые в плотную желтую бумагу, на которой большими буквами значилось их название. Сюда же привозили в разбитых двухколесных тележках и сваливали нераспроданные тиражи.
Виктор вошел в здание с табличкой «Пасс-парту». Он стремительно миновал наборный цех и вошел в редакцию.
— Мы опаздываем, — ворчал верстальщик.
На полу валялись газеты, обреченные пойти под нож. Разносчики телеграмм бегали с этажа на этаж. В штате «Пасс-парту» числилось двадцать человек, но лишь пятеро из них были журналистами.
Виктор попросил секретаршу, женщину с кроличьим лицом, познакомить его с репортером, подписывающим свои статьи псевдонимом Вирус, и она проводила его в кабинет директора. При одном взгляде на безукоризненно сидящий английский костюм, лакированные ботинки и виртуозно повязанный галстук Антонена Клюзеля становилось понятно, почему его прозвали «наш Брюммель».
[79] Он диктовал пухленькой блондинке-стенографистке очередную статью.
— Друг мой! Вот так сюрприз! — воскликнул он, вскакивая навстречу Виктору. — Оставьте нас, Евлания.
— Так это вы скрываетесь под псевдонимом Вирус?
— Увы, все приходится делать самому! Не то чтобы Гувье и остальные плохо писали, но я заметил, что читателям очень полюбились ироничные статьи на основе материалов, которые поставляет инспектор Лекашер. Сигару?
— Нет, спасибо, я лучше пойду куплю газету, почитаю ваш материал. А что вы имели в виду, упомянув про Лекашера? Вам сообщили подробности убийства Ноэми Жерфлер?
Клюзель широко улыбнулся. Он наполнил две рюмки коньяком и одну из них протянул Виктору.
— Решили начать новое расследование, а? Я отлично помню вашу маленькую слабость. Садитесь в мое кресло, оно очень удобное, — сказал он, сдвигая в сторону телефон и бумаги и пристраиваясь на краешке стола. — Это дело получило большой резонанс! С восемьдесят шестого по восемьдесят девятый Жерфлер блистала на сцене лондонских театров, а по возвращении на родину каждый вечер собирала полный зал в «Эльдорадо». Такая потеря!
— А почему бы вам не опубликовать содержание записок, найденных рядом с телом?
— Я вижу вас насквозь, друг мой! Вы пытаетесь ловить рыбку в мутной воде. Но здесь вам ничего не светит. «Молчание — золото» — вот мой девиз. Информацию следует выдавать маленькими порциями, а иначе читателю станет скучно. Два волшебных слова заставляют его изо дня в день покупать нашу газету: «Продолжение следует…».
— Ну скажите хотя бы, есть ли в этих записках что-нибудь стоящее?
Клюзель закурил сигару и ухмыльнулся:
— Кто знает. Стоит расследованию зайти в тупик, как наш славный инспектор напускает на себя таинственный вид. Содержание этих записок пока известно только полиции, мне да еще моим коллегам, но скоро станет достоянием наших читателей. А вы хитрец: слушаете, как я тут соловьем разливаюсь, а сами отмалчиваетесь… Как вам Фифи Ба-Рен? Только не надо краснеть, словно протестантский пастор! Вы уже видели, что за вакханалии она устраивает? Нет? Тогда мой вам совет: сходите туда и посмотрите канкан. Наша милая Эдокси божественна. Не удивлюсь, если она скоро выскочит замуж за какого-нибудь русского князя.
Виктор понял, что больше ему ничего не выведать, попрощался и вышел.
— Моя статья обязательно должна пойти в сегодняшний номер! — услышал он в коридоре.
— Нет, она весь разворот займет, — твердо отвечал хорошо знакомый Виктору голос.
— Ну, так выкиньте материал о снабжении армии.
— Вам что, непонятно? Сократите свою писанину. Было бы из-за чего скандал устраивать. Нам нужны мысли! Неизбитые, свежие…
Виктор направился к оживленно жестикулировавшему толстяку, чья фигура виднелась в дальнем конце коридора.
— Здравствуйте, мсье Гувье.
— А, мсье Легри! Вы зашли не вовремя — мы опаздываем с номером. А тут еще эти юные гении истерики закатывают, стоит сократить хоть полслова… Как же я от всего этого устал! Но все равно рад вас видеть. Что привело вас к нам?
— Мне нужна ваша помощь.
— А как ваш детективный рассказ? Неужели еще не дописали, ведь столько времени прошло.
— Я довожу его до совершенства в лучших традициях школы Флобера. Но речь не о нем. Меня интересует убийство певицы Ноэми Жерфлер.
— И вы рассчитываете выпытать что-нибудь у меня? Единственное, что я могу вам сказать: Лекашер напал на след.
— Вот как?
— Нет, нет и нет, мсье Легри, больше вам ничего из меня не вытянуть! Я не хочу, чтобы вы ввязались в очередную переделку.
— Сжальтесь, Гувье! Вы же прекрасно знаете мою страсть распутывать загадки.
— Утро вечера мудренее. Дождитесь завтрашнего выпуска «Пасс-парту».
— Да что я успею до завтра сделать? Я же вам не Шерлок Холмс.
— А кто это?
— Персонаж одного романа.
— Повторяю, от меня вы ничего не узнаете.
— Исидор, ну пожалуйста, мы ведь с вами старые друзья. Скажите, что поведал ваш источник в полиции?
— Ну ладно, так и быть, — сдался Гувье, — но при условии, что вы не станете болтать до поступления в продажу свежего номера газеты. Строго между нами. И ни слова нашему Брюммелю, — добавил он, кивая в сторону кабинета Клюзеля. — Певичку, по всей видимости, придушили медицинским бинтом. Аристид Лекашер уцепился за эту ниточку.
— И что?
— Как что? Это же элементарно! Если в качестве орудия убийства послужил медицинский бинт, значит, убийца либо врач, либо аптекарь.
— Но зачем ему было оставлять такую явную улику?
— Не все преступники гении.
— И это все?
— Ну и хватка у вас! Нет, не все. Рядом с трупом нашли туфельку английского производства, и поскольку самой Жерфлер она не по ноге, Лекашер твердо намерен отрядить двух ищеек вынюхивать все про ее жизнь в туманном Альбионе. А еще…
— Что еще?
— Там было две любовных записки.
Исидор Гувье порылся в карманах и извлек оттуда измятые листки бумаги.
— Я их переписал, смотрите, вот первая:
«Моя милая царица в Приюте, как самое презренное из всех созданий!». А вот вторая:
«И разделась моя госпожа догола; Все сняла, не сняла лишь своих украшений».
[80] Обе записки подписаны
«А. Прево». Бьюсь об заклад, этот тупица-инспектор будет допрашивать всех Анатолей, Альфонсов, Александров и Ансельмов Прево, что работают в приютах, больницах и богадельнях по всей Франции и Наварре! И это, разумеется, ничего не даст, поскольку «А. Прево» явно псевдоним. Знаете, что я думаю, мсье Легри? Убийца нас испытывает, он повсюду оставляет подсказки-загадки. Да он просто издевается над нами! Мы имеем дело с преступником-поэтом. Если, разумеется, он не списывает откуда-нибудь стихотворные строки. Вот вы человек начитанный, вам это о чем-нибудь говорит?
— Признаться, нет, — вздохнул Виктор, решив скрыть тот факт, что видит подпись «А. Прево» не впервые.
Его охватило волнение. Вот уже в который раз он опережает в своем расследовании не только журналистов, но и полицию. Ведь даже ушлый Исидор Гувье еще не знает, что у Ноэми Жерфлер была дочь.
Жозеф клевал носом над раскрытым блокнотом.
— А! Это всего лишь вы, — сонно проворчал он, когда Виктор вошел в магазин.
— У вас усталый вид, Жожо, — заметил тот.
— Оно и неудивительно: за день — два заказа с доставкой, да еще, в довершение всех несчастий, мадам Рафаэль де Гувелин битый час не отпускала меня, рассказывала о несчастном случае в Бюлье.
— А что там приключилось?
— Столкновение. Мадам де Флавиньоль наехала на Хельгу Беккер. Они испробовали свои велосипеды. В результате фройляйн отделалась растяжением связок, а мадам де Флавиньоль вывихнула лодыжку. И теперь обе дамы просят вас немедленно прислать какие-нибудь душещипательные романы, чтобы им веселей было выздоравливать.
— А где Кэндзи?
— У себя наверху. Сюда он почти не спускается — некая особа требует его безраздельного внимания.
— Думаю, Хельге Беккер должны понравиться «Рассказы с берегов Рейна» Эркмана-Шатриана… — сказал Виктор. — А вот Матильде де Флавиньоль, мне кажется, придется по вкусу «Путешествие вокруг моей комнаты» Ксавье де Местра или «Ни завтра, ни потом» Вивана Денона. Хотя, боюсь, она может усмотреть связь между этими названиями и своей велосипедной эпопеей и еще, чего доброго, обидится. Кстати, вы оказались правы, гибель Ноэми Жерфлер и убийство на перекрестке Экразе — это действительно звенья одной цепи, — вскользь обронил Виктор.
Глаза у Жозефа загорелись.
— Да бросьте. Это вы мне зубы заговариваете в надежде, что я не скажу мадемуазель Таша о ваших похождениях в «Мулен-Руж».
— Вы неправильно меня поняли! Я с вами откровенен и в доказательство сейчас расскажу, что мне удалось узнать. Вы ведь все равно от меня не отстанете.
— Вы же сами позавчера обещали, даже честное слово давали, что возьмете меня в помощники! — с обидой напомнил Жозеф.
— Но вам придется хранить абсолютное молчание — ради безопасности мадемуазель Айрис.
Жозеф мгновенно сбросил с себя всю сонливость, соскочил с табурета и стал по стойке «смирно», разве что каблуками не щелкнул.
— Можете на меня положиться! — отрапортовал он. — Африканская пословица гласит: «Лев охотится молча», — и этим все сказано. Я весь внимание!
* * *
С клетки взлетела стайка воробьев — их спугнуло глухое ворчание. И тут же эхом отозвались сначала два, потом три, а потом и остальные хищники. Уперев руки в боки, Базиль Попеш довольно оглядел своих сыто рычащих подопечных.
— Непросто вам с ними, — проговорила худенькая женщина-скульптор. Голосок у нее был под стать фигуре — тоненький и писклявый. Она оставила попытки слепить из глины ястреба и переключилась теперь на льва Тиберия.
— Не бойтесь, мадам, львы, когда они сытые, совсем не опасны. Только мы с вами после еды пропускаем стаканчик, а они просто от души радуются.
— Да, вы правы. Кажется, все посетители уже разошлись. Мне тоже пора собираться. До свидания!
Художники складывали свои мольберты и шли к выходу вместе с теми немногочисленными посетителями, что не побоялись промозглой погоды и пришли погулять в Ботанический сад. Зажигались фонари. Оставшись один, Базиль Попеш с гордостью окинул взором свои владения. Он очень любил это время, когда сад уже закрыт, но рабочий день еще не закончился: можно было вообразить себя первым после Бога на этом ковчеге в самом сердце столицы. Смотритель шел вдоль клеток, приветствуя массивного Тиберия, красавицу Клеопатру, грациозную Мерседес с двумя львятами, Кастором и Поллуксом, старого Немея. У клетки молодого самца Сципиона он остановился:
— Кто это у нас тут мечется и рычит, будто голоден? Я еще не совсем из ума выжил и точно помню, что кидал тебе кусок мяса.
Лев был явно не в духе. Он кругами ходил по клетке и нервно бил себя хвостом по бокам.
— Что, хочешь сказать, не наелся, горе мое? Да ладно тебе придумывать. Хм… странно.
Базиль Попеш вошел в коридор, ведущий к клеткам, остановился возле дверцы с надписью «Сципион» и задумался. Действовать предстояло быстро: зайти в клетку, выяснить, в чем дело, и, в случае необходимости, бежать за помощью. Он достал из кармана связку ключей, тихонько открыл дверцу и вошел. Недовольный Сципион остановился в дальнем углу клетки и стал вылизывать себе бок. Базиль Попеш заметил, как там что-то блеснуло. Любопытство подтолкнуло его вперед.
— Это что еще за… Похоже на… нет, не может быть! Неужели и впрямь дротик?! Кто же тебя так, бедняга?
Раздался сухой щелчок. Смотритель обернулся: дверца захлопнулась. Ключи остались снаружи. Стараясь не поддаваться панике, старик подергал дверцу изнутри. Она не поддавалась. Хищник зарычал. Базиль медленно развернулся к нему лицом. Главное — не показывать, что испугался.
— Ты мой хороший. Успокойся. Вот так. Хороший. Иди сюда. Тихонечко. Молодец…
Сципион лег на пол и снова принялся нервно вылизывать бок, но тут поблизости раздался какой-то шорох, и лев резко вскинул голову. Он лежал неподвижно и шевелил ушами в попытках уловить источник звука. Со стороны сада кто-то шел. Базиль Попеш прижался к дверце. Он тоже слышал приглушенные шаги. Если закричать, то лев может броситься на него. Базиль бросился к внешней решетке.
— На помощь! — позвал он громким шепотом. — Выпустите меня!
Тут он узнал появившегося из темноты человека, и от ужаса кровь застыла у него в жилах. Дворник резко поднял и опустил руку. Сципион снова зарычал от боли — в его шкуру вонзился еще один дротик, — и подобрался, готовясь к прыжку. Базиль Попеш сжался в комок и взвыл.
* * *
Стопка книг упала на пол. Ругаясь на чем свет стоит, Жозеф собрал их и положил на старый сундук, служивший ему столом. Огромная тень повторяла все его движения. Усевшись в колченогое кресло, он раскрыл первый сборник.
— Ты на часы смотрел, сынок? — с укоризной спросила Эфросинья Пиньо.
— Мама! Ты меня напугала! Я думал, ты уже давно спишь.
— Ну-ка, марш в постель! Как же у тебя тут холодно! Вот простудишься и не сможешь завтра пойти на работу. Дождешься, что я повыбрасываю все твои романы, чтобы ты себе глаза не портил!
— Ты забываешь, что я работаю в книжном магазине…
— И что теперь? Никто ведь не заставляет тебя читать все, что ты продаешь.
— Но как иначе я смогу рекомендовать книги покупателям?
— Им достаточно прочитать название — лично я всегда так делаю. Вот, например, смотри, «Любовные приключения Оливье» — это подходит, а «Бесчестье господина Роже»
[81] — нет.
— Мама, ты несешь чушь.
— Не смей так со мной разговаривать. И отправляйся в постель, я тебе туда уже грелку положила.
Жозеф с неохотой повиновался. Раздеваясь, он повторял начало записки, о которой ему рассказал Виктор:
— «И разделась моя госпожа догола… разделась догола…»
Мадам Пиньо уже легла, но, заслышав эти слова, так и села в кровати:
— Да он, оказывается, похабные книжонки читает! — проворчала она. — Ох, грехи мои тяжкие!
Глава девятая
20 ноября, пятница
Дурло сидел между Мели Пекфан и черненькой Нини Морикод. Ему было скучно, и он недоумевал, почему хозяин так долго стоит на одном месте. Пес встал, встряхнулся, клацнул зубами в сторону самого наглого голубя и решил сбегать на площадь Валюбер.
— Пресвятая дева, да куда же запропастился этот Базиль? — ворчал Грегуар Мерсье, глядя на миску, предназначенную для молока Пульхерии. — Эй, Дурло, а ну, сиди смирно, негодный пес! Совсем разбаловался, так и норовит удрать, вместо того чтобы коз сторожить. — Мсье! Эй, мсье! — закричал он, подбегая к решетке Ботанического сада, за которой показался садовник. Я Базиля Попеша ищу, вы его часом не видали?
— Попеша? Это того, что из зверинца? Так на него вчера ночью лев набросился, сильно помял беднягу, его в Питье увезли.
— О боже… Бедный Базиль, какой ужас! Как вы думаете, он поправится?
— Вот уж чего не знаю, того не знаю, — проговорил садовник и пошел дальше.
— Что же мне теперь делать? Ведь кроме меня у него нет родни…
Грегуар Мерсье сунул миску в мешок и свистнул собаку. Неугомонный Дурло стал носиться по кругу, высунув язык.
— Ах ты, старый непоседа! Сядешь ты, в конце концов, спокойно или нет? Тебе бы все играть, хуже маленькой Перванш, право слово. А ведь по возрасту тебе скорей с Мемер надо пример брать, она хотя бы ведет себя солидно. Идем, и чтобы у меня без глупостей!
Никогда еще стадо коз не преодолевало улицу Бюффона за столь краткое время. Оттуда Грегуар и его подопечные свернули на улицу Жоффруа-Сент-Илера и шли в сторону Питье вплоть до улицы Ласепед, на которую выходила одна из дверей больницы.
— Смотри у меня, Дурло, будь умницей. Доверяю тебе наших девочек, гляди за ними в оба. Я скоро вернусь и, если будешь хорошо сторожить, получишь что-нибудь вкусненькое.
Снедаемый беспокойством, Грегуар Мерсье некоторое время топтался перед входом в больницу, прежде чем набрался смелости войти внутрь. Какой-то студент-медик подсказал ему, где искать Базиля Попеша. Поплутав некоторое время среди помещений, в которых резко пахло карболкой, старик наконец попал в палату с видом на Ботанический сад, где на одной из коек, весь в бинтах, лежал его родственник. Врач только что закончил его осматривать и собирался уходить.
— Только недолго, — сказал он шепотом Мерсье, — его жизнь все еще на волоске.
Грегуар снял шляпу и, теребя ее в руках, робко приблизился.
— Базиль, как ты?
* * *
— Чьи же это стихи? Кто автор? Я точно где-то читал это…
С утра в лавку заглянуло лишь несколько покупателей. Виктор быстро спровадил их и теперь задумчиво ходил из угла в угол. Он был настолько погружен в свои мысли, что совершенно позабыл о присутствии Жозефа. Виктор всю ночь промучился, пытаясь вспомнить автора таинственных строк. Вчера они еще представляли из себя какой-то козырь, но сегодня в продажу поступил свежий номер «Пасс-парту», и теперь ни о каком преимуществе не могло быть и речи. Виктора злило, что он не сумел разгадать загадку.
— «И разделась моя госпожа догола…»
Жозеф, который пролистывал десятитомник «Мемуаров» Казановы, шумно высморкался.
— Я уже книг пятьдесят просмотрел! До зари сидел. Дождался, пока матушка уснет, а потом встал и всю ночь рылся на книжных полках — а они у меня от пола до потолка. Ничего не нашел, только насморк подхватил.
— Да тихо вы! Не мешайте сосредоточиться. «И разделась моя госпожа догола, все сняла, не сняла лишь своих украшений…»
— «Одалиской на вид мавританской была, и не мог избежать я таких искушений», — раздалось сверху.
— Кэндзи! Вы знаете, кто это написал?
— Это что, новая викторина? И каков приз? — спросил Кэндзи, спускаясь с невозмутимым видом.
Он уселся за стол и принялся как ни в чем не бывало раскладывать карточки. Жозеф не сводил с него восхищенного взгляда.
— Ну и голова у вас, мсье Мори!
— Ну же, кто автор? — не выдержал Виктор.
— Бодлер, «Цветы зла». Не понимаю, как вы сами до этого не додумались. Стихотворение называется «Украшенья» и вошло не во все сборники. Оно попало в список произведений, осужденных в 1857 году цензурой, и появилось только в полулегальном издании «Обломки» 1866 года.
— А вот это откуда: «Моя милая царица в Приюте, как самое презренное из всех созданий»? — прочитал Жозеф текст первого послания.
— Увы, всего я знать не могу, — сказал Кэндзи и поспешил навстречу старику-посыльному, который вытаскивал из своей бездонной сумки книги в сафьяновых переплетах.
Жозеф отвел Виктора в сторонку, к бюсту Мольера.
— Мсье Легри, ну а вы, вы знаете, что значит «Моя милая царица в Приюте»?
— Нет, — с раздражением ответил Виктор.
— Мсье Легри, ведь преступник не хочет, чтобы его поймали, почему же он тогда оставляет на месте преступления записки с двумя строками из Бодлера и непонятным текстом, подписанные, по всей видимости, вымышленным именем?
— Не знаю. Но по всему видно, что мы имеем дело с человеком образованным…
— Может, это женщина?
— …и он явно выбрал эти строки неспроста. Во-первых, стихотворение называется «Украшенья». Во-вторых: «Все сняла, не сняла лишь своих украшений»… Минуточку! — Виктор достал подобранную в гримерке певицы карточку и прочел:
Шлю эти рубиновые розы золотой девочке, баронессе де Сен-Меслен в память о Лионе и былых моментах счастья.
А. Прево
— Скажите, Жозеф, вам тут ничего не кажется странным?
— Золотая девочка, рубиновые розы. Явная связь с украшениями. Горячо, мсье Виктор, горячо!
— Между убийством на винном рынке и гибелью Ноэми Жерфлер есть еще кое-что общее. Подумайте.
— У меня уже мозг вскипает. Сдаюсь, мсье Виктор.
— Прочитайте еще раз повнимательней: «Золотой девочке. На память о…».
— Лионе! Ноэми Жерфлер дебютировала в кафешантанах Лиона. Ага, теперь я понял. В статье мсье Гувье… — Жозеф принялся лихорадочно листать свой блокнот. — А ведь тип, которого нашли мертвым на винном рынке, ну, этот Гастон Молина, сидел в тюрьме именно в Лионе.
— Правильно! Получается, что город Лион связывает эти два убийства.
— Три… Три убийства! — горячо поправил Жозеф. — Вы забываете об Элизе, дочери Ноэми Жерфлер, а ведь сами говорили, что Гастон Молина был ее ухажером! Лично у меня больше нет сомнений: именно ее нашли мертвой на перекрестке Экразе. Дочь убили возле дома матери. Итак, что мы имеем: была какая-то афера с драгоценностями… в Лионе. Когда? Откуда нам узнать подробности? Поехать в Лион и навести там справки? Но у нас никакой зацепки…
— Не стоит горячиться, возможно, все гораздо проще, чем нам кажется. Итак, Ноэми Жерфлер родилась в 1856 году. Значит, история с драгоценностями могла случиться между… скажем, 1875-м годом — именно тогда она начала выступать в кафешантанах, — и 1886-м, когда она перебралась на другую сторону Ла-Манша.
— Вот так штука! Одиннадцать лет! Придется перерыть кучу газет, чтобы откопать подробности неприглядной истории с украшениями в Лионе. А если это была какая-нибудь мрачная семейная драма или речь шла о наследстве, мы вообще ничего не найдем. Какие-нибудь другие зацепки у вас есть?
— Нет. Хотя… я об этом уже и не думал, мне казалось, что тут вообще нет никакого смысла, но кто знает…
Виктор порылся в бумажнике, достал оттуда записку, найденную в шкафчике Гастона Молина, и протянул ее Жозефу.
— Вот, дружище, смотрите, что за тарабарщина.
Шарманса у маей тетки.
Абирто, на лево, во дваре манон, зал петриер.
Ул. Л., прв. 1211
— Я уже и так, и этак крутил этот ребус. Кроме того, что у автора послания нелады с орфографией, мне удалось понять только, что Шарманса и Абирто — это, скорее всего, какие-то фамилии, «зал петриер» означает богадельню Сальпетриер, а «ул. Л., прв. 1211» — это адрес. Осталось только понять, имеет ли все это хоть какое-то отношение к нашему расследованию. Молина должен был встретиться с неким Шарманса у своей тетки?
Жозеф окинул его насмешливым взглядом.
— Ну, вы скажете тоже, мсье Легри! Сразу видно, что вы никогда не знавали нужды. Когда я был маленький, матушка частенько ходила закладывать постельное белье к «моей тетушке» — так в народе называют ломбарды. Предположим, у Молина была назначена встреча с неким Шарманса с улицы Фран-Буржуа…
[82] Или что Шарманса работает в «казино» — это еще одно название ломбарда. Надо все хорошенько проверить, но, похоже, мы и вправду напали на верный след. Да еще как напали! Что же до нашего господина Абирто, то я сильно подозреваю, что этот типчик просто квартирует в Сальпетриер, где-нибудь слева рядом с двором, где обитает некая дама по имени Манон… его любовница?
Виктор ничего не ответил.
— Мсье!
— Я вот подумал… А если мы идем по ложному следу? Если это туманное послание, которое случайно попало ко мне в руки, не имеет ничего общего с нашими убийствами?
— А как же «зал петриер», а?
«Моя милая царица в Приюте, как самое презренное из всех созданий…». Хотя… Сальпетриер вполне можно назвать приютом, там и по сей день лечат психов, так что… Интересно, что по этому поводу думает инспектор Лекашер? Нам повезло, мы теперь знаем подробности, которые ему неизвестны.
— Будущее покажет… Хотя, возможно, Молина или тот, кто написал записку, имел в виду здание Оберто, расположенное в левом крыле приюта Сальпетриер, куда некоей Манон предписано являться, допустим, на лечение.
— Уф, вы меня совсем запутали. Надо сходить туда и все разузнать. Вдруг Абирто — это кто-нибудь из пациентов или медицинского персонала? Дальше: «ул. Л.»? Загвоздка в том, что в Париже полным-полно улиц с названиями на букву «Л». Впрочем, наша должна быть достаточно длинной, раз указан номер 1211. А вот «прв»?..
Договорить ему не удалось — на лестнице эффектно появилась Айрис. Трое мужчин не могли оторвать восхищенных взглядов от стройной девушки, облаченной в ярко-розовое шерстяное платье и новую фетровую шляпку в тон. Айрис улыбнулась Виктору и Жозефу и присоединилась к Кэндзи, который успел проводить посыльного и надеть сюртук и шляпу. Они ушли со словами:
— Мы по магазинам, к обеду нас не ждите.
Стоило им выйти, как звякнул дверной колокольчик. В лавку зашел дородный господин и снял цилиндр, обнажив совершенно лысую голову. Жозеф состроил недовольную гримасу: он был вовсе не рад увидеть герцога Фриульского, дядюшку того самого Бони де Пон-Жюбера, который разбил ему сердце, женившись на Валентине.
— Друг мой! Вы, наверное, уже догадываетесь, каким ветром меня к вам занесло. Говорят, у вас есть книга, которая может меня заинтересовать: фолиант ин-кватро в сафьяновом лимонно-желтом переплете, произведение непревзойденного Мишеля! Я хочу преподнести ее в подарок племяннику по случаю свадьбы. Скажите прямо: сколько она стоит?
Виктор достал книгу, а Жозеф ушел в подсобку. Там, среди дневников путешественников, он мог дать волю чувствам.
«Лучше иметь дело с „теткой“, то есть ломбардом, чем с этим дядюшкой, — мрачно думал он. — Когда сдаешь любимую вещь в ломбард, остается надежда ее вернуть… Ах, если бы мсье Виктор поручил мне навести справки в ломбарде, я бы им всем показал!»
Жозеф схватил метелку из перьев и отправился сметать пыль с полок с книгами за спиной у Виктора и герцога, сидевших за столом и торговавшихся из-за Монтеня.
«Да уж, дядя и племянничек друг друга стоят, — думал Жозеф. — Слушать противно, как он ноет: „Понимаете, это подарок…“. Мы здесь не ковры продаем! Я, конечно, зарабатываю недостаточно, чтобы жениться на Валентине, зато не торгуюсь, как на базаре! Да плевать я хотел на ваш гонор, аристократы паршивые!»
И он отряхнул метелку перед самым носом у герцога. Тот возмущенно взглянул на него, и Виктор нахмурился, делая Жозефу знак удалиться.
Появление почтальона разрядило обстановку. Виктор расписался в получении и положил бандероль на стойку. Герцог Фриульский выписал чек и хмуро откланялся. Виктор дождался, пока он выйдет, и принялся довольно потирать руки:
— Кэндзи будет доволен. Монтеня надо сегодня же доставить в Отей к Бони де Пон-Жюберу.
Жозеф побледнел и застыл столбом.
— Я туда не поеду! Вы прекрасно знаете, почему.
— Хорошо, хорошо, я займусь этим сам, — ответил Виктор, пряча улыбку и распаковывая посылку.
— Не вижу ничего смешного! — обиделся Жозеф.
— Да прекратите вы ворчать, лучше посмотрите, что за книгу нам прислали из Лондона, — «Знак четырех». Автор — доктор-шотландец, который на досуге пишет так называемые детективные рассказы. Главный герой — сыщик, способный распутать любое преступление при помощи дедуктивного метода. Три года назад я прочитал его первую повесть в английской газете и считаю, что нашему мсье Лекоку
[83] далеко до этого Шерлока Холмса. Мне подумалось, что вам будет приятно получить вторую повесть в оригинале.
Довольный Жозеф рассыпался в благодарностях.
— Придется мне всерьез взяться за английский, если я хочу прочесть эту книжку.
— Я помогу вам, — пообещал Виктор. — Первая глава называется «Суть дедуктивного метода Холмса».
— Будто специально для нас написано, мсье Легри, я прямо сгораю от нетерпения. А что вы скажете, если я отправлюсь в ломбард и порасспрошу там, а потом все расскажу вам про этого Шарманса?
— У вас на это уйдет весь остаток дня, а мне тут крутись как белка в колесе.
— Ну, мсье Виктор, ну, пожалуйста, я ведь первый раз отпрашиваюсь…
— Хорошо, Шерлок Пиньо, отправляйтесь. А потом предоставите мне полнейший отчет.
* * *
Жозеф велел кучеру остановиться у здания Национальных архивов Франции, выскочил из экипажа и, чуть было не сбив с ног старушку с большими корзинами, выслушал поток брани. «Может, автор записки имел в виду не главный ломбард, а какое-нибудь из его многочисленных отделений?» — промелькнуло у него в голове, но он решил придерживаться первоначального плана — на улицу Регар или на улицу Серван он всегда сходить успеет.
Он перешел улицу Фран-Буржуа и без всякого воодушевления зашел в помещение муниципального ломбарда. На него нахлынули воспоминания детства. Эфросинья Пиньо оглядывается вокруг, одной рукой сжимая узелок с бельем, а второй держа за руку белокурого мальчика. После смерти мужа она осталась совсем без средств. Она долго не может решиться подойти к окошечку, застыв посреди зала, словно статуя. Она никогда не искала ничьей помощи, но теперь вынуждена заложить свое скудное имущество. Маленький Жожо поднимает голову и говорит: «Мама, давай продадим эти простыни, они такие колючие!» В тот день они вышли из здания, став богаче на сотню су, и потом не раз приходили сюда.
Жозеф увидел женщину в трауре, которая с трудом тащила огромные каминные часы, которые вдруг ни с того ни с сего заиграли мелодию из Моцарта. Здесь было множество людей — кто с ивовой корзиной, кто с керосиновой лампой, кто с вазочкой для варенья. Они надеялись выручить хоть несколько монет, чтобы расплатиться по долгам или просто купить кусок хлеба, и принесли сюда рабочие инструменты, бесполезные, но милые сердцу безделушки, постельное белье или жалкую одежонку. В другом конце зала принимали в залог матрасы, их сразу же уносили на дезинфекцию. Чуть дальше располагалась витрина с украшениями.
Жозеф занял очередь за той самой старушкой, которая его только что обругала. В корзинах у нее были тарелки и бокалы. Кто-то тронул его за плечо. Жозеф обернулся.
— Как вы думаете, — робко спросил студент в форменной тужурке, показывая вазу с отколотым краем, — можно выручить за нее хоть что-нибудь?
Ему ответил высокий человек с желчным лицом:
— Даже и не мечтай! Это я тебе говорю. А я в свое время приторговывал на бульварах, меня даже императором прозвали — у меня язык хорошо подвешен, и я в два счета любой товар сбыть мог, а еще держал ухо востро и вовремя уносил ноги.
— И что, вас в конце концов свергли? — спросил Жожо.
— Да уж, удача от меня отвернулась. Если дожил до седых волос и не скопил денег, остается либо в ящик сыграть, либо хлопотать себе пенсию. А за его вазу тут ничего не дадут.
— Но это же севрский фарфор, — не унимался студент.
— Ага, но в таком состоянии это просто барахло. Здесь вам не благотворительное общество, им нужна прибыль. Знаете, сколько у них оценщиков?
Жозеф и студент дружно покачали головами.
— Восемь! И если беднякам вроде нас с вами не удается выкупить свои вещи, их пускают с молотка. Потому и дают нам самую низкую цену. Да они и за «Джоконду» не дали бы больше сотни су. Что уж говорить о твоей вазе…
— Но я же вам говорю: это настоящий севрский фарфор!
— Сам увидишь. Столовое серебро и золотые безделушки они оценивают на вес и оплачивают только четыре пятых. А за остальное хорошо если треть настоящей цены дадут. Вот я часы принес и знаю, что могу с ними распрощаться!
— Но должен же быть способ не довести дело до аукциона, — сказал Жозеф.
— Ну да! Даешь расписку и платишь проценты по ссуде. Переплачиваешь за собственную вещь раз в десять-пятнадцать.
Студент мрачно поплелся к выходу, но Жозеф окликнул его:
— Я бы на вашем месте попытал счастья. Здесь, конечно, обдираловка, но, как говорит мой хозяин, пустая квартира лучше, чем пустой желудок.
Ободренный студент вернулся в очередь. У соседнего окошка подошла очередь дамы с каминными часами. Оценщик внимательно осмотрел их и сухо объявил, что даст десять франков. Вдова возмущенно воскликнула, что ее дед с бабкой отдали за это чудо целое состояние, а ей срочно нужно расплатиться с булочником и мясником, которые больше не желают отпускать товар в долг. Человек за стойкой равнодушно перевел взгляд на следующую клиентку — улыбчивую девушку, которая принесла закладывать мужской костюм.
— Брат обзавелся таким брюхом, что костюм на него все равно не лезет. Сколько я за него получу?
Тут вдова оттолкнула девушку и сдала свои часы в обмен на две монетки по пять франков.
— Сущий грабеж, — всхлипнула она.
— Зря вы так, — возразил оценщик. — Я всего лишь делаю свою работу.
— Хорошая работа — на людском горе наживаться! — с горечью сказала вдова.
— Ну, молодые люди, поняли теперь, что и как? — пробурчал старый торговец.
Наконец подошла очередь Жозефа.
— Что у вас? — ворчливо спросил его неприветливый субъект, не поднимая головы.
— Здравствуйте, мсье. Если я вам скажу: «Шарманса», что вы мне ответите?
— Что мне неизвестен предмет под таким названием.
— Так зовут брата моей матушки, мне сказали, что он служит здесь.
— Шарманса ваш дядя?! — удивился оценщик.
— Ну да, мой дядя работает у «моей тетушки», — попытался сострить Жозеф. — Меня зовут Гастон Молина. Так дядя здесь?
Оценщик окинул Жозефа пристальным взглядом.
— Минуту, — сказал он угрюмо. — Сейчас выясню.
Минута затянулась, и очередь стала недовольно ворчать, но тут оценщик вернулся.
— Он сейчас занят на складе.
— Послушайте, это очень срочно, вопрос жизни и смерти, мне бы только пару слов ему шепнуть, пожалуйста, позовите его…
По стойке к оценщику покатилась монетка. Тот сунул ее в карман и снова ушел. Жозеф тут же отошел в сторону и, усевшись неподалеку на лавку, развернул свежий номер «Пасс-парту». Ворчливый оценщик вернулся в сопровождении лысого пузатого коротышки с густой бородой, одетого в серую блузу.
— Значит, вот как выглядит Шарманса, — пробормотал Жозеф, прячась за газетой. — Ну и рожа!
Обнаружив, что «племянника» нет на месте, оценщик поскреб в затылке и пожал плечами. Шарманса, близоруко щуря выпуклые, как у жабы, глаза, оглядел очередь, резко развернулся и скрылся в подсобном помещении.
Жозеф вышел и занял наблюдательный пост на противоположной стороне улицы. Через некоторое время показался Шарманса, вместе с другими работниками ломбарда он направился к остановке омнибуса.
«Сегодня уже слишком поздно, — решил Жозеф, — но в следующий раз я выясню, где его логово».
Он вернулся в лавку около семи вечера. Кэндзи не стал его отчитывать, только раздраженно заметил, что Виктор куда-то умчался, а самому ему тоже надо отлучиться.
— Я вернусь ближе к полуночи. Не могли бы вы составить мадемуазель Айрис компанию за ужином?
— Как скажете, мсье. Я только предупрежу матушку, что задержусь сегодня.
— Спасибо. Тогда я пойду переоденусь, а вы пока закройте лавку.
Жозеф опустил ставни и начал подметать.
— Идите сюда, — окликнула его Айрис, — я приготовила нам легкий ужин.
Она положила ему на тарелку паштет и салат, налила бокал вина. Жозеф вдруг представил, что эта милая девушка — его жена, и они ужинают у себя на кухне, но вспомнил о Кэндзи и нахмурился.
— Что-то не так? — спросила Айрис.
— Да нет, просто… я понимаю, это не мое дело, но сил нет молчать… вы такая юная, а мсье Мори такой…
— О чем вы?
— Ну, вы и мой патрон… Извините, но меня это возмущает!
Айрис хихикнула, прикрыв ладошкой рот.
— А что вас, собственно, возмущает? Если любишь человека, какая разница, сколько ему лет?
— Вы правы, я старомоден.
— Вы слишком молоды, чтобы быть старомодным.
— Конечно, мсье Мори достоин вашей любви, он так много знает…
— И еще он очень красивый, правда?
Жозеф растерялся, а потом энергично кивнул.
— Иными словами, вы одобряете наш союз.
— Безусловно, — Жозеф выдавил из себя улыбку. — Только все равно обидно.
— Почему?
— Ну, не знаю, обидно за других. Кроме мсье Виктора, ведь у него есть мадемуазель Таша.
— Так… так вы себя жалеете?
— Вы смеетесь надо мной. Кто на меня, горбуна, внимание обратит?
— О каком горбе вы говорите?
Айрис смотрела на него таким пристальным взглядом, что он опять покраснел. Эта девушка просто чудо! Образ Валентины сразу же померк в глазах Жозефа.
— Я открою вам одну тайну, — сказала Айрис. — Только поклянитесь, что будете держать язык за зубами.
Жозеф кивнул.
— Я до… крестная дочь мсье Мори.
— То есть между вами ничего нет? — оторопел юноша.
— Ничего, кроме родственной привязанности.
— Хорошо! Просто отлично! В смысле, паштет очень вкусный, вам так не кажется? Можно мне добавки? Надеюсь, вы не скоро отсюда съедете. Просто вы долгое время жили в Англии, и я надеялся, что вы мне поможете…
— В чем?
— Мсье Виктор подарил мне книгу на английском, а я не могу ее прочитать…
— Так вы хотите выучить английский? Отличная мысль! Я просто умираю от скуки, а Кэндзи никуда меня одну не отпускает. И когда же вы хотели бы начать?
— Прямо сейчас.
— Отлично! Повторяйте за мной:
My father is not at home. Where is he?
* * *
Куда ни кинь взгляд — везде пышные формы, утянутые корсетами, и глубокие декольте, прямые спины, накладные волосы и фальшивые бриллианты. Мулен-Руж был храмом Эроса, и журналисты и писатели не обходили его своим вниманием. Тут можно было найти женщину на любой вкус: наивную девушку и опытную соблазнительницу, добропорядочную матрону и вульгарную потаскушку.
Кэндзи чувствовал себя в этом мире вполне комфортно. Он со смесью восторга и презрения
наблюдал, как одна из танцовщиц заставила какого-то заезжего гостя купить ей цветы, а потом у него на глазах перепродала букет цветочнице.
— Ловкая штучка, а? — послышался ровный голос.
— Да уж, невольно вспомнишь пословицу: жизнь — это плохой спектакль, начало которого мы пропустили, а конец нам неизвестен.
— Метко сказано! Вы случайно не философ?
— Нет, всего лишь владелец книжной лавки, — ответил Кэндзи, доставая визитку и окидывая беглым взглядом собеседника — господина с проседью на висках и в крылатке поверх вечернего костюма.
— Очень приятно! Жюль Навар. Я иногда пишу для «Эко де Пари». Может, подкинете еще парочку афоризмов для статьи? Не хотите чего-нибудь выпить?
— Извините, у меня назначено свидание с одной танцовщицей.
Навар разразился хохотом.
— Весьма откровенно! А можно поинтересоваться, с кем именно? Я знаю о личной жизни здешних дам всё! Это часом не прекрасная Чикита?
— Эдокси Аллар.
— Она же Фифи Ба-Рен! Мечта добропорядочного отца семейства. Властный взгляд, презрительно поджатые губы, надменное выражение лица, но в остальном — весьма привлекательная особа. В ней гораздо меньше вульгарности, чем в большинстве ее товарок. Вот только кавалеров она меняет, как перчатки, точнее будет сказать: коллекционирует. Видите того мрачного господина в сомбреро, он сидит напротив недомерка в очках? Это поэт Луи Дольбрез, один из многочисленных ухажеров Фифи, а его собеседник — Тулуз-Лотрек, он нынче пользуется бешеной популярностью.
Кэндзи взглянул туда, куда указывал Навар, и тут же отвернулся — он узнал в рыжеволосой даме, которая сидела за столиком с Дольбрезом и Лотреком, Таша. Может быть, Виктор тоже здесь? Поэтому и умчался из лавки?
Кэндзи повернулся на каблуках к собеседнику.
— Мадемуазель Аллар — всего лишь моя клиентка.
— Жюль, куда ты запропастился?! — перед ними возникла пышнотелая дама, которая показалась Кэндзи довольно уродливой. — Мы с Мом Фромаж уже думали, что ты помер.
— Я был занят, ангел мой. Угостить тебя вишней в ликере?
— Я бы не отказалась, но скоро канкан. Увидимся позже… — Она удалилась под руку с тощим неприятным типом лет сорока.
Вскоре Кэндзи увидел, что навстречу идет Таша. Он поспешно уселся за столик к ней спиной и развернул носовой платок.
— Рад, что вы передумали! — Навар воспринял действия Кэндзи как согласие составить ему компанию. — Я просто умираю от жажды. Официант! Бутылку шампанского, — заказал он, усаживаясь за столик, и кивнул в сторону пышнотелой дамы. — Вы знакомы с Нини Патанлэр?
[84]
Кэндзи отрицательно покачал головой.
— В прошлом торговка, замужняя дама, мать семейства, она все бросила ради того, чтобы дрыгать тут ногами! Как и вон тот длинный тип — Валентин-Без-Костей.
— Интересное прозвище…
— Да уж, меткое, ничего не скажешь, его придумал один журналист, услышав в исполнении этого субъекта «Песенку Валентина». А на самом деле его зовут Этьен Ренодан, и брат у него вполне достойный человек, нотариус. А Валентин блистал еще на балах времен Второй империи. Говорят, на танцы можно подсесть почище чем на абсент или морфий. Но самое опасное здесь даже не это, а зараза, которую называют «болезнью века». Интересно, сколько этих клоунов подцепит ее к утру…
Кэндзи вполуха слушал болтовню Навара. Тем временем оркестр грянул «Парижскую жизнь».
[85]
Приближалась полночь, наступило время канкана. Звуки труб, вихрь юбок, мелькание черных чулок. Четыре солистки — Ла Гулю, Нини Патанлэр, Грий д'Эгу и Рэйон д'Ор — выделывали замысловатые па, Фифи Ба-Рен не отставала от товарок.
— Ради полоски розовой плоти, что мелькает у них между подвязками и кружевными оборками панталон, — прокричал Навар Кэндзи на ухо, — многие сюда и приходят!
Кэндзи сам не заметил, как оказался в первом ряду. Теперь танцовщицы занимались тем, что носком туфельки пытались сбить шляпы у зрителей, и, не успел он опомниться, как Эдокси ловким движением ножки отправила его блестящий цилиндр в самую гущу толпы. Навар ликовал. Кровь бросилась Кэндзи в голову, и он отправился на поиски своего головного убора.
Канкан длился всего лишь восемь минут, потом Навар отвел Кэндзи за столик, и вскоре к ним присоединилась запыхавшаяся Эдокси.
— Уф, как я устала, — выдохнула она, падая на стул.
— Браво-браво! — улыбнулся ей Навар. — Ваш танец выше всяких похвал!
— Ах, мсье Мори, так мило, что вы пришли! — Эдокси склонилась к Кэндзи. — Ну, не прикидывайтесь скромником. Какой у вас красивый сиреневый галстук!
— Народу тут сегодня… — проворчал Луи Дольбрез, подсаживаясь к ним. — Всем добрый вечер! Видели, кто пожаловал? Его высочество собственной персоной, — и он указал подбородком на принца Эдуарда.
— К черту его высочество! Нас посетил знаменитый книготорговец с Левого берега! — воскликнула Эдокси и накрыла ладонью руку Кэндзи.
— Так вы торгуете книгами? — спросил Дольбрез.
— На днях я знакомила вас с компаньоном мсье Мори, Виктором Легри.
— А! Это тот, у которого подружка художница? Вот уж красотка — глаз не отвести. Представляешь, она взялась написать мой портрет, наверное, глаз на меня положила.
— Виктор и Таша собираются пожениться, — сухо заметил Кэндзи.
— Да ну! А я не верю, что женщины умеют хранить верность, — ответил Дольбрез, не сводя глаз с Эдокси. — Помните, что поет Иветта Гильбер: «Леон! Сними очки, мне больно», — напел он.
— Я как-то ходил на ее концерт, — подхватил Навар. — Это незабываемо! Не зря ее окрестили Сарой Бернар бульваров. Слышали бы вы, как она читает «Девиц», выразительно покашливая там, где были слова, вырезанные цензурой!
…Ох уж эти мне девицы!
О чем они мечтают — никто не угадает,
О фруктах, о цветах… о всяких пустяках?..
— Согласен, это намного забавнее, чем «Отец Горио», который Антуан поставил у себя в «Театр Либр»,
[86] — заметил Дольбрез. — Мсье Мори, трудно поверить, что вы процветаете, продавая такие невыносимо скучные книги.
— У нас продаются книги на любой вкус, даже сборники картинок для неграмотных, мсье Дольбрез, — холодно парировал Кэндзи и встал.
— Туше! — воскликнула Эдокси. — Так тебе и надо, Луи! — Она схватила Кэндзи за руку: — Мсье Мори, неужели вы нас покидаете?!
— Дружище, вы рискуете пропустить самое интересное: после закрытия танцовщицы показывают откровенные номера — только для избранных, — поддержал ее Навар.
— Вот увидите, танец, который мы с вами только что видели, по сравнению с этим — просто образец благопристойности, — добавил Дольбрез и протянул Кэндзи руку. — Не обижайтесь, господин книготорговец. Можно попросить у вас визитку? Если меня покинут и сон, и любовница, я приду к вам за книгами.
Убедившись, что собеседники — а особенно Эдокси — и в самом деле рады его обществу, японец опустился на свое место.
Глава десятая
21 ноября, суббота
В колченогом кресле сидел человек. Из дырявого носка торчал большой палец, с кресла свешивалась рука. На полу лежала куча газет, валялась домашняя туфля и стояла керосиновая лампа.
Жозеф до двух часов ночи просматривал подшивки старых газет. Если в Лионе между 1875 и 1886 годами произошел крупный скандал, связанный с драгоценностями, то криминальные хроники не могли не написать об этом. Но он так ничего и не обнаружил и заснул прямо в кресле.
Ему приснился кошмарный сон: как он мечется по огромной библиотеке в поисках какого-то бесценного манускрипта и никак не может его найти.
Колокол церкви Сен-Жермен-де-Пре пробил три раза. Жозеф очнулся и хотел было вернуться к газетам, но вдруг вспомнил, что перестал собирать их в 1885 году, когда устроился на работу в книжную лавку «Эльзевир».
Это событие живо встало у него перед глазами. Матушка с сияющим лицом сообщает ему радостную новость: «Сынок, я все устроила, ты пойдешь по стопам отца. Мы с тобой заживем по-королевски! Твое жалованье плюс мое… К тому же лавка находится в двух шагах от дома. Ах, как бы порадовался за тебя отец, доживи он до этого дня!». А приятель Жозефа, Марсель, заметил: «Прощайся с беззаботной жизнью! Ладно, не расстраивайся, зато это верный кусок хлеба. С такой работой ты справишься, ты же книжный червь».
Жозеф задался целью стать самым лучшим на свете приказчиком, и с тех пор почти не виделся с Марселем. А ведь когда-то они вместе чуть свет бежали на улицу Круассан за свежими выпусками газет, а потом продавали их на парижских улицах. Именно тогда Жозеф начал собирать свою коллекцию вырезок.
В дверях появилась мадам Пиньо в ночном чепце.
— Эт-то что еще за новости?! — изумилась она. — Неужели тебе больше нечем заняться? Пойдем-ка пить кофе. Сейчас сварю тебе погорячей да покрепче.
Жожо с трудом поднялся на ноги и отряхнул брюки.
«Вот обидно будет, — думал он, — если материал про эти драгоценности напечатали тогда, когда я уже перестал собирать газеты! Но я не сдамся и все равно разыщу эту статью!».
— Ко-офе! — крикнула мать.
— Иду-иду!
Войдя в тесную кухоньку, он не стал садиться за стол, а выпил кофе, стоя возле раскаленного докрасна очага. Мадам Пиньо протянула ему хлеб и, глядя на его измятую одежду, с осуждением покачала головой:
— Когда снова надумаешь разгребать свой хлам вместо того чтобы спать, как все нормальные люди, — предупреди меня заранее, и я уйду ночевать к мадам Баллю.
Она взяла корзинку и ушла на рынок. Жозеф стал задумчиво прибирать на кухне. Ему не давала покоя мысль, что он упустил что-то очень важное.
Наконец все заблистало чистотой, и Жозеф, с трудом переставляя ноги и сдерживая зевоту, отправился на улицу Сен-Пер.
Он открыл лавку, взял метелку из перьев и, тихонько насвистывая, принялся смахивать пыль с полок.
— Как вы это делаете? Я пробовала, но у меня не получается, — пожаловалась Айрис, появляясь в дверях.
— Ох, и напугали же вы меня, — Жозеф от неожиданности чуть не выронил метелку.
— Мне скучно. Не понимаю, как это можно зарабатывать на жизнь продажей книг. Ведь все эти мириады слов ровным счетом ничего не меняют.
— Неужели вам никогда не хотелось с головой погрузиться в какой-нибудь хороший приключенческий роман?
— Я бы лучше свистеть научилась.
— Это гораздо проще, чем говорить по-английски, достаточно округлить гу…
— Доброе утро, дорогая, — Кэндзи обратился к своей крестнице по-английски. — Пойдем завтракать.
— Уже иду! — тоже по-английски отозвалась Айрис и лукаво улыбнулась Жозефу.
— Значит, говорите по-английски, чтобы я ничего не понимал. Ладно, мы это исправим! Мадемуазель Айрис меня научит, — проворчал он.
— Здравствуйте, молодой человек, — услышал он знакомый голос. — Надеюсь, вы уже получили три экземпляра «Жизели», которые обещал мне мсье Мори.
Жозеф приветливо поздоровался с графиней де Салиньяк и стал проверять записи в книге заказов.
— Похоже, вы перепутали даты: книги нам вышлют только завтра.
— Какая досада! Я хотела подарить одну Адальберте де Бри. Доктор Шарко отправил ее на воды в Ламалу-ле-Бэн, но даже это не помогло, у нее пол-лица парализовано.
— Как же она разговаривает?
— А вот это вас не касается! Найдите мне лучше три романа Жоржа Буа, вышедшие у Дентю: «Господин викарий», «Зять» и «Ранняя страсть». И еще «Провал» Макса Симье. Матильда де Флавиньоль говорит, там просто потрясающе описано, как на женщин действует весна, — пояснила графиня.
В это момент в лавку спускался Кэндзи. Он отправил Жозефа в подсобку за книгами, но когда тот вернулся с «Господином викарием» и «Провалом», графиня уже удалилась.
— Как? Она не дождалась? — удивился он. — Чего я тогда торопился найти книги? А что, мсье Виктор еще не пришел?
— Он поехал на улицу Друо. А вы доставьте заказы: те две книги, что прижимаете к сердцу, — мадам де Салиньяк, и еще есть заказ с улицы Лувра, а том Монтеня необходимо отвезти господину Бони де Пон-Жюберу на улицу Микеланджело — мсье Легри не смог это сделать.
— Так я и знал, — насупился юноша.
— Ладно, не ворчите, я разрешаю нанять экипаж. Упакуйте книги и отправляйтесь поскорее.
— Да это же просто наказание какое-то! Все заказчики — в разных концах города, — возмутился Жожо.
— Я насчитал только три поездки, — нахмурился Кэндзи.
* * *
Виктор свернул с Елисейских полей и подошел к воротам с надписью «Дом престарелых». Сальпетриер был похож на монастырь. Над входом развевался трехцветный флаг. Виктор прошел во двор Сен-Луи, где росли чахлые деревца, — холодный ноябрьский ветер уже сорвал с них остатки листвы. Тут мимо ларьков с бакалейными товарами, буфета, где подавали кофе, табачного киоска и лотков с фруктами прогуливались пожилые женщины, некоторые из них курили трубки. Неподалеку располагалась прачечная, и работы там хватало, поскольку в дни посещений старушки надевали белые накрахмаленные чепцы и отутюженные платья. В этом огромном приюте было отделение для умалишенных, где лечили пациентов с нарушениями нервной системы, — их пользовал профессор Жан-Мартен Шарко. Две тысячи четыреста старых и безумных женщин занимались здесь починкой белья или щипали корпию. Они получали за свой труд всего тридцать-шестьдесят сантимов в день, на которые можно было купить кофе, нюхательный табак или носовые платки.
Виктор пересек небольшой садик во французском стиле и прошел по мощенной плитками аллее к величественной часовне. С обеих сторон к ней примыкали фасады зданий: справа — корпус Мазарини, а слева — корпус Лассая. Годом раньше Виктор приходил в Сальпетриер помогать Альберту Лонду, который по заказу профессора Шарко фотографировал больных на разных стадиях неврозов, и теперь рассчитывал расспросить его, что бы могло означать слово «Абирто» из записки Гастона Молина.
Он попытался узнать дорогу у санитара в пальто, накинутом поверх халата, но получил весьма путаные объяснения, и теперь стоял в растерянности во внутреннем дворике, где между чахлыми деревцами под присмотром молодой служительницы прогуливались старухи. Тишину нарушал лишь стук костылей.
Виктор невольно вспомнил, что в сентябре 1792 года разъяренные революционеры изнасиловали и убили здесь, в приюте Сальпетриер, тридцать пять уголовниц, которых приняли за роялисток. Этот дворик соединялся с еще одним, в центре которого находился колодец. Там пациентки тихо сидели на лавках, греясь в бледных лучах ноябрьского солнца. О чем они думали? Может, мысленно переносились в далекие дни своего детства? Виктор представил себя стариком-подагриком, которого сдали в приют, и с неожиданной остротой осознал скоротечность жизни. Что бы мы ни делали, время течет неумолимо — оглянуться не успеешь, как его почти уже и не осталось. Он пошел дальше, продолжая размышлять о том, что сто двадцать лет назад в Сальпетриер отправляли всех без разбора нарушительниц общественного спокойствия: преступниц, нищенок, проституток, сумасшедших и просто бродяжек. Многим из них суждено было до конца жизни гнить в темнице. Когда для новых арестанток уже не хватало места, их ссылали на Мартинику, на Гваделупу или в Луизиану.
Виктор миновал аккуратные домики, в которых некогда жила стража, и вышел к кладбищу, где смотрительница указала ему верное направление. Пришлось вернуться назад и пройти в корпус Паризе, где располагалось отделение профессора Шарко и фотолаборатория.
Виктор увидел студента-медика, который разглядывал снимки больных, и перекинулся с ним парой слов о пользе фотографии в медицине.
— Вы случайно не знаете, где сейчас Альберт Лонд?
— Его сегодня нет. А вы врач?
— Я ищу… Абирто, — уклонился от ответа Виктор.
— Доктора Оберто?
— Да, точно.
— По средам он читает здесь лекции, а в остальные дни, кроме субботы и воскресенья, ведет прием у себя на улице Монж. Я только не помню номер дома, то ли 68, то ли 168… Там есть вывеска.
— Я найду, спасибо.
— Если хотите, могу показать вам эту часть больницы.
— Было бы очень мило с вашей стороны.
Виктор шел за студентом и думал о том, что чутье не подвело Жозефа — Оберто действительно оказался одним из врачей. Часть головоломки удалось разгадать — и это уже кое-что, пусть пока неизвестно, какую роль Оберто сыграл в деле Молина и Фуршон.
— Женщины, которые сейчас гуляют здесь, утром принимали участие в эксперименте по внушению. Гипноз — это конек профессора Шарко. А вот отделение для тех, у кого тихое помешательство, в основном это впавшие в детство престарелые пациентки. Руководство не только обеспечивает несчастных всем необходимым, но и заботится об их досуге — чтобы скрасить однообразное существование, к ним регулярно приходят преподаватели вокала… — Студент привел Виктора в большое помещение с угольной печью, где по обеим сторонам от центрального прохода стояли рядами около сорока коек. Никаких занавесок, отделяющих одну от другой, тут не было и в помине.
Продолжая рассказывать, будущий медик склонялся то над той, то над другой койкой. Некоторые из женщин вязали на спицах, другие переговаривались, обсуждая, что это за сердитый господин в пальто пришел к ним сегодня.
— Здесь у нас спокойные пациентки, с манией величия и галлюцинациями, а еще слабоумные всех возрастов.
Виктор хотел было отказаться от продолжения экскурсии, но студент уже деловито перешел в следующую палату.
— А тут буйные, у них бывают припадки и наблюдается повышенная склонность к агрессии. В таких случаях мы надеваем им смирительные рубашки. Это такая одежда из плотной ткани с очень длинными рукавами, которые завязывают на спине. Хотите посмотреть? Не далее как сегодня утром пришлось усмирять одну из больных…
Виктор решил, что с него хватит, и сказал, что торопится на важную встречу.
«Какое счастье, что я не медик», — думал он, быстро идя по коридору.
После долгих блужданий по многочисленным переходам Виктор добрался до кухни, в приоткрытые двери которой виднелись огромные медные котлы, и с ужасом понял, что опять вернулся к палатам умалишенных. Он пошел в противоположном направлении и оказался во дворе, где недавно наблюдал за пожилыми пациентками. Здесь он опустился на одну из скамей.
— Правда, красивый у нас колодец Манон? — обратилась к нему какая-то старушка. — У такого же меня когда-то впервые поцеловал любимый…
— Мадам Бастьен, идите пить травяной настой, а то остынет! — крикнула ей служительница.
— Иду, иду, — вздохнула старушка.
Виктор достал из кармана смятую записку.
— «Абирто, на лево, во дваре манон…» — прочитал он себе под нос. — Так я же сижу во дворе Манон. Манон Леско! Точно! Речь идет о романе аббата Прево… Конечно же! Именно здесь держали Манон, любовницу кавалера де Грие, перед тем, как отправить ее в Америку… Аббат Прево… А. Прево!
Виктор вскочил.
«„Манон Леско“ аббата Прево, — лихорадочно соображал он. — Что это может значить?»
Он не испытывал никакой симпатии к прототипам героев романа аббата Прево и не понимал, почему читатели и критики с таким снисхождением относятся к шевалье де Грие, который воровал и убивал из-за любви к женщине, продававшей свое тело старикам. Он и Манон не останавливались ни перед мошенничеством, ни перед кражей, ни перед обманом, но при этом почитали Господа, знать и особенно — большие деньги. Может быть, в характере Ноэми Жерфлер есть что-то общее с Манон? И ее убийца считал, что вершит правосудие? Или он убил ее из ревности?..
Он вспомнил записку, и у него перехватило дыхание:
«Моя милая царица в Приюте, как самое презренное из всех созданий…» Да это же цитата из «Манон Леско»! Точно: Приют! Двор Манон, доктор Оберто. Бессмыслица какая-то… Доктор Оберто и есть убийца?.. Купоросный спирт. Бинт на шее у Ноэми Жерфлер. Нет, не может быть… Что значит «налево»? Там расположена аудитория, где доктор Оберто читает свои лекции?
Он записал у себя в блокноте:
«ул. Монж, 68 или 168».
«В понедельник надо нанести ему визит, — продолжал размышлять Виктор, — а сейчас сверить полученную информацию с тем, что удалось разузнать Жозефу в ломбарде. Как неудачно получилось, что вчера мне пришлось подписывать договор аренды, а сегодня утром Кэндзи попросил отнести заказанного Рабле на улицу Друо… Я мог бы выяснить все это гораздо раньше!»
Часы показывали пять минут второго. Он обещал познакомить Таша со своим клиентом Таде Натансоном, который вместе с братом Альфредом недавно возобновил издание журнала «Ревю бланш», посвященного новинкам литературы и живописи. Виктор с огорчением понял, что безнадежно опаздывает на эту встречу, и прибавил шагу.
* * *
Кучер был рад избавиться от нетерпеливого пассажира, который требовал, чтобы он несся со скоростью этих изрыгающих зловонный дым и в общем-то бесполезных игрушек господ Панара и Левассора.
[87] Жозеф, довольный, что ему удалось так быстро доставить все три заказа, щедро заплатил вознице и направился к ломбарду. Он решил дождаться, пока служащие начнут расходиться, и проследить за Шарманса до самого дома.
«Надеюсь, мсье Легри будет мной доволен…
Ведь и ночник во мраке сияет, словно маяк», — вспомнил юноша слова своего любимого писателя Эмиля Габорио,
[88] устраиваясь в нише подъезда дома напротив. Ради того, чтобы раскрыть убийство на перекрестке Экразе, он был готов ждать столько, сколько потребуется.
* * *
Если бы кому-нибудь пришла мысль узнать, что творится в голове у Проспера Шарманса, он был бы сильно разочарован. Этот субъект просто тупо изо дня в день выполнял свою работу. Подвалы ломбарда стали для него неким подобием кокона, и ничто не могло нарушить мерное течение дней в этом замкнутом пространстве. Только здесь, где скапливались в ожидании упаковки многочисленные немые свидетели человеческих судеб, Шарманса чувствовал себя в своей тарелке, а сам процесс обертывания, наклеивания ярлычков и подсчета стал для него чем-то вроде наркотика.
Единственное, над чем ему порой приходилось размышлять, — это как упаковать какой-нибудь предмет необычной формы или нестандартного размера. Такой, например, как внушительных размеров часы, которые принесли своей хозяйке десять франков. Попадающие в ломбард шали и кружева обычно складывали в шкатулки, драгоценные камни и золотые оправы прятали в конверты, которые Проспер Шарманса запечатывал воском, всякий раз испытывая такое чувство, будто ставит клеймо корове из собственного стада. Менее ценные предметы он доверял штамповать мальчишке с почты, а еще одному помощнику поручал складывать квитанции об оценке заклада вчетверо и нанизывать их на бечевку. Потом вещи раскладывали по корзинам и уносили в недра склада по нескончаемым коридорам, заставленным деревянными ящиками и металлическими клетками. В этом пятикилометровом лабиринте, похожем то ли на улей, то ли на пещеру Али-Бабы, хранились груды ковров и посуды, упряжи и зонтов. Прохаживаясь там, Проспер Шарманса представлял себя капитаном гигантского грузового судна.
Он пристроил завернутые в плотную бумагу часы между зонтиком и Псалтирью, посторонился, чтобы дать пройти носильщику с большим ящиком, и скрепя сердце направился к раздевалке. Там он снял казенную форму без единого кармана — руководство ломбарда позаботилось о том, чтобы у служащих не возникало соблазна что-нибудь украсть, — и надел свою одежду.
На остановке омнибуса уже собралась толпа. Проспер Шарманса протиснулся на империал, не заметив, что за ним по пятам следует горбатый светловолосый юноша.
* * *
На площади Мобер Жозеф выпрыгнул из омнибуса, стараясь не упустить из виду объект слежки, миновал рынок и улицу Эколь, дошел до Политехнической школы. Возле дома № 22 Шарманса свернул в тупик Беф. Опасаясь быть замеченным, Жозеф немного приотстал. Краем глаза он успел увидеть, как преследуемый остановился и приподнял шляпу, здороваясь с сидящей возле дома женщиной, которая лущила орехи, а потом быстро направился к подъезду в дальнем конце тупика. Жозеф поспешил следом.
— Ты случайно не знаешь, на каком этаже проживает мсье Шарманса? — спросил он у мальчишки, который с трудом тащил тяжелый бидон молока.
— Второй этаж, налево. Эй, мсье, будьте осторожны! — крикнул мальчишка ему вслед, — мамаша Галипо сегодня под мухой.
Жозеф взбежал на второй этаж, где его схватила его за плечо неопрятная старуха:
— Ага, бездельник, попался! — с угрозой воскликнула она. — А ну признавайся, где припрятал капусту!
— Капусту? Так ее полно на Центральном рынке, — ответил Жозеф, с трудом вырвался из ее цепких рук и постучал в указанную мальчишкой дверь.
Старуха подошла к нему вплотную, уставилась исподлобья и проговорила с угрозой, обдавая его зловонным дыханием:
— На Центральном рынке, говоришь? И в каком же это ряду?
— Рядом с зеленью и котлетами! — выкрикнул он и ретировался вниз по лестнице.
Замешкайся Жозеф еще на минуту, он не успел бы заметить, как мальчишка с молочным бидоном шмыгнул за забор в конце прохода. Жозефу стало интересно, и он последовал за ним. К своему немалому удивлению, он оказался в крытой галерее соседнего дома, откуда был выход на улицу Монтань-Сен-Женевьев. Вдалеке виднелась коренастая фигура Шарманса — тот вразвалку брел в сторону Пантеона.
— Да что он, двужильный, что ли? — пробормотал себе под нос Жозеф, стараясь не выпускать объект наблюдения из виду.
Вдруг Шарманса исчез. Юноша испугался, что окончательно его потерял, но при виде приоткрытой двери церкви Сент-Этьен-дю-Монт решил на всякий случай туда заглянуть.
Шарманса перекрестился, опустился на колени, потом встал и направился к резной балюстраде, отделявшей клирос от нефа и боковых приделов. Остановившись возле кафедры, он раскрыл требник. Жозеф притаился за колонной, с тревогой размышляя, как надолго задержится Шарманса в церкви. Удача ему улыбнулась: вскоре к Шарманса подошел элегантно одетый худощавый господин в цилиндре и похлопал его по спине, а потом взял под руку, и они, перешептываясь, направились к гробнице святой Женевьевы, где беседовали довольно долго. Жозеф медленно двинулся в ту сторону, делая вид, что увлеченно рассматривает пышный декор гробницы, и попытался разглядеть лицо худощавого господина, насколько это было возможно в полумраке церкви.
Наконец Шарманса направился к выходу, а его собеседник опустил монетку в ящик для пожертвований и зажег восковую свечу. За кем же пойти? Поразмыслив, Жозеф выбрал загадочного незнакомца, ведь адрес служащего ломбарда ему был уже известен.
Человек в цилиндре шел быстро. Он обогнул лицей Генриха IV, свернул на улицу Роллен, потом на улицу Наварры и наконец к Аренам Лютеции.
[89] Жозеф никогда прежде не бывал на руинах этого древнего амфитеатра и невольно отвлекся, рассматривая стертые от времени ступени и свободный участок арены — большую ее часть занимали конюшни и контора омнибусов.
— Подумать только, здесь нашли скелет человека ростом два метра десять сантиметров! Ну и здоровяки же были эти гладиаторы! — проговорила вслух какая-то женщина в форме сестры милосердия, перекрестилась и направилась к выходу.
Жозеф вспомнил про человека в цилиндре, но того уже и след простыл. Юноша нахмурился. Расследование оказалось куда сложнее и длительнее, чем он рассчитывал. Недовольный собой, он направился обратно в тупик Беф.
Женщина у входа в дом все так же лущила орехи. Жозеф подошел и кашлянул, чтобы привлечь ее внимание.
— Простите, мадам, вы не подскажете, как зовут полноватого господина с бородой, что живет в этом доме? Он похож на моего дядюшку Альфреда, который десять лет назад уехал в Венесуэлу, и с тех пор от него ни слуху ни духу…
— Нет, его не Альфредом зовут, а Проспером Шарманса, — отозвалась женщина — зубов у нее почти не осталось, так что половину звуков она не выговаривала. — Это имя означает «счастливчик», но мсье Шарманса не слишком-то везло в жизни. Я почему знаю — мы с ним земляки, он из Лиона, а я из Кремье, этот городок тоже располагается на берегу Роны.
Жозеф согласно кивнул, а потом, воспользовавшись тем, что она перевела дыхание, с живым интересом переспросил:
— Из Лиона, говорите?
— Да, Лион — большой город, наш Кремье по сравнению с ним — дыра дырой… Мсье Шарманса вот уж лет шесть как обосновался тут, в Париже, а я перебралась вслед за внуком только в восемьдесят восьмом. Внук-то у меня кровельщик, хотел подзаработать здесь — к Выставке тогда много чего строили, — ну, и меня с собой прихватил, чтобы было кому хозяйство вести. Жены-то у него нет — кому он без ноги нужен, после того несчастного случая! Так вы говорите, мсье Шарманса доводится вам дядюшкой?
— Нет-нет, я, наверное, ошибся, больно он на моего дядюшку похож. Может, и впрямь у каждого человека есть двойник… Мой дядюшка родом из Арраса, а Лион, насколько я слышал… — Жозеф надеялся, что болтливая женщина расскажет что-нибудь о прошлом Шарманса, но, выслушав множество подробностей о жизни крестьян и лионских ткачей, он узнал только, что домой Шарманса не возвращался.
Мадам Пиньо хлопотала на кухне, готовя клецки по-итальянски с пармезаном, так что Жозеф мог спокойно занести свои дневные наблюдения в блокнот.
«Лион, — бормотал он себе под нос, — туда ведут все нити. Надо во что бы то ни стало выяснить, что там происходило в восемьдесят шестом году… Мсье Гувье наверняка это знает… Но если спросить напрямик, он может насторожиться, и тогда я попаду на допрос к Лекашеру. Нет, лучше уж самому во всем разобраться. Вот мсье Легри удивится…».
Жозеф не хотел признаваться себе, что на самом деле хочет произвести впечатление не на Виктора, а на Айрис. И тут он вспомнил про друга детства, Марселя Бишонье, с которым они вместе продавали газеты. «Если тот все еще работает на улице Круассан, — решил юноша, — надо завтра навестить его с утра пораньше. А пока что тщательно продумать свои действия. Какой след быстрее приведет к цели? Начнем с загадочного адреса из записки, найденной у Гастона Молина».
Жозеф расчистил поверхность ящика, служившего ему столом, сдвинув в сторону кипы газет и гильзы от патронов.
— Что-то я совсем запутался, — пробормотал он, склонившись над своими записями. — Пора подвести итоги. Что у нас есть? Меня беспокоит это «прв.» на неизвестной улице Л. Дом под номером 1211 — это, по меньшей мере, странно… А что же такое «прв»?.. прв… прв… Черт, как я мог быть таким тупицей! Это же первый этаж! То есть первый этаж дома 1211 по улице Л. Осталось только выяснить, что это за улица… Туфельку нашел пес козопаса в Ботаническом саду… Там есть волки и даже львы. Где-то у меня был путеводитель по Парижу…
Жозеф чувствовал, что вплотную приблизился к разгадке.
Молина жил где-то неподалеку, потому что из его квартиры слышно, как воют волки. Значит, надо составить список всех улиц в этом районе, название которых начинается с буквы «Л». Если на ней тысяча двести домов с лишним, длинная улица получается… Куда же, черт возьми, запропастился путеводитель?!
Юноша сделал неловкое движение, и стопка номеров «Живописного журнала» разлетелась по комнате. Один из них при падении раскрылся на иллюстрации во весь разворот. Жозеф бросил на него взгляд и замер — под картинкой было написано: «Церковь Сен-Северен в Париже».
«Церковь! — осенило Жозефа. — Вот оно! Точно! Тот тип в цилиндре, с которым Шарманса шептался о чем-то в церкви Сент-Этьен-дю-Монт, привел меня в Арены Лютеции… а это в двух шагах от Ботанического сада. Теперь понятно! Они все друг с другом связаны. Молина, Шарманса, человек в цилиндре — все трое живут в одном квартале. Куда же я подевал путеводитель? Точно сюда клал, он же мне постоянно нужен…».
— Сынок, иди ужинать! — раздался из кухни голос Эфросиньи Пиньо.
— Вот всегда так, — проворчал Жозеф, прерывая поиски.
— Что это с тобой? Не иначе как ангину подхватил? — спросила мать, ставя перед ним тарелку.
— Нет, у меня всего-навсего пропал путеводитель по Парижу.
— Не переживай, он тебе его обязательно вернет.
— Он? Кто он? Ты что, отдала кому-то…
— Твой путеводитель? Ну, да, отдала. Кузену мадам Баллю, его зовут Альфонс, он еще уезжал в Сенегал, а сейчас вернулся. Представляешь, его товарищ по полку хочет погулять со своей невестой по Парижу, но совсем не ориентируется в городе, вот мадам Баллю и попросила путеводитель. Ну не сердись, не покупать же его, зачем тратить деньги на такую ерунду?
— Мама! Я же тебя просил: не трогай мои вещи!
— Не смей повышать на меня голос! Лучше ешь давай, а то все остынет. Как тебе клецки? Я хотела приготовить кровяные колбаски с пюре, но поскольку у меня оставалась манка и…
— Ну и отлично! Терпеть не могу кровяные колбаски, — сказал Жозеф, принимаясь за еду, но не успел он поднести вилку ко рту, как в дверь постучали.
— Кого это еще принесло, — проворчала Эфросинья. — Сиди, я открою.
Пришел Виктор. Не слушая его протесты, мадам Пиньо поставила перед ним полную тарелку. Он уже поужинал с Таша и братьями Натансонами, но заставил себя проглотить несколько клецок, выпил три стакана воды и вежливо отказался от печеного яблока.
— Ну что, как ваши успехи? — спросил он, когда они с Жозефом оказались наедине.
— Знаете, где находится тупик Беф?
— Нет, не знаю. Ну, не томите же, рассказывайте!
— Там обитает Шарманса из ломбарда. Вот, что мне удалось разузнать. А теперь ваша очередь рассказывать… Минутку, у стен есть уши.
И Жозеф плотно закрыл дверь своей комнаты.
Глава одиннадцатая
22 ноября, воскресенье
Утром юношу разбудил стук колес удаляющейся тележки. Жозеф выглянул в окно. В неверном свете фонаря с трудом можно было разглядеть, как, укутанная в три вязаные шали, Эфросинья Пиньо отбыла на Центральный рынок за покупками. Теперь можно вставать.
Жозеф быстро оделся и, сунув в каждый карман по яблоку, тоже вышел на улицу. Ему было стыдно, что он не помог матери добраться до рынка, тем более, что у него как раз выдался свободный денек, но сегодня на то были веские причины.
Он шел быстро и вскоре немного согрелся. Париж начинал просыпаться. Магазины на Монмартре, словно сказочные чудовища, открывшие пасти, проглатывали заспанных приказчиков и продавщиц. Узкую и темную улицу Круассан наводняла толпа, состоявшая по большей части из мужчин. Одни стояли на тротуарах, другие пристроились у стоек уличных кафе, попивая пиво и покуривая первую сигарету. Их голоса сливались в невнятный гул. Жозеф вновь окунулся в атмосферу своей юности. Еще недавно он точно так же ранним утром коротал время в ожидании свежих, пахнущих типографской краской газет, продажей которых худо-бедно зарабатывал себе на хлеб. А потом, заплатив два франка за сотню, мчался на окраины Парижа, чтобы сбыть свой товар по два су за штуку. Он и сейчас с закрытыми глазами нашел бы дорогу в лабиринте извилистых переулков, ведущих к типографии.
В какой-то момент все дружно ринулись ко входу в здание. Те, кто обслуживал газетные киоски, забирали огромные пачки газет и уходили, сгибаясь под их тяжестью. А те, кто торговал вразнос, едва отойдя, принимались размахивать газетой и во все горло выкрикивать заголовки:
— Читайте в «Ла Патри»! Отчет о заседании Палаты!
— Покупайте «Пасс-парту»! Специальный воскресный выпуск! Сенсационные подробности убийства Ноэми Жерфлер!
— «Ле пти паризьен»! Ужасная смерть смотрителя зверинца!
Часть тиража грузили на подводы, запряженные першеронами, и везли к вокзалам, чтобы доставить в другие города. Перед ними ехал человек на велосипеде и непрерывно нажимал на клаксон, требуя освободить дорогу.
Когда суматоха у входа в типографию поутихла, Жозеф заметил Марселя Бишонье, который грузил в повозку вчерашние газеты. Марсель раздался в плечах и растолстел, но от косоглазия не избавился. Он сразу узнал Жозефа и радостно распахнул объятия, но тот уклонился, опасаясь быть раздавленным.
— Я не знал, где тебя искать, и пришел сюда наудачу. Как твои дела?
— Мой отец помер, фабрика перешла ко мне. Я расширил дело, и теперь предприятие называется «Бишонье-сын, конфетти и другие товары для праздника». Мы выпускаем серпантин, свистульки, а скоро запустим производство бумажных фонариков. Ну, а ты как?
— Все по-прежнему: тружусь в книжной лавке и пишу роман. Собственно, поэтому я к тебе и пришел. Мне нужно изучить кое-какие материалы. У тебя случайно не сохранилось номеров за 1886 год?
— Ха! Ну, ты даешь! Да у меня на складе валяются тонны бумажного хлама — на случай, если возникнут перебои с сырьем. Сомневаюсь, что тебе удастся отыскать там нужный номер. Но попробовать можно. Давай, забирайся в мою колымагу. Пошла, Финетт! — Бишонье взялся за поводья и обернулся к Жозефу: — Уселся? Сейчас познакомлю тебя со своей благоверной.
— Так ты женат? — не без зависти спросил Жозеф.
— Уже два года. Даже наследником успел обзавестись, его зовут Эмиль. Я тебя без обеда не отпущу, так и знай! По воскресеньям Каролина готовит изумительный бараний окорок в чесночном соусе. Поедим, а заодно и новости обсудим.
* * *
Купленные к завтраку горячие круассаны согревали Виктору руки. Ему с трудом удавалось подавить желание раскрыть пакетик и откусить кусочек. У газетного киоска его взгляд упал на иллюстрированный выпуск газеты «Ле пти паризьен»: «Лев-убийца» — гласил крупный заголовок. Виктор купил газету и прочитал:
В четверг вечером, когда Ботанический сад уже закрылся для посетителей, на смотрителя зверинца Базиля Попеша, 56 лет от роду, набросился лев. Коллеги нашли несчастного только утром и отвезли в больницу Питье, где он через несколько часов скончался от потери крови. Как этот человек оказался заперт в клетке?..
Имя Базиля Попеша показалось Виктору знакомым. Он поспешил в мастерскую, где Таша, одетая в светлую блузку и юбку из черной тафты, расставляла на столе чашки.
— Тебе чай или кофе? — спросила она.
— Угу, — буркнул Виктор, лихорадочно листая блокнот.
Вот оно! Записано его собственной рукой в пятницу, 13 ноября:
«Базиль Попеш, зверинец Ботанического сада, родственник Грегуара Мерсье»
— Ч-черт! — вырвалось у него.
— Что случилось?
— А? Да так, ничего. Я тут вспомнил… Мне срочно нужно в лавку.
— В воскресенье?
— Ну да… Графиня де Салиньяк собиралась зайти, чтобы забрать заказанный роман, а время не уточнила. Если она придет и никого не застанет, закатит такой скандал!.. Прости, совсем вылетело из головы.
Таша начала догадываться, что Виктор что-то скрывает. Это связано с той девушкой, которая теперь живет в его квартире? Ей мало Кэндзи, и она взялась за Виктора? Мог бы придумать более благовидный предлог. Они же хотели распить бутылочку шампанского в помещении бывшей парикмахерской…
— Вот уж не думала, что графиня имеет над тобой такую власть, — холодно заметила Таша, наливая ему чай.
— Не сердись, дорогая! — улыбнулся ей Виктор.
Таша обещала себе, что не станет ревновать, подозревать его во всех смертных грехах и ограничивать его свободу, но теперь невольно задумалась. Что же такое Виктор нашел в своих записях? Неужели опять взялся за какое-то расследование? Если так, то это наверняка связано с нашумевшими убийствами, о которых в последнее время пишут газеты. Ей он, конечно же, ничего не расскажет, пока не найдет разгадку. Ему наплевать, что она за него волнуется.
Она взглянула на Виктора, который с аппетитом уплетал круассаны, бросая на нее нежные взгляды. Спросить у него напрямую? Или лучше прибегнуть к хитрости?
— Обидно, — произнесла она, выбрав второе. — В кои-то веки у нас с тобой у обоих выдался свободный день…
— Я постараюсь управиться побыстрей и вернусь еще до обеда.
— Но ты же только что сказал, что не знаешь, когда появится графиня.
— Не надо придираться к словам! Если Кэндзи окажется дома, я попрошу его отдать графине книгу и смогу уйти со спокойным сердцем.
— Неужели ты упустишь возможность повидаться с ней? — ехидно спросила Таша.
— Да ну ее к черту! Пойми, мне так хочется побыть с тобой, но…
— Ладно, не подлизывайся, иди уже! — рассмеялась Таша.
* * *
Каролина, жена Бишонье, оказалась изящной брюнеткой со вздернутым носиком. Она радушно встретила Жозефа и заявила, что Марсель часто рассказывал ей об их детских проделках, а потом показала младенца, который сладко спал в своей кроватке.
Жозеф не собирался оставаться у Марселя на обед, но не смог устоять перед уговорами его супруги. Правда, сначала ему пришлось осмотреть производственный корпус, оснащенный по последнему слову техники: и систему канализации, и чаны, заполненные массой неопределенного цвета, — запах от них исходил такой, что Жозефу чуть не стало дурно.
— Если вас смущает вонь, заткните нос и дышите ртом, — сказала ему Каролина, которая пошла вместе с ними. — Это хлорка. Меня от нее тоже тошнит. Она нужна, чтобы отбеливать бумажную массу, а потом мы добавляем зеленую, желтую или красную краску и делаем дешевые украшения для всяких праздников. Я говорю Марселю, что нам надо освоить выпуск карнавальных масок и колпаков, но сейчас он может думать только о заказах к Рождеству. Вот если бы вы меня поддержали…
Жозеф пообещал поговорить с Марселем на эту тему, и они вернулись в домик Бишонье.
Обед оказался очень вкусным. Жозеф съел двойную порцию бараньего окорока в чесночном соусе со шпинатом, потом огромный кусок торта с кофейным кремом, и с трудом выбрался из-за стола.
Друзья снова вернулись на фабрику и вместе с еще тремя рабочими отправились пить кофе в мастерскую.
— Папаша Теофиль, посоветуйте, где бы моему другу поискать газеты за восемьдесят шестой год, — обратился Марсель к бодрому старику, чей возраст выдавала лишь густая седина.
— Ну, если они у нас и сохранились, то на дальнем складе. Там еще ваш батюшка держал бумажный хлам. — Старик повернулся к Жозефу. — Поскольку мсье Бишонье-старший преставился в восемьдесят седьмом, газеты за предыдущий год должны быть сверху.
Жозеф последовал его совету и смело вскарабкался на шаткую приставную лесенку. При виде горы пожелтевшей бумаги энтузиазма у него поубавилось, но он напомнил себе, что успех будущей книги толкнет Айрис в его объятия, и приступил к делу.
Три часа, не покладая рук, Жозеф рылся на складе. Несмотря на холод, он взмок и снял
сюртук. Наконец он отобрал небольшую стопку газет и журналов, в которых надеялся найти нужную информацию, и начал листать их. Здесь были разрозненные номера «Иллюстрасьон», «Ле Монд иллюстре» и газет «Пти журналь», «Голуа», «Матен», «Сьекль», «Фигаро» и еще наименований двадцать.
Буквы и строчки мелькали у Жозефа перед глазами. Он уже готов был сдаться, но тут его взгляд упал на первую полосу иллюстрированного приложения к «Пти журналь». Там была изображена женщина в темном пальто, ее лицо скрывала плотная вуаль. Она стояла у прилавка ювелирного магазина, а какой-то грузный мужчина показывал ей футляр с брильянтовым колье. Подпись под рисунком гласила:
«Неуловимая баронесса де Сен-Меслен». И чуть ниже:
«Что стало с Проспером Шарманса? Куда исчезли украшения? Читайте материал на последней странице». Жозеф с замиранием сердца взглянул на дату — 20 ноября 1886 года. Вот она, разгадка! Юноша лихорадочно перевернул газету и остолбенел: последней страницы не хватало. Проклиная свою судьбу, он поднял глаза на горы бумаги: и года не хватит, чтобы найти тут отдельную страничку.
«Ну и ладно, — успокаивал себя Жозеф, — зато теперь мы знаем имя убийцы и мотив преступления!»
* * *
Грегуар Мерсье метался по кварталу Крулебарб, пытаясь собрать свое маленькое стадо. Несколько минут назад какой-то негодяй подкрался к козам и попытался увести малышку Перванш. Обнаружив это, Грегуар погнался за вором, а остальные козы тем временем разбрелись кто куда.
Зеваки бурно обсуждали происшествие. Дурло воспользовался суматохой и попытался незаметно ускользнуть, но хозяин схватил его за ошейник.
— Эх ты, старая скотина, совсем ослеп, что ли! — попенял он псу, и тот виновато опустил голову.
— Не ругайте его, — вмешалась соседка Мерсье, мамаша Гедон. — Все ведь обошлось. Кстати, вас там какой-то господин дожидается, — указала она на стоящего невдалеке Виктора.
Грегуар Мерсье подошел к нему и, поздоровавшись, печально произнес:
— Эх, не надо было мне покидать родные края. Выращивал бы овес и горя не знал, так нет же, понесла меня нелегкая в город. Пока мы молоды, хочется подзаработать, вот и ищем лучшей доли. А потом глядь — жизнь-то и прошла. Пес мой совсем состарился, вон, еле лапы переставляет, да и самому мне недолго осталось… Что тогда станется с моими козочками?..
— Простите, Грегуар, мне нужна кое-какая информация о вашем родственнике… — прервал этот мрачный монолог Виктор.
— Так вы уже знаете? — понизил голос Мерсье. — Вот ужас-то! Базиль…
— Вам удалось повидать его перед тем, как…
— Ну да… Он был весь в бинтах, но успел рассказать, что лев не просто так на него набросился.
— Вот как? — насторожился Виктор. — И что же произошло?
— Ботанический сад закрылся, и Базиль, как положено, пошел все проверить. Подошел к клетке львов и заметил, что молодой Сципион не съел свой кусок мяса и мечется из угла в угол, будто у него болит чего. Ну, Базиль и зашел к нему. Глядь — а в боку у Сципиона дротик торчит! Базиль хочет выйти, а дверь-то заперта. Тут появился уборщик, и Базиль его узнал: этого человека он видел за несколько дней до того, двенадцатого числа, около полуночи, только тогда на том было серое пальто и он следил за жильцом, что квартировал на первом этаже в их доме. Базиль как раз выглянул в окно подышать воздухом, а тот тип его и заприметил. А квартиранта… представляете, Базиль потом нашел его мертвым в винной бочке.
— Гастон Молина, — выдохнул Виктор.
— Так вот, уборщиком и был тот самый человек в сером, Базиль его узнал. А тот, прямо у него на глазах, возьми и всади льву в бок еще один дротик. Зверь взревел от боли и набросился на беднягу Базиля. — Грегуар Мерсье закрыл лицо руками.
— Примите мои соболезнования. А вы рассказали об этом в полиции?
— Вот еще! Мне и без них забот хватает! Да им только волю дай, они допросами замучают. А Базиль-то и сам побывал в тюряге, фараонам это известно.
— А где, говорите, жил ваш родственник? — Виктор протянул Грегуару несколько монет.
— Улица Линнея, дом четыре. Ну, мне пора, мсье, надо козочек кормить. — И старик посмотрел на собаку. — Пошли домой, Дурло. Мы с тобой сегодня честно заработали свой кусок хлеба!
* * *
«Когда находишь ответ, загадка кажется легкой», — пытался успокоить себя Виктор. Теперь он знал, что слова из записки «ул. Л., прв. 1211» означали: «улица Линнея, первый этаж, 12 ноября».
Он подошел к зданию под номером четыре. Дом как дом, ничего особенного. Что делать — просто постучать в двери и войти? Не вызовет ли это подозрений? В итоге он остановился на варианте, который уже не раз срабатывал.
За дверью послышались шаркающие шаги, и появился похожий на бульдога консьерж.
— Полиция, — сухо сказал Виктор, готовый сочинить любую небылицу, чтобы доказать это заявление.
— А, так вы по поводу господина Попеша со второго этажа? Ваши из комиссариата уже приходили, допрашивали меня. У него нет семьи, только дальний родственник родом откуда-то из окрестностей Шартра. Но я никогда его не видел и понятия не имею, как его зовут и где он живет. Больше мне нечего сказать. Печально, конечно, но, когда работаешь с дикими зверями, риск неизбежен.
— Я пришел в связи с другим делом.
— А, из-за старика Седилло? Так он поклялся, что больше не будет плеваться из окна. Мне даже жаль его: каково это — жить затворником в четырех стенах? Ему скучно, вот он и развлекается, как может.
— Вы позволите войти?
— Прошу вас. — Консьерж посторонился. — Извините за беспорядок. С тех пор как от меня ушла жена, прибраться тут некому.
Он впустил Виктора в душную каморку, загроможденную мебелью, смахнул с одного из стульев крошки, кивком предложил Виктору сесть, а сам плюхнулся на табурет поближе к бутылке красного вина и немытому стакану.
— Надеюсь, вы не арестовывать его пришли?
— Нет… Я веду расследование, это простая формальность.
— Ну, хорошо, я вам расскажу. Молочник ему ноги отдавил, вот он головой и тронулся. У него совсем никого не осталось, только я его и кормлю, причем, заметьте, плачу за продукты из своего кармана…
— Хорошо, я поговорю с жильцами, которые хотели бы получить компенсацию за беспокойство.
— Вы о тех, кто на первом этаже? Мадемуазель Бунь можно не считать — она уехала в Дижон ухаживать за больной матерью. А остальные пришли поздно, когда старик Седилло уже угомонился и спать лег.
— То есть они ввели полицию в заблуждение? — строго произнес Виктор. — Это им дорого обойдется. Назовите их имена!
— Ну, вообще-то, я не знаю их имен. У нас пустовали три комнаты, а тут появился некий мсье Дюваль и заплатил за два месяца вперед. Дело было в сентябре. Он сказал, что это для его дочери и зятя, что они, мол, живут в Монтаржи
[90] и хотят, чтобы у них было гнездышко в Париже, чтобы приезжать, когда им вздумается.
— А как выглядел этот мсье Дюваль? Толстый, лысый, с окладистой бородой и светлыми глазами?
— Извините, мсье, но тут я вам помочь не могу: с ним Антуанетта говорила. А на следующий день она собрала свои пожитки и ушла, оставив мне на память лишь квитанцию из прачечной да три банки сливового варенья. Вот ведь как подло жизнь устроена: встретишь женщину, полюбишь, женишься, надеешься состариться с ней вместе, а потом в одно прекрасное утро — раз, и просыпаешься один в холодной постели. — Он наполнил свой стакан. — Вот я и утешаюсь как могу.
— Хорошо, тогда опишите, как выглядят зять и дочь мсье Дюваля, — потребовал Виктор.
— Ну… — задумался старик. — Я впускал их всего раза два… у меня тогда так башка раскалывалась… а на следующее утро ставни у них были наглухо закрыты. Да и что мне за дело: в конце концов, за аренду уплачено, а слежка в мои обязанности не входит, это по вашей части. Так что скажете насчет старика Седилло? Может, ему решетку на окно установить, он тогда и не сможет высовываться… А коли вы хотите его допросить, надо бы мне пойти предупредить, не то его еще, чего доброго, удар хватит.
— Нет-нет, не беспокойтесь, я постараюсь все уладить.
Консьерж проводил Виктора и, глядя ему вслед, пробормотал себе под нос:
— Надо же, полицейский, а такой славный малый!
Виктор лежал на кровати и с удовольствием наблюдал, как Таша расчесывает свои роскошные рыжие волосы.
Вернувшись, он попросил у нее прощения. Она рассмеялась, и они решили никуда не ходить. Весь день провели вместе, перекусили дома, а потом Таша показала Виктору картину, что стояла у нее на мольберте. Он изобразил восхищение и решил, что выскажет свои замечания как-нибудь в другой раз. Ведь он тоже терпеть не мог, когда критикуют его фотографии.
В дверь постучали. Виктор насторожился.
— Ты кого-нибудь ждешь? — взглянул он на Таша.
Она покачала головой. Виктор накинул халат и пошел открывать. За дверью стоял Жозеф.
— Что-то случилось? — нахмурился Виктор.
— Нет, мсье Легри, не случилось, но я знаю, кто убийца, — взволнованно заявил тот.
В прихожей появилась Таша, и Виктор красноречивым жестом прижал палец к губам.
— Что же вы в дверях топчетесь, Жозеф? Заходите! — радушно пригласила она.
Мужчины уселись возле печки.
— Вот, — через несколько минут сказала Таша, ставя поднос на стул рядом с Жозефом, — здесь вино, хлеб и сыр, подкрепитесь немного.
Ей было интересно, что привело к ним юношу, но она отошла в сторонку, села и раскрыла книгу, делая вид, что погрузилась в чтение.
— Как вам могло прийти в голову явиться сюда? — недовольно прошептал Виктор.
— Простите, мсье Легри, я подумал, что это срочно. Сейчас, когда мы знаем имя убийцы, нельзя терять ни минуты.
— Ладно, рассказывайте.
— Я разыскал газету за 1886 год! — гордо заявил Жозеф и посмотрел на Виктора в ожидании одобрения, но тот на эту новость никак не отреагировал, и юноша расстроился: — Ну вот, я три часа рылся в газетах, принес вам железное доказательство, а вы…
— Давайте сюда газету, — сказал Виктор, — только чтобы Таша ничего не заметила. — Он схватил газету и прочитал:
Вот уже четыре дня, как нет никаких известий о ювелире с площади Белькур Проспере Шарманса. В прошлый четверг управляющий ювелирного магазина, принадлежащего Шарманса, заявил об исчезновении своего хозяина. В то утро господин Шарманса ушел из лавки вместе с одной из покупательниц, баронессой де Сен-Меслен, чтобы показать кое-что из дорогих украшений мужу этой дамы. С тех пор о судьбе ювелира ничего не известно. Полиция тщетно пытается разыскать баронессу де Сен-Меслен.
— Ведь это имя, Сен-Меслен, упоминается в записке, которую вы нашли в гримерке Ноэми Жерфлер, — напомнил ему Жозеф.
Виктор, не отвечая, читал дальше:
По словам управляющего, дама утверждала, что владеет поместьем в окрестностях Лиона. Стоимость украшений, которые унес господин Шарманса, составляет полмиллиона франков. Однако в Лионе никто никогда не слышал о загадочной баронессе…
Заметка обрывалась на полуслове, но информации для размышлений в ней было достаточно. Виктор задумчиво пробормотал:
— Итак, в 1886 году в Лионе некая дама, назвавшись баронессой де Сен-Меслен, увозит с собой ювелира Проспера Шарманса, — рассуждал он вполголоса, — вместе с драгоценностями на полмиллиона франков. Что с ним произошло и куда он исчез, нам неизвестно. Но пять лет спустя он появляется в Париже и теперь работает в ломбарде. Допустим, Шарманса узнал мнимую баронессу в женщине, которая теперь выступает в театре «Эльдорадо» под именем Ноэми Жерфлер, она же Ноэми Фуршон. Он убивает сначала ее дочь — тут, видимо, не обошлось без соучастия известного в Лионе бандита Гастона Молина, — а потом и саму Ноэми. Из опасения, что Молина его выдаст, Шарманса убивает его тоже и засовывает труп в винную бочку, а потом избавляется и от случайного свидетеля — Базиля Попеша, который был соседом Гастона Молина.
Жозеф жадно ловил каждое его слово.
— Точно, патрон! Вы докопались до самой сути. Вам бы книги писать, — восхитился он.
— Остается только выяснить, какую роль сыграл в этом деле доктор Оберто, о котором шла речь в записке.
— А может, этот клочок бумаги вообще не имеет отношения к убийствам? — предположил Жозеф.
— Да нет, я так не думаю. Вот вам деньги, возьмите экипаж, поезжайте домой и ложитесь спать. Завтра я кое-куда наведаюсь и появлюсь в лавке где-нибудь к обеду, тогда и решим, что делать дальше. Если мсье Мори спросит, почему меня нет, скажите, что я повез заказанные книги за город.
— Слушаюсь, патрон! — отрапортовал Жозеф. — До свиданья, мадемуазель Таша!
— Всего доброго, Жожо, — откликнулась девушка.
Виктор подошел к ней.
— Не понимаю, зачем приходил Жозеф, — с деланным равнодушием сказал он, — обсудить дела можно было и завтра.
— Правда? — недоверчиво взглянула на него Таша. — А мне показалось, вы были очень увлечены беседой. Ты от меня ничего не скрываешь?
— Да что ты, дорогая, уверяю тебя…
— Смотри, если потом вдруг выяснится, что ты опять ввязался в какое-то расследование, и полиция придет меня допрашивать, мне придется лгать, а у меня это плохо получается.
— Полиция? С чего бы это полиции вмешиваться в мои дела? Мы не продаем краденого, — отшутился Виктор.
— Не спеши давать честное слово, любимый, чтобы не пришлось потом нарушать его, — проворковала Таша, прижимаясь к нему.
Она посмотрела ему в глаза, и он отвел взгляд. Победа в этом молчаливом поединке Таша вовсе не обрадовала.
Глава двенадцатая
23 ноября, понедельник
Виктор остановил экипаж на улице Линнея и вышел. Лил проливной дождь, порывистый ветер сбивал с ног. Было так пасмурно, что казалось, на дворе не утро, а поздний вечер. Виктор прошел мимо здания с вывеской: «Бальнеум: турецкие и римские бани». Он собирался еще раз осмотреть дом, где жил Базиль Попеш и проходили тайные свидания Гастона Молина и Элизы Фуршон.
Он еще раз обдумал детали расследования и пришел к выводу: улица Линнея, на которой жили Базиль Попеш и Гастон Молина, Ботанический сад, в котором работал Попеш, и больница Питье, куда его привезли, винный рынок, где нашли труп Гастона Молина, и тупик Беф, где живет Шарманса, а также приют Сальпетриер и улица Монж, связанные с загадочным доктором Оберто, — все, что имело отношение к этой истории, происходило в восточной части Пятого округа.
Виктор свернул на улицу Жоффруа-Сент-Илера. Ливень прекратился, и теперь дождь монотонно моросил. «Опять все тот же заколдованный круг, — думал Виктор. — Только обрадуешься догадке, как снова приходит неуверенность, а за ней — сомнения». Вскоре он оказался в безлюдном уголке на задворках больницы Питье. Тут можно было встретить лишь редких посетителей с гостинцами для больных. А жили в этом районе в основном рантье, служители Музея и университетские профессора. Он напоминал какое-то заколдованное сонное царство, тишину которого изредка нарушали доносившиеся из Ботанического сада пронзительные крики павлина и рев слона.
На улице Гласьер люди выходили из омнибуса и осторожно ступали на скользкий от дождя тротуар. Виктор обратил внимание на студента с потертой кожаной папкой под мышкой и подумал, что, наверное, тот каждый день проходит здесь ровно в девять-пятнадцать. «Как хорошо, что я волен распоряжаться своим временем», — подумал Виктор, вышел на улицу Монж, перевел дыхание и огляделся.
Если верить медной табличке, доктор Оберто, психиатр из больницы Сальпетриер, проживал в доме номер 68. Виктор с опаской вошел в кабину гидравлического лифта — в отличие от Кэндзи, ему вовсе не нравилось это новомодное изобретение. Дверь квартиры на пятом этаже открыл неразговорчивый слуга. Он спросил гостя, как его представить, и Виктор назвался Пиньо. Неслышно ступая по мягкому ковру, слуга проводил его из прихожей с обитыми красным шелком стенами в гостиную, игравшую роль приемной. Здесь царило полное смешение стилей, а вдоль стен стояли массивные дубовые кресла, сидеть на которых было крайне неудобно.
Посетители — трясущийся старик, желчный мужчина с подергивающимся от нервного тика глазом и бледная, худосочная дама средних лет — с надеждой взирали на дверь кабинета.
Виктор отошел к окну: за кисейными занавесками он разглядел кусочек Ботанического сада с несколькими голыми деревьями и царившим над ними вековым кедром. Дым из труб тюрьмы Сент-Пелажи и больницы Питье поднимался в небо и сливался со свинцовыми тучами, которые, будто крышкой, накрывали кипящий котел города. На другой стороне улицы подручный булочника с накрытой белой тряпкой корзинкой в руках прокладывал себе путь сквозь сплошной встречный поток прохожих. Виктор представил, как этот парень поднимается в тесную холостяцкую квартирку под самой крышей, где его поджидает старик военный в отставке, и ему стало тоскливо. Тем временем в приемной появился еще один пациент — прикованный к инвалидному креслу грузный мужчина. Виктор решил было почитать газеты, сваленные на столике, но сосредоточиться не получалось — мысли перескакивали с одного на другое. Тогда он стал рассматривать картину над камином: преподаватель обследует больного в аудитории, полной студентов-медиков. Виктор подошел поближе, чтобы разобрать подпись художника, но услышал мужской голос:
— Мсье Пиньо?
Виктор вспомнил, что ради конспирации присвоил себе фамилию Жозефа, и повернулся. Кабинет доктора, в отличие от гостиной, был почти пуст: тут стояли только заваленный книгами стол и три стула. Если бы не несколько гравюр на стенах, можно было подумать, что вы оказались в кабинете чиновника. Доктор Оберто встретил Виктора дежурной улыбкой и приветливым жестом пригласил сесть. Лицо у него было моложавое, хотя в волосах уже пробивалась седина. Виктору показалось, что он уже где-то видел этого человека, но где именно, он не мог припомнить.
— Фамилия, имя, дата рождения, род занятий? — Оберто взял лист бумаги и окунул ручку в чернильницу.
— Пиньо Жозеф, 14 января 1860 года, предприниматель, — бодро солгал Виктор.
— На что жалуетесь?
— Ну… я… трудно описать…
— Головные боли?
— Случается, но…
— Бывает ощущение, будто голову сжало как тисками? Тяжесть в желудке?
— Да, особенно после еды.
Врач искоса на него посмотрел.
— А как с потенцией?
— Никаких проблем.
— Раздевайтесь.
— Послушайте, я вас обманул, — решил приступить к делу Виктор. — Я репортер и пишу серию статей о чрезмерном интересе публики к некоторым видам преступлений. Особенно меня интересует мотив мести. Я хотел бы узнать ваше мнение как психиатра, но вижу, вы очень заняты…
— Раз видите, зачем было отнимать у меня столько времени зря? Представьте себе, я тоже не чужд журналистики и отлично знаю, что главное в этой профессии — краткость!
Оберто отложил ручку, встал и подошел к окну.
— Ладно, я скажу вам, что знаю. Но учтите, я не специалист в области криминалистики. И даже если сталкиваюсь с человеком, способным совершить преступление, я далеко не всегда могу составить представление о мотивах, которые им движут.
— И все же, может, вам попадались такие, кто одержим жаждой мести?
— Великое множество. Но редко кто переходит от слов к делу.
— А что, по-вашему, может заставить человека отомстить обидчику через много лет?
— Убеждение, что не будь его, жизнь сложилась бы по-другому. Чем сильнее он пострадал, тем большую боль стремится причинить тому, кого считает виновным.
— Скажите, бывают ли другие причины для такого стремления покарать?
— Неизбежное следствие всякого страдания — ненависть. Сильное чувство, которое толкает к разрушению.
— И что испытывает человек, решившийся на месть? Ведь она не исправит причиненный ему вред!
— Нет, конечно, прошлого не воротишь. И в то же время, отомстив на деле или, что случается чаще, мысленно, человек пытается вернуть себе самоуважение. Эта тема часто становится сюжетом популярных романов — ведь люди любят читать о сильных чувствах. С незапамятных времен возмездие считалось священным: око за око, зуб за зуб. И будь то правосудие или десница Господня, факт остается фактом: в результате возникает порочный круг. На международном уровне желание отомстить часто ведет к войнам. Да что я вам рассказываю, вы и без меня все это прекрасно знаете. Если среди моих пациентов и есть потенциальные убийцы, то их мотивы слишком сложны, чтобы свести их к одной красивой фразе: «Я испанец, и нет для меня ничего слаще мести».
[91]
Доктор Оберто вернулся за стол и открыл медицинский словарь. Виктор понял, что разговор окончен.
В приемную они вышли вместе. Посетители следили за ними настороженными взглядами. Виктор указал на картину над камином и спросил:
— Это работа кисти Готье?
— Нет, фамилия художника Жобер, он не слишком известен. Это полотно я храню в память о далеких временах, когда учился у профессора Жардена в Лионе. Я тут третий слева, вон, видите — тощий, с бородкой. Давно это было.
— Я слышал, что медицинский факультет в Лионе — один из лучших.
— Так оно и есть. Если вам интересно, приходите в Сальпетриер, я там читаю лекции по средам во второй половине дня. Заодно расскажете, как продвигается ваша статья…
Виктор взял наемный экипаж. «Ли-он, Ли-он»… Все вертелось вокруг этого слова. Даже гибель Базиля Попеша.
[92] Но какое отношение ко всему этому может иметь психиатр? Может быть, тот факт, что он некогда жил в Лионе, — всего лишь совпадение? Нет, это не может быть случайностью. Если имя Оберто, как и Шарманса, упоминается в загадочной записке Гастона Молина, значит, доктор тоже связан с этим делом. Осталось только это доказать. Виктор решил положиться на интуицию.
Он выглянул в окно экипажа и увидел прямо под надписью «Согласно закону от 29 июля 1881 года расклеивать объявления запрещено» плакат Эжена Грассе с рекламой чернил. Жирные черные буквы напомнили Виктору толстого кота, который жил в кабаре у Родольфа Сали, и он вдруг вспомнил, где видел доктора Оберто: в «Ша-Нуар» накануне того дня, когда был обнаружен труп Ноэми Жерфлер. Именно тогда Луи Дольбрез показал ему на какого-то человека, кажется, это и был Оберто. Только тогда его звали иначе. «Нет, я, наверное, обознался, — решил Виктор. — Ну что известному психиатру из Сальпетриер делать в кабаре? Дольбрез говорил, что этот человек занимается журналистикой…»
Виктор вспомнил, что в приемной доктора лежало много газет, в том числе номера «Эко де Пари». Да, Дольбрез упоминал именно эту газету после того, как о чем-то переговорил с Оберто, который тогда представился… Какое он назвал имя? Надо расспросить Дольбреза. Но где узнать его адрес? «Если спросить у Таша, она решит, что я возомнил Дольбреза своим соперником и хочу с ним разобраться… Нет, лучше обратиться к Эдокси Аллар. Правда, она снова начнет строить мне глазки… Что ж, на какие жертвы не пойдешь ради дела!» Эдокси оставляла ему свою визитку. Виктор точно помнил, что положил ее в папку, где держал свои бумаги. Нельзя терять ни минуты, ведь Оберто тоже может вспомнить про их встречу в «Ша-Нуар». Виктор отпустил экипаж на набережной Малакэ.
В книжной лавке никого не было. Виктор уже собирался пройти к себе в лабораторию, как услышал какой-то шорох в кладовой. Он осторожно подкрался и заглянул внутрь. У застекленного шкафа, где Кэндзи хранил свои книги и сувениры, привезенные из дальних странствий, на приставной лесенке сидели рядышком Айрис и Жозеф. Они листали красный том с золотым обрезом. Виктор разглядел название на обложке: «Опасные связи». Он знал, что это издание проиллюстрировано весьма фривольными гравюрами, и счел неуместным не только сам выбор книги, но и то, как близко друг к другу сидели молодые люди. Общение с простым приказчиком из книжной лавки может повредить репутации Айрис — девушки из приличной семьи, получившей прекрасное образование.
— Жозеф, кто позволил вам отлучиться из лавки?! — рявкнул он, и бедняга Жожо чуть не свалился с лесенки. А вот Айрис ничуть не смутилась.
— Что это вы кричите? — с лукавой улыбкой спросила она. — Чем мы провинились?
Виктор, не ответив, накинулся на Жозефа:
— Вы не слышите? Вам здесь за что платят? А ну марш на рабочее место! — И он перевел суровый взгляд на Айрис: — Кэндзи здесь?
— Нет, уехал к кому-то из клиентов.
— Айрис, в отсутствие вашего крестного ответственность за вас лежит на мне.
— И что? Я проводила время в приятном обществе.
— Я видел. И впредь советую вам держаться в рамках приличий, мадемуазель.
Виктор развернулся на каблуках и направился к себе. Жозеф бросил ему вслед красноречивый взгляд и проворчал:
— Конечно, кричать на меня легко! Хотя сам в магазине почти и не бывает. А как же тогда свобода? А равенство? Или это только слова: «Свобода, равенство, братство»?! Нет никакой справедливости!
Виктор раздраженно вытряхнул на стол содержимое папки для писем, но тут за его спиной послышалась музыка. Он резко обернулся. Покачивая головой в такт мелодии, Айрис держала в руке часы на цепочке — Виктор подарил их Кэндзи на день рождения два года назад.
London bridge is falling down,
falling down, falling down…
[93]
— Приятная мелодия, — сказала Айрис. — Она играет каждый час. В детстве я часто под нее засыпала. Эти часы принадлежали вашему отцу, потом — вашей матери, а затем достались вам.
Виктор оторопел, а Айрис продолжала:
— Вы никогда не задумывались, что сталось с тетушкой Глорией, которую Дафнэ навещала трижды в месяц?
— Откуда вы об этом знаете?!
Имя, которое произнесла девушка, вызвало у Виктора смутные воспоминания: вот мать склоняется к нему, целует в лоб и поручает заботам Кэндзи. А вот она рассказывает Кэндзи о состоянии здоровья мисс Глории Далвич, своей дальней родственницы из Хэмпшира, особы крайне болезненной.
— Глория умерла через некоторое время после моего возвращения во Францию, где-то в 1879 году. Она ненадолго пережила мою мать, — пробормотал Виктор. — Мне рассказал об этом Кэндзи.
— Держу пари, его рассказ был предельно лаконичен.
— Но, позвольте… что все это значит?
— В раннем детстве я жила в маленьком уютном домике неподалеку от Уинчестера, с кормилицей. Ее звали Глория, она была родом из Далвича и часто рассказывала мне, что своими глазами видела Хрустальный дворец, который, как вам, вне всякого сомнения, известно, выстроили к первой Всемирной выставке в 1851 году.
— Глория Далвич, — повторил Виктор изменившимся голосом.
— Трижды в месяц нас навещала красивая дама, она осыпала меня подарками. Но больше всего на свете я любила играть с ее часами. Я прикладывала их к уху и представляла себе, что внутри живут крошечные феи, которые играют эту мелодию специально для меня. Когда мне исполнилось четыре года, красивая дама вдруг перестала приезжать. Глория крепко обняла меня и сказала, что моя мама умерла, но плакать не нужно, потому что она попала в рай. В моей жизни появился элегантный сдержанный господин, который называл себя моим крестным. Крошечные феи не оставили меня, я никогда не знала недостатка в нежности. Вскоре Глория тоже умерла, и Кэндзи отправил меня в Лондон, в пансион мисс Доусон. Там меня звали мисс Эббот…
Виктор смотрел на девушку, не в силах произнести ни слова. Айрис его разыгрывает? Нет, не может быть.
— То есть вы хотите сказать, — промямлил он, — что вы моя…
— Я собиралась постепенно подготовить вас к этому, но ваш менторский тон настолько меня взбесил, что я не сдержалась. Поверьте, я очень рада, что у меня есть брат и что это именно вы. Но мне надоела постоянная опека. Сначала мисс Доусон, потом мадемуазель Бонтам, теперь вы…
— А вы уверены, что Дафнэ была вашей…
— Да. И получила этому подтверждение, обнаружив и вскрыв два запечатанных конверта, которые отец хранил в шкатулке у себя под кроватью. Знаете, что там оказалось?
— Нет, — ответил Виктор и добавил: — Я не позволяю себе рыться в личных вещах Кэндзи.
— Не надо меня упрекать. Я имела право знать правду. Так вот, в конвертах я обнаружила свое свидетельство о рождении, фотографию Дафнэ со мной на руках, а еще справку о моем крещении по англиканскому обряду.
Виктор поймал себя на том, что внимательно вглядывается ее лицо. Айрис говорила очень серьезно. А значит, ему придется свыкнуться с мыслью, что его мать была любовницей Кэндзи.
— Все очень просто, — продолжала Айрис, не отводя взгляда. — Дафнэ взяла с Кэндзи клятву хранить молчание, потому что хотела избежать скандала — когда я родилась, вам было четырнадцать, со свойственным этому возрасту максимализмом вы могли осудить ее. Помните, в 1874 году Дафнэ уезжала на четыре месяца? Тогда я и родилась. Представьте себе, как сильно должен был Кэндзи любить ее, чтобы согласиться хранить все в тайне… Потеряв любимую женщину, он мог бы утешиться, рассказав нам все, но… Он стал называть себя моим крестным… И я ему подыгрывала. Хотите верьте, хотите нет, мне будет не хватать этой игры.
— Иными словами, он вынужден был пожертвовать интересами своей дочери ради чужого ребенка? Да он должен был меня возненавидеть!
— Напротив, он очень привязан к вам.
— И к вам тоже!
— Естественно, но мы с ним мало общались. Он во что бы то ни стало хотел избежать огласки. Эта тайна тяжким грузом лежит у него на сердце. И я считаю, что мы с вами должны ему помочь. Лично я рада, что у меня есть брат, правда, предпочла бы, чтобы он не был таким тираном и пуританином. Тем более, что мы с Жозефом не делали ничего предосудительного. Он очень милый. Виктор, ну будьте же ко мне снисходительны… Кстати, Таша вряд ли понравился бы ваш интерес к судьбе девушки в красном…
— Вы и это знаете?
— Ну я же не слепая! Переживания Кэндзи, ваши настойчивые расспросы, мой скоропалительный переезд на улицу Сен-Пер — все это лишь подтвердило мои догадки. Я читала газеты. Бедняжка Элиза, она так мечтала о большой любви… Надеюсь, вы найдете того, кто ее убил. И не переживайте, я никому, кроме вас, ничего не рассказывала.
Виктор растерялся. У него голова шла кругом. Его мать и Кэндзи… Абсурд какой-то! Этой девчонке книжки бы писать! С чего начался их разговор? Ах, да, с часов.
— А часы… вам их Кэндзи пода…
— Он каждый вечер кладет их в изголовье кровати. Сегодня утром я их стащила. А когда хотела вернуть на место, они заиграли эту мелодию. — Айрис улыбалась, но в глазах у нее стояли слезы.
Виктор выбежал вон. Он шел по улице Сен-Пер, пытаясь прийти в себя. Как мог Кэндзи столько лет скрывать от него правду? Хотя кто знает, как он отнесся бы ко всему этому тогда, в юности? Вряд ли с пониманием.
Виктора терзали противоречивые чувства: он восхищался выдержкой приемного отца и в то же время злился на него. А еще его охватила нежность по отношению к новоявленной сестре. Она, такая хрупкая на первый взгляд, нашла в себе силы открыто сказать о своих чувствах.
Виктору хотелось поговорить с Кэндзи начистоту, чтобы раз и навсегда избавиться от мучительных подозрений. Вот только как решиться на такой разговор?.. «Что же я ему скажу?» — думал он. Ему вдруг вспомнились произнесенные с легким английским акцентом слова, которые услышал год назад от медиума Нумы Уиннера: «Любовь. Я ее нашла. Ты поймешь. Подчинись зову сердца. Ты возродишься, если разорвешь цепь».
[94]
Почему он вспомнил их именно сейчас? Неужели мать и впрямь говорила тогда с ним? Может, она пыталась поведать о своей тайной любви к Кэндзи? Как бы там ни было, если рассказать об этом спиритическом сеансе японцу, это поможет пробить брешь в панцире его невозмутимости и вызвать на откровенность. Несмотря на весь свой прагматизм, Кэндзи верит в духов предков и послания с того света.
Жозеф стоял спиной к прилавку, скрестив за спиной руки, в позе святого мученика Себастьяна на известной картине. Виктор кашлянул, переложил книги с места на место, разгладил ладонью газету — никакой реакции.
— Жозеф, мне жаль, что так получилось…
Приказчик продолжал изображать великомученика.
— Ну как хотите, становиться перед вами на колени я не буду! — потерял терпение Виктор. — Я был неправ и готов это признать!
— Вы приказали мне вернуться на рабочее место. Вот он я, на месте, — подал голос Жозеф.
— Вольно, черт возьми! Где мадемуазель Айрис?
— Она пошла наверх и больше не выходила.
— Она сказала, что вы ей очень симпатичны.
— Вас это удивляет?
— Отнюдь нет. Я уверен, что вы вели себя как джентльмен. Нужно… приглядеть за ней.
Жозеф немного оттаял, но старался не показывать, что удовлетворен.
— Со мной ей ничто не угрожает. А как там наше расследование? Продвинулось хоть немного?
Расследование… Последние события отодвинули его на второй план. Жозеф прав — чтобы поймать преступника, действовать надо быстро.
— Мне нужно еще кое-что выяснить. Если мсье Мори не вернется к пяти часам, попросите мадемуазель Айрис подменить вас в лавке, отправляйтесь к ломбарду и идите за Шарманса. Я вернусь в лавку к закрытию.
— Будет сделано, патрон! — щелкнул каблуками Жозеф, вытягиваясь по струнке.
Худенькая горничная проводила Виктора в гостиную и скрылась. Он огляделся — мебель красного дерева, обитые бархатом кресла и целые джунгли комнатных растений — и хмыкнул при виде расстеленной на кушетке медвежьей шкуры. Похоже, Антонен Клюзель прав, и Фифи Ба-Рен действительно удалось подцепить какого-то русского князя. Среди густого меха что-то блеснуло.
Виктор подошел поближе и увидел на шкуре трость со знакомым нефритовым набалдашником в форме лошадиной головы. Кэндзи здесь?! Виктор поспешно направился к выходу, но тут в гостиной появилась Эдокси в домашнем платье из розового шелка.
— Какой сюрприз! Я рада, что вы пришли!
Виктор поклонился и поцеловал ей руку. Она оставила дверь в спальню полуоткрытой, и там мелькнул черный сюртук в полоску и сиреневый шелковый галстук. Ошибки быть не может: это Кэндзи. Кровь бросилась Виктору в голову, и он, забыв о приличиях, рванулся в спальню, но там уже никого не было. Когда к нему вернулось самообладание, он вернулся в гостиную и увидел, что трость исчезла, а Эдокси протирает уголком шали лист фикуса.
— Ох уж эти слуги! На них невозможно положиться. Так что вам угодно? — спросила она, закрывая дверь спальни.
— Мне необходимо встретиться с Луи Дольбрезом. В пятницу в «Мулен-Руж» мне показалось, что вы с ним довольно близкие друзья, и я подумал…
— Что застанете его у меня в постели?
— …Что вы знаете, где он живет. Он предлагал мне написать статью для одного из своих друзей, редактора «Эко де Пари», и я хотел сказать ему, что согласен.
— И только-то? А я-то подумала, что вы взялись блюсти мою нравственность.
— Дорогая моя Эдокси, я бы никогда не осмелился вмешиваться в вашу личную жизнь, — ответил Виктор и вдруг увидел пропавшую трость — теперь она стояла в углу, за фикусом. Он сделал движение в ту сторону, но Эдокси встала в него на пути.
— Рада вам помочь… Вот, — сказала она и, быстро набросав несколько слов, протянула ему клочок бумаги, — надеюсь, вы будете хранить молчание. Луи, конечно, душка, но бывает весьма вспыльчив.
— Можете не беспокоиться, я не скажу, где раздобыл его адрес.
Эдокси пристально посмотрела ему в глаза и позвонила в колокольчик, вызывая горничную.
Пробираясь в людском водовороте на улице Риволи, Виктор думал о Кэндзи — после рассказа Айрис он понял, что его компаньон не только заботливый отец, но и великий конспиратор, — а то, что японец неравнодушен к женщинам, было давно известно.
«В конце концов, — размышлял Виктор, — это ведь отчасти из-за меня Кэндзи так и не создал семью. Вот только ни одна из его многочисленных пассий даже отдаленно не напоминает Дафнэ…».
В парке у Пале-Рояль выстрелила пушка. Полдень. Виктор только сейчас понял, что зверски проголодался.
* * *
Таша вытерла руки о блузу и пристально посмотрела на стоящий перед ней холст. Эх, не надо было вообще за это браться. Она отошла на шаг от мольберта. Надо посмотреть правде в глаза: ее постигла неудача. Она обмакнула кисть в красную краску и жирными мазками закрасила фигуру танцовщицы, исполняющей канкан, а потом оторвала холст от рамы, скатала в рулон и сунула в мусорную корзину.
С этим покончено. Таша стало легче. Она опустилась на пол, подтянув колени к подбородку. Надо выработать четкий план действий. Ведь к цели ведет множество путей. Главное — найти свой стиль и способ самовыражения. Да, только жизненный опыт делает произведение живописи неповторимым. Может, стоит снова заняться копированием великих мастеров? «Поработаю несколько месяцев в Лувре, — решила она, — а там видно будет».
В комнату вошел Виктор. Таша схватила папку для рисунков и бросила ее на диван. Виктор поглядел на ее осунувшееся бледное лицо и хотел уже спросить, что случилось, но Таша отвела взгляд и схватила шляпку.
— Мне надо отнести это в редакцию.
— Ты что, прямо так и пойдешь? — он указал на ее испачканную красками рабочую блузу.
— Нет, конечно, — спохватилась она. — Сейчас переоденусь.
Виктор заметил, что с мольберта исчезла картина, над которой последнее время трудилась Таша, и все понял. Он ободряюще улыбнулся и хотел сказать какие-то слова поддержки, но передумал и просто молча притянул ее к себе.
— Я хорошо тебя понимаю, — шепнул он ей на ухо. — Доверься мне, не уходи.
Она постояла немного, прижавшись к его груди, а потом подтолкнула к кровати. Блуза мягко скользнула с ее плеч на пол. Она стояла голая, запрокинув голову и слегка прикрыв глаза. Пока Виктор лихорадочно срывал с себя одежду, с ее губ слетел тихий вздох нетерпения. Он стал целовать ее в шею, и дыхание у нее участилось. Он нежно уложил ее на кровать. За окном бушевала гроза, по застекленной крыше барабанил град, но они ничего не слышали.
— Виктор, умоляю тебя, будь осторожен, — вдруг тихо сказала Таша, когда все кончилось. — Подумай хотя бы обо мне.
По крыше стучал дождь. Виктор не отзывался.
— Ты меня слышишь? — спросила Таша, не дождавшись ответа.
Он приподнялся на локте и заглянул ей в глаза.
— Это Жозеф тебе обо всем докладывает?
— Жозеф? Нет, любимый. Ты можешь сколько угодно насмехаться над женщинами, но они чувствуют, когда любимому грозит опасность. Так повелось с древних времен, когда мужчины оставляли женщин одних и уходили на войну.
— Поверь, никакая опасность мне не угрожает, да и в крестовый поход я вовсе не собираюсь. — Он опустил голову на подушку, зарылся лицом в ее рыжие локоны и притих.
* * *
Жозеф сидел в омнибусе и, глядя, как старушка напротив грызет миндальное печенье, жалел о том, что ему не удалось поужинать вместе с Айрис. Жермена приготовила телятину с макаронами, но он, как истинный джентльмен, не стал напрашиваться на ужин и съел яблоко, сидя у себя на приставной лесенке. Жозеф вздохнул и постарался не обращать внимания на голодные спазмы в желудке, утешая себя тем, что ведет расследование, достойное самого Лекока.
[95]
Доехав до улицы Этьен-Марсель, Проспер Шарманса пересел на другой омнибус и поехал к Монмартру. Его затылок и шея с толстыми складками жира виднелись аккурат за старушкой с печеньем. Омнибус подскакивал на выбоинах дороги, и Жозефа немного укачивало. Он решил чем-то отвлечься и посмотрел на соседа слева — тот читал газету, а девушка, сидящая напротив, безучастно глядела в окно. Казалось, они не обращают друг на друга внимания, но Жозеф заметил, что мужчина трогает носком ботинка по затянутую в шелковый чулок ножку девушки. Спустя какое-то время он встал и подал кондуктору знак, что хочет выйти. Девушка торопливо последовала за ним. Ее место тут же заняла дама в вуалетке, на коленях у нее ерзал шустрый карапуз.
Стекла в окнах дребезжали, кондуктор ходил по вагону, собирая плату за проезд, кучер со свистом размахивал кнутом — и под мерное однообразие этих звуков Жозеф впал в полудрему. Когда он очнулся и поднял глаза, выяснилось, что затылок Шарманса исчез. Жозеф бросился к выходу и едва успел прыгнуть на подножку другого омнибуса, который следовал на бульвар Рошешуар.
Там Жозеф следом за Шарманса прошел по улице Стейнкерк и вышел на площадь Сен-Пьер. По пути ему попался киоск, где торговали жареной картошкой. В животе у юноши бурчало от голода, но он не остановился и продолжил наблюдение, не обращая внимания даже на шушукающихся возле забора белошвеек. Шарманса ступил на лестницу, что вела вверх по улице Фуатье, и с неожиданной для такого толстяка легкостью преодолел все десять ступеней, над которыми виднелась украшенная флорентийскими арками ротонда — новая достопримечательность Монмартра.
И тут разразилась гроза. Жозефу пришлось поднять воротник, чтобы хоть как-то защититься от хлынувших с неба потоков воды. Он шел мимо строительных лесов, опоясавших собор Сакре-Кёр, возводящийся в память о жертвах франко-прусской войны
[96] и с опаской поглядывал на обнесенный оградой фруктовый сад. В газетах часто писали о преступлениях, которые под покровом ночи свершаются в этом районе, полном дешевых проституток и бандитов. Жозеф старательно вырезал эти статьи и собирался использовать изложенные там сведения в романе, но вовсе не хотел убедиться в их достоверности на собственной шкуре.
Он почувствовал себя гораздо увереннее, когда вышел на улицу Габриель, откуда Шарманса уже сворачивал на площадь Тертр. Время было уже позднее, к тому же хлестал ливень, и здесь было пустынно. А вот и улица Мон-Сени. Гроза постепенно стихала. Шарманса остановился под навесом прачечной, снял шляпу-котелок и промокнул платком мокрый лоб. Жозеф наблюдал за ним, притаившись за выступом стены. Он воображал себя героем арабской сказки, которого злой колдун перенес в чужие края. Сумерки и дождь до неузнаваемости преобразили извилистые мощеные брусчаткой переулки. Шестиэтажные дома мирно соседствовали с полуразвалившимися лачугами: штукатурка на них облупилась, а крыши были крыты соломой или оцинкованным железом. Дождь окончательно стих, и на улице появились люди. Мимо Жозефа проходили художники с мольбертами и ящиками для красок, детишки в лохмотьях с громкими криками бежали куда-то наперегонки.
Шарманса вновь пустился в путь, будто послушная невидимому кукловоду марионетка. Свернув с улицы Мон-Сени, которая спускалась вниз к
Сент-Уэну и Сен-Дени, откуда доносились паровозные гудки, он пошел влево по улице Сен-Венсен. Жозеф не отставал. Он постарался как можно быстрее миновать кабаре под вывеской «Проворный кролик», известное как «Кабаре убийц». В просвете между тучами показался последний лучик заходящего солнца, и все вокруг приобрело какой-то таинственный вид.
— Куда он меня ведет? Неужели все-таки заметил слежку? Кажется, мы бродим по кругу, — пробормотал Жозеф себе под нос, когда Шарманса в очередной раз свернул влево и вышел на улицу Жирардон.
Впереди показалась резко уходящая вверх улица Лепик. Местные жители строили свои убогие лачуги из разнокалиберных досок, которые по случаю удавалось стащить с какой-нибудь стройки или склада, а вокруг сажали кусты и разводили небольшие огородики. Здесь было полно всякой живности: слышалось кудахтанье кур, перебрехивались собаки, коты выясняли отношения в зарослях облетевшей сирени. Стебли дикого винограда оплетали покосившиеся стены. Над крышами лачуг кое-где виднелись струйки дыма. Жили в этом районе по большей части художники, рабочие и всякие темные личности.
Шарманса шмыгнул в узкую щель между двумя заборами. Жозеф остановился, не решаясь последовать за ним — там он будет как на ладони. Вдруг ему на плечо опустилась чья-то рука, и он с трудом сдержал крик. Но это был всего лишь старый оборванец с нечесаными волосами — он просил денег, и Жозеф скрепя сердце отсчитал ему пять монеток.
— Спасибо, ты славный малый: два су на хлебушек, три — на выпивку. Жизнь не такая уж и паршивая штука. А чего это ты тут торчишь? Никак к Мелани-младшей пришел?
— К Мелани-младшей?
— Ну, к потаскушке, что живет там, в переулке. Это ее твой приятель пошел будить? Смотри, норов у нее еще тот…
Жозеф увидел, что Шарманса возвращается, и метнувшись в сторону, укрылся за кустами. Шарманса его явно не заметил — он направился в сторону извилистой улицы Коленкур, и юноша продолжил слежку.
Внезапно Шарманса остановился и прислонился к уличному фонарю.
— Чего же ты там ждешь, каналья? — пробормотал Жозеф, притаившись за телегой у обочины.
Вскоре из дома номер тридцать два вышел человек в клетчатой куртке и фетровой шляпе. Он направился к лавочке, где продавали вино в розлив. Шарманса терпеливо ждал под фонарем. Незнакомец вышел из лавки и неспешно направился вниз по улице Коленкур. Проходя мимо перекрестка с улицей Лепик, он столкнулся с Шарманса, и в свете фонаря Жозеф узнал в нем человека, за которым шел до Арен Лютеции. Мужчины обменялись несколькими словами и разошлись. Перед Жозефом встала извечная дилемма: за кем идти? На этот раз он решил проследить за Шарманса и направился было туда, где только что мелькнула знакомая шляпа-котелок, но тут удача от него отвернулась: из ближайшей забегаловки, рядом с которой стояла жаровня продавца каштанов, на улицу выскочили две подвыпившие женщины и тут же сцепились, осыпая друг друга проклятьями. В пылу схватки они опрокинули полную раскаленных углей жаровню вместе с каштанами. Несчастный торговец бросился под ноги разнимавших женщин прохожих собирать свой товар. Пока Жозеф обходил это препятствие, Шарманса уже и след простыл.
«Ну вот, — расстроился юноша, — опять я поставил не на ту лошадь. Ну и ладно, мне все равно удалось разузнать немало, мсье Легри будет мной доволен».
Он решил посвятить расследованию еще несколько минут и на обратном пути, зайдя в лавку, которую посетил человек в клетчатой куртке, заказал стаканчик вина Мариани. Завязать разговор ему помогла пришпиленная к стене возле стойки фотография молодого барабанщика в военной форме.
— Это вы? — спросил он хозяина, который протирал стойку.
— Ага, в июне семидесятого, меня тогда только в армию призвали — вон я какой гордый стою. Но радовался я недолго. Через пару месяцев нас бросили в мясорубку под Верте. Многие мои друзья оттуда не вернулись, а у меня на память только барабан и остался.
— А я разыскиваю горниста из нашего полка, мы с ним месяц назад случайно на улице встретились. Я играю на трубе, и он обещал пристроить меня в какой-нибудь ресторанчик. Он где-то поблизости живет, вот только адрес я позабыл.
— А имя-то хоть помните?
— Ну, в казарме его все звали Пеньуфом…
— Опишите-ка его, может, он мне знаком.
— Он такой чудаковатый, носит широкополую шляпу.
— На Монмартре таких полно, похоже, сюда съезжаются чудаки со всего света. Так что ничем не могу помочь, — развел руками хозяин лавки.
— Подождите, я вот еще что вспомнил: у него куртка такая в клетку, серая с бежевым!
— А, ну так это, кажись, поэт. По мне, так все поэты оборванцы и попрошайки. Но этот славный малый, он исправно платит за выпивку. Где он живет, мне неизвестно, зато я знаю, что деньгу он зашибает в «Ша-Нуар».
Жозеф сел в желтый с красной полосой омнибус, который шел от улицы Дамремон до улицы Сен-Пер через улицу Коленкур, и с наслаждением вытянул гудевшие от усталости ноги. Ехать предстояло долго, и он успеет подготовить отчет для мсье Легри. Жозеф постарался сосредоточиться, но усталость взяла свое, и глаза у него начали слипаться. Образ Виктора перед его внутренним взором сменило милое лицо Айрис, и юноша перенесся в страну грез, где его ждала прекрасная девушка.
Глава тринадцатая
24 ноября, вторник
Лучам рассвета не удавалось пробить плотную пелену дождя, и лишь яркие огни ресторанчика «Потерянное время» разгоняли сумрак.
Ночью Виктору не спалось. Он постоянно думал о том, что поведала ему Айрис, а когда пытался отвлечься, сразу же вспоминал о мрачных убийствах. Стоило ему задремать, как снились кошмары. Воспаленное воображение рисовало картину, в которой причудливым образом переплетались фигуры Проспера Шарманса, доктора Оберто, Ноэми Жерфлер и еще какие-то смутные тени.
Было часов шесть утра, когда он встал, потихоньку выскользнул из мастерской на улице Фонтен и направился в ресторанчик, где договорился встретиться с Жозефом. Там Виктор устроился в уголке и повесил свой сюртук и шляпу поближе к очагу, чтобы они хоть немного просохли. Он выпил две чашечки крепкого кофе и почувствовал приближение мигрени. Перед глазами неотвязно стоял последний из привидевшихся кошмаров: из покрытой трещинами стены выползают змеи, много змей, они обвиваются вокруг него, а потом постепенно превращаются в толстые женские косы: рыжие, как у Таша, и черные, как у Айрис.
Появился Жозеф, и наваждение развеялось.
— Ну и погодка сегодня, патрон, я промок до нитки. Позволите, я немного сдвину ваши вещи, погреюсь у огня?
Хозяйка заведения, дородная женщина в мятом переднике, тут же поставила перед Жозефом большую чашку кофе со сливками и тарелку горячих гренок.
— Я знакома с твоей матушкой, парень. Она в высшей степени достойная дама. В одиночку вырастить такого, как ты, непросто! Позови меня, если захочешь добавки!
— Интересно, что матушка наболтала ей обо мне, — пробурчал Жозеф, с аппетитом хрустя гренками. — С вами все в порядке, мсье Легри? На вас просто лица нет.
— Ерунда, просто не выспался. Так вам удалось что-нибудь разузнать?
— Еще бы! Это был настоящий марш-бросок. Я себе все ноги оттоптал и чуть с голоду не умер. Ох уж и заставил меня побегать этот Шарманса! Я за ним до самого Монмартра шел, а потом поднялся на холм и очутился среди таких трущоб — еще хуже, чем во Дворе чудес…
[97] Домой я попал так поздно, что пришлось ложиться спать на голодный желудок, чтобы не будить матушку, и…
— Избавьте меня от подробностей.
— Да уж, вы сегодня явно не в духе, — пробормотал Жозеф себе под нос и продолжил рассказ: — В конце концов, наш приятель остановился возле дома тридцать два на улице Коленкур и стал дожидаться, пока оттуда выйдет…
— Тридцать второй дом по улице Коленкур вы сказали? — перебил его Виктор.
— Так точно.
— Так ведь это тот самый адрес, который мне дали вчера! Там живет человек по имени Луи Дольбрез.
— Имени его мне разузнать не удалось, но зато я знаю, что он зашибает деньгу в «Ша-Нуар».
— Значит, Дольбрез… — задумчиво произнес Виктор, постукивая ложечкой по краю чашки. — Какую роль он играет во этой истории? Он ведь знакомый Оберто.
— Оберто? Который из двора Манон? Доктор, которого вы выследили в Сальпетриер?
— Да, только у него есть и другое имя, Дольбрез знакомил меня с ним в «Ша-Нуар». Похоже, разгадка совсем близко. Наш убийца как-то связан с медициной, он облил Элизе лицо кислотой, задушил Ноэми Жерфлер бинтом…
— Вы считаете, что это Оберто? А мне кажется, что убийца — Шарманса.
— Узнать наверняка мы сможем, только если припрем подозреваемых к стенке и заставим говорить. И времени у нас нет — они могут найти новые жертвы. Я предлагаю вот что…
…В ожидании Виктора Жозеф успел открыть лавку и продать любителю Золя подарочное издание «Денег» — восемнадцатого тома «Ругон-Маккаров». Кэндзи, который что-то писал у себя за конторкой, обернулся и поздоровался с компаньоном. Виктор, сняв шляпу, перелистал свой блокнот и хлопнул себя ладонью по лбу.
— Жожо! Я только что вспомнил: вы же еще не доставили том «Любовных стихов» Ронсара Саломее де Флавиньоль. Отправляйтесь туда немедленно. Это очень срочно.
— Можно мне взять извозчика? — спросил Жозеф.
Кэндзи недовольно приподнял брови:
— Если так пойдет и дальше, этот юноша скоро пустит нас по миру.
Виктор незаметно сунул приказчику записку и шепнул:
— Купите еще розу.
Жозеф ушел, покупателей не было, и Виктор решил воспользоваться моментом. Он отошел к бюсту Мольера и стал внимательно разглядывать своего приемного отца.
— Что это вы так пристально на меня смотрите? Хотите загипнотизировать? — не выдержал японец, которому стало не по себе.
— Скажите, Кэндзи, вы верите в загробную жизнь?
— Вы считаете, что сейчас подходящее время для обсуждения этой темы?
—
«Любовь. Я ее нашла. Ты поймешь. Подчинись зову сердца. Ты возродишься, если разорвешь цепь».
— Вы что, заболели? Какая муха вас укусила? — Кэндзи положил ручку и встревоженно посмотрел на Виктора.
— Помните, я рассказывал, что когда расследовал дело Одетты де Валуа, встретил у мадам де Брике медиума Нуму Уиннера? Он сказал, что это слова моей покойной матушки, которая говорила его устами.
— Чушь какая-то!
— Год назад я и сам так считал. Но сейчас изменил свое мнение. Ответьте, только честно: это с вами моя мать нашла любовь?
Если бы Виктор не знал Кэндзи так хорошо, тому удалось бы ввести его в заблуждение. Но, хотя лицо японца оставалось непроницаемым, он сильно побледнел и потянулся к галстуку, чтобы ослабить узел. Такая реакция говорила сама за себя.
— А что если и так? — спросил он с вызовом.
— Я был бы счастлив это узнать.
— Правда?
— А еще больше обрадовался бы новости о том, что ваша… дочь доводится мне сводной сестрой.
Услышав эти слова, Кэндзи явно смутился. Он встал и принялся с озадаченным видом мерить шагами пространство между камином и прилавком.
— Она все знает, — Кэндзи указал подбородком наверх, — и вам рассказала.
Виктор сделал вид, что не понимает, о чем идет речь.
— Да что вы! Если допустить, что матушка и вправду отправила мне послание с того света, то, согласитесь, содержание его весьма туманно. Но я часто о нем думаю. Вы рассказали мне, что Айрис ваша дочь, потом я заметил едва уловимое сходство и…
Виктор замолчал, услышав на лестнице тяжелые шаги Жермены.
— Если моя стряпня вам не по вкусу, — выпалила она, уперев руки в боки, — я могу уволиться, а вы питайтесь бульонами Дюваля.
— Да что вы, Жермена, — попытался успокоить кухарку Виктор.
— Все, мсье Легри, с меня хватит! Вы слишком привередливы!
— Я? С чего вы это взяли, Жермена?
— Не притворяйтесь, что не поняли! Вы и дома-то почитай что и не едите. А ваша гостья, мсье Мори…
— Чем вас обидела мадемуазель Айрис, скажите на милость? — спокойно спросил Кэндзи.
— Сердобольная слишком! Тоже мне выискалась покровительница овец! Она, видите ли, не будет есть мясо ягненка, потому что его убивают совсем маленьким. Еще немного, и она обвинит меня в том, что я ем детей! Вчера отказалась есть телятину, позавчера — курицу! А я-то чуть свет тащусь на рынок, чтобы купить все самое свежее. И вместо благодарности — одни сплошные обвинения!
— Вы совершенно правы! Я поговорю с Айрис. А пока что сварите ей яйцо всмятку, я обещаю вам съесть двойную порцию вашего…
— Моего рагу из баранины по-наваррски? — просияла Жермена. — Ах, мсье Мори, если бы не вы, я бы уже давным-давно взяла расчет…
— Точно! Навар его фамилия! — воскликнул Виктор, хватая шляпу. — Спасибо вам, Жермена! — крикнул он уже в дверях лавки.
— Ну, что я вам говорила! Опять он умчался обедать в ресторан, — насупилась кухарка.
— Куда вы? — крикнул Виктору вслед Кэндзи, недовольный, что опять остался в лавке один. — Стоило нам в кои-то веки начать серьезный разговор…
— Серьезный разговор? И о чем же?
Кэндзи обернулся. Жермена уже топала вверх по лестнице, а перед ним стояла Айрис и лукаво улыбалась.
* * *
Спрятавшись в арку, чтобы хоть как-то укрыться от дождя, Жозеф неотрывно наблюдал за входом в «Ша-Нуар». Наконец появился Виктор с зонтом.
— Простите, что я так задержался. Вы застали мадемуазель Таша?
— Да, она обрадовалась Ронсару и особенно розе.
Они постучали в дверь, и на пороге появился швейцар в серой блузе и с метелкой из перьев. Он окинул посетителей подозрительным взглядом.
— Что вам угодно?
— Здравствуйте! Я журналист, пишу статью о деятелях искусства, которые у вас собираются.
— Сейчас закрыто, приходите вечером, — проворчал швейцар, закрывая дверь.
— Но ведь вечером вы будете заняты и не сможете ответить на мои вопросы.
Дверь вновь широко распахнулась.
— Я? Так вы со мной хотели поговорить? — удивился швейцар.
— Конечно, — заверил его Виктор.
— Тогда другое дело, проходите, только тут не убрано. Минувшей ночью у нас такое творилось: наши посетители схватили случайного прохожего, завернули в скатерть, притащили в Зал стражи и заставили распевать с ними песни…
— Скажите, — перебил его Виктор, — что это у вас за форма?
— Это самый настоящий костюм церковного привратника, — хвастливо заявил швейцар, — набалдашник трости из чистого серебра, а за алебарду мне вообще пришлось выложить целое состояние.
— Ох и эффектно же вы, должно быть, смотритесь! Уверен, лучше вас на эту роль никого не найти, — подыграл Виктору Жозеф.
Швейцар горделиво выпрямился.
— Да, мне уже говорили, что у меня талант. Когда я исполняю «Букет цветов увядших» мсье Поля Анриона, некоторые дамы даже плачут. Вот послушайте, — и он продекламировал:
Вот и увял букет невесты,
Так и мы с тобой состаримся вместе,
И все равно лицо твое…
Жозеф вдруг закашлялся и попросил стакан воды, оборвав чтеца на полуслове. Выполнив просьбу, швейцар прочистил горло и приготовился продолжать декламацию, но Виктор похлопал его по плечу:
— Потрясающе! Прав был Луи Дольбрез, вы отличный чтец!
— Мсье Дольбрез говорил вам обо мне?
— И не он один! Кстати, не подскажете, в котором часу он обычно тут появляется?
— Он приходит, когда ему вздумается. Вот вчера вообще не явился, чем весьма огорчил мсье Сали, ведь если хочешь прославиться, надо все время быть на виду. Если так пойдет и дальше, его место займет кто-нибудь другой — здесь, на Монмартре, знаете, сколько поэтов.
— Похоже, вы тут со всеми знакомы. Я хотел бы взять интервью у некоего мсье Навара.
— Да-да, есть такой, — кивнул швейцар. — Я слышал, он говорил, что часто бывает в доме шестнадцать по улице Круассан, там находится редакция «Эко де Пари».
— Спасибо, вы нам очень помогли! Мы вернемся вечером.
И оба вышли из здания.
— Подождите, вы же так и не сказали, в какой газете работаете!
— «Пасс-парту»! — крикнул Жозеф через плечо.
В этот час народу на улице Круассан было куда меньше, чем ранним утром. Под навесом у подъезда громоздились огромные рулоны бумаги, обернутые провощенной тканью, — вскоре на ней напечатают газеты.
Жозеф вспомнил, как встретился здесь с другом детства и о том, какой сытный за этим последовал обед, и у него потекли слюнки. Вот бы сейчас съесть круассан, или хотя бы яблоко, не говоря уже о жареной картошке… Да разве мсье Легри даст ему спокойно перекусить…
Они подходили к дому номер шестнадцать, в котором размещалась редакция «Эко де Пари», когда их обогнал блондин с моноклем и сигарой.
— Альцест… Алкивиад… — Виктор пытался припомнить его имя. — Нет, Альсид, — и уже громче повторил: — Альсид Бонвуазан!
Молодой человек резко остановился и обернулся.
— Простите, мсье, мы знакомы?
— Меня зовут Виктор Легри, мы с вами встречались в «Мулен-Руж».
— Ах, да, я вас вспомнил, — поклонился тот. — Вы ко мне? Тогда подождите в холле, я буду через пять минут.
Блондин устремился в коридор, в конце которого красовалось окошко с табличкой «касса», и вскоре вернулся с довольным видом.
— Прошу меня извинить, дело в том, что мою статью могли не напечатать, и тогда я остался бы без ужина. А теперь могу даже расплатиться с квартирной хозяйкой. Чем я могу вам помочь?
— Скажите, что вы знаете о некоем Наваре?
— Почти ничего: он пишет обо всем понемногу, кроме медицины, хотя сам читает лекции в Сальпетриер.
— А у вашей газеты есть архив?
— Идемте, я вас провожу.
Бонвуазан провел их в большую комнату, где в застекленных шкафах хранились объемистые подшивки газет. Архивом заведовал меланхоличный старик в картузе.
— Скажите, что вас интересует, и Герберт вам поможет, если, конечно, это в его силах. Пока! — И Бонвуазан скрылся.
— Благодарю вас, — ответил Виктор.
— Дайте нам, пожалуйста, подшивку за ноябрь тысяча восемьсот восемьдесят шестого года, — попросил Жозеф, но старик в ответ лишь с сожалением развел руками:
— Увы, ее тут нет.
— А за восемьдесят седьмой есть?
Старик с неожиданным для своих лет проворством бросился к одному из шкафов, вскарабкался по приставной лесенке на самый верх и достал с полки увесистую подшивку газет. Жозеф хотел было помочь ему, но старик сам донес свою ношу до стола.
— Только аккуратнее, пожалуйста, — наставительно произнес он и вернулся к своему столу.
Виктор принялся листать газеты, Жозеф заглядывал ему через плечо:
— Ох, патрон, боюсь, нам тут ничего не светит.
— Вот! — Палец Виктора уперся в набранный крупным шрифтом заголовок. — 14 января 1887 года… — пробормотал он, и оба углубились в чтение статьи:
Вчера состоялось заседание суда, которое поставило жирную точку в деле о пропавших украшениях. С участников процесса окончательно сняли подозрения в сговоре с дамой, выдававшей себя за баронессу де Сен-Меслен. Напомним вкратце подробности этого нашумевшего дела.
15 ноября 1886 года в клинику известного психиатра доктора Оберто, расположенную в поместье «Вилла Асфоделей», что километрах в тридцати от Лиона, пришла элегантно одетая дама, чье лицо скрывала плотная вуаль. Она сказала доктору, что ее муж, барон де Сен-Меслен, страдает нервным расстройством, и знаменитый профессор Жарден с медицинского факультета Лионского университета порекомендовал ей обратиться к доктору Оберто. Дама показала заключение Жардена, где говорилось, что барон страдает манией преследования: ему кажется, что кто-то охотится за его наследством. Доктор Оберто, даже не осмотрев будущего пациента, на основании истории болезни согласился взяться за лечение и гарантировал полное выздоровление. Баронесса заплатила ему вперед за три месяца.
На следующий день она пришла в ювелирный магазин, что на площади Белькур, и сказала управляющему, мсье Просперу Шарманса, что хочет преподнести сестре в подарок на свадьбу комплект украшений. Она попросила его взять с собой несколько ювелирных изделий и поехать вместе с ней в ее загородное поместье, чтобы прикованный к постели муж помог ей выбрать подарок. Шарманса согласился. Они подъехали к красивому особняку с парком и вошли внутрь. Баронесса стала просить господина Шарманса снизить цену. Тот пошел ей навстречу. Тогда баронесса взяла у него саквояж с драгоценностями, сказав, что сама покажет их мужу, оставила Шарманса в гостиной и вышла. Как выяснилось позже, она направилась в кабинет к доктору Оберто и сообщила, что привезла своего несчастного мужа и хочет уйти, пока у того не начался очередной припадок. Оставшись один, Проспер Шарманса подождал немного, а потом вышел из гостиной в надежде самостоятельно найти барона и поговорить с ним. Но тут дорогу ему преградил доктор Оберто, который всячески увиливал от прямых ответов на вопросы о драгоценностях. Ювелиру это не понравилось, он вышел из себя. Оберто вызвал санитаров. В результате Шарманса, которого сочли душевнобольным, скрутили, отвели в холодный душ, потом надели на него смирительную рубашку и заперли в комнате с мягкими стенами.
Ювелир провел там более трех недель, пока не выяснилось, что произошла ошибка. Ни баронессу, ни украшения так и не нашли…
— Мсье Легри, да ведь это настоящий роман! — громко воскликнул Жозеф. — Я их так ясно себе представляю: загадочная баронесса под густой вуалью, связанный по рукам и ногам Проспер Шарманса, суровый доктор и…
— К сожалению, это не вымысел, Жозеф, — понизив голос, заметил Виктор. — Все так и происходило на самом деле. Пойдемте, здесь не принято шуметь.
На улице шел дождь, и Виктор поспешил раскрыть зонт.
— Итак, теперь я не сомневаюсь, — мы имеем дело с местью. Но кто кому хотел отомстить? Ювелир Шарманса доктору Оберто? Или наоборот?
— Да нет, патрон, не похоже, — задумчиво ответил Жозеф. — Мне показалось, что эти двое прекрасно ладят друг с другом. Если, конечно, человек, с которым встречался Шарманса и за которым я следил, и есть тот самый доктор Оберто.
— Судя по вашему описанию, это он, — кивнул Виктор.
— К тому же, я вел его до улицы Наварры… Может, отсюда и его литературный псевдоним?
— Вы определенно делаете успехи, Жозеф, — похвалил юношу Виктор.
— Интересно, эти двое в сговоре или один из них верховодит? — задумчиво произнес Жозеф. — Хотя… для Ноэми Жерфлер это уже неважно: баронесса де Сен-Меслен сошла со сцены. Да и бедняжке Элизе, чья вина состояла лишь в том, что ее мать — воровка, тоже уже ничем не помочь.
— А Луи Дольбрез не вызывает у вас подозрений?
— Похоже, он тоже имеет отношение к этому делу, — кивнул Жозеф. — Куда мы пойдем сначала?
— В ломбард. Туда добираться ближе.
— Если повезет, перехватим нашего Шарманса во время обеда, — сказал юноша, а про себя добавил: «Да и нам самим не помешало бы перекусить».
Однако бородатый толстяк так и не появился в обеденный перерыв на улице Фран-Буржуа.
— Простите, — обратился Виктор к сутулому молодому человеку с лохматыми бровями, — вы мне не поможете? Я никак не могу найти вашего коллегу, Проспера Шарманса…
— Ничего удивительного, он заболел.
— Ну надо же. И давно? — спросил Виктор.
— Сегодня утром. Но не могу сказать, что я по нему скучаю, — неприязненно добавил его собеседник.
— Неужели у него такой тяжелый характер?
— Хуже того, он фанатик, — хмыкнул молодой человек. — Ведет себя так, словно весь хлам, что приносят нам сюда эти бедолаги, безраздельно принадлежит ему, а ломбард — это главное дело его жизни. Смотреть противно, с каким важным видом он тут распоряжается! — Молодой человек с чувством плюнул себе под ноги.
Виктор с Жозефом переглянулись и, выйдя из ломбарда, остановили наемный экипаж.
Дома бывшего ювелира тоже не оказалось. Виктор с Жозефом вернулись в экипаж и велели отвезти их на улицу Монж. На сей раз злой и голодный Жозеф остался ждать внизу, а Виктор позвонил в квартиру доктора Оберто. Дверь открыл тот же мрачный слуга, что и в субботу. Он посмотрел на Виктора с некоторой неприязнью и процедил сквозь зубы:
— Доктора нет дома.
Виктор извлек из кармана монету в сорок су и ловким движением — оно уже стало входить у него в привычку — опустил в карман лакея. Тот округлил губы, будто собирался надуть большой пузырь, и сразу стал гораздо более разговорчив:
— Во время обеда рассыльный принес ему записку, доктор тут же собрался и уехал в Сальпетриер.
…В больничных корпусах сказали, что сегодня доктор Оберто не появлялся, и Виктор разозлился, что день прошел впустую. Жозеф мысленно клялся, что больше никогда не возьмется за расследование на голодный желудок.
Они медленно шли по территории Сальпетриер, размышляя, что делать дальше, когда возле часовни Сен-Луи к ним бросилась маленькая хрупкая старушка.
— Помогите! Там приведение… — взмолилась она.
Виктор бросил быстрый взгляд на Жозефа и отдал ему зонт.
— Что случилось? — участливо спросил он старушку. Он узнал ее — это она несколько дней назад сидела во дворе Манон и вспоминала о своем первом поцелуе.
— Я пришла сюда послушать музыку небес и уже вознеслась к ангелам, когда увидела его, — пробормотала она, хватая его за рукав, и продолжала прерывающимся от страха голосом: — Он там. Он ждет. Я его видела, видела своими глазами! Он вернулся, проклятый разбойник, ходит там взад-вперед, как маятник часов: тик-так, тик-так, весь такой черный, как омут в безлунную ночь. Я его узнала, он вернулся за несчастной Зели Бастьен.
В ее глазах стоял такой ужас, что Жозеф судорожно сглотнул. Ему на мгновение показалось, что вместо приземистой часовни Сен-Луи перед ним зловещее здание Счетной палаты.
[98] Даже есть сразу расхотелось.
— Пожалуйста, не оставляйте меня, — прошептала старушка и лишилась чувств.
— Побудьте с ней, — кивнул Виктор Жозефу, — а я пойду взгляну, что там такое.
Холодное помещение часовни напоминало пещеру. В неверном свете свечей казалось, что персонажи библейских сюжетов на стенах вот-вот оживут. Виктору невольно вспомнились английские готические романы, вроде «Франкенштейна» Мэри Шелли — эту книгу он получил в подарок от Кэндзи, когда ему исполнилось тринадцать, — или вышедшей из-под пера Р.Л. Стивенсона «Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда», которую он прочитал в 1885 году, как только она появилась в продаже.
Он медленно шел по часовне. В тишине его шаги отдавались зловещим эхом. Ему показалось, что впереди что-то виднеется. Он прошел мимо ряда скамей.
— Мсье Легри! — прокричал Жозеф. — Вы там как, в порядке?!
— В порядке, в порядке, — отозвался он.
Эхо мгновенно подхватило и разнесло его слова по всей часовне. Сквозь витраж с изображением молящихся святых пробился лучик предзакатного солнца и на мгновение разогнал гнетущий сумрак. Виктор замер, не в силах двинуться с места: прямо перед ним на стене раскачивалась огромная тень. Неимоверным усилием воли он нашел в себе силы медленно обернуться.
Сердце бешено колотилось. Виктор сделал шаг в сторону и ухватился за спинку скамьи. В голове билась только одна мысль: «Бежать!» Ему не раз доводилось видеть трупы, но чтобы такое…
Ноги повешенного раскачивались сантиметрах в двадцати от пола, рядом валялся перевернутый стул.
Виктор схватил свечу. Доктор Оберто больше уже никого не вылечит. Из его ушей и носа тянулись струйки крови, на левом виске расползлась огромная гематома.
Виктор хотел позвать Жозефа, но тут заметил что-то странное в положении тела. Не надо было быть специалистом, чтобы понять — самоубийство инсценировано. Язык не вываливался изо рта, глаза прикрыты, лицо очень бледное. Виктор опустил свечу. На полу была лужица крови.
Тут из-за колонны раздался визгливый смех. Виктор вздрогнул и обернулся. Он увидел женщину с выпученными глазами и распухшей шеей — видимо, несчастная страдала базедовой болезнью. Давясь от смеха, который больше походил на рыдания, она указывала на него пальцем. Виктор опрометью бросился вон из церкви. Выскочив наружу, он постоял с минуту, подставляя лицо холодным струям дождя, и бросился звать на помощь.
Санитар торопился в главный корпус, когда заметил незнакомца, который бежал к нему, отчаянно размахивая руками. Он потребовал, чтобы санитар немедленно шел в часовню Сен-Луи вынимать из петли труп.
— Ну вы и мчались, мсье Легри, — сказал Жозеф, когда Виктор вернулся к нему. — Будто за вами сам дьявол гнался.
— Оберто убит! Нам нельзя терять ни минуты!
И они побежали в сторону бульвара де л'Опиталь.
Вдова Галипо лежала поперек лестницы, размахивая пустой бутылкой, и костерила на чем свет стоит ублюдков, которые вылакали всю ее выпивку. Виктор и Жозеф перешагнули через старуху и поднялись наверх.
— Налево, мсье Легри!
Виктор приготовился высадить дверь, но та вдруг открылась сама. Человек в фетровой шляпе и клетчатой куртке сбил Жозефа с ног и бросился вниз по лестнице.
— Дольбрез! — взревел Виктор.
— Держите его! — завопил Жозеф.
Снизу послышался истошный вопль: «А ну, давай сюда деньги, придурок!», потом глухой звук удара, хлопанье дверей, встревоженные голоса жильцов. Жозеф спустился вниз, а Виктор зашел в квартиру. В спальне к потолочной балке был привязан бинт, в петле отчаянно трепыхался человек. Виктор бросился к нему, отвязал бинт и, подхватив под мышки, осторожно опустил несчастного на пол.
— Все. Кажется, расследование можно закрывать, — пробормотал он, стоя на коленях возле бездыханного тела Проспера Шарманса.
Но тот вдруг стал откашливался, потом с трудом сел и, морщась от боли, приложил руку к боку. Виктор помог ему снять жилет и сорочку. Оказалось, что Шарманса носил кожаный корсет, если бы не это, удар кинжала оказался бы смертельным.
— Память о клинике для душевнобольных, — морщась, просипел Шарманса. — Там я повредил себе спину. Теперь вот приходится носить эту сбрую…
— Она спасла вам жизнь.
Виктор помог ему лечь на диван, подсунул под голову подушку, принес воды. Тут появился Жозеф.
— У старухи-пьяницы хорошая реакция: ей хватило одного удара бутылкой, чтобы Дольбрез свалился без чувств. Соседи уже вызвали полицию.
— Закройте дверь на ключ. Нам надо кое-что прояснить.
— Мсье Легри, а вы уверены, что он в состоянии отвечать на вопросы? — спросил Жозеф, кивая на Шарманса, который пил воду маленькими глотками.
— Да, я уже говорил с ним, — ответил Виктор и повернулся к Шарманса: — Это вы убили Элизу Фуршон, Ноэми Жерфлер, Гастона Молина и Базиля Попеша?
— Нет, Богом клянусь, — просипел Шарманса.
— Почему Дольбрез пытался вас убить?
— Потому что мы с доктором хотели… — он отпил из стакана, — заставить его письменно признаться во всех своих преступлениях. Это он убийца.
— Но он вас опередил. К вам я пришел вовремя, а вот доктору повезло меньше.
— Так Оберто… — Шарманса не договорил. — Мерзавец!
— Дольбрез замешан в афере с драгоценностями, точку в которой поставило заседание суда четырнадцатого января восемьдесят седьмого года, не так ли?
— В газетах не писали о том, что было потом. — Шарманса говорил медленно, с трудом, делая длинные паузы. — Мы с доктором потеряли все. Все. Когда выяснилось, что меня держали в психушке по ошибке, его репутация серьезно пострадала, и все клиенты отказались от его услуг. А я… меня бросила невеста. Когда суд закончился, мы с Оберто решили держаться друг за друга.
— Так вы не испытываете к нему ненависти?
— Ему, как и мне, можно было только посочувствовать. Когда я это понял, то стал его союзником. Мы решили разыскать «баронессу» и отомстить. Поделились друг с другом скудными сведениями, которые у нас были. Карета, в которой меня привезли на виллу, была зеленая, четырехместная, с гербом на дверце. Я запомнил кучера: он был молодой, смуглолицый, возможно, итальянец. Оберто объехал все конторы, которые занимаются прокатом экипажей в Лионе и окрестностях, и нашел карету… 14 ноября 1886 года ее взял напрокат некий Карно, семнадцатого ее вернули и оплатили счет. Этот Карно… ох, и заставил же он нас побегать, но мы в конце концов выяснили, что он был помощником профессора Жардена. Только вот… слишком поздно.
— Что слишком поздно? — не выдержал Жозеф.
— Через неделю после исчезновения драгоценностей Карно напал на полицейского и на пять лет загремел в тюрьму. Его любовницей была певица Леонтина Фуршон. Когда Карно посадили, она исчезла. После освобождения Карно днем работал в больнице, а по вечерам играл на трубе в кафешантане под названием «Якобинский трактир». Я отправился к профессору Жардену и там увидел Карно: у меня не осталось сомнения — именно он пять лет назад вез нас с баронессой, а значит, он ее сообщник… Он тоже меня узнал.
— Почему же вы на него не донесли?
Шарманса расхохотался и тут же закашлялся.
— Мы, дураки, подумали, что Леонтина обобрала его тоже и что, освободившись из тюрьмы, этот прохвост захочет ее отыскать, а значит, приведет к ней и нас. Мы решили ждать. Не знаю, как бы я это выдержал, не будь рядом доктора. Он не дал мне пропасть. Мы перебрались в Париж. Доктор устроил меня на службу в ломбард, а сам стал работать у профессора Шарко. Потом он продал «Виллу Асфоделей» и начал консультировать у себя на дому на улице Монж. Он заботился обо мне все эти годы. А еще нанял частного сыщика, который выследил нашего приятеля Карно на Монмартре. Тот сделался поэтом и выступал в «Ша-Нуар» под именем…
— Луи Дольбрез, — прошептал Жозеф, который торопливо записывал рассказ Шарманса.
— Доктор решил подобраться поближе к Дольбрезу и даже заделался для этого журналистом. Мы не выпускали негодяя из виду и сразу поняли, что именно он убил дочь Леонтины Элизу. Он заплатил этому прохвосту Гастону Молина — они познакомились в тюрьме, — чтобы тот соблазнил девочку и привел к нему. Убив обоих, Карно отправился к Леонтине, которая теперь звалась Ноэми Жерфлер. Ее он удушил.
— А затем избавился от случайного свидетеля Базиля Попеша… Иными словами, вы знали, кто убил этих четверых, но палец о палец не ударили, чтобы остановить его. И после этого вы Богом клянетесь, что не виноваты! — не выдержал Жозеф.
— Вы считаете себя проницательным, а ведь это Дольбрез крутил вами, как хотел, — добавил Виктор. — Он тщательно спланировал убийство своей бывшей любовницы и ее дочери, но при этом сделал все, чтобы подозрения пали на вас с доктором. Он и меня обвел вокруг пальца…
Раздался громкий стук в дверь. Шарманса прикрыл глаза.
— Доктор умер, он больше не поможет мне… Что со мной теперь будет?! — всхлипнул он.
Глава четырнадцатая
6 декабря, воскресенье
Жозеф сидел возле ящика, служившего ему рабочим столом, и пристально смотрел на пачку исписанных листов. Мадам Пиньо хлопотала на кухне. Она вымыла посуду, поставила на плиту турку для кофе, вылила в раковину воду из-под грязной посуды и тяжело опустилась на табурет, причитая: «Что же с нами будет, когда я больше не смогу работать? И за что мне такое наказание!».
Жозеф очнулся и поднял голову. Ему стало жаль мать. «Я обязан добиться успеха! — сказал себе он. — Я слишком много времени потратил на пустяки! Пора действовать».
Он представил себе, как в один прекрасный день купит газету и прочитает: «Загадка „Виллы Аквилегий“. Роман Жозефа Пиньо». В мечтах все выглядело чудесно.
И Жозеф принял решение: он завтра же отправится в «Пасс-парту» и начнет переговоры о публикации романа. Если там ему откажут, обойдет редакции всех парижских газет. Его труд просто обязаны напечатать. Во что бы то ни стало. Кто знает, может быть, когда-нибудь он станет так же знаменит, как Ксавье де Местр, Вашингтон Ирвинг и граф Лев Толстой, и его будут издавать в серии «Новая популярная библиотека»… Тогда матушка сможет не работать.
Жозеф схватил ручку и принялся лихорадочно строчить:
В десять утра на подъездной аллее парка «Виллы Аквилегий» появилась двухместная карета. Ею управлял кучер в ливрее. Карета обогнула круглую клумбу и остановилась перед входом в особняк. Из нее вышла женщина под густой вуалью. Она поднялась по ступеням и позвонила. Дверь открыла горничная, она проводила посетительницу в гостиную. Оставшись одна, женщина скользнула взглядом по своему отражению в огромном зеркале и стала рассматривать висевшую над камином картину, где был изображен хирург во время операции.
— Ну до чего же хороша! Аристократка! Горделивая поступь, дорогое манто, драгоценности! Черт, проклятая вуаль, лица совсем не видно! Она молода? Хороша собой? Впрочем, какая разница! Главное — это знатная дама! — бормотал доктор Евсевий Рамбюто, который наблюдал за гостьей при помощи хитроумной системы зеркал.
В его густых, черных как смоль волосах и аспидно-черной курчавой бородке не было и намека на седину…
Довольный тем, что ему так ловко удалось ввернуть слово «аспидно-черный», на которое он недавно наткнулся в словаре, Жозеф подмигнул фотографии отца.
— Ты был прав, папа, «нет ничего легче, чем пожинать лавры».
[99]
16 декабря, среда
В книжную лавку вошел инспектор Лекашер в парадном мундире с галунами. Он окинул всех победоносным взглядом, торжественно прошествовал к прилавку и приподнял кепи в знак приветствия. Однако ему пришлось подождать, пока Виктор обслужит других покупателей и освободится. Айрис помогала Жозефу упаковывать книги — многие покупали их в подарок на Рождество и Новый год. Кэндзи ходил вдоль стеллажей с покупательницей в очках, которая выбирала книгу для сына — любителя приключенческих романов, но мысли его были заняты Эдокси Аллар. Он вспоминал, как она возлежала в костюме Евы на медвежьей шкуре.
Если верить последним сплетням, неугомонная Фифи Ба-Рен нашла наконец-то свой идеал и поселилась в лучшем номере отеля «Континенталь» с каким-то русским князем. Расставаясь с Кэндзи, она подарила ему чудо современной техники — пишущую машинку Lambert. Теперь машинка красовалась возле телефона, и Кэндзи никому не позволял дотрагиваться до ее клавиш.
Он нашел на полке увесистый том «Гвианских робинзонов» Луи Буссенара и вручил его даме в очках.
— Вижу, вы все очень заняты, скоро Рождество, я понимаю, — проговорил инспектор Лекашер, разглаживая усы, и подошел к Виктору. — Хотите лакричную пастилку?
— Нет, спасибо, — отказался Виктор. — Вижу, вам удалось отказаться от табака.
— Да, и теперь я не расстаюсь с этими пастилками. Правильно говорят: стоит освободиться от одной зависимости, как тут же попадаешь в другую… Вам удалось раздобыть для меня первое издание «Манон Леско»?
— Увы, пока нет.
— Какая досада! Вы ведь у нас крупный специалист по аббату Прево… Посетили больницу Сальпетриер, «Мулен-Руж», перекресток Экразе и окрестности речки Бьевр… Может, поговорим с глазу на глаз?
Виктор нехотя провел инспектора наверх, но тот не торопился начинать разговор, делая вид, что внимательно рассматривает коллекцию гравюр на стенах, — ему хотелось помучить собеседника.
— Я пришел к вам неофициально, — наконец произнес он, — и наш разговор не будет приобщен к делу Элизы и Леонтины Фуршон. Однако не обольщайтесь: пусть у меня нет доказательств вашего прямого участия в этом деле, но куда бы ни привело меня расследование — в пансион в Сан-Манде или в жилище Грегуара Мерсье, — вы всюду побывали раньше меня. Кого встречают полицейские, когда приходят арестовывать Луи Дольбреза и Проспера Шарманса? Вас, мсье Легри! Я не поверил путаным объяснениям вашего приказчика, который, по моему мнению, чересчур увлекается романами. У него хватило наглости заявить, что вы вдвоем совершенно случайно прогуливались возле дома Шарманса, с которым он, якобы, познакомился, когда приходил в ломбард, услышали крики и бросились на помощь. Я не вызвал вас в суд только по одной причине: вы спасли жизнь бедняге Шарманса и положили конец серии убийств, которые совершал Дольбрез. И я вам за это благодарен. Поэтому будем считать, что Дольбрез не рассказал мне, как ему удалось пустить вас по ложному следу при помощи записки: помните, в «Мулен-Руж» он сказал вам, что забыл шляпу, а сам тем временем черкнул несколько строк и незаметно подкинул записку в шкафчик Гастона Молина. Полицию он ввел в заблуждение аналогичным способом — оставил литературные цитаты рядом с трупом Ноэми Жерфлер. Если бы вы его не остановили, Дольбрез опубликовал бы в газетах от имени Шарманса признание: якобы они с доктором Оберто совершили все эти преступления, а потом Шарманса убил сообщника и повесился, чтобы уйти от правосудия… Видите, от меня не укрылась ни одна деталь, хотя при упоминании о вас и у владелицы пансиона мадемуазель Бонтам, и у Грегуара Мерсье, и у нашего друга ювелира мгновенно случались приступы забывчивости.
Инспектор отправил в рот несколько лакричных пастилок. Виктор покраснел и опустил глаза.
— Я решился побеспокоить вас, потому что мне не хватает одного вещественного доказательства, и я полагаю, что оно у вас. Видите ли, у меня уже есть все необходимые улики, чтобы выдвинуть обвинение против Луи Дольбреза, вернее Луи Карно, который состоял в любовной связи с Леонтиной Фуршон и играл роль кучера мадам де Сен-Меслен — он так и не смог простить женщину, которая посмеялась над его чувствами и присвоила добычу. У всех этих преступлений, оказывается, один мотив — месть любовнице за предательство. Полагаю, вторая туфелька Элизы, вернее, ее подруги Айрис Мори, у вас. Как видите, я прекрасно осведомлен: простак Грегуар Мерсье и жеманная Коримба Бонтам, которая не смогла устоять перед звоном монет, стали для меня бесценным источником информации. Так вот, если я прав и туфелька у вас, принесите ее и положите на пороге этой комнаты. Я сделаю вид, будто увлеченно листаю «Журналь де вояж», а потом заберу улику и уйду…
Несколькими минутами позже инспектор Лекашер любезно распрощался со всеми, кто был в лавке, и вышел на мороз. Правый карман его мундира оттопыривался, как будто там что-то лежало.
«Эх, долго же потом инспектору придется проветривать мундир, ведь хотя прошло немало времени, от туфельки по-прежнему несет козлом», — подумал Виктор и поспешил на помощь Кэндзи, который нес на полку большую стопку романов Жюля Верна и Александра Дюма.
* * *
Жозеф сжимал в руках номер «Пасс-парту», не решаясь развернуть газету. А вдруг там ничего нет? Юноша стоял под навесом напротив книжной
лавки, откуда в этот момент выходил инспектор Лекашер. Жозеф поглядел ему вслед и наконец решился. Дрожащими руками он раскрыл газету и прочитал:
Рады сообщить нашим дорогим читателям, что мы начинаем печатать произведение под названием «ЗАГАДКА „ВИЛЛЫ АКВИЛЕГИЙ“», вышедшее из-под пера подающего большие надежды молодого автора Жозефа Пиньо. Действие романа разворачивается в Париже и Лионе. В этом номере мы представляем вашему вниманию первую главу. Не сомневаемся, что автора ждет грандиозный успех.
— Вот видишь, папа, — пробормотал Жозеф, — твой сын стал писателем.
* * *
Кэндзи повесил над кроватью картину и отступил на шаг, чтобы полюбоваться. Он уже года полтора хранил этот пейзаж в сундуке, не решаясь признаться, что купил его на выставке в «Золотом солнце». Он боялся, что Виктор неверно истолкует его поступок и приревнует к нему Таша… Но теперь Кэндзи решил: хватит! Ему нечего скрывать, и его больше не волнует мнение окружающих.
Картина называлась «Парижские крыши на рассвете». Глядя на нее, понимаешь, как замечательно дышать полной грудью, видеть, как над городом встает солнце, строить планы на новый день!.. Какое счастье, что нет больше тайн, которые много лет отравляли ему жизнь! Айрис и Виктор узнали правду, и скоро можно будет открыто объявить, что Айрис — его дочь.
Жозеф тоже узнал это, правда, не от самого Кэндзи. Айрис рассказала ему все во время урока английского. А когда ее ученику наконец удалось довольно сносно произнести «father», она нежно погладила его по щеке.
* * *
Жозеф давно мечтал, как небрежно бросит на прилавок газету, в которой напечатан отрывок из его романа, и с безразличным видом скажет Виктору, поднимаясь по приставной лесенке:
— Взгляните-ка, по-моему, там на третьей странице напечатано знакомое вам имя.
Юноша не раз проигрывал эту сценку в воображении, но теперь решил, что первым человеком, который узнает о его триумфе, будет вовсе не мсье Легри — а очаровательная юная особа.
Он попросил Айрис спуститься в подвал и помочь ему разобрать давно пылящиеся на полках бульварные романы, которые никто не хотел покупать. Там, внизу, он молча протянул ей номер «Пасс-парту». Девушка пробежала глазами страницу, постояла немного, изумленно глядя на Жозефа, а потом прошептала:
— Тут указано ваше имя! Вот здорово! Когда же вы успели написать целый роман?
— Ночами, после работы. Не нужен особый талант, чтобы описать события, коим ты сам был свидетелем, а если добавить чуточку фантазии… Но вам вовсе не обязательно это читать, я помню, вы говорили, что не любите романы.
— Ну почему же, я…
— Для меня важнее, чтобы вы первой узнали об этом. За романы, знаете ли, неплохо платят.
— Так, значит, мы с вами больше не увидимся? — опустила голову Айрис. — Вы нас покинете?
— Нет, увольняться я пока не собираюсь. Меня, конечно, ждет блестящее будущее, но сразу жить на гонорары вряд ли получится, и надо чем-то зарабатывать на хлеб… К тому же, английский я еще не выучил.
— Так вы остаетесь?! Как я рада! А я могу помочь вам — напечатать ваш следующий роман на папиной печатной машинке… Ему мы, конечно, ничего не скажем.
— Конечно, я… Черт, кажется, в лавку зашел посетитель. Подождите меня здесь, не поднимайтесь пока, ладно? — смущенно пробормотал Жозеф и бросился наверх.
Однако, взбежав по лестнице, он тут же скользнул за стеллажи в надежде остаться незамеченным.
— Только не это, — простонал он.
Кэндзи Мори беседовал с двумя покупательницами: графиней Олимпией де Салиньяк и Рафаэль де Гувелин. Виктор делал вид, что страшно занят.
— Очень рады вновь видеть вас, мадам, — вежливо произнес Кэндзи. — Вы нас совсем забыли.
— Ах, мсье Мори, у меня столько хлопот! Моя племянница Валентина ожидает летом прибавления.
— Какая чудесная новость! Французская нация спасена от вымирания. А как поживает мадам де Бри? — поинтересовался Кэндзи.
— Ей гораздо лучше, и она скоро в четвертый раз выйдет замуж. Ее жених отставной полковник, они познакомились в Ламалу-ле-Бэн. Свадьба назначена на февраль, церемония будет скромная, никаких там подружек невесты и фаты. Мы посоветовали Адальберте надеть серебристое платье и отделанную белым кружевом шляпку с маленькой веточкой флердоранжа.
— Замечательно! У вас прекрасный вкус! — восхитился Кэндзи, скрываясь за прилавком.
— Кстати, мсье Мори, она поручила мне узнать, есть ли у вас полное собрание сочинений Клэр де Шандене.
[100]
— Клэр де Шандене… — Кэндзи бросил отчаянный взгляд на Жозефа, и тот поспешил на выручку:
— Я как раз на днях проверял, что у нас есть на складе, и отложил эти книги в сторонку. Сейчас я за ними схожу.
У Кэндзи вырвался вздох облегчения, и он благодарно улыбнулся Жозефу.
Рафаэль де Гувелин тем временем со скучающим видом подошла к Виктору.
— Мсье Легри, — проговорила она, не разжимая губ, — скажите, у вас часом не найдется экземпляра книги «Там, внизу»? Я, знаете ли, люблю быть в курсе событий, а об этом романе последнее время все говорят. Да, и захватите заодно «Нана» и «Добычу». Заверните их, пожалуйста, чтобы Олимпия не видела, — прибавила она вполголоса, кивая на графиню де Салиньяк. — Ах, да, чуть не забыла: я хотела еще «Мадам Бовари» Флобера и «Сестер Ватар»
[101] — мне говорили, что это очень интересный нравоописательный роман… ну, вы понимаете, о чем я.
— Прекрасно понимаю, мадам де Гувелин.
— В том, что касается нашумевших историй, у нас с вами вкусы совпадают, не правда ли, мсье Легри? — многозначительно добавила она и вернулась к подруге — та рассматривала принесенные Жозефом книги.
— Доставьте все это мне на дом, — распорядилась графиня де Салиньяк. — Клэр де Шандене слишком рано нас покинула. Католическая литература лишилась в ее лице одной из самых ревностных подвижниц.
— Да-да! — подхватила Рафаэль де Гувелин. — Я без ума от ее целомудренных и сентиментальных книг, в них нет грубости, которая так свойственна писателям-мужчинам. Знаете, мсье Мори, я, пожалуй, куплю «Тернистый путь» и «Великолепную Валь-Режи» — коротать длинные зимние вечера. Было бы прекрасно, если бы эти книги оказались у вас в нескольких экземплярах. Я бы тогда купила их не только для себя, но и для Матильды де Флавиньоль и ее подруги Хельги Беккер — они, бедняжки, еще не оправились после той злосчастной велосипедной аварии.
21 декабря, понедельник
— Я раздобыла газету, мадам Пиньо! Ух, и повезло же мне. Их просто из рук рвут! — кричала мадам Баллю, размахивая свежим номером «Пасс-парту». — Да вы что, совсем ума лишились? У вас коленка распухла до размеров страусиного яйца, а вы встали из постели! Доктор Рейно устроит вам головомойку, а мне попадет от вашего сына. Что с вами? Вам плохо?
— Милая моя мадам Баллю, у меня в колене так и стреляет, туда будто кто петард насовал.
— Немедленно в тепло, под одеяло, и пока не выпьете успокоительное, ничего я вам читать не буду. Вы помните, на чем все кончилось в прошлый раз?
— Да, баронесса де Сен-Пруцент приехала умолять доктора Рамбюто не волновать ее несчастного мужа — с ним ведь может случиться припадок прямо в гостиной.
— Марш-марш в кровать! Ложитесь поудобнее, вот так, хорошо. Сейчас я принесу вам соку, сяду рядышком и начну читать с окончания предыдущей части — уж очень хорошо написано:
Доктор Рамбюто степенно кивал. Такая очаровательная хрупкая женщина — и такой неудачный брак… Она достойна лучшей доли…
— Совсем как я, — всхлипнула мадам Баллю, прерывая чтение, — я тоже ничем не заслужила, чтобы мой Баллю так рано отправился на небеса, потому что…
— Читайте же!
— Хорошо, хорошо.
Феликс Шарентон начал терять терпение. Диванчик оказался неудобным, и у него уже затекли ноги. Он встал и принялся мерить шагами гостиную, поглядывая на часы.
— Что-то семейный совет затягивается. Эдак я тут до вечера проторчу, — пробормотал он. — Ах, с каким удовольствием я бы выкурил сейчас сигару…
— Вот это он точно подметил! Ну точь-в-точь как мой Баллю. Если он долго читал газету, тут уж непременно…
— Да читайте же вы дальше!
— Ну, вы-то уж точно не из терпеливых!
Шарентон осторожно приоткрыл дверь и столкнулся нос к носу с человеком, который как-то странно к нему приглядывался. На груди незнакомца красовался орден Почетного легиона, и ювелир решил, что перед ним сам барон де Сен-Пруцент, которому, видимо, стало лучше.
— Вам понравились украшения? — спросил он.
— Конечно, друг мой, конечно.
— И какой же гарнитур вы выбрали? Тот, что с рубинами? Или тот, что с изумрудами? А то уже, знаете ли, поздно, я проголодался.
— Узнаю моего Жозефа! Он любит поесть, — вставила мадам Пиньо.
Мадам Баллю кивнула и продолжила:
Человек с орденом Почетного легиона смотрел куда-то за спину Феликсу Шарентону. Тот обернулся и увидел, как из потайной двери появился здоровенный детина в белом.
— Украшения! Где мои украшения? — вскричал Шарентон.
Детина в белом схватил его, он попытался вырваться, но страх парализовал его.
— Боже правый! Да вы спятили! Отпустите меня! Спасите! На помощь! Грабят!
Этих криков доктору Рамбюто было достаточно, чтобы прописать новому пациенту самое радикальное лечение.
— В душ его, — приказал он санитару.
— Продолжение следует… Ну вот! — вздохнула мадам Баллю. — Придется теперь ждать до завтра, чтобы узнать, что там было дальше. А вы не знаете, мадам Пиньо, это правда, что человек, с которого писали Феликса Шарентона, в конце концов все-таки спятил. Оно и понятно: столько натерпелся, бедолага. Мало того, что обобрали до нитки, так еще и в сумасшедший дом заперли. Ничего удивительного, от холодного душа у кого хочешь крыша поедет!..
— Что за странный запах? — перебила ее Эфросинья Пиньо. — Вы не чувствуете?
На пороге появился странного вида долговязый субъект с миской в руках.
— Прошу прощения, это вы мадам Пиньо?
— Да, это я. Что вам угодно? Вообще-то перед тем, как войти, принято стучать.
— Меня прислал ваш сын. Я зашел к нему в книжную лавку поговорить о деле, из-за которого погиб мой родственник Базиль Попеш, и узнал, что у вас суставы болят… Ну, и сразу побежал за Пульхерией.
— Это еще кто?
— Моя коза — у нее вот-вот родится маленький, вот я и кормлю ее розмарином, поэтому ее молоко полезно больным ревматизмом. Я принес вам его, надо выпить все до последней капельки. Будете пить ее молоко каждый день, глядишь, через месяц-другой и встанете на ноги.
— Я тоже хочу такого молока! — заявила мадам Баллю.
* * *
Чтобы не обижать Жермену, Виктор решил пообедать вместе с Айрис и Кэндзи и заставил себя наскоро проглотить порцию гусиных потрохов с пюре из репы. Разговор вертелся вокруг утренней выручки и внезапного похолодания — эти темы были гораздо безопаснее, чем недавнее воссоединение семьи. Потом Виктор распрощался и ушел.
* * *
Таша отложила кисть и придирчиво посмотрела на почти оконченную копию «Спасения Моисея» Николя Пуссена. Недавно Виктор познакомил ее с братьями Натансонами, и вместе с ними она попала на дебютную выставку молодого художника Эдуара Вюйара в «Ревю бланш». А тот, в свою очередь, представил ее художнику из Бордо Одилону Редону — Таша всегда восхищалась его самобытным творчеством и с удовольствием выслушала его советы. Редон считал, что искусство призвано отражать подсознательное и художник должен стремиться передать свой внутренний мир и подчинить этому логику видимого мира. Под влиянием Редона Таша отошла от импрессионизма, который, по его мнению, лишь фиксирует впечатления художника, и занялась изучением творчества великих мастеров прошлого, таких как Энгр, Делакруа, Постав Моро и Дега. А когда Таша в очередной раз зашла в Лувр, она вдруг ощутила суровое обаяние полотен Пуссена.
Сначала она набросала копию фигуры обнаженной женщины с картины «Воспитание Бахуса» — Виктор был тогда пленен раскованностью позы героя, — а потом решила скопировать «Спасение Моисея».
— Очень трогательно: женщина склонилась над ребенком в пеленках, — Виктор с видом ценителя стоял позади Таша, заглядывая ей через плечо. — Как думаешь, может, стоит ее немного раздеть?
Таша замахнулась на него кистью.
— Я же запретила тебе сюда приходить!
— Не хочешь, чтобы я столкнулся с кем-нибудь из твоих многочисленных ухажеров, например, Ломье?..
— С тех пор, как Гоген в апреле уехал на Гаити, Ломье впал в депрессию и заперся у себя в мастерской.
— Готов поспорить, что он собирается преподнести нам очередную теорию. Так почему мне нельзя приходить?
— Потому что ты меня отвлекаешь. В кои-то веки я довольна своей работой… Мне удалось что-то ухватить… Женщина, ребенок, вода — пожалуй, я перенесу этот сюжет в наше время, может, напишу сцену в купальне… Редон, конечно, скажет, что я опять ударилась в импрессионизм…
— Редон? — вскинулся Виктор. — Это еще кто?
— …Ну и ладно, — не слушая его, ответила сама себе Таша, — игра света и тени мой конек, а в этой работе я немного нивелирую контрасты. Здесь будет и символизм, и фантастика, но и реализм тоже… такое смешение стилей. Что скажешь?
— Я рад, что ты нашла свой путь в искусстве. Я, кажется, тоже нашел, и это придает мне уверенности. Я решил, что буду фотографировать детей, но не богатеньких деток в рюшах, а детский труд. Покажу реальность такой, какая она есть.
— Чудесно, Виктор! Давай это отпразднуем.
— А знаешь, мою мебель уже перевезли. Так что сегодня у меня еще и новоселье. Давай поужинаем в «Гранд-Отель», побеседуем о живописи и фотографии…
— И о расследовании, в которое тебя — разумеется, против твоей воли, — с сарказмом добавила Таша, — втянули…
Эпилог
«В этом году теплое летнее солнышко появилось слишком поздно… чтобы спасти урожай», — писала газета «Пти журналь» в сентябре 1891 года, опасаясь очередного повышения цен. В начале года стояли сильные морозы, температура опускалась до минус двадцати пяти, Сена покрылась льдом, многие бездомные замерзли насмерть. Армия спасения устраивала ночлежки в помещениях гимназий, в общественных банях, даже в одной из панорам, но больше всего народу удалось разместить во Дворце изящных искусств, что на Марсовом поле.
Обеспеченные парижане проводили время в «Комеди Франсез», где шел «Термидор» по Викторьену Сарду. Эта пьеса стала популярна благодаря яростным нападкам на Робеспьера. Клемансо, выступая в Парламенте, заявил: «Нравится это нам или нет, но Французская революция — единый блок, от которого ничего нельзя отнять, ибо историческая истина этого не позволит. Бюст Марата убрали из парка Монсури, зато на перекрестке Одеона установили памятник Дантону. Революция еще не окончена», — так закончил свою речь Клемансо.
Военные по-своему истолковали эти слова: в июле расстреляли бастующих железнодорожников, а еще раньше, 1 мая 1891 года, — мирную манифестацию в городе Фурми, на севере страны. Там бастовала половина рабочих: они провозгласили 1 мая «днем единения, тишины и достоинства», однако городские власти отказывались признать его официальным праздником. Бросая вызов властям, собралась процессия — мужчины, женщины и дети пели народные песни. Впереди шла Мария Блондо с цветущей веткой шиповника, которую она протянула солдатам, преградившим путь процессии. Счел ли их командир этот жест нападением, когда приказывал открыть огонь? В результате погибли девять человек, в том числе и восемнадцатилетняя Мария.
В тот же день, 1 мая, проходит манифестация в Клиши и Левалуа. Полицейские пытаются отобрать у демонстрантов красное знамя, и завязывается драка. Три анархиста взяты под стражу. Двадцать восьмого августа дело передано на рассмотрение суда присяжных, и двое приговорены к тюремному заключению. Спустя семь месяцев, 11 и 27 марта 1892 года, вор и убийца Франсуа Клод Кенигштайн, более известный под девичьей фамилией матери — Равашоль, — пытается взорвать дом судьи Бенуа, который вел слушания по этому делу, а также заместителя прокурора Бюло. К счастью, оба покушения неудачны.
Но уже двадцать шестого июля две посылки с бомбами доставлены министру внутренних дел Констану и товарищу министра по делам колоний Этьену. Они не взорвались, но терроризм становился реальной угрозой. Изобретено новое взрывчатое вещество — экразит, разрушительная сила которого такова, что начиненный им артиллерийский снаряд способен уничтожить пять сотен солдат.
Но есть и более мирные изобретения. Так, например, братья Мишлен придумали надувную велосипедную покрышку, благодаря которой Шарль Террон выигрывает гонку Париж — Брест — Париж. Сначала Панар и Левассор, а потом и Пежо выпускают первые автомобили, оснащенные моторами Даймлера. А вот на железных дорогах в тот год часто случаются катастрофы. Летом два экспресса сталкиваются на мосту Шапель, происходит страшная авария в Сен-Манде. В октябре товарный состав столкнулся с пассажирским поездом в Брюнуа, а чуть позже сошел с рельсов поезд в Муаране.
Аварии на железных дорогах не мешают подъему патриотизма с оттенком реваншизма. В апреле на страницах «Меркюр де Франс» появилась статья «Игрушечный патриотизм», где были такие слова: «Скажу кратко: никакие мы не патриоты». Разразился скандал, автора — молодого служащего Национальной библиотеки Реми де Гурмона — уволили, ведь он осмелился сказать, что ему надоело оплакивать утрату Эльзаса и Лотарингии. В сентябре антигерманские настроения проявились с новой силой. Впервые за четверть века в «Опера Гарнье» снова поставили спектакль по опере Рихарда Вагнера, хотя в 1861 году «Тангейзер» с треском провалился. По этому поводу язвительно высказался Мериме: «Жуткая скукотища!». На этот раз давали «Лоэнгрина», и отрядам конной полиции пришлось сдерживать антивагнеровские манифестации на площади перед зданием оперы.
Скандал вызвала и публикация в 1891 году романа Карла-Жориса Гюисманса «Там, внизу», который газета «Эко де Пари» назвала «первым достоверным описанием современного сатанизма».
В июле, после визита французского флота в Кронштадт, появляются публикации об Антанте — союзе, который Франция и Россия заключили в противовес Тройственному союзу Германии, Австрии и Италии. В августе Париж и Санкт-Петербург подписали первые договоры, и благодаря этому событию появились новые конфеты и оперетты — так, в театре «Ба-та-клан» шел спектакль «В Кронштадте».
В газете «Фигаро» пишут, что вульгарные песенки, вроде «У меня в носу свербит», «У нее дымятся ножки» или «Может, вам подать омаров?», тем не менее, приносят авторам ежегодный доход в десять-пятнадцать тысяч франков. Завсегдатаями двухсот семидесяти четырех кафешантанов Парижа становятся не только господа во фраках, но и мелкие клерки, и владельцы небольших магазинчиков. Там можно увидеть и светскую даму, и ночную бабочку, и горничную, а иногда туда заглядывают даже рабочие, хотя у них, занятых по шестьдесят-семьдесят часов в неделю, времени на досуг почти не остается. Среди кабаре встречаются самые разные — от дешевых забегаловок до настоящих дворцов, таких как «Эльдорадо», «Амбассадор», «Альказар» или «Де Л'Орлож».
В 1881 году образуется кружок художников во главе с Родольфом Сали. Он открывает на бульваре Рошешуар, а позже, в 1885 году, — и на улице Виктора Массе (бывшей Лаваля) кабаре, где открыто высмеивают существующие порядки. Обосновавшись на Монмартре, Сали и его друзья продолжают традиции нонконформистских поэтических кружков Латинского квартала. Клод Дебюсси, Эрик Сатье, Поль Дельме, Поль Верлен, Жан Ришпен, Ксанроф, Альфонс Алле, Шарль Кро, Морис Донне, Штейнлен, Морис Роллина, Жюль Жуи, Мак-Наб — вот лишь некоторые из завсегдатаев «Ша-Нуар». Большой популярностью пользуется и театр теней Анри Ривьера — отчасти благодаря нему в моду вошли японские гравюры.
Только в «Ша-Нуар» и «Мирлитоне» Аристида Брюана пьесы не подвергались цензуре. В других заведениях спектакль могут запретить, если в нем звучат недозволенные слова (например, полицейского назовут «шпиком» или «фараоном») или присутствуют неприличные сцены. Авторам оперных либретто даже предлагалось выражение «розовые жемчужины твоей груди» менять на «твой алебастровый бюст».
Но сильнее всего от цензуры страдают кафешантаны. Там при исполнении канкана танцовщицы поднимают юбки и демонстрируют ноги в черных чулках, причем часто видна обнаженная часть бедра, поэтому приглашение на бал, самым знаменитым из которых был проходящий в «Мулен-Руж», представляло собой завуалированную форму непристойного предложения. В 1891 году ситуацию сочли настолько серьезной, что Жюль Симон, Ришар Беранже и Фредерик Пасси призвали организовать общество противодействия разврату.
Посещая кафешантаны, эти островки свободы, художники открывают для себя мир, весьма далекий от изображенного на полотнах Моне. Начинается новая эпоха в искусстве, которой, во многом благодаря Жюлю Шере, суждено преобразить облик парижских улиц. Жорж-Пьер Сера пишет «Канкан» и знаменитый «Цирк», Тулуз-Лотрек создает рекламные афиши, фигуры на которых словно оживают по ночам в тусклом свете газовых фонарей. Полотна Одилона Редона предвосхищают открытие подсознания.
Между 1862 и 1870 годами врач больницы Сальпетриер Жан-Мартен Шарко (1825–1893) проводит исследования, которые лягут в основу нового направления в медицине — невропатологии. С 1872 года он увлекается изучением истерических неврозов. В открывшейся в 1854 году больнице Ларибуазьер можно получить консультацию амбулаторно, а в отдельном здании находятся палаты для пациентов с различными заболеваниями нервной системы, анатомический театр, фотолаборатория, помещение для электротерапии. В 1885 году сюда приезжает стажироваться молодой врач из Вены Зигмунд Фрейд. Он замечает, что нарушения, вызывающие истерические неврозы, поддаются лечению внушением и гипнозом. Достижения доктора Шарко настолько впечатляют молодого Фрейда, что он даже назовет своего сына Жаном-Мартеном, а эксперименты, в которых он принимает участие, в недалеком будущем послужат основой его теории бессознательного.
Артист Аристид Брюан предстает перед публикой в красной рубашке, вельветовых брюках и сапогах. Перед началом представления он заявляет: «Все, кто сюда пришел, — свиньи!», а затем исполняет малопристойные песни собственного сочинения.
Обыватели со смешанным чувством ужаса и наслаждения читают в газетах захватывающие романы с продолжением, действие которых разворачивается в опасных районах Парижа и даже за линией укреплений, построенных в 1845 году по предложению Луи Тьера.
В сентябре умирает бывший президент Жюль Греви, что становится поводом для многолюдного траурного шествия под охраной полиции. Парижан очень волнует тот факт, что в городе стало небезопасно. Их пугает рост числа приезжих и бродяг. И все же по статистике уровень преступности в столице ниже, чем в целом по стране. В основном, правонарушителями становятся мужчины в возрасте до двадцати одного года, без определенного места жительства, злоупотребляющие спиртными напитками. Однако в 1891 году арестована банда убийц, орудовавшая в Нейи, членами которой были два банкира и владелец похоронной конторы. А в конце года проходит скандальный судебный процесс над преступниками, которые обезображивали лица своих жертв кислотой.
Клод Изнер
«Тайна квартала Анфан-Руж»
Посвящается Эммануэль Эртебиз, нашим дорогим друзьям, и прежде всего Б. и Ж. — «окну в Америку» и «окну в Россию», Анне, Валентине и Энрико
А ты, Сена, течешь, как текла всегда.
Древней змеей ты ползешь по Парижу,
Древней грязной змеей, унося в свои гавани
Груз бревен, угля и трупов.
Поль Верлен.
Из цикла «Сатурнические поэмы».
На улице Бретань под номером 39 располагается огороженный решетчатым забором рынок Анфан-Руж, открытый еще в 1628 году. Он получил свое название из-за близкого соседства с основанным Маргаритой Наваррской приютом для сирот, которые носили красные платья.
[102]
Все персонажи этого романа вымышленные, за исключением Поля Верлена, Поля Фора, Жана Мореаса, Альбера Годри, Эжена Дюбуа, Равашоля, Альфонса Бертильона, Тримуйя, Ma Гель, Казальса, Гобеля де ля Виль Иньян и, разумеется, Тулуз-Лотрека.
ПРОЛОГ
Париж, 27 марта 1892 года
Едва на колокольне церкви Святой Троицы успели отзвонить восемь, как в квартале прогремел страшный взрыв. Пятиэтажный дом на улице Клиши содрогнулся от основания до черепичной крыши; часть лестницы обрушилась, вылетели стекла.
Взрывная волна дрожью отозвалась в его теле. В мозгу вспыхнуло: Апокалипсис. Улица плыла и кружилась. В ноздри забивалась пыль, и ее едкий запах погрузил его в воспоминания о том, что случилось давным-давно и, казалось, навсегда покинуло его память. Эхо забытого прошлого. Знак.
Истовая вера в Высший суд, трепет перед Писанием, благоговение перед Таинствами вызвали в сознании образ опекуна. Вот тот склонился над ним, воздев к небесам корявый от артрита палец. Он снова и снова слышит ворчливый голос, повторяющий все те же слова: «И вот, произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь…
[103] Посеяв ересь, пожнем вечное проклятие! Кара! Кара Господня!».
Мостовую усыпали осколки стекла. Какой-то старик, дрожа как осиновый лист, без сил опустился на кромку тротуара. Женщина в изорванной одежде, с белыми от штукатурки волосами, захлебывалась рыданиями. На помощь уже бежали люди.
Комната — надежное убежище в самой сердцевине темной ночи: такая удобная, спокойная, защищенная панельными стенами. На столе лампа под розовым абажуром, свет от нее играет радугой в графине с водой. Рука тянется к чернильнице. Тишину нарушает лишь легкий скрип пера, сосредоточенно покрывающего тонкой вязью слов лист бумаги в клеточку.
Сегодня утром грохот оглушил меня, потряс все мое существо. Гнев Господень снова обрушился на нас. Волки в овечьих шкурах сеют в стаде раздоры и ложь. Я был там. Мой желудок сжался в комок, в горле стоял ком, мозг полыхал огнем, а глаза слепил нестерпимо яркий свет. Небо обрушило на наши головы тысячи молотов. Господь напомнил о долге, который мне предстоит исполнить. Восторг охватил меня, ведь Он, создавший человека и всякую тварь на земле по образу и подобию Своему, избрал именно меня. С того момента, когда понял, что замышляет враг, я должен был действовать. Я — десница Господня, и я достигну своей цели: никто не вернется в царство бесчестья. Бог вложит мне в руки меч возмездия. Люди выбрали неправедный путь, и я должен отделить зерна от плевел. Я — жнец. О Господи, дай силы посланнику Твоему!
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Хайленд, Шотландия,
5 апреля 1892 года
Затаившись на низкой ветви бука, весь подобравшись перед прыжком, готовый выпустить когти, Тэби не сводил глаз с куста, где шуршала лесная мышь. Северный ветер гнул деревья в парке и гнал по небу низкие грозовые тучи. Оранжевая луна то и дело ныряла в них. Свет ее был таким робким и слабым, что даже Тэби с трудом мог различить свою жертву в кусте вереска. Дальше, за пустошью, шумела буковая роща, а за ней, словно часовой на посту, без устали наблюдающий за дорогой, ведущей в Кресчент Дугалл, высилась на холме усадьба «Бруэм. Грин».
Тэби прикрыл влажной от росы лапкой черную маску на мордочке, характерную для всех сиамских кошек, и распластался на ветке. За ажурным веером папоротника мелькнула тень. Кот прыгнул. Но когда его челюсти уже готовы были сомкнуться на хрупком тельце мыши, земля содрогнулась. Тэби отвлекся на мгновение, и добыча успела скрыться в щели между камней. Разочарованный, Тэби не стал продолжать охоту. Он потянулся, поточил когти о ствол и неторопливой походкой пожилого, господина, совершающего послеобеденный променад, направился к аллее. Внезапно прямо на него вылетела огромная карета. Тэби метнулся на верхушку невысокого каштана и уставился на чудовище о четырех колесах, несущееся в «Бруэм Грин».
Кот прижал уши: в ноздри ему бил запах конского пота, сердце колотилось, и только осознав, что он в безопасности, кот немного успокоился и решился осторожно слезть с дерева. Но, едва спустившись, снова замер на месте: из-за поворота на Кресчент Дугалл выехал всадник. Тэби зашипел, шерсть на спине встала дыбом. Лошадь прянула в сторону, щелкнул хлыст, чуть не выбив глаз коту, который успел нырнуть в кусты.
Дженнингс забыл подбросить в камин полено, и пламя слабело на глазах. Леди Фанни Хоуп Пеббл, сидевшая у окна, потянулась было к звонку, чтобы позвать слугу, но, увидев «викторию»
[104] на подъездной аллее, застыла с вытянутой рукой. Кто мог явиться к ней в столь поздний час? После смерти лорда Пеббла ее навещают только доктор Барли и пастор Энтони, да и то исключительно по утрам. Леди Пеббл запахнула шаль на тощей груди и решила сама подбросить в огонь пару поленьев. Ее внимание привлекло тихое мяуканье. Тэби! Прижавшись к стеклу, он был похож на горгулью: глаза горят фосфорическим светом, на мордочке — хищный оскал. Стоило леди Пеббл приоткрыть окно, как сиамский кот прыгнул к ней на колени, но не свернулся калачиком, как обычно, а тут же соскочил на пол и принялся выписывать восьмерки вокруг ее юбки.
— Ах ты, негодник! — пожурила его хозяйка. — А ну, тихо! Дженнингс кого-то ведет.
Дженнингс, в небесно-голубой ливрее и белых чулках, с напудренными волосами, стянутыми в хвост широкой черной лентой, словно сошел с полотна кисти Хогарта.
[105] Антуан дю Уссуа, немало удивленный странным видом дворецкого, молча проследовал за ним в гостиную, загроможденную массивными шкафами, полными книг. Дженнингс, не произнеся ни слова, повернулся на каблуках и вышел.
— Радушный прием, ничего не скажешь, — проворчал Антуан дю Уссуа. — Здесь чертовски холодно. А мне еще расхваливали гостеприимство шотландцев! Единственное, в чем им не откажешь, — это в скупости! Такой холод, а камин не растоплен…
В тусклом свете оставленной дворецким свечи он принялся разглядывать корешки книг, выстроившихся на полках. Библия, молитвенники, трактаты по теологии. Антуан дю Уссуа пожал плечами, вынул из кармана записную книжку и нацарапал:
Я на месте. Хотелось бы знать, по верному ли следу я иду. Удастся ли мне опередить Д.? Если да, то я буду первым, кто докажет существование…
Он вдруг замер, снова пораженный мыслью, посетившей его вчера в отеле «Бэлморал»: куда подевался первый дневник, тот, что он вел на Яве? Сбил ли он с пути
его?
«Нет, он должен быть на дне сундука или в саквоя…»
Потайная дверь открылась, и перед ним появилась миниатюрная фигурка в розовом муслиновом платье, причесанная на манер мадам Помпадур. Антуан словно спустился по лестнице времени в эпоху правления короля Георга III, которую, вероятно, застала, хотя бы в младенчестве, эта хрупкая, крошечная старушка. Свистящим шепотом, напоминающим шипение кипящего чайника, она объявила, что леди Пеббл изволит принять его. А потом, подхватив свечу и не обращая более внимания на гостя, торопливо зашаркала по длинному мрачному холлу с портретами на стенах. Изображенные на них лица были на редкость неприветливы. Антуан заметил в дальнем конце холла массивную лестницу, по которой старая служанка взобралась с беличьим проворством. Не спуская глаз с розового пятнышка, терявшегося в полумраке, гость последовал за ней, стараясь не споткнуться на ступеньках, и вскоре оказался перед двойными дверями, которые распахнулись, словно по волшебству.
В комнате среди чиппендейловской мебели и огромных ваз китайского фарфора вполоборота к нему восседала, словно на троне, в кресле на колесиках пожилая женщина, поглаживая сиамского кота, примостившегося у нее на коленях. На круглом столике горела керосиновая лампа, рядом лежал ворох газет и книг. Хозяйка отпустила служанку и развернула кресло. Взглянув в ее мертвенно-бледное, некрасивое лицо, на котором живыми казались только глаза, Антуан дю Уссуа почувствовал замешательство. Создавалось ощущение, что эта женщина видит его насквозь. Она долго и пристально изучала гостя. Веки дрогнули, на сморщенных сухих губах мелькнула улыбка, и она дала ему знак подойти ближе. Ее высохшее тело было закутано в шаль с кистями, прическу покрывала ажурная мантилья, крупная жемчужина на бархатной ленте свешивалась на лоб. Старуха сидела неподвижно, словно будда, и лишь ее ладонь двигалась по спине кота.
Леди Пеббл, в свою очередь, с любопытством рассматривала подтянутого, загорелого мужчину. Короткая бородка и закрученные усы делали его похожим на д’Артаньяна. Она представила себя молодой, красивой и здоровой в объятиях этого пленительного незнакомца, но в сказочное видение тут же вторгся образ ее покойного мужа, толстяка лорда Пеббла.
«Опомнись, Фанни! — мысленно сказала себе она. — Ему лет сорок, а тебе — шестьдесят пять. Он тебе в сыновья годится. Ты просто жалкая развалина с сердцем мидинетки…».
— Я редко принимаю гостей, — произнесла она вслух по-французски. — Вашу просьбу я выполняю в память о моем покойном брате. Какова же цель вашего визита?
Она не предложила ему сесть, и он переступил с ноги на ногу.
— Как вам известно из моего письма, я приехал из…
— Увы, я вынуждена вас разочаровать. Этого предмета у меня больше нет. Как единственная наследница брата, я согласно его воле передала в музеи… Тэби, да что это с тобой?!
Кот внезапно встал у нее на коленях и уставился в окно, учуяв незнакомый, враждебный запах. Потом вспрыгнул на подлокотник кресла и застыл, всматриваясь в сумрак и вслушиваясь в шорохи. И разглядел человека, который цеплялся за выступ кирпичной стены у водостока.
Тэби бросился в глубь комнаты и спрятался у очага. Леди Пеббл решила, что в поместье опять завелись крысы. Нужно сказать Дженнингсу, чтобы избавился от них.
— На чем я остановилась?
— Вы передали в дар музеям…
— Ах да, музеи и научные институты получили немалые денежные суммы и коллекцию гербариев, собранных моим братом. Что до личных вещей, то я передала их его ближайшим друзьям.
— Могу ли я поинтересоваться, кто получил предмет, упомянутый в моем письме? Это чрезвычайно важно, — настаивал Антуан дю Уссуа.
— Разумеется, я располагаю сведениями о бенефициаре. Он живет в Париже, вы можете связаться с ним. Я дам вам его адрес.
Она огляделась, нашла на столике конверт и, протянув его Антуану, позвонила, вызывая служанку.
— А теперь, любезный господин, моя камеристка вас проводит.
Антуан испытывал противоречивые чувства: он был рад, что поиски подходят к концу, и в то же время разочарован — ведь он рассчитывал переночевать в «Бруэм Грин», а теперь придется тащиться обратно в Эдинбург по этим ужасным дорогам!
«Прощай, прекрасный д’Артаньян, — думала леди Пеббл, придвигаясь к огню. — Интересно, зачем тебе понадобился этот отвратительный предмет? Джон, царствие ему небесное, говорил, что, по слухам, эта штука приносит несчастье, хотя сам считал это вздором…».
Пока она задумчиво вглядывалась в горящие поленья и причудливую игру пламени, Тэби, весь взъерошившись, наблюдал, как за оконную раму ухватились чьи-то руки в черных перчатках; затем показались голова, плечи, ноги… Человек бесшумно спрыгнул на ковер и подошел к леди Пеббл, сидевшей к нему спиной. Тэби увидел, как блеснула сталь револьвера. Прогремел выстрел. Хрипло мяукнув, кот бросился под шкаф.
Лондон, 7 апреля, четверг
У Айрис ныли усталые ноги, но она не осмеливалась сказать об этом Кэндзи. Вот уже полчаса они бродили по кладбищу Хайгейт под резким ледяным ветром. Наконец отец и дочь остановились перед камнем с лаконичной надписью, высеченной на розовом мраморе золотыми буквами:
ДАФНЭ ЛЕГРИ
1839–1878
Покойся с миром
Глаза у Кэндзи наполнились слезами, плечи задрожали. Он поспешно отвернулся и снял цилиндр, купленный на время пребывания в Лондоне. Перед его мысленным взором встал хрупкий образ Дафнэ, какой он увидел ее впервые в библиотеке на Слоан-сквер, — когда был всего лишь приказчиком у ее супруга. Он вспомнил их платоническую влюбленность, мимолетные улыбки, легкое касание рук. Дафнэ решилась на близость с Кэндзи лишь через полгода после смерти мужа. Их тайная связь длилась десять лет и принесла драгоценный плод — Айрис.
Кэндзи украдкой смахнул слезы и оглянулся на дочь. Зябко кутаясь в плащ, Айрис осыпала могилу лепестками роз. Он подумал, что ее необычная красота всегда будет напоминать ему о словах Дафнэ: «В нашей дочери соединились Запад и Восток. Я так хочу, чтобы она была счастлива!..». Знай он, что в эту минуту мысли Айрис заняты неким белокурым молодым человеком, служившим в его, Кэндзи, книжной лавке, был бы не просто разочарован, но пришел в ярость.
— А почему маму не похоронили там, где покоится вся ее семья? — спросила Айрис.
— Нам очень нравился Хайгейт. Здесь чудесный воздух, и до Лондона отсюда рукой подать, мы даже мечтали приобрести виллу неподалеку. Дафнэ преклонялась перед поэтом Кольриджем, который похоронен на этом кладбище. Однажды, когда мы прогуливались здесь, она заставила меня дать слово, что если умрет первой, я положу ее — она так и сказала, «положи» — именно здесь.
Отец и дочь еще постояли немного и двинулись прочь. Склепы в египетском стиле под сенью темных кипарисов напомнили им кладбище Пер-Лашез. Они ненадолго остановились перед последним прибежищем химика Фарадея, потом — перед могилой Мэри Энн Эванс, более известной под именем Джорджа Элиота.
— Вы, должно быть, читали «Мельницу на Флоссе», — произнес Кэндзи.
— Вы, должно быть, знаете, что чтение меня не слишком интересует, — дерзко ответила Айрис. Кроме фельетонов Жозефа, мысленно добавила она.
Кэндзи остановился перед могилой Карла Маркса.
— Сын адвоката, принявшего протестантизм, — задумчиво произнес он. — Не так-то просто быть евреем в Пруссии времен Фридриха Вильгельма Третьего…
— Это один из ваших друзей? — спросила Айрис, подавив смешок.
Кэндзи вздрогнул. Он словно услышал смех Дафнэ.
— Нет, скорее, друг всех пролетариев. Увы, намеченный им путь все еще водит нас кругами. Но мне нравится, как он отвечал на вопросы одной из своих дочерей: «Ваш девиз?» — «Сомневайся во всем». — «Ваше любимое занятие?» — «Чтение».
«Чтение, чтение, чтение! У них у всех только одно на уме!», — раздраженно думала Айрис, всходя на холм, откуда открывался чудесный вид на город. Купол собора Святого Павла напоминал шляпку огромного гриба. Девушка представила, как он превращается в воздушный шар и летит над зелеными и желтыми заплатками полей. Строгий голос Кэндзи вернул ее к реальности:
— Четырнадцать миль с запада на восток, восемь — с севера на юг… В Лондоне больше католиков, чем в Риме, больше ирландцев, чем в Дублине, больше шотландцев, чем в Эдинбурге…
— Вы что, собираетесь переплюнуть Бедекера?
[106] — с иронией спросила она и побежала вниз с холма, придерживая шляпу рукой.
— Нет! Айрис, подождите!
Когда Кэндзи догнал ее, она уже махала омнибусу.
— Мне нужно позвонить… Сойдем в Ислингтоне! — бросила она через плечо, ступая на подножку. Это прозвучало как приказ.
Когда они заняли свои места, Кэндзи отвернулся к окну и с неудовольствием подумал о том, что возраст дает о себе знать — он очень устал за это утро.
Оказавшись в вагоне лондонского метро, Айрис едва не захлопала в ладоши от восторга, а Кэндзи отметил, что взгляды всех мужчин прикованы к ней. Это польстило его самолюбию, но он был недоволен тем, что дочь ведет себя, как девчонка.
«Я влюблена, — думала тем временем Айрис. — Он целых четыре раза поцеловал меня на прощание! Интересно, получил ли он письмо, которое я отправила ему с вокзала Виктория? Когда я сказала, что нахожу его привлекательным, он покраснел и ущипнул себя за бакенбарду!»
— На Денман-стрит возьмем кэб до Лондонского моста, — сказала она тоном, не терпящим возражений.
Айрис остановила экипаж, кабина которого была словно подвешена между двумя огромными колесами. Сиденье для кучера располагалось сзади. Кэндзи, злясь на новый каприз дочери, крикнул кэбмену:
— Слоан-сквер!
В нем пробудились болезненные воспоминания. Перед глазами встала массивная фигура месье Легри, которой грозил тростью Виктору, прятавшемуся у матери за спиной. За какую же шалость он тогда собирался наказать сына? Одному лишь Кэндзи под силу было успокоить вспыльчивого книготорговца. Кажется, он припомнил тогда, что после Лондонского пожара не осталось даже золы, и господин Легри тут же опустил трость…
— Как ваш магазинчик, сильно изменился? — спросила Айрис.
— Его перекрасили, а еще… — Кэндзи замолчал, услышав, как разносчик газет выкрикивает заголовки:
— «Скотланд-Ярд продолжает опрашивать слуг леди Фанни… — Кэндзи не расслышал фамилии за грохотом проехавшего мимо фиакра, — …убитой в своем имении „Бруэм Грин“. Личность человека, посетившего ее в день убийства, все еще неизвестна!»
— …Поменяли стекла, — закончил фразу Кэндзи.
— Зайдем туда? — предложила Айрис.
— К чему тревожить призраки прошлого?
— Мне нравится Бромптон. Если бы я выбирала, где поселиться в Лондоне, то остановилась бы именно здесь…
— Мы с вашей матерью, бывало, встречались под кедром в Ботаническом саду, недалеко от богадельни. Читальный зал на Кромвель-роуд тоже был нам по душе. Не прогуляться ли нам туда?
— Лучше пройдусь по магазинам. Я обещала Таша привезти чай от Твайнинга, а его можно купить на Стрэнд. А Виктор просил каталоги книготорговца Куоритча
[107] и из магазина фотооборудования Истмена,
[108] это на Оксфорд-стрит. Заодно посмотрю себе платья. Отец, мне нужны деньги!
Кэндзи подавил вздох. Кончится тем, что Айрис пустит его по миру! А если не Айрис, то Эдокси Алглар,
она же Фифи Ба-Рен, которая вернулась к нему месяц назад, расставшись со своим русским князем. Он вспомнил, что хотел выбрать для любовницы какое-нибудь украшение в одном из ювелирных магазинов на Нью-Бонд-стрит.
Кэндзи ценил Эдокси, ее шарм. Она умела привносить в их отношения свежесть чувств. Но связь эта была лишь физиологической и не отличалась глубиной: Кэндзи хранил в своем сердце образ Дафнэ.
— Хорошо, — вздохнул он и вытащил бумажник. — Но не забудьте, мы ужинаем в ресторане при отеле в половине седьмого. А потом отправимся в Ковент-Гарден, я заказал нам ложу. К ужину я, вероятно, опоздаю, но вы должны прийти вовремя.
Айрис молча кивнула. Она ненавидела оперу и уже предвкушала, что будет помирать там со скуки.
«Я буду думать о Жозефе, — решила она, входя в омнибус. — И куплю ему булавку для галстука».
Париж, 8 апреля, пятница,
5 часов утра
Это уже вошло у него в привычку: тихонько вставать, прислушиваясь к тихому дыханию Габриэль, подхватывать с кресла одежду и идти одеваться в ванную. Потом он зажигал масляную лампу, заходил в буфетную, быстро выпивал стакан воды и съедал кусок хлеба. Сбегая по лестнице, радовался тому, что старая шавка наконец издохла и не выдаст его тявканьем. Спустившись, снимал нагар с фитиля и ставил лампу перед комнатой консьержки.
Он осторожно, чтобы не скрипнула, приоткрыл входную дверь и пересек двор, стараясь, чтобы каблуки не стучали по брусчатке. Четыре шага — и он уже на улице, опьяненный свободой, как всегда, когда удается ускользнуть из дома. Поначалу невозможность уснуть доставляла ему неудобство, со временем он свыкся с этим, потом это стало повторяться все чаще, в конце концов бессонница стала хронической. Ночь — его стихия. Когда не получалось уснуть, он занимался изысканиями для завершения своего великого произведения. А иногда после трех-четырех часов беспокойного сна просыпался на рассвете, как этим утром. Тогда он бродил по пустынным улицам до Севастопольского бульвара или, облокотившись на стойку в кафе, потягивал кофе в компании зеленщиков, поджидавших открытия рынка Ле-Аль.
Обитатели квартала Анфан-Руж еще дремали в своих домах за наглухо закрытыми окнами. А снаружи дул пронизывающий ветер — так что дыхание превращалось в пар. Сумрак, влажная брусчатка узкой улочки Пастурель, туманный провал улицы дю Тампль, затем улица Гравилье. Свет и тьма играли в догонялки. Тихо журчал ручеек на улице Турбиго; портал церкви Сент-Николя-де-Шам нависал, как скала. На площади суетились крестьяне в голубых рубашках и белых хлопчатобумажных шапочках; они возвращались с рынка Бальтар, куда доставили овощи, распрягали лошадей и направлялись к улице Гренета. Мужчина прошел мимо огромного ангара фабрики игрушек, загроможденного повозками, и тут кто-то окликнул его по имени. Он остановился, огляделся по сторонам и шагнул к повозкам, откуда, как ему показалось, его позвали. Прозвучал сухой щелчок. Мужчина поднес руку к груди, на его лице промелькнуло недоумение, ноги подкосились, и он рухнул на упаковки фуража.
Когда его затащили за груду ящиков и чья-то рука ощупала его сюртук в поисках бумажника, он был уже мертв.
Париж, тот же день, 7 утра
Бледный свет просачивался сквозь шторы, издалека доносился привычный шум улицы. Перо летало по бумаге:
…И услышали они семь раскатов грома. Я — посланник, я уничтожил двух свидетелей. Теперь я должен уничтожить это клеймо, прежде чем лжепророки завладеют им и соблазнят людей принять метку зверя и поклоняться ему.
Он отложил перо, закрыл тетрадь и убрал ее в потайное местечко в платяном шкафу. На письменном столе в графине с водой плескалось розовое отражение лампы.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Пятница, 8 апреля,
9 часов утра
Когда Таша спала рядом, прижавшись щекой к подушке, Виктор испытывал блаженное чувство покоя. Пусть сейчас она улетела в своих сновидениях куда-то далеко, все равно принадлежит ему. Он ругал себя за это собственническое чувство, пытался бороться с ним, но всегда терпел поражение. Оно могло затаиться на много месяцев, но потом внезапно охватывало его с новой силой. Порой Виктору казалось, что Таша чем-то встревожена, что-то от него скрывает. Недавно он застал за ее чтением письма, которое она поспешно спрятала при его появлении, и теперь его терзали подозрения.
Он притулился рядом с ней, любуясь соблазнительными изгибами ее обнаженного тела, но беспокойство не оставляло его. В мыслях, словно на чердаке, забитом хламом, метались надежды, тревоги, они набегали одна на другую, как волны…
Найти письмо, узнать, что в нем.
Решив больше не противиться искушению, Виктор поднялся, скрупулезно изучил содержимое всех ящиков с бумагой для рисования, комод и карманы одежды Таша. Ничего не обнаружив, снова свернулся калачиком на кровати и уставился в пустоту.
Где же покой и гармония, которых он ждал от совместной жизни? Да и вместе ли они? Две квартиры в одном дворе, у каждого свое дело…
«Нашей любви три года, а она так и не выросла… И
ты сам ничуть не вырос», — упрекал он себя, теребя непокорный вихор.
Потянулся к Таша и поцеловал ее висок, затылок, шею. Она, не просыпаясь, обняла его, ее нога скользнула между его ног, и течение увлекло их в океан, из которого нет возврата.
— Что у вас за несносная привычка забывать о своих обещаниях, молодой человек! — громко возмущалась графиня де Салиньяк.
«Чушь собачья… При чем тут мои обещания?», — недоумевал Жозеф, наспех заворачивая в бумагу покупку для первой за все утро клиентки.
— Вы уже целую вечность обещаете мне достать у Олендорфа «Роман о синем чулке» Жорж де Пейребрюн.
[109] Я все еще не потеряла надежду ее получить… Ладно, сколько я вам должна?
Графиня де Салиньяк уставила на него лорнет. Потом, нагнувшись, взглянула на название книги, которую молодой человек пытался спрятать под газетой.
— Фенимор Купер. Умы современной молодежи питают ужасы и насилие… А потом мы удивляемся, что по улицам бродят бандиты и убийцы! — процедила она, поджав губы так, что они превратились в тонкую линию.
Она заказала еще несколько книг Жюль Мари,
[110] схватила их и покинула магазин, хлопнув дверью так яростно, словно ее поразил вирус бешенства — болезни, о возвращении которой в Париж газетчики трубили на каждом углу.
— Попутного вам ветра, — буркнул ей вслед Жозеф и принялся в очередной раз перечитывать письмо Айрис.
Мой дорогой Жозеф,
хватит ли у меня мужества написать «возлюбленный»? О да, Ваши поцелуи дают мне на это право. Считайте, что это письмо — гарантия моей верности. Я обещаю быть Вашей, как только Вам удастся убедить моего отца в исключительности Вашего таланта. Я же клянусь Вам в верности…
— Верность, — пробормотал он. — Прекрасно. Пожалуй, слишком сдержанно, но все равно прекрасно. Она застенчива, но это ничего… А вот убедить ее отца…
Жозефу показалось, что над кричаще яркой обложкой «Последнего из могикан» с изображением индейца с томагавком возникло суровое лицо Кэндзи.
Звякнул колокольчик: кто-то вошел в лавку. Жозеф сунул книгу в карман и изобразил любезную улыбку.
— Я хотел бы видеть месье Кэндзи Мори, владельца этого магазина.
Мужчина в черном пальто, в шляпе дыней, в темных очках. В его голосе странным образом сочетались сила и флегматичность, и Жозеф внезапно забеспокоился, вообразив, что это полиция нравов явилась сообщить Кэндзи, что его служащий покусился на честь его дочери.
— Месье Мори — один из владельцев, — уточнил Жозеф. — Его компаньон, месье Легри, приходит к десяти, а я…
— В таком случае я нанесу визит месье Мори домой. Где он живет?
— Сейчас месье путешествует. Не желаете ли оставить ему записку?
Мужчина поправил шляпу и чуть нахмурился.
— Жаль. Что ж, вот мой адрес, передайте его месье Мори и скажите, что я просил связаться со мной. Когда он возвращается?
— Завтра.
Мужчина быстро нацарапал адрес на обратной стороне визитки, положил ее на прилавок и, не попрощавшись, направился к выходу.
— Этот грубиян относится ко мне как к мебели! — проворчал Жозеф. — Ну ничего, все будет по-другому, когда я прославлюсь, как Эмиль Габорио!
Публикация отрывков из «Загадки „Виллы Аквилегий“»
[111] его разочаровала. Да, благодаря его перу тиражи «Пасс-парту» ощутимо выросли, ну и что? Ему-то публикация не принесла ни славы, ни денег. Впрочем, редактор Антонен Клюзель уверяет, что необходимо выпустить еще по меньшей мере два подобных романа, и тогда Жозефа ждут богатство и известность. «Вперед, приятель! Перо в руки — и вперед!» — вспомнил он слова редактора.
Человек в темных очках постоял во дворе дома номер 18, наблюдая, как консьержка яростно орудует веником, затем перевел взгляд на закрытые окна первого этажа четырехэтажного здания. Запахнул плащ, повернулся и быстро зашагал по улице Сен-Пер.
На набережной Малакэ за столиком в кафе «Потерянное время» сидела женщина и делала вид, что внимательно изучает меню. Увидев мужчину в очках, она поднялась и присоединилась к нему на остановке фиакров.
Жозеф, подавив желание в очередной раз перечитать письмо Айрис, взялся за блокнот, куда вклеивал газетные вырезки о странных происшествиях и преступлениях. Он и не заметил, что визитка, оставленная посетителем, упала на дно подставки для зонтов. Последние страницы блокнота были посвящены исключительно заметкам о террористических актах, совершенных в прошлом месяце анархистами, и аресту исполнителя этих злодеяний, некоего Равашоля, в ресторане «Вери»
[112]30 числа.
— «Знаменитый бомбист, неуловимый, несчастный»,
[113] — нараспев произнес Жозеф и тут же прикусил язык: на пороге магазина появилась его мать, нагруженная свертками с продуктами.
Увы, было слишком поздно: мадам Пиньо все слышала. Поднимаясь по лестнице, она сердито проворчала:
— Бандиты угрожают взорвать город, а сами не способны подбросить блин на сковородке…
Жозеф обреченно вздохнул:
— Мама, я тебе уже сто раз повторял: месье Легри просил, чтобы ты не ходила по магазину. Почему бы тебе не пройти через дом, это же не край света!
— Там в меня вцепится консьержка! Эта мадам Баллю такая болтушка, у меня от нее голова болит!
— Это не причина. Здесь мы работаем, сюда приходят покупатели…
— При чем тут покупатели? Ты что, стыдишься своей матери?! Что ж, не беспокойся, тебе осталось недолго ждать — скоро я составлю компанию твоему покойному отцу, вот тогда ты, наверное, будешь доволен.
— Мама, перестань, ну зачем ты такое говоришь? Тебе помочь?
— Руки прочь! Ты опять гладил кошку, а у нее блохи. Уж как-нибудь сама справлюсь! — пыхтела мадам Пиньо, тяжело взбираясь по ступенькам.
С того самого Рождества 1891 года, когда мадемуазель Айрис отказалась есть индейку и Жермена заявила, что ноги ее не будет в этом доме, для Кэндзи и его дочери готовила Эфросинья. Она же убирала квартиру, а еще каждый день наведывалась к Виктору и Таша, где тоже занималась уборкой и готовкой. Первые несколько недель новые обязанности ей нравились и казались не слишком обременительными — главное, что больше не нужно было таскать по улицам тяжелую тележку с овощами, а от дома Кэндзи до дома Виктора она ездила на омнибусе. Но через некоторое время Эфросинья почувствовала боль в суставах, а капризы Айрис, которая увлеклась вегетарианством, выводили ее из себя. Да и круг домашних забот оказался весьма обширным, хотя, надо сказать, с уборкой мадам Пиньо откровенно халтурила.
А Жозеф, получив благодаря отсутствию матери на улице Висконти возможность тайно встречаться с Айрис у себя дома, все же с трудом переносил общество Эфросиньи, целый день крутившейся в книжной лавке «Эльзевир».
Он раскрыл журнал и вполголоса продолжил чтение последнего романа Эмиля Золя «Разгром»:
[114]
— «О, эти белые простыни, простыни, которых он так пламенно желал! Жан видел только их! Он не раздевался, не спал в постели уже полтора месяца…».
[115] Да уж, после пожарищ и сражений это, должно быть, казалось этому Жану раем…
Таша разбудила Виктора нежным поцелуем, вскочила с постели, поставила кипятить воду и взялась за кофейную мельничку.
— Вставай, лежебока, и помоги мне! Я голодна, как волк! Намазать тебе тартинку маслом?
— Который час?
— Уже одиннадцать. Жозеф будет на тебя сердиться.
Стоя босиком на полу и жуя кусок булки, она посмотрела на свою последнюю, еще не завершенную работу: это была современная версия сюжета Пуссена «Элеазар и Ребекка»: две женщины за столиком кафе глядели, посмеиваясь, на юношу, который протягивал одной из них цветы; служанка наполняла стакан, и вино лилось через край.
Таша недавно закончила полотно под названием «Моисей, спасенный из вод», где изобразила, как молодая мать купает ребенка в тазике, — теперь в своих работах она смешивала реализм и символизм. «Моисей» ее вполне удовлетворил, а вот «Элеазара и Ребекку» она без конца переписывала. Ради финансовой независимости от Виктора она взялась иллюстрировать издание «Необычайных приключений» Эдгара По, и теперь времени на живопись почти не оставалось.
В дверь постучали. Виктор, сидя на стуле в одних кальсонах и зажав между колен мельничку для кофе, увидел на пороге Мориса Ломье. Вот уже несколько недель этот мазила, прохвост и карьерист увивался вокруг Таша, уговаривая ее взяться за театральные декорации.
— Привет! — громогласно объявил Ломье, бросая цилиндр на кровать. — Не приглашайте меня присоединиться, я уже завтракал! Дорогая Таша, я только что встретил юного Поля Фора, у него грандиозные планы относительно своего «Театра искусства»! Мы сможем использовать даже оптические иллюзии!
— Идея-фикс, — проворчал Виктор.
— Вы безнадежно глухи к нашему лозунгу, приятель: «Слово создает декорации и все остальное».
[116] «Ворона» Эдгара По поставили на сцене, и фоном для этого спектакля служила только упаковочная бумага!
Не желая в очередной раз выслушивать историю про «Ворона» и бумагу, Виктор быстро оделся и направился к выходу. Он хотел было поцеловать Таша в щеку, но присутствие Ломье его остановило.
— А как же кофе?! — воскликнула она.
— Я опаздываю на встречу, а потом мне нужно бежать на улицу Сен-Пер. Вернусь днем.
— Меня может не быть дома…
— Тем хуже, — недовольно буркнул Виктор.
Не успел он взяться за ручку двери, как она отворилась, впустив мужчину с сигарой.
— Лотрек! Какое совпадение! А я заходил посмотреть на подготовку к Салону Независимых, — покраснел Ломье. — Вывеска просто изумительная. Я в таком восторге от вашей «Ла Гулю входит в Мулен Руж»!
Появление второго художника окончательно вывело Виктора из себя. Он в несколько прыжков пересек двор, разделявший их с Таша квартиры, и заперся у себя. Пусть Таша сколько угодно упрекает его за несносный характер, он не в силах выносить ее коллег. Вульгарные мужланы, один хуже другого… А она называет их творческими личностями… Живопись, живопись, всегда только живопись! А фотография?
Виктор досконально изучил альбом фотографий англичанина Джона Томсона
[117]«Китай и его народ» и лелеял мечту повторить в Париже то, что сделал шотландский путешественник в Поднебесной, только без лишнего пафоса и стереотипного взгляда на нищету. Работы Томсона напоминали ему фотографии Шарля Негра и Шарля Марвиля
[118] — лица детей из пригорода Сент-Антуан и промышленных кварталов: вот девочка вышивает золотыми нитками по бархату; вот мальчик пилит дрова; вот ученик портного; вот подмастерье с обойной фабрики… Чувствовалось, что в эти портреты автор вложил душу, добиваясь максимальной естественности позы и выражения лица модели.
Виктор натянул сюртук, мягкую шляпу, перчатки и взял тросточку. Раз Таша занята, он позавтракает в кафе «Наполитен» на бульваре Капуцинов, Жозеф справится в лавке и один.
Мадам Баллю, консьержка дома номер 18 на улице Сен-Пер, встала ни свет, ни заря и сразу же, ворча, принялась надраивать лестницу. Потом она поест капусты с салом у себя в комнате, сделает добрый глоток портвейна и вынесет стул во двор — благо, сегодня распогодилось и можно посидеть на воздухе, — чтобы поглазеть на прохожих.
Увы, ее планы нарушило появление дамы в фиолетовой шляпке с вуалью и каракулевом пальто в русском стиле поверх зауженного книзу платья. Гостья неуверенно шла к дому.
— Вы к кому? — строго осведомилась консьержка, изучая шляпную коробку, которую женщина прижимала к груди.
— Меня ждут на четвертом этаже, я на примерку..
— A-а, вы к Примоленам? Вытирайте ноги, коврик видите?
Женщина прошла через холл, но у лестницы внезапно обернулась.
— Скажите, а квартира на первом этаже, случайно, не сдается? Я увидела, что ставни закрыты, и подумала… что моя тетушка была бы рада переехать сюда. Она уже немолода, и ей трудно подниматься по ступенькам. Для нее это было бы таким облегчением…
— Жаль вас разочаровывать, мадам, но вам придется поискать квартиру в другом доме. Ставни закрыты потому, что месье Мори и его дочь за границей, но завтра они возвращаются.
Мадам Баллю, уперши руки в боки, наблюдала, как незнакомка поднимается по лестнице.
— Надо же, позарилась на чужой угол! Ну все, пора поесть, у меня сегодня маковой росинки во рту не было. — И она, повесив на ручку двери табличку «Консьержка ушла в город», решительно закрылась в комнате.
Гостья, тихо стоявшая на лестничной площадке третьего этажа, услышала, как хлопнула дверь каморки консьержки. Она свесилась через перила, убедилась, что теперь никому не попадется на глаза, на цыпочках спустилась на первый этаж и нажала кнопку звонка квартиры с закрытыми ставнями. Потом мысленно сосчитала до тридцати, позвонила еще раз, вышла во двор и направилась к улице Жакоб.
— Я не прочь заморить червячка, — произнес Жозеф, рассчитывая, что Эфросинья, которая суетилась в лавке, отправится на кухню.
— Хочешь есть — грызи кулак. Или яблоко. Мне не до тебя, я буду готовиться к приезду месье и мадемуазель Мори. А, вот и вы, месье Виктор! Как раз вовремя, мне нужен ваш совет. Что вы об этом скажете? Первое блюдо: телячий язык под острым соусом, затем битки из ягненка с артишоками, пирог с телятиной и кореньями, и, наконец, беф-брезе
[119] с пармезаном, на десерт — мороженое в суфле с ванилью. А для мадемуазель Айрис — гратен дофинуа.
[120] Как вы думаете, какое вино выбрать?
Виктор, не удостаивая ее ответом, положил на стол Кэндзи пачку каталогов.
— Клиенты? — спросил Жозеф.
— Да так, мелкая сошка.
— Ну, хорошо, — обиженно прошипела Эфросинья — раз со мной никто разговаривать не желает, пойду поболтаю с барашками с улицы Фонтен.
И она удалилась, взывая к Иисусу, Марии и Иоанну.
В магазин зашли две женщины. Первая была одета в шевиотовый костюм, а на голове у нее красовалась нелепая тирольская шляпка; вторая — в широком фиолетовом плаще и головном уборе, из которого торчали зеленые перья, словно усики гигантского богомола.
— Фройляйн Беккер, мадам де Флавиньоль! — воскликнул Виктор, с трудом удержавшись, чтобы не расхохотаться.
Жозеф, которого тоже одолевал смех, поспешно нырнул под прилавок, делая вид, что разыскивает там что-то.
— Дорогой месье Легри, мы как раз к вам! Хельга наконец-то нашла нужную брошюру о велосипедах, вы ведь, кажется, хотели купить себе? — пропела жеманница Матильда де Флавиньоль, питавшая слабость к Виктору.
— Истинно так, — подтвердила мадемуазель Беккер. — Вот, держите. Выбрать велосипед так же непросто, как и домашнее животное. Ведь он будет вашим спутником и другом долгие годы.
— Дорогая, а вы видели собаку, которую купила Рафаэль де Гувелин, чтобы ее мальтийской болонке не было так одиноко? Она такая жуткая — толстая, черная и без хвоста! Мне шипперке
[121]1 совсем не нравятся… Но что тут поделаешь, раз уж принц Уэльский ввел моду на эту породу…
С лестницы тяжело спустилась Эфросинья, нагруженная корзинами, и проворчала, что завтрак готов, а она отправляется на улицу Фонтен, хотя ноги у нее уже гудят.
— И как назло кончился запас мозольного пластыря из России. Ах, Россия! Вот уж поистине дружественная нам страна, не то что другие, — проворчала она, слегка задев плечом Хельгу Беккер.
— Жозеф, — прошептал Виктор, — скажите матушке, чтобы она не ходила через магазин.
— Я говорил. Вам следует самому ей об этом сказать, может, вас она послушает, — так же тихо ответил Жозеф.
— А вы любите животных, месье Легри? — осведомилась Матильда де Флавиньоль. — Да? В таком случае вы непременно должны посмотреть на детенышей орангутангов в ботаническом саду. Их привезли с острова Борнео, назвали Поль и Виргиния и кормят исключительно…
— Кстати, месье Легри, — вмешался Жозеф, — насчет «Поля и Виргинии»… Месье де Кермарек охотится за Курмеровским изданием 1838 года, там сафьяновый переплет, а иллюстрации переложены папиросной бумагой…
— Поскольку господа заняты профессиональным разговором, мы, пожалуй, удалимся. Я сгораю от нетерпения узнать результат «бумажной» велогонки,
[122] которая прошла вчера в Конкорде. Пойдемте, дорогая, — и Хельга Беккер потянула подругу к выходу.
Матильда де Флавиньоль не без сожаления подчинилась, бросив Виктору на прощание нежный взгляд.
Как только дамы вышли за порог, тот повернулся к Жозефу:
— Спасибо, Жозеф, ты спас нас. Иначе пришлось бы еще час слушать рассказ о рационе обезьян.
— Да, патрон, чуть не забыл: некий господин желал видеть месье Мори, а потом звонила какая-то дама. Она намеревается продать библиотеку: собрание книг XVII века. Поскольку месье Мори нет, я заверил ее, что этим можете заняться вы. Если вас ее предложение заинтересует, вам следует отправиться к ней сегодня вечером, потому что она уверена, что желающих приобрести ее библиотеку будет немало. Вот адрес: улица Гортензий, дом 4. Она будет ждать вас в семь.
— Н-да… — протянул Виктор. — Честно говоря, я собирался поужинать с мадемуазель Таша.
— Месье Мори жалуется, что с Рождества у нас плохо пополняется ассортимент… — пожал плечами Жозеф и снова погрузился в журнал. «Старина Золя не лишен вдохновения. Благодаря ему вторая половина дня пролетит для меня незаметно».
На улице было морозно, и Жозеф поспешно закрыл дверь, надеясь сбегать на улицу Висконти, а затем вернуться к приготовленному матерью супу. Он уже поворачивал ключ в замке, запирая магазин, когда услышал крик. В нескольких метрах от него какая-то дама растянулась на тротуаре и тщетно пыталась подняться. Жозеф бросился к ней.
— Вы ушиблись?
— Скорее испугалась. Благодарю вас.
— Быть может, позвать извозчика?
— Спасибо, я дойду пешком. — Голос из-под вуали звучал приглушенно и не выражал никаких эмоций.
Дама направилась в сторону Сены. Жозеф проводил ее взглядом и вернулся к магазину, чтобы закрыть ставни. И вдруг увидел, что связка его ключей лежит на земле.
— Что за чертовщина? У них выросли крылья, словно у римских колоколов?
[123].. Пора перекусить, похоже, от голода у меня начались галлюцинации.
Суббота, 9 апреля, утро
«Посланник» поглядел на деревянный крест, висевший над изголовьем кровати. На мгновение ему показалось, что комната исчезла, и мир состоит только из лучей, пробивающихся сквозь закрытые ставни, и золотой пыли. Мало-помалу глаза привыкли к полумраку. Чиркнув спичкой, он поднес огонек к фитилю лампы. Розоватый свет трепетал на белой странице тетради.
Господи, я свидетель Твоей славы. Я, Твой посланник, выполнил возложенную на меня миссию. Клеймо сокрыто. Я должен вооружиться терпением и ждать момента, чтобы ввергнуть его в небытие. Оно не оставит и следа, лжепророки не смогут посягнуть на Твое творение, и люди более не навлекут на себя Твой гнев.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Суббота, 9 апреля
Жозеф обожал подновлять переплеты. Он испытывал почти физическое наслаждение, протирая мягкой тряпочкой сафьян и кожу и возвращая блеск позолоченным названиям на корешке и обложке. Появление Виктора отвлекло его от этого занятия. Он повернулся к вошедшему с великолепным изданием в переплете «а-ля фанфар»
[124] в руках и заметил, что тот не в духе.
— Я должен был сразу догадаться! Это название просто нелепо! — воскликнул Виктор.
— Какое название, патрон?
— Улица Гортензий. Я вчера дошел аж до Нейи: никто и знать не знает о вашей улице Гортензий!
Обиженный Жозеф положил книгу на прилавок.
— Это не
моя улица. Та дама назвала мне ее по телефону.
— Должно быть, вы ослышались. И, между прочим, не в первый раз.
— Скажите еще, что мне надо прочистить уши или отправиться в лечебницу для умалишенных. Может, это та дама перепутала гортензии с другими цветами? С георгинами, цинниями, магнолиями…
Жозеф резко встал и вышел на улицу. Настроение было испорчено, и он решил проветриться и размять ноги. В эту минуту в дом вошла пожилая женщина в широком плаще, придающем ей сходство с бочкой. Жозеф узнал мать, хотел окликнуть ее, но в последний момент передумал.
Эфросинья, с трудом волоча корзины, полные продуктов, тяжело перешагнула порог и едва не споткнулась о мадам Баллю: консьержка, стоя на коленях, яростно натирала щеткой ступени и ворчала:
— Чертов пол! Сколько ни лей, впитывает воду и мыло, что твой пьянчуга — касс-пуатрин.
[125] Надо бы поскоблить ножом…
— Мадам Баллю, у вас такой вид, словно вы собираетесь кого-то убить.
— Так и есть — псину с третьего этажа. Принесла грязь на лапах, а жилец размазал ее по полу. Я вам клянусь, что… Но, мадам Пиньо, разве вы теперь не заходите в дом через книжную лавку? — спросила консьержка медовым голосом.
— Больше нет! Я, видите ли, смущаю покупателей! Со мной тут обращаются хуже, чем с судомойкой, — тут же вскипела Эфросинья. — Они посмели отправить
меня на лестницу для прислуги!
— Мадам Пиньо, это вовсе не лестница для прислуги.
— Ох, мойте лучше свой пол! Не надо меня утешать. Истина в том, что я пригрела змею на груди. Родной сын меня ни в грош не ставит!
— Ну-ну, мадам Пиньо, не переживайте так. Давайте-ка зайдем ко мне, вы расскажете мне о своих бедах.
— Нет времени. Месье Мори с дочерью возвращаются сегодня вечером, мне пора заняться ужином, — ответила Эфросинья с трагическим видом.
Отдуваясь, она опустила корзины на пол, перевела дыхание и вставила ключ в замочную скважину. Как ни странно, дверь не открылась. Эфросинья решила, что, должно быть, она заперта изнутри на цепочку.
— Ох, да что же это… Я не помню, чтобы…
«Ага, это Жожо, — подумала она, — ему стало совестно, и он специально запер дверь изнутри, чтобы его матушка, не роняя достоинства, входила в дом через книжную лавку. Так и есть, мой сын решил восстановить справедливость! Милый мальчик! Ну что ж, вперед!»
Эфросинья подхватила корзины и живо спустилась по лестнице, к вящему негодованию мадам Баллю, которой снова пришлось замывать грязь на ступенях.
Под недовольным взглядом Виктора Эфросинья с достоинством прошла через магазин.
Первым делом она сгрузила покупки на кухонный стол, повязала передник, скинула башмаки и надела мягкие тапочки. После чего направилась в туалетную комнату месье Мори с медной ванной — Эфросинье это место казалось преддверием рая. Она зажгла газовый рожок. Что может быть прекраснее момента, когда кладешь новый кусочек жасминового мыла в специальную выемку на фарфоровой раковине? Разве что вытереть руки мягким полотенцем с инициалами «К. М.»… Или поправить прическу, стоя перед зеркалом в серебряной раме — если это, конечно, не мельхиор. Когда-нибудь, когда дома никого не будет, она наберет полную ванну и понежится в горячей воде. Вопрос только в том, рискнуть ли снять нижнее белье. Насладиться купанием в костюме Евы было столь заманчиво…
Мадам Пиньо вышла в темный коридор, споткнулась и с трудом удержалась на ногах, едва успев ухватиться за дверную ручку. В тусклом свете газового рожка из ванной она все же разглядела рассыпанные по полу безделушки — а им явно было не место на ковре в гостиной. По спине у нее пробежал холодок, и она бросилась к лестнице с криком:
— Караул! Нас ограбили!
Виктор с извиняющимся видом улыбнулся покупателю, который собирался заплатить за «Суллу и Евкрата» Монтескье, и, перепрыгивая через ступени, взбежал по лестнице.
— Иисусе-Мария-Иосиф… Это кража со взломом! — Эфросинья, прижав ладони к щекам, стояла посреди коридора.
— Успокойтесь, мадам Пиньо.
Виктор подтолкнул ее к кухне, раздвинул жалюзи и замер, пораженный творившимся в гостиной беспорядком. Бросился в кабинет Кэндзи: там царил такой же хаос.
— Патрон! Что там такое? — окликнул его Жозеф.
— Нечто ужасное, мой мальчик! — отозвалась Эфросинья.
— Перестаньте причитать, мадам Пиньо.
Виктор быстро обошел квартиру. Окна в ванной комнате и на кухне зарешечены, так что через них вор никак не мог проникнуть.
Виктор прошел до конца коридора: дверь заперта на два оборота, значит, остаются окна в других комнатах. Ставни везде закрыты. Он вернулся в магазин, подергал задвижку и пружинную защелку.
Эфросинья постепенно пришла в себя.
— Итак, мы стали жертвами ограбления, — объявил Виктор, — но на первый взгляд следов взлома нет.
Жозеф ринулся на верхний этаж и тотчас вернулся.
— Патрон, окно в вашей столовой, оно…
— Это я открыл жалюзи, а то ничего не было видно.
— Что ж… Но как им удалось забраться внутрь?
— Нетрудно догадаться, — мрачно произнесла Эфросинья, показывая на входную дверь. — У вас ключи с собой?
Виктор погремел в кармане связкой ключей. Жозеф произнес:
— Разумеется, с собой, ведь я сам каждое утро открываю магазин.
— Я-то тут точно не при чем, ведь мне ключи от магазина никто не доверяет, — холодно заметила Эфросинья.
— Что будем делать, патрон?
— Проверим подвал. Я позвоню в полицию, потом попробую прикинуть, что было украдено.
Когда молодые люди ушли, Эфросинья проворчала:
— Вот что значит отправить меня на черную лестницу вместо того, чтобы оказать немного доверия: здесь теперь разгуливает кто хочет!
Рауль Перо, с трудом оторвавшись от витрины кондитерской «Дебав и Галлэ»,
[126] оглядел улицу Сен-Пер. В своем поношенном костюме и потертой обуви он старался выглядеть благопристойно. В этом унылом человеке с роскошными усами жила тайная страсть к поэзии, особенно — к верлибру, он восхищался творчеством Жюля Лафорга Марии Крисиньской
[127] и других поэтов-декадентов. При этом Перо любил свою работу — несмотря на небольшие заработки, он считал, что способствует облегчению предсмертных мук умирающего столетия.
Порыв ветра ударил Перо в спину, и он поспешно толкнул дверь книжной лавки «Эльзевир». Посреди зала царственно сидела на стуле дородная круглолицая женщина. Рауль Перо приподнял шляпу и слегка поклонился.
— Инспектор Перо, к вашим услугам. Вас ограбили?
Женщина кивком указала на молодого человека, который спускался по лестнице.
— Виктор Легри, владелец лавки, — представился тот. — Это я звонил в полицию. Мы…
— Прошу прощения, — перебил инспектор, касаясь шляпы двумя пальцами, — в моем кармане едет тайный пассажир, и ему нужен глоток воздуха. — На глазах у изумленных зрителей он вытащил из кармана черепашку. — Это Нанетта, мой талисман. Несчастное создание упало с тележки вместе с четырьмя своими сестрами, мы подобрали их и теперь подыскиваем им хозяев. Иногда устраиваем им гонки с препятствиями во дворе полицейского участка, а лист салата служит призом победителю. Нанетта — наша чемпионка. Благодаря ей я выиграл у коллег сто су!
— Что ж, тогда мне понятно, почему вы никак не поймаете негодяя, распихивающего динамит, куда ему вздумается, — съязвила Эфросинья.
— Итак, здесь кто-то побывал, — вернулся к делу инспектор, пропуская мимо ушей намек на Равашоля. — Следы взлома есть?
— Никаких. И это самое странное! — воскликнул светловолосый молодой человек, внезапно появившийся из глубины магазина.
— Жозеф Пиньо, наш служащий, — представил его Виктор. — Мы проверили все замки. Взлома не было… И никаких следов лома или отмычки… Скорее всего, грабитель изготовил копии ключей.
— Я же говорила! — торжествующе воскликнула Эфрросинья. — Мальчик мой, когда ты остаешься в лавке один, а клиентов целая толпа — ведь так бывает часто, не правда ли, — где ты держишь ключи?
— В кармане куртки, а куртка висит в шкафу, запертом на ключ, и замок в нем целехонек! Уж тебе ли не знать.
— Не смей разговаривать с матерью в таком тоне!
— Давайте все успокоимся, — произнес инспектор, поглаживая черепашку по панцирю. — Итак, у кого из вас есть ключи?
— У моего служащего, у меня самого и еще у двоих людей, которые отсутствуют вот уже неделю, — ответил Виктор.
— Может, вор сделал копию, залив замочную скважину воском или мастикой? — предположил Жозеф.
— Месье, когда вы слышите подобные россказни, не верьте им. В данном случае кто-то из вас недосмотрел за ключами. Вы уверены, что никому не давали их хотя бы на пару минут?
— Я уверен. А вы, Жозеф?
— Разумеется, — проворчал юноша. И вдруг вспомнил инцидент, который произошел накануне. Та женщина, которая растянулась на тротуаре… ей, казалось, было совсем не больно. А если… Но он отбросил эту мысль и прикинулся простачком. — А почему вы спрашиваете об этом, господин инспектор?
— Потому что достаточно приложить ключ к кусочку воска с одной, а потом с другой стороны, чтобы получить слепок, по которому потом несложно изготовить ключ. Это можно сделать очень быстро и незаметно. Так что на вашем месте, месье Легри, я сменил бы замки. Вы составили список украденного?
— У нас столько книг, что невозможно сразу определить, чего не хватает. На первый взгляд все на месте, но квартира моего компаньона в полном беспорядке. Он приезжает сегодня вечером.
— Вы кого-нибудь подозреваете?
— Нет.
— Хорошо. Вернемся к этому вопросу, когда вы предоставите нам список похищенного. Домушники редко бывают библиофилами и, раз вы говорите, что все книги на месте…
— Я в этом уверен, господин инспектор, у меня чутье! — воскликнул Жозеф, радуясь, что грабитель пощадил его владения.
— Я вам завидую, — пробормотал инспектор Перо.
— Что? Вы бы предпочли, чтобы нас обчистили? — возмутилась Эфросинья.
— Эти книги, их сотни… Видите ли, у меня скромная библиотека, но я сочиняю стихи под псевдонимом, их иногда публикуют в газетах.
— Как, вы тоже пишете?! — изумился Жозеф.
— Да, мой юный друг, и питаю надежду в один прекрасный день оставить службу в полиции и зарабатывать на жизнь пером. Увы, я не рассчитываю на милость Всевышнего, ибо, как заметил один литератор, «Он пропитания птенцам ниспосылает и от щедрот своих всем тварям уделяет».
[128] Алле-оп, мадемуазель Нанетта, полезай-ка обратно в карман. Тебе повезло больше всех.
— Вы тысячу раз правы. Жизнь поэта и художника полна лишений, — согласился Жозеф.
— Итак, за главным входом в здание присматривает консьержка, так?
— Мадам Баллю, вдова.
— Я с ней непременно побеседую. Консьержки — неиссякаемый источник ценной информации.
— Святая правда, — подтвердила Эфросинья, — она знает все. Даже то, сколько собак задавили на улице за последние несколько лет.
Закончив со ступеньками, мадам Баллю принялась натирать перила мастикой.
«Десятки людей пользуются этой лестницей и ведь знать не знают, чего мне стоит каждый день приводить ее в порядок», — подумала она и тут увидела, что к ней приближаются несколько человек.
— Месье Легри ограбили! — сообщила ей Эфросинья. — Господин инспектор желает с вами поговорить.
Мадам Баллю, довольная неожиданной передышкой, с готовностью сообщила, что никого не видела и не слышала, а потом, эффектно опершись на швабру, добавила:
— Разве что… Была тут одна дамочка, одетая по-русски.
— Что? — не понял Рауль Перо.
— Ну, так называют русский стиль в моде. Все эти роскошные блузы из парчи, меха… Всякий раз, когда я листаю иллюстрированный журнал мод, у меня возникает чувство, будто я на восточном базаре…
— Итак, дамочка, одетая по-русски, что дальше? — вернул консьержку к теме разговора инспектор Перо.
— Она приходила вчера, я это точно помню, потому что вчера у меня был день капусты с салом. Так вот, дамочка поинтересовалась, сдается ли квартира месье Мори, — потому как заметила, что ставни там заперты. А потом пошла к Примоленам, они живут на четвертом, и очень скоро спустилась, я видела ее из-за занавески. Тут-то я и вспомнила, что Примоленов тоже нет дома, они гостят у родни в Вилль-д'Аврэ. Это вылетело у меня из головы, иначе — не сойти мне с этого места! — я бы отправила ее восвояси. Мы, консьержки, тоже получаем инструкции от полицейских. Как знать, а вдруг у нее распихана по карманам взрывчатка. Вот мы и проявляем бдительность, кого ни попадя не пускаем…
— Как она выглядела?
— Думаете, я помню? Плащ в русском стиле… и еще вуаль.
Жозеф побагровел. В воскресенье вечером женщина в плаще упала на тротуар у «Эльзевира», и, хотя он не мог сказать, в русском или австро-венгерском стиле она была одета, зато отлично помнил, что вуалетка на ней была.
Инспектор Перо поблагодарил мадам Баллю.
— Итак, составьте список пропавших вещей и пришлите его мне, — напомнил он Виктору. — Если сможете нарисовать их, это поможет расследованию… Э-э-э… Никто из вас не желает приютить сиротку-черепашку?
— Можете быть свободны, — сказал Виктор Жозефу и велел закрыть лавку.
— Мне кажется, патрон, будет разумнее остаться и выяснить, что именно у нас украли. — Жожо тщетно пытался придумать предлог, чтобы дождаться появления Айрис. — Я сказал инспектору, что уверен — все книги на месте, но на самом деле не мешало бы еще раз проверить.
Виктор догадался, в чем причина такого рвения, но сдержал улыбку.
— Что ж, действуйте.
Жозеф подтащил тяжелую лестницу к книжным полкам. Небесный покровитель приказчиков сегодня к нему благосклонен, и скоро он увидит свою Дульсинею!
— А как же обед? — возмутилась Эфросинья.
— Придется отложить его и довольствоваться легкой закуской.
— А что прикажете делать с тем, что я наготовила?! Как вам не стыдно! Во времена осады парижане голодали, а вы теперь готовы выбрасывать еду в помойку!
Кэндзи собирал разбросанные по полу книги и расставлял их в шкафу. Айрис наблюдала за ним, стоя в дверном проеме.
— Как интересно! Меня впервые ограбили! — воскликнула она, разглядывая хаос, царивший в кабинете отца.
Кэндзи, явно не разделяя ее восторгов, молча принялся наводить порядок в коллекции эфесов, лаковых шкатулок и пиал. Опрокинутая чернильница лежала на ковре в центре синего пятна.
— Мой шкаф перерыт, мебель перевернута, воры даже стянули покрывало и перевернули матрас. Думаю, они искали что-то конкретное, — продолжила Айрис.
— Почему вы так думаете?
— Моя шкатулка с украшениями стояла на самом видном месте, а ее не тронули. Так поступил бы ребенок, который ищет спрятанное варенье.
— Ну, как? — появился за ее спиной Виктор. — Что-нибудь пропало? Гравюры целы?
— Мне нужно тщательно все проверить, а это займет немало времени, — проворчал Кэндзи, разглаживая измятые страницы книги.
Жозеф спустился вниз, почесывая макушку. Да, такое и представить себе сложно. Даже если грабитель не охотился за редкими изданиями, он не мог не заметить три прекрасных и очень дорогих альбома «Розы» Пьера-Жозефа Редуте,
[129] выставленные в витрине. Но самое удивительное — из святая святых месье Мори, где тот хранил заморские диковинки, тоже ничего не пропало. И все же вор потрудился снять слепок с ключа и изготовить копию, чтобы проникнуть сюда…
Шаги на втором этаже отвлекли его от размышлений. Месье Мори и его дочь вот уже час расхаживали там, наверху, и Айрис не удалось улизнуть даже на пять минут — а Жозеф так хотел ее увидеть! Все ясно, она его больше не любит. Бесконечная тоска сжала сердце юноши. Но как же письмо, ее письмо? Они не спускают с нее глаз, вот в чем дело. Особенно месье Легри. С тех пор, как он узнал, что Айрис — его сводная сестра, в нем проснулась дуэнья.
Жозеф уже собрался поставить лестницу на место, когда вдруг услышал знакомый аромат духов…
— Бедняжка Жозеф, у вас ни минуты свободной. Пойдемте же, я привезла вам из Лондона сувенир.
— Айрис! Наконец-то! — воскликнул Жозеф охрипшим от избытка чувств голосом.
— Не знаю, что и думать, — признался Кэндзи, — вор унес всего две книги. Первая — действительно очень редкое издание «Французского кондитера» Эльзевиров
[130] стоимостью четыре-пять тысяч франков. Зато вторая — «Правила выживания» барона Стаффа — никакой ценности не представляет. Я купил ее на набережной за двадцать сантимов. Очень странно.
Он раздвинул перегородку-фусуму, отделявшую кабинет от спальни. Матрас, стеганое одеяло и деревянная подставка для головы на приподнятом полу алькова были сдвинуты в сторону, но, к счастью, вор не обнаружил тайник с личными бумагами, устроенный под одной из досок пола. Кэндзи вздохнул с облегчением, но тут же увидел, что у тяжелого деревянного сундука, стоявшего у изголовья, выбиты петли на крышке.
Виктор держался на расстоянии. В этом японском сундуке хранились личные воспоминания, и его владелец терпеть не мог, когда кто-то совал в них нос. Вот и теперь Кэндзи поморщился и отбросил со лба седую прядь.
— Мне не помешает чашечка зеленого чая, — с явным намеком пробормотал он.
— Сейчас приготовлю, — ответил Виктор и вышел на лестницу.
Свесившись через перила, он увидел, что
Айрис и Жозеф сидят рядышком за прилавком. Он кашлянул и знаком попросил сестру подняться наверх.
— Что со списком, Жозеф?
— Я проверил книги, все на месте. Мне осталось только упаковать те, что заказаны на завтра, и я закрою лавку. А у месье Мори как дела? Что-то украли?
— Пока неясно. Что ж, хорошего вечера, Жозеф.
— Вам тоже, патрон. До завтра, мадемуазель Айрис.
Виктор и Айрис сидели на кухне за столом, на котором стоял маленький чайник. Кэндзи долго молчал, не сводя глаз с чашки, потом произнес:
— Настоящая загадка. Не считая двух книг, вор взял из моего сундука чашу, с которой связаны мои личные воспоминания. Несколько лет назад я получил из Шотландии посылку и письмо. Вот оно. И он прочитал:
«Бруэм Грин», 14 октября 1889 года
Дорогой господин Мори!
Исполняя последнюю волю моего брата, питавшего к Вам дружескую привязанность, посылаю несколько предметов, которые он распорядился передать Вам в память об исследованиях на юго-востоке Азии. Прежде всего чашу — по его словам, на ней лежит таинственное заклятие. Вам наверняка известно, что он обладал отличным чувством юмора и скептически относился к верованиям анимистов,[131] потому не сочтите, что им двигали злые намерения. Несмотря на невзрачный вид этой чаши, брат был уверен, что она принесет Вам удачу.
Искренне уверяю Вас в своей дружбе и остаюсь преданной Вам
леди Фанни Хоуп Пеббл.
— Вы не показывали мне эту чашу! — воскликнула Айрис. — Как бы я хотела увидеть ее…
— Милое дитя, зная о том, как ловко вы обнаруживаете все мои тайники, я запер сундук на ключ, — ответил Кэндзи, подмигивая Виктору.
— Намекаете на то, что я слишком любопытна?
— Даже глухой лис почует ласку, если она подберется к его норе. Вот только зря я не навесил на сундук еще и замок. Может, с ним бы грабитель не справился. У этой лисы нюх оказался что надо. Кстати, чаша была завернута в фуросики…
— Фуросики? — переспросил Виктор.
— Тонкую шелковую ткань, в которую по японскому обычаю заворачивают подарки. К счастью, у меня сохранился еще один кусок.
— Аисты с распростертыми крыльями! Такая красивая, я видела ее, когда… — Айрис осеклась и покраснела, поняв, что выдала себя.
— И когда же? — мягко спросил отец.
Она молчала, и он продолжил ровным тоном:
— Когда вы сдвигали матрас на моей кровати. Чтобы вытереть пыль, я полагаю… Оставим этот разговор.
— Вернемся к чаше, — пришел сестре на выручку Виктор. — Вы можете ее описать? Я попрошу Таша набросать эскиз.
— Она выглядит весьма своеобразно. Это череп обезьяны — гиббона, без сомнения, — укрепленный на маленьком металлическом треножнике, украшенном тремя бриллиантами и крошечными изображениями кошачьих морд с глазами из крапчатых агатов.
— Странное дело, — заметил Виктор, — у вас похитили две книги и третьесортную вещицу, не тронув ни гравюры, ни наиболее ценные экземпляры из библиотеки.
— Настоящая загадка, — усмехнувшись, произнес Кэндзи. — Я бы сказал, что здесь орудовал начинающий грабитель. Пойдемте, Айрис, закончим наводить порядок.
Жозеф с головой ушел в перевод статьи из «Таймс», что давалось ему нелегко. На лбу проступили морщины мучительного раздумья, ибо слова отказывались соединяться в осмысленные фразы.
— Жозеф, вы еще здесь?
Молодой человек поднял голову. Виктор с насмешливым видом разглядывал его.
— Патрон, эту газету привезла мне мадемуазель Айрис, чтобы я мог читать по-английски, она ведь дает мне уроки… — Он прикусил язык. Глупая улыбка расплылась на его лице. — Кстати, а как переводится
pebble?
— У вас ужасный акцент. Как это слово пишется?
—
Р, е, двойное
b, l, е.
— Камень, булыжник, галька. Закрывайте ставни, нам пора.
— A
murder, патрон?
— Убивать, уничтожать. Все, хватит. Придумывайте свои криминальные загадки в свободное от работы время.
— Я не придумываю, патрон, а перевожу.
— Вы правы, Жозеф. Изучайте язык усерднее. Возможно, уроки мадемуазель Айрис принесут свои плоды.
Жозеф, расценив эти слова как поддержку, закрыл газету, но его радость сменилась беспокойством, когда Виктор, выходя, сурово добавил:
— Вот вам совет на прощанье: обучение языку должно быть последовательным.
В мастерской было пусто. Виктор бросил взгляд на мольберт, посмотрел на стол и увидел письмо.
Дорогой!
Я вернусь поздно: собрание в издательстве.
Не жди меня. Эфросинья приготовила отличное рагу, его нужно только разогреть.
Люблю, целую везде!
Таша
Фотографии детей просто чудесные!
За окном серое, нависшее небо. Скоро пойдет дождь.
Виктор рухнул на кровать. Напротив него мадам Пиньо, сжимая в руках зонт, разглядывала площадь Вогезов. Почти завершенная картина напоминала некоторые работы Берты Моризо.
[132]
Посреди ночи он резко сел в постели, разбуженный мыслью, которая внезапно пришла ему в голову во сне. Это было важно и, как ему казалось, связано с событиями, случившимися накануне. Он силился вспомнить, что это было, но тщетно.
Когда Таша вернулась — часа в три утра, — Виктор спал, так и не раздевшись, поверх стеганого одеяла.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Понедельник, 11 апреля
— На первом этаже мест нет! Поднимайтесь наверх! — крикнул кондуктор и встряхнул сумку, полную монеток, — три су были платой за проезд.
Виктор вскарабкался по лестнице на империал, и пронзительный ветер тут же забрался к нему за шиворот. Виктор жалел о том, что не взял фиакр, а поспешил к омнибусу маршрута «Клиши — Одеон». Какая-то молодая женщина пихнула его в спину, он поднял воротник куртки, тщетно пытаясь защититься от ветра.
— Велосипед — вот что мне нужно, — пробормотал он, пристраиваясь на самом краю скамьи, так что одна нога болталась в воздухе.
Мысль, посетившая его во сне, все еще мучительно брезжила на краю сознания. К ней невозможно было подобраться, а болтовня пассажиров только рассеивала внимание.
«Хуже, чем в приемном покое», — с раздражением подумал Виктор, вынужденный слушать беседу двух пожилых буржуа с седоватыми усами.
— …Уже страшно и на улицу выйти! Любой студент-химик может купить все необходимое, изготовить взрывчатку и устроить фейерверк, а у его соседей ни малейшего подозрения не возникнет.
— Предположим, эта отрасль торговли будет регламентирована. Гораздо важнее — контроль за применением взрывчатки в шахтах и карьерах. Держу пари, этот Равашоль украл динамит со склада в Суази-су-Этуаль…
— Правительство обещает принять меры, постоянно ссылается на «секретные» источники. Высылка сорока анархистов-иностранцев, которая…
— И это только начало! Между прочим, Равашоль голландец по отцу, его фамилия Кёнигштайн…
Тут империал тряхнуло, и пассажиры едва не попадали с сидений: у кого-то слетел цилиндр, послышались топот сабо и звон монеток, заглушившие разговор двух мужчин. Омнибус остановился. Молодая женщина, едва не упав на Виктора, метнула в него грозный взгляд. Краем глаза он заметил ярко-красную афишу, превозносящую очищающие свойства слабительного средства «Тамар Грийон», и его вдруг пронзила страшная мысль: вдруг Таша тоже вышлют из Франции, и он больше никогда ее не увидит?
«Идиот, ты бредишь! Таша не имеет никакого отношения к анархистам».
Омнибус тронулся, и двое буржуа возобновили беседу.
— Вы были на улице Клиши? Когда я увидел, что случилось с домом номер тридцать девять, у меня мурашки побежали по коже!
[133] Все стекла треснули, лестницы обрушились, квартиры разворочены. Только фасад уцелел. Интересно, что какие-то вещи разлетелись на мелкие куски, а какие-то остались в целости и сохранности.
— Приятель сказал мне, что после взрыва дом завален остатками мебели, словно кратер вулкана — камнями.
Камни, камни… В неуловимом сне Виктора точно были камни. «Вся, как каменная греза, я бессмертна, я прекрасна»…
[134] Под лежачий камень вода не течет… Краеугольный камень…
— …Это просто чудо, что только полтора десятка человек пострадали! В Луаре погибли по меньшей мере трое. За эти злодеяния Равашоль заслуживает гильотины.
— Полностью с вами согласен. Надеюсь, труды господина Бертильона
[135] обезопасят нас в будущем от подобных субъектов. Достаточно знать характерные приметы преступника, чтобы вычислить его. Полицейские из Сент-Этьена, задержавшие Кёнигштайна в семьдесят девятом году по подозрению в краже, использовали именно этот метод. Они отправили антропометрические данные шельмеца в префектуру полиции, а оттуда их разослали во все газеты. Официант Леро из ресторана «Вери» опознал Равашоля по шрамам на руке и лице, и того схватили. Альфонсу Бертильону оставалось только осмотреть и сфотографировать подозреваемого, чтобы подтвердить, что он и Кёнигштайн — одно лицо. Вот это я понимаю!
— Я бы спал спокойнее, если бы министр внутренних дел
[136] позаботился, чтобы наша страна не пошла по пути Германии и Италии, запуганных фанатиками, а Париж не превратился в окопавшийся лагерь. Страх уже просачивается сквозь стены…
На перекрестке у театра «Одеон» Виктор с облегчением вышел из желтого омнибуса. Его тоже взволновали взрывы на бульваре Сен-Жермен и на улице Клиши — один в непосредственной близости от лавки «Эльзевир», другой — недалеко от его собственного дома. Угроза нависла над дорогими ему людьми. Вдруг Таша окажется на месте следующего теракта? Эти опасения мучили Виктора больше всего.
— Это же надо — ливануло именно сейчас, когда мне надо идти на рынок! Эти тучи меня просто преследуют! — Мадам Пиньо сновала по магазину, не обращая внимания на сына, занятого миловидной покупательницей с хорошеньким вздернутым носиком. Эфросинья решила, что с возвращением месье Мори никто не посмеет ограничить свободу ее передвижения.
Она извлекла из подставки для зонтов самый большой — из фиолетового мадаполама. На пол порхнул квадратик бумаги. Она наклонилась за ним, ворча:
— Эдак я себе спину надорву, поднимая все, что вы роняете. Гляди-ка, да это визитная карточка. Вот уж подходящее место, чтобы оставить свой адрес… Жозеф краем глаза наблюдал за матерью.
«Этого еще не хватало… Только бы она не совала нос в наши дела», — подумал он, заметив визитную карточку у нее в руках, и подчеркнуто повернулся к ней спиной, но тут на пороге появился Виктор. Он сразу же увидел визитку, которую мадам Пиньо прислонила к стакану с ножницами, взял ее и пробежал взглядом по строчкам, написанным изящным почерком:
Дорогой месье Мори,
Я должен немедленно поговорить с Вами.
Леди Пеббл дала мне Ваш адрес, заверив, что я могу рассчитывать на Вашу помощь.
В надежде на нее,
Антуан дю Уссуа.
Пеббл… Пеббл… Где он слышал это имя? Виктор перевернул карточку.
АНТУАН ДЮ УССУА
Профессор зоологии
Музей естественной истории
И тут в голове у него будто щелкнуло.
— Черт возьми! Мой сон! — Ему приснилось, что на дом, где жил Кэндзи, обрушился ливень из камней, в разрушенной квартире, среди кусков штукатурки, ползали черепахи.
Все встало на свои места. Слово «камень» соединилось, как соединяются вагоны, с английским
pebble, и Виктор будто снова услышал следующий вопрос Жозефа: «Патрон, как перевести на французский
murder?». Убивать, уничтожать, ответил он тогда.
Виктор застыл на месте, охваченный чувством ирреальности происходящего. «Таймс»! Он должен немедленно найти эту статью.
— Жозеф, где газета, над которой вы вчера корпели?
Оставив на секунду симпатичную покупательницу, юноша подбежал к нему.
— Я не просто корпел, я весьма успешно справился с переводом!
— Могу я попросить у вас газету?
Жожо неохотно вытащил из ящика свернутую в трубочку «Таймс» и протянул Виктору.
— Не забудьте вернуть.
— Не беспокойтесь. Скажите, когда к нам попала эта визитная карточка?
— Какая карточка? Ах, эта… Тот господин заходил в пятницу, спрашивал адрес месье Мори.
— Вы его дали?
— Разумеется!
— Вы заняты надолго? — кивнул Виктор в сторону покупательницы, начинавшей проявлять нетерпение.
— Это подруга Саломеи де Флавиньоль, почитательницы Пьера Лоти,
[137] только что ставшего членом Академии. Мы делились впечатлениями об «Исландском рыбаке».
— Не знал, что вы интересуетесь ловлей трески. Попросите месье Мори подменить вас, он будет рад потолковать о «Госпоже Хризантеме» с этой очаровательной дамой, а сами отправляйтесь в хранилище и найдите мне Лагарпа.
[138]
— Тридцать два тома! У нас наверняка не все!
— Хватит тех, какие найдете. Я обещал их одному букинисту.
Жозеф с мрачным видом отправился выполнять поручение. Виктор поспешно развернул «Таймс». В номере за 8 апреля 1892 года бросался в глаза мрачный заголовок:
ЛЕДИ ФАННИ ХОУП ПЕББЛ УБИТА
В СВОЕМ ИМЕНИИ В «БРУЭМ ГРИН»
5 апреля в 21 час камеристка леди Фанни Хоуп Пеббл, Оливия Монроуз, нашла свою хозяйку мертвой. Доктору Барли, лечащему врачу леди Пеббл, оставалось только констатировать смерть и установить, что причиной ее стал выстрел из огнестрельного оружия. Расследование ведут сержант местной полиции Джон Дамфри и офицеры Скотленд-Ярда
Дэннис Блит и Питер Старлинг. Согласно показаниям прислуги из «Бруэм Грин», леди Пеббл незадолго до гибели принимала посетителя…
Виктор вскочил, пораженный внезапной догадкой.
«Кэндзи! Пеббл! Письмо насчет чаши! Немедленно проверить».
Подруга Саломеи де Флавиньоль щебетала что-то Кэндзи, тот внимал ей с любезным видом. Их беседа грозила затянуться, и Виктор решил вмешаться.
— Прошу прощения, мадемуазель, но дело не терпит отлагательств, — улыбнулся он белокурой любительнице Лоти и отвел Кэндзи в сторону.
— Что-нибудь еще пропало? — спросил Виктор.
— Нет. Только Эльзевиры, барон Стафф и столь дорогая мне чаша.
— Вы знакомы с дамой, приславшей ее вам?
— С леди Пеббл? Нет, не имел удовольствия. Только с ее братом, Джоном Кавендишем.
— Это тот самый путешественник, которого убили три года назад во Дворце колоний?
[139] Я думал, он американец!
— Так и есть. Но его сестра вышла замуж за английского лорда, и последние несколько лет жизни Джон жил в их поместье. Простите, но эта тема вызывает во мне печальные воспоминания. Я нашел его письмо. Держите.
Мой милый друг,
Если вы читаете эти строки, значит, я обрел покой в краях моих предков и терпеливо жду Вас на другом берегу Ахерона.
В 1886 году я отправился в экспедицию, чтобы исследовать флору Кракатау, обильно разросшуюся после извержения вулкана. Эту чашу работы малайского мастера из региона Тринил я нашел в Сурабайе и купил ее, думая о Вас. Вы, конечно же, помните счастливые часы, которые мы провели вместе, пересекая Китайское море на борту посудины под командованием капитана Финча, любителя скримшоу.[140] Помните, как Вы восхищались коллекцией фигурок китобоев, изготовленных из челюстей кашалота, и капитан подарил Вам моржовый клык, на котором был искусно вырезан портрет коммодора Перри?[141]
Вы сохранили его? Я дарю Вам эту чашу на память (понятия не имею, в чем ее предназначение: возможно, это курильница или плевательница).
Джон Рескин Кавендиш.
P.S. Говорят, бриллиант теряет свой блеск, когда его владелец умирает. Уверен, что эти три не потускнеют, пока XX век не расцветет во всем его великолепии.
— Теперь вы понимаете, почему мне так тяжело ворошить прошлое. Я так и не смирился с трагической гибелью друга. Эта чаша — словно привет с того света, — произнес Кэндзи, аккуратно складывая письмо.
Виктор сочувственно кивнул.
Покинутая всеми покупательница, заскучав, вышла из магазина как раз в то мгновение, когда вернулся Жозеф, сгибаясь под тяжестью книг и покрытый пылью с головы до ног.
— Вот ваши «соловьи»,
[142] патрон. Трех томов не хватает.
— Для кого это? — спросил Кэндзи.
— Для Мобеша.
— Букиниста с набережной Конти?
— Ему нужно чем-то заполнить витрину… Жозеф, заверните их, я жду уже битый час.
— Вы ждете минут двадцать, — возразил Жожо. — И, кстати, патрон, как насчет моей газеты? — воскликнул он, показывая на карман Виктора.
Сверток с книгами оттягивал руку, но Виктору было не до того. Он должен был пройтись, проветрить мозги, и потому воспользовался первым попавшимся предлогом улизнуть от Кэндзи и Жозефа.
Развиднелось. Над набережной сияло голубое небо, редкие в это ранний час уличные торговцы раскладывали свой товар. Облокотившись о перила, Виктор рассеянно наблюдал за детьми, устроившими на берегу игру в «Матушку Гаруш». Мальчишка, стоя в центре нарисованного мелом круга, крикнул: «Матушка Гаруш выходит из дома!» — и бросился бежать за одним из игроков, стараясь коснуться его рукой. Дети смеялись, кричали, стегали «матушку Гаруш» свернутыми жгутом платками, и та вернулась «домой» ни с чем.
Шум и гам не отвлекали Виктора от размышлений. Его мучили две загадки: что означал визит Антуана дю Уссуа, который, несомненно, имеет какое-то отношение к леди Пеббл, и не связано ли недавнее ограбление с убийством этой женщины.
Вторая версия казалась Виктору перспективной. Он сразу же попал под обаяние Тайны. Ему нравилось пробираться на ощупь по лабиринту расследования, различить впереди слабый свет и двигаться к нему, пока тот не сделается ярким, возвещая выход — когда тьма и тени останутся лишь воспоминанием.
Но куда же приведет его эта странная история?
Орас Тансон, он же Здоровяк, он же Малый Формат, специалист по продаже Казена,
[143] был одним из тех букинистов, кто не имел ящиков для книг, накрепко прикрепленных к парапету.
[144] Когда Виктор заглянул к нему, он как раз выкладывал товар из своей повозки.
— Приветствую вас, Легри! А у меня отличная новость! Я, наконец, опубликовал мою книгу «Ненасытный спрут»! Призываю вас подписать петицию с требованием закрыть все большие магазины, это вопрос жизни и смерти! Иначе мелкой торговле конец. Спрут монополизации протянул щупальца к Парижу, и если мы не будем ему противостоять, он придушит нас прежде, чем мы успеем пискнуть: «Мама!».
Виктор сослался на важную встречу и обещал поставить свою подпись позже. Сгибаясь под тяжестью книг, он повернул обратно к улице Сен-Пер. Решено, сегодня после полудня он отправится в музей и, возможно, ему посчастливится найти этого Антуана дю Уссуа.
— Вы принесли книги обратно? — удивился Жозеф, принимая у него из рук сверток.
— Мобеша не было, я схожу к нему в другой раз. Книги пока сложите куда-нибудь в угол.
— Но ради них вы отвлекли меня от покупательницы! Зачем было все это выдумывать — пошли бы лучше прямиком в полицию. Рауль Перо наверняка мучается теми же вопросами, что и вы…
— Не ворчите, Жозеф, отнесите-ка лучше вашему собрату по перу томик Жюля Лафорга. Я посоветовал инспектору с вами побеседовать, — сказал Виктор.
Он не питал склонности к разглядыванию скелетов, и экспонаты, выставленные в новой галерее музея, не впечатлили его, как и набитые соломой чучела млекопитающих: слона, антилоп, жирафов.
В зале, посвященном рептилиям, птицам и коллекциям яиц, Виктор заблудился, а проходя мимо витрин с насекомыми, ускорил шаг, почувствовав тошноту при виде термитника, соседствовавшего с огромным осиным гнездом. Он справился об Антуане дю Уссуа у охранника, тот проводил его в зал антропологии, и Виктор бродил по нему уже почти час.
Он без всякого удовольствия осмотрел несколько голов кабилов,
[145] отрубленных ударом ятагана и высушенных солнцем Африки, скрюченные перуанские мумии с открытыми в жутковатых ухмылках ртами. Скелет «готтентотской Венеры» — несчастной женщины, вывезенной из Африки, выставленной на ярмарке на потеху толпе и умершей в нищете, — вызвал в нем только горечь. Второй охранник, стоявший на посту около стеклянного колпака, под которым лежали челюсти древних людей, найденные Жаком Буше де Пертом
[146] около Аббевиля, сообщил Виктору, что месье дю Уссуа, очевидно, сейчас в большом амфитеатре на конференции, организованной палеонтологом Альбером Годри.
У входа в зал горячо обсуждала что-то толпа студентов и профессоров. Слоняясь от группы к группе, Виктор увидел высокого мужчину лет сорока с густой шевелюрой и бородой в форме подковы, обрамлявшей довольно приятное, хотя и чуть одутловатое лицо. Он говорил громче остальных, и Виктор подошел ближе.
— Простите за беспокойство, но мне посоветовали обратиться к вам… Я ищу месье Антуана дю Уссуа.
Мужчина с интересом поглядел на Виктора.
— Он еще не пришел. Это на него не… Постойте-ка. Шарль!
К ним подошел молодой человек. Несмотря на то, что был одет по последней моде, он казался среди присутствующих чужаком. Загорелая кожа, чисто выбритый подбородок, прозрачные голубые глаза, упругая, решительная, но лишенная изящества походка — он напоминал крестьянина, заблудившегося в городе.
— Позвольте представить вам Шарля Дорселя, секретаря моего кузена Антуана. Меня зовут Алексис Уоллере, я профессор геологии. С кем имею честь?
— Виктор Легри, книготорговец, улица Сен-Пер, восемнадцать. Ваш кузен заходил к нам в лавку и выражал желание поговорить с моим компаньоном — месье Кэндзи Мори. Я предположил, что он хочет продать библиотеку…
— Неужели он решил расстаться со своими книгами? Очень странно. Какая муха его укусила, вы не знаете, Шарль?
— Нет… Продать книги — это вряд ли. Он бы мне сказал.
— Странно, что кузен запаздывает, — снова перевел взгляд на Виктора Уоллере. — Обычно он по-военному пунктуален. Мы с ним живем в одном доме, но у нас разное расписание. Быть может, у него встреча.
— Именно так, месье дю Уссуа в Медоне, с профессором Гере, — сообщил Шарль с некоторым раздражением. — Он составляет доклад для журнала «Вокруг света». Ловите момент, Алексис. Вы можете загнать месье Легри свои книжки и купить камни!
— «Загнать»! Когда вы только научитесь нормально выражаться? Я хочу их продать.
Шарль Дорсель уставился на Алексиса Уоллерса с откровенной неприязнью. Он говорил с легким акцентом, происхождение которого Виктору не удавалось распознать.
— Загнать или сбыть, главное — цена, не так ли? — И Дорсель подмигнул Виктору. — Месье Легри, глядите, — он указал на невысокого сутулого человечка с черным портфелем подмышкой, — это месье Лакасань, бывший смотритель музея. Он безуспешно разыскивает «Смешные драгоценные камни» Поклена,
[147] у вас случайно не найдется этой вещицы?
— Нет ничего невозможного, — рассмеявшись, ответил Виктор. — Один клиент с пеной у рта доказывал мне, что автором «Рассуждения о методе» является не Декарт, а некий Картезий.
[148]
— Мы это обсудим, — обронил Алексис Уоллере, — но месье дю Уссуа не имеет права опаздывать на занятия со студентами.
— Что ж, в таком случае, прощаюсь, — объявил Виктор.
У улицы Кювье он остановился, вернулся назад, придал лицу тупое выражение, подошел к сторожу и вцепился ему в рукав:
— Такие красивые часы… Я бы оставил их себе, да мой товарищ уверил меня, будто они принадлежат месье дю Уссуа. Мой долг вернуть их!
— Вам придется подождать, у месье в три часа начались занятия.
— Нет, дю Уссуа вернулся домой из-за приступа мигрени.
— Оставьте часы, я ему передам, — проворчал сторож.
— За кого вы меня принимаете, старина? Не то чтобы я не доверял вам, но на мне лежит моральная ответственность…
— А кто докажет, что вы сами, месье, не приберете часики себе?..
— Что?! — вскричал Виктор. — Вы осмеливаетесь сомневаться в порядочности Гийома Эльзевира,
главного специалиста по термитам? Я запрещаю…
— Ну-ну, придержите коней, — проворчал сторож и сверился со списком. — Мсье дю Уссуа живет на улице Шарло, двадцать восемь.
Тут Виктор заметил выходящего из здания Алексиса Уоллерса и поспешил скрыться.
…Таша услышала, как в замочной скважине повернулся ключ, и поспешно спрятала письмо, которое уже выучила наизусть.
Она пересела к мольберту и изобразила глубокую сосредоточенность. Сердце глухо стучало в груди. Завтра! Завтра она бросится к нему в объятия — после стольких лет разлуки!
Она почувствовала, как губы Виктора коснулись ее волос и шеи, но не осмелилась повернуться, опасаясь, что он заметит, как она взволнована.
— Дорогая, переоденься. Мы ужинаем в ресторане. Ты пишешь портрет мадам Пиньо?
Виктор прошел к умывальнику, умылся, вытер лицо полотенцем, вернулся к Таша и обнял ее за талию.
— Давай съездим куда-нибудь вдвоем. Как насчет Бретани? Там прекрасный свет, ты сможешь писать на свежем воздухе.
— Я не… — она замялась, — Виктор, я уезжаю. Это такая удача, выставка… в Барбизоне, и…
— Когда ты узнала о ней?
— Совсем недавно.
— Может, мне поехать с тобой? Я бы фотографировал там пейзажи.
— Ты же занят в лавке.
Он кивнул и обнял ее еще крепче:
— Ну да, но ведь Барбизон — не в Америке.
— Дорогой, не обижайся, но ты ведь занимаешься фотографией в одиночку, кстати, как и расследованиями. Я — из того же теста.
— Понимаю, — сконфуженно произнес Виктор. — Прости, это сильнее меня, но я не испытываю ни малейшей симпатии к художникам, с которыми ты якшаешься.
— Именно поэтому тебе лучше со мной не ехать.
Виктор помрачнел, словно мальчишка, который потянулся за сладостями и получил по рукам. Ему хотелось постоянно видеть Таша, его восхищал каждый ее жест, каждое слово. Он испытывал неистовое желание обладать ею безраздельно и чувствовал, что, отпустив, утратит часть самого себя.
Таша же поняла, что решимость оставляет ее. Впервые она испугалась, что может потерять Виктора.
— Это всего на три дня, — прошептала она.
Они стояли лицом к лицу, и она уже готова была рассказать ему правду. Но тут он наклонился и поцеловал ее в щеку, избавив от необходимости принять решение.
— Давай-ка, одевайся.
Она улыбнулась. У него потеплело на сердце, и тревога улетучилась.
Месье Риве остановился у входа в церковь Сент-Эсташ, перекрестился и свистом подозвал пса, задержавшегося у уличного фонаря. Вечерний моцион приносил месье Риве много положительных эмоций. Он любил этот вечерний час, когда, поужинав в комнатке позади галантерейной лавки, которую держал вместе с супругой, ненадолго становился свободным человеком. Вместе с Милордом они бродили по улицам, в зависимости от настроения и дум выбирая разные маршруты. Иногда направлялись к рынку Лe-Аль, порой прогуливались по кварталу Маре, а в этот раз по взаимному согласию выбрали улицу Турбиго. «Прогулка с папой», как называл ее сам месье Риве, привела их к улице Гранд-Трюандри, с которой была связана легенда о несчастной девушке Агнесс Хельбик, жившей во времена правления Филиппа-Августа. Она решила, что возлюбленный предал ее, и утопилась. Месье Риве был любителем старинных трагических историй и, пока Милорд рысцой перебегал от фонарей к деревьям, вынюхивая собачьи новости, воображал себя героем какой-нибудь легенды.
Он прошел мимо Милорда, уткнувшегося носом в какое-то подвальное окошко, и собирался уже перейти улицу, но тут пес принялся яростно лаять. Месье Риве, заинтересовавшись, повернул обратно. Лай Милорда перешел в странное повизгивание.
— Что такое? Напал на склад колбасы?
Милорд подпрыгнул, обежал несколько раз вокруг хозяина и заскулил.
Месье Риве, кряхтя, наклонился и заглянул в подвал. Он с трудом различил в полумраке груду ящиков и каких-то предметов мебели.
Что-то зашевелилось там. Крысы. Они шныряли у кучи тряпья, очевидно, в поисках поживы. Откуда-то вышмыгнула третья, за ней — четвертая. В слабом свете уличного фонаря сверкнули острые зубы: видно, крысы нашли себе ужин. Месье Риве передернуло. Он вспомнил, что за сезон одна крыса приносит десять детенышей и что, как гласит все та же легенда, дети несчастной утопленницы были прокляты Всевышним: у них выросли усы, руки-ноги превратились в лапки, и их многочисленное потомство расселилось по сточным канавам.
— Пойдем, Милорд! Тут пируют только крысы.
И тут месье Риве разглядел, что именно с таким аппетитом грызут мерзкие создания: это была человеческая нога. Его взгляд скользнул дальше, и он увидел полы сюртука.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Вторник, 12 апреля
— Истинное чудо, верное средство! Достаточно помазать спинку кровати моим снадобьем с помощью вот этой кисти, и никаких клопов! Всего шесть су за флакон, месье, выгодное предложение!
Виктор увернулся от пузырька с желтоватой жидкостью, которую торговец с улицы Бретань совал ему прямо в нос, и ускорил шаг. Он направлялся к рынку Анфан-Руж, вход в который располагался между мясной и колбасной лавками.
Серый утренний свет едва просачивался сквозь пыльные стекла помещения рынка, окруженного шестиэтажными домами, так что казалось, он расположен на дне глубокого колодца. Там сновали торговцы, раскладывая на прилавках свой товар. Куда ни глянь, повсюду были освежеванные бараньи туши на крюках, свиные потроха, телячьи легкие.
Виктор почувствовал тошноту и присел на деревянный ящик, положив фотоаппарат на колени. Это была ручная камера, компактная, но надежная, с двенадцатью пластинами, которые можно было быстро менять после каждого кадра.
— Что же это вы, месье фотограф, пришли сюда на пустой желудок? Как насчет того, чтобы покрепиться? Глоток хорошего абсента из Понталье, всего пятнадцать сантимов, это вас не разорит. Пирожок бесплатно.
Виктор знаком отказался, не глядя на дородную усатую матрону, которая предложила ему выпить, переворачивая на жаровне румяные колбаски.
— Куда же ты, красавчик? Я не хотела тебя обидеть, честное слово. Нет, вы его видели? Пугливый, что твой причастник!
Виктор тем временем уже пробирался к выходу. Приветливая физиономия цветочницы вернула ему веру в людей, и он не заметил, что его сумка с пластинами для фотоаппарата приоткрыта. Посреди узкой улочки Дезуазо красовалась куча мусора, и Виктор, перепрыгивая через нее, придержал сумку за ремень. Раздался грохот. Пластины выпали и разбились. Брусчатку усеяли куски деревянных рамок и осколки стекла. Виктору оставалось только собрать их. Тощая девочка в платье не по размеру бросилась ему помогать.
— Осторожно, не порежься, — бросил он ей.
— Виви! — окликнул ее мужчина с повозки, запряженной ослом.
Собрав осколки, девчонка вернулась к нему. Виктор присоединился к ним, и все трое медленно двинулись по улочке.
— Коли это было зеркало, семь лет терпи неудачи, — заметил мужчина, подпрыгивая на козлах.
— Нет, обычное стекло, — ответил Виктор и улыбнулся, заметив, что девочка осторожно погладила его камеру.
— Какой красивый у вас волшебный фонарь, — прошептала она. — Вы фокусник, как месье Мелье? Я часто хожу к нему в театр, по утрам там бывают представления для детей!
— Нет, мадемуазель, я просто фотограф. Кстати, меня тоже зовут Виви… Виктор Легри.
— А я вовсе не Виви. Я — Иветта.
[149]
— Ишь, наша маленькая графиня обиделась: старик-отец назвал ее Виви при всех! Я Леонар Дьелетт, коммивояжер.
— Коммивояжер?
Виктору понравилось лицо Леонара, густо заросшее угольно-черной бородой, на котором выделялись светлые глаза и внушительных размеров нос.
— Так и есть, месье. Коммивояжер, и горжусь этим. Раньше-то я был старьевщиком, таскался по Памплюшу
[150] с корзиной за плечами и крюком в руке. Бывало, протопаешь двадцать километров вдень, пока найдешь, куда приткнуться, где перехватить кусок и поспать. А потом снова в дорогу. Вот вам слово, я проходил миль тридцать прежде, чтобы заработать хотя бы двадцать су. Домой приползал, еле держась на ногах, а на рассвете снова поднимался, чтобы разобрать товар. Я, конечно, был голодранец, зато свободный человек. А вот когда родилась Виви, сказал своей хозяюшке: пора, мол, менять карты. Потом бедняжка Лулу померла, а я за пять лет скопил деньжат и купил дело у папаши Гастона.
— Тоже мне, нашли место — трепаться посреди улицы! Ни пройти, ни проехать! — проворчал торговец, толкавший перед собой тележку с рыбой.
Леонар Дьелетт цокнул языком, и ослик побрел вперед.
— Его зовут Недотепа, — объяснила Иветта, показывая на ослика. — Он выносливый и послушный: никогда не упирается, пусть даже тележка нагружена доверху.
Виктор шел медленно, приноравливаясь к шагу девочки. Хотя Иветта была одета чистенько и даже немного кокетливо, она напомнила ему маленьких нищенок с полотен Мурильо.
Они свернули на улицу Бос, потом на улицу Пастурель.
— Куда вы направляетесь? — спросил он.
— На улицу Шарло. Там в домах есть мусорные ящики, папа вычищает их и моет, а консьержки дают ему за это ненужные вещи.
— Да, месье, выгодное это дело! Бывает, что и на кухне покормят. Простите за сравнение, но консьержка в доме все равно, что Бог-отец, а кухарки — ангелы-хранители. Всегда собирают мне остатки хозяйского обеда. Я им за это ношу воду, выбиваю ковры, а случится у кого интрижка с кучером, так и записки ношу.
— Вы позволите мне пройтись немного с вами? Я бы хотел сделать фотографии ваши и Ви… Иветты.
— Не вопрос, месье. Только вряд ли у меня найдется время позировать.
«Само Провидение послало их мне», — подумал Виктор: у него появился благовидный предлог войти в дом дю Уссуа. А фотография девочки завершит серию «Дети работают».
— Куда вам принести готовые снимки?
— Вы даже отдадите их нам? Вот уж спасибо-то! Нас легко найти. Проходите через квартал Доре, на полпути к улице Женнер сворачиваете к бульвару де ля Гар, идете через площадь Пинель — это в десяти минутах ходьбы от Ботанического сада. Рядом с нашей халупой живет предсказательница, она называет себя Сивиллой, но вообще-то ее зовут Корали Бленд.
— А я после полудня продаю булавки с черными головками на Монмартре, около того бара, где можно купить выпивку в автоматах, — добавила Иветта и, когда ее отец скрылся в подъезде, серьезно добавила: — Хотя не имею права.
— Права на что?
— Продавать булавки. Полицейские говорят, это попрошайничество. На той неделе они забрали Фонсину. Она плакала и не хотела ехать в участок. А ей сказали, что если она не перестанет приставать к прохожим и воровать, то плохо кончит. Это неправда. Она ни разу ничего не украла и честно зарабатывает себе на жизнь. И я тоже. Я беру пример с папы. Один раз консьержка подарила ему старое пальто, а в кармане оказались деньги. Немаленькая сумма! Так он их вернул.
— А где ты берешь булавки?
— Покупаю с утра в Лe-Аль, потом бегу к папе. А днем беру корзинку и еду на работу. На автобусе! Это так интересно! Как завижу полицейского, бегу в бар с автоматами и прячусь за бочками. А булавки я предлагаю только дамам! Иногда за них дают даже пятнадцать су.
Появился Леонард Дьелетт; передал дочери свертки, и она аккуратно сложила их на дно тележки. Виктор разглядел завернутые в газету две недоеденные котлеты и кусок рисового пирога, еще там были пробки и бутылки, склянки и губка — видно, из аптеки на первом этаже.
— Кинь-ка мне эти ботинки. Ну да, каши они просят, ровно голодный крокодил, зато кожа добрая. Можно сбыть их сапожнику.
Соседний дом оказался настоящей сокровищницей, принесшей Дьелетту обрезки фланели, старые простыни и лоскуты шерстяной ткани — там располагалась пошивочная мастерская. Старьевщик был доволен, он сказал, что отнесет все это портному, и тот сошьет ему лоскутное одеяло.
Покрасневший нос Леонара красноречиво говорил о том, что его попотчевали рюмкой-другой.
— У папы вечно пересыхает в горле, — заявила Иветта, — это дрянное пойло сожрет его печень.
Повозку обогнула светловолосая полная женщина в поношенном черном платье, что-то взволнованно бормоча себе под нос.
— Добрый день, мадам Бертиль! — воскликнул Леонар.
— Ох! Простите, я вас не заметила!
— Много хлопот?
— Нет, месье Леонар, страшное несчастье! Кто бы знал… Простите, я спешу. Оставила старика одного, пока ходила за покупками, а ему пора завтракать.
— Кто она? — спросил Виктор, показывая на женщину, которая поспешила прочь, не замечая, что чепчик съехал на бок.
— Это Бертиль Пио, кухарка в богатом семействе. Они живут в двадцать восьмом доме. Дю Уссуа. И где они только такую отыскали? Сердце у Бертиль золотое. Пару дней назад она угостила нас с Виви валованом
[151] и тушеной говядиной…
— Я пройду вперед, — перебил его Виктор, — охота взглянуть на дом этих дю Уссуа.
Он оказался у дома номер двадцать восемь, красивого здания XVIII века, как раз в тот момент, когда Бертиль Пио пересекла вымощенный двор и исчезла в подъезде. Не успел Виктор взяться за дверной молоток, как из каморки у входа вышел консьерж.
— Удивлены, что я появился так быстро? Дар предвидения, месье, незаменим, когда надо распознать надоедливых посетителей и избавить хозяев от утомительных разговоров.
Консьерж — щуплый человечек ростом с двенадцатилетнего ребенка, в огромной шляпе, глядел на Виктора с высокомерием.
— Я вовсе не надоедливый посетитель, — запротестовал тот и уже открыл рот, чтобы представиться приятелем Леонара Дьелетта, но консьерж произнес, кивнув на фотоаппарат:
— Меня не провести! Вы пришли поглядеть на место убийства, я вас, бумагомарателей, за сто метров чую!
— Прямо-таки за сто? — пошутил Виктор. — Что ж, снимаю шляпу. Ваша взяла! Я действительно надеялся первым поведать о случившемся верным читателям «Пасс-парту».
— Вы и есть первый. И последний, — сурово произнес человечек, складывая руки на груди и всем своим видом демонстрируя, что никуда визитера не пустит.
— Что ж, нет так нет, — делано вздохнул Виктор. — Жаль, статья стала бы сенсацией. Фотография на первой полосе, на ней — вы, и подпись: «Консьерж дома, где произошло преступление».
Он повернулся, чтобы уйти, и тут же услышал ворчливое:
— Креву!
Виктор обернулся.
— Что вы сказали?
— Креву Мишель. Так меня зовут. Пусть они везде укажут мое имя.
— Это можно устроить, — пообещал Виктор, довольный, что его уловка удалась.
— Пишите, чего вы ждете? Я занимаю эту должность с восемьдесят шестого года. А до того служил солдатом. Да уж, меня помотало по свету! Кохинхина, Тонкин, Аннам, Формоза, Пескадор… Я сражался с Черными флагами
[152] в Китае, ранен при осаде Ланг Сонна. Два года заново учился ходить — у меня протез, показать?
— Не стоит. Садитесь сюда, у крыльца. Не улыбайтесь и не шевелитесь. Как, вы сказали, вас зовут? По буквам, пожалуйста. Креву, через «е»?.. И кого же убили?
— Дю Уссуа, Антуана. Два «с». Эй, вы слышите?
Сердце Виктора так и подпрыгнуло.
«Убит Антуан дю Уссуа! Вот тебе и новая загадка!»
— Его близкие сейчас здесь? — спросил он безразличным тоном.
— Поехали в морг — все, кроме старика, отца мадам. Он слегка тронутый, не понимает, что случилось. Бедная мадам Габриэль! Хорошо, что рядом с ней кузен, месье дю Уссуа, он возьмет на себя все хлопоты. В каком жестоком мире мы живем! Месье был образованный человек, сотрудник музея! Полиция приехала утром, я был тут и все слышал. Месье уехал в пятницу, предупредив жену и секретаря, что отправляется в Медон. А вчера вечером его нашли мертвым с пулей в груди. Мадам Габриэль упала в обморок, услышав это известие. Мы с месье Уоллерсом уложили ее на диван.
— Где нашли тело?
— В каком-то подвале в квартале Лe-Аль. Портфель у месье украли, но, к счастью, в кармане его сюртука завалялся счет из прачечной. Иначе его нипочем бы не опознали.
— На каком этаже живут дю Уссуа?
— На втором. На цокольном этаже располагаются комнаты кухарки, мажордома и прислуги, а на первом живет издатель партитур. Этот небольшой частный дом называют Беранкур, и построил его тут в 1705 году месье де ля Гард, надо бы упомянуть его имя в статье.
Виктор навел объектив на белокаменный фасад и замер. Ему показалось, что за легкими муслиновыми занавесками мелькнуло чье-то лицо.
— Портфель! Шпион…
Фортунат де Виньоль резко отвернулся от окна и устроился в кресле напротив засиженного мухами псише.
[153] Он пригладил редкие бесцветные пряди, поправил коричневый цилиндр, одернул желтый поношенный сюртук со слишком короткими рукавами.
— У этого славного шевалье благородный вид! Черт побери, мы выкинем предателей из королевства! Ваше Величество, если понадобится, я буду рыть землю зубами, но найду их! Клянусь святым крестом, я верну сокровища тамплиеров вашему наследнику! Ваша смерть будет отомщена!
Он преклонил колени перед портретом Людовика XVI, под которым лепились огарки свечей и ронял лепестки увядающий букет роз. Стены были сплошь увешаны портретами французских монархов. Мраморный туалетный столик украшали литография крепости тамплиеров и вычерченные от руки планы квартала Маре. Если не считать этих деталей, оживляющих интерьер комнаты, она больше напоминала берлогу карпатского медведя, чем апартаменты парижского аристократа. Повсюду валялось множество предметов, словно свалившихся через растрескавшийся потолок: у кровати — груда ржавых шпаг, на полу разбросана одежда и потрепанные книги, и все это, словно снегом, припорошено исписанными бумажками — тщательно сложенными, скомканными, свернутыми аккуратными квадратиками и даже порванными на конфетти.
Старик поднялся и потер поясницу: в дверь стучали.
— Кто там?
Вошла кухарка, поставила поднос на угол письменного стола.
— Ваш шоколад, месье. Позвольте мне прибрать,
здесь же настоящий свинарник!
— Молчи, несчастная! Я не пущу тебя в свое святилище! Пусть это будет моей последней битвой! — И старик, схватив тупую шпагу, прорычал: — Смерть английской королеве, объявившей нам войну!
Бертиль Пио, привыкшая к подобным эскападам, невозмутимо пожала плечами и покинула кабинет. Но закрыв за собой дверь, тут же прильнула к замочной скважине. Зрелище, которое она увидела, вернуло ей бодрость духа, утраченную после смерти господина дю Уссуа.
Фортунат де Виньоль некоторое время бродил в задумчивости вокруг стола, как бы оценивая силы противника, затем удобно устроился в сером от пыли кресле. С выражением полнейшего безразличия на лице он налил в чашку дымящийся шоколад и, брезгливо оттопырив губу, наклонил над ним кувшинчик со сливками. К вящему ликованию Бертиль Пио, старик обратился к напитку с такой речью:
— Как, вы снова здесь, месье в белом парике?! Я, кажется, запретил вам появляться за моим столом! Это верх наглости! Как, вы смеете мне возражать?! Потише, любезный. Вам прекрасно известно, что вы мне запрещены. Моя печень и сосуды страдают от одного вашего запаха. Ищете, как бы навредить моему здоровью? Что ж, я поворачиваюсь к вам спиной.
Де Виньоль притворился, будто его до крайности интересует какой-то документ, но вскоре возобновил наступление:
— Что ты несешь, негодяй? Ах, ты явился только затем, чтобы просить у меня отставки? Скажите пожалуйста, а ведь вчера ты утверждал… Настаиваешь? Довольно болтовни! Исчезни, злосчастное питье, черт бы тебя подрал!
Бертиль Пио задыхалась от едва сдерживаемого смеха. Рука старика дрогнула, подобралась к чашке и ухватила ее за ручку.
— Что ж, сегодня я проявлю великодушие. Но это в последний раз, ты слышал? Если осмелишься появиться тут завтра, отправишься прямиком в раковину!
Фортунат де Виньоль торжественно осушил чашку, облизнул губы и вздохнул.
— Каналья, ты чертовски вкусен…
Представление закончилось, и Бертиль Пио поспешно отступила. Почти в тот же миг старик осторожно подкрался к двери, выскользнул за порог и на цыпочках двинулся по коридору к лестнице. Спустившись на первый этаж, он потрусил к вестибюлю, где располагался вход в подвал. Де Виньоль нырнул туда. На полке его поджидали свеча и коробок спичек.
Внизу, у лестницы, в нос ему ударил запах плесени. Просторный подвал с арочными сводами загромождали сундуки и поломанная мебель. Старик прошел в дальний угол к небольшой дверце, вставил тяжелый ключ в замочную скважину, повернул, толкнул дверцу и оказался в маленьком помещении, где стояло такое густое зловоние, что ему пришлось зажать нос платком.
— Немного денег, и все наладится…
Он шумно вдохнул понюшку табаку.
— А вот и вы, мои верные друзья… К ноге, ребята, к ноге… Артуа! Мортимер! Ногаре! А где Эвре? Держу пари, бегает по бабам… Ату его!
Он обращался к чучелам четырех собак — трем спаниелям и сеттеру, — стоящим у подножия алтаря, где горела свеча, лежала веточка самшита и стояли статуэтки святых. Де Виньоль заглянул в глубокое жестяное корыто, заполненное подтаявшим льдом. Там лежал окоченевший труп ретривера. Капельки воска, упавшие со свечи, застыли в воде расплывчатыми пятнами.
— Мой бедный Ангерран, держись. Еще два-три дня, и я раздобуду деньжат, чтобы заплатить таксидермисту.
И он вышел.
— Нет, я определенно должен пополнить запасы табака. Мошна не оскудеет, если я возьму шесть су. — Де Виньоль протиснулся к узкому шкафу, протянул руку, нащупал завернутый в ткань предмет, вытащил его, поставил свечу на стул, развернул сверток. Из его горла вырвалось хриплое карканье. Нет! Не может быть! Это чья-то злая шутка! Какой злодей мог… — Изыди, Сатана! Проклятье! Это… это…
Фортунат де Виньоль, охваченный ужасом, не мог подобрать слов. Весь дрожа, он уставился на омерзительный предмет.
— Нет! — взвизгнул он, содрогнулся от отвращения, забыв закрыть шкаф, быстро завернул предмет в кусок ткани, подхватил свечу и бросился вон из погреба.
Фортунат де Виньоль вернулся в свою комнату, тщательно запер дверь и положил зловещий сверток на газету «Девятнадцатый век». Он хотел было уже завернуть его в бумагу, но спохватился.
— Постой-ка, это может мне пригодиться, — с этими словами он развернул ткань, скрывавшую отвратительный предмет, и встряхнул ее над кроватью.
— На этот раз дело плохо, Фортунат, — сказал он, обращаясь к самому себе, — пора действовать, и незамедлительно, не то… Содом и Гоморра!
Он завернул в газету то, что скрывала ткань, и на цыпочках прокрался к кухне. К его удовольствию, она была пуста. Старик осторожно приоткрыл крышку мусорного бака, и через секунду сверток оказался погребен под картофельными очистками и куриными косточками.
Послышались неторопливые шаги Бертиль, и Фортунат поспешно вернулся в комнату. Сердце у него так и колотилось, но он ликовал. Благодаря своему бесстрашию он избавил домочадцев от ужасной участи. Старик не спеша вымыл руки, очищая себя от скверны, вылил мыльную воду в ведро, и тут взгляд его упал на кусок материи, которую он бросил на покрывало.
— Прекрасный шелк!.. Но следует быть осторожнее, осторожнее с роковым даром… Нужно себя обезопасить.
Он поклонился на юг, затем на восток, бормоча каббалистическое заклинание. Потом плюнул на ладони, потряс ими в воздухе, и только потом решился повязать узорчатую ткань на манер шейного платка. Погляделся в зеркало, поправил узел и, удовлетворенный, отошел к своему привычному наблюдательному пункту у окна.
Пока под недоверчивым взглядом консьержа шпион фотографировал тощую девчонку старьевщика, последний наполнял телегу добычей, изъятой из мусорных баков.
— Возвращайся в ад, к дьяволу! — пробормотал Фортунат де Виньоль, глядя на газетный сверток в его руках. И когда старьевщик, его дочь и ослик покинули двор, осторожно приоткрыл дверь.
Виктор уже собирался уходить, когда заметил странного старика, выскочившего откуда-то из-за угла ему навстречу.
— Кто это? — шепотом спросил он консьержа.
— Тесть покойного.
Виктор, протянув руку, устремился к этому персонажу, одетому по моде 1850-х годов: в приталенный сюртук желтого сукна, канареечный жилет, брюки в бело-бежевую полоску и сапоги со шпорами.
— Мои глубочайшие соболезнования, месье.
— Благодарю, вы очень добры, но не оплакивайте его: переселение в страну кротов прошло легко и безболезненно. Он лежит на льду, который меняют каждое утро.
Виктор, изумившись странным методам работы сотрудников морга, хотел было уточнить, что именно имеет в виду де Виньоль, и тут обратил внимание на его шейный платок.
«Похоже на…»
Воспоминание само пришло к нему. Слова Кэндзи насчет того куска японского шелка…
— Эти птицы… Это журавли или аисты?
— Ш-ш-ш! Не привлекайте внимание великого мастера ордена, ведь я обязан этим подарком самому Жаку де Моле.
[154] Но теперь бояться нечего, ибо я провел над ним обряд экзорцизма. Скажите, у вас есть эстампы? — прошептал он, косясь на Бертиль Пио.
— Месье Фортунат, вам нельзя выходить из своей комнаты! — воскликнула та.
— А! Вы видите? Я заложник собственного зятя и племянника. Эти папские приспешники объединились против меня. Расскажите об этом миру, месье, и достаньте мне картинки обнаженных женщин для пополнения моей коллекции. У меня имеются прекрасные образчики, художники оценили бы. Ах, шестидесятые годы! Тогда дамочки были в теле, но без капли лишнего жира! — Это был камень в огород кухарки, которая уже теряла терпение.
— Месье Фортунат…
— Иду, иду. У меня была привычка пополнять свою коллекцию у Альфреда Кадара, торговца эстампами с улицы… улицы… Не забудьте обо мне, месье! Обнаженная натура!
Тут Бертиль Пио схватила его за руку и потащила в дом.
— Окажите услугу, месье! Не забудьте: обнаженная натура! — кричал тот.
Виктор, спрятав фотоаппарат в сумку, подошел к консьержу, безмолвно наблюдавшему за этой сценкой.
— А что, тело месье дю Уссуа действительно собираются забальзамировать?
— Я же говорил вам, старик тронутый. Он имел в виду своего пса.
Виктор вышел на улицу как раз в тот момент, когда на обочине остановился экипаж. Укрывшись за телегой с гравием, он увидел двух дам в вуалях, одетых в русском стиле; одна была стройнее и ниже, другая — выше и полнее. Вслед за ними из экипажа появился мужчина, которого Виктор сразу узнал: это был кузен Антуана дю Уссуа, которого он видел в музее.
Он подождал, пока все трое скроются в подъезде, и отправился восвояси. На улице Пикардии, возле руин башни тамплиеров, воспользовался тем, что движение было не слишком плотным, и пересек проезжую часть. Какой-то велосипедист с воплем «Берегись!» едва не сбил его, но Виктор и ухом не повел: его мысли были заняты шейным платком с изображениями долгоногих белых птиц.
Бросив небрежное «Добрый день!» Жозефу, который мужественно отражал атаку трех покупателей, Виктор поднялся в квартиру Кэндзи и постучал в дверь. Открыла ему Айрис, одетая в мужское кимоно из черного шелка.
— Отец в городе, покупает книги. Я собиралась принять ванну. Что у вас за вид! Входите же. Чаю?
Виктор молча последовал за ней в кухню и, когда она наполнила чайник, не осмелился сказать, что предпочел бы кофе. Он глядел, как она достает чашки и блюдца, поправляет скатерть, садится напротив, и со стыдом вспоминал, как поначалу считал ее любовницей Кэндзи, тогда как она оказалась тому дочерью и его собственной сводной сестрой. Очаровательная, дерзкая, прагматичная и мечтательная одновременно — эта девушка была неповторима. Виктора вдруг затопила горячая волна нежности. Когда он заговорил, голос его дрогнул:
— Как это странно… что мы с вами дети одной женщины… Благодаря вам я оказался связан с Японией.
— О, моя душа — не японка! Она англичанка — в том, что касается обычаев и традиций, и француженка — если говорить об идеалах. Знаете, отец лелеет мечту оформить мне французское гражданство. И уже предпринял для этого некие шаги.
— Отличная идея! Судьба готовит нам столько удивительных открытий… Подумать только — у нас с вами есть родственники в тысяче километров отсюда, в Стране Восходящего Солнца! Таинственной, мало кому известной, хранящей свои тайны с семнадцатого века…
— Ваши сведения безнадежно устарели, дорогой брат. Япония меняется. В 1889 году император Муцухито предоставил своему народу конституцию, разработанную по принципу британской. Конечно, ситуация с положением женщин в обществе все еще очень сложна, над этим нужно работать… Пейте чай, он уже почти остыл.
— Какая эрудиция! Вы меня поражаете. Очаровательная юная девушка и…
— Очаровательная! Видимо, вы, как и большинство мужчин, полагаете, что женщине достаточно быть очаровательной — и только.
— Нет-нет, вы неправильно меня поняли. Я лишь хотел сказать, что вы весьма образованны, хотя почему-то сопротивляетесь попыткам других пристрастить вас к чтению… Скажите, вы поддерживаете отношения со своим двоюродным дедом — тем, который прислал это… как его… фуросику для Кэндзи?
— Фуросику? Тонтон Ханунори Ватанабе перешел на Ту Сторону Реки в почтенном возрасте семидесяти девяти лет.
— Сожалею. Вы покажете мне его близнеца?
— Я ничего не знаю о существовании близнеца Ханунори Ватанабе.
— Вы меня прекрасно поняли, маленькая лиса. Я имею в виду фуросику.
— Ах, я поняла. Вы хотите рассмотреть узор этой ткани и подарить Таша платье в восточном стиле.
Виктор поднял брови, наморщил лоб.
— Как вы догадались?
— Перестаньте! Вам не удастся меня обмануть! Лжец, лжец, лжец!
При каждом слове «лжец» она шутливо била его кулачком в грудь, и он рассмеялся, впервые пробуя на вкус заговор между братом и сестрой.
— На помощь! Айрис, хватит! Неужели вы сомневаетесь в моих намерениях…
— Дорогой Виктор, почему вы оправдываетесь? У вас совесть нечиста? Что ж, как бы там ни было, я вас прощаю. Пойдемте.
И они вошли в комнату Кэндзи. Пока Айрис приподнимала матрас, Виктор разглядывал висевший на стене пейзаж: черепичные крыши Парижа, освещенные утренним солнцем. Он был благодарен Кэндзи за то, что тот повесил эту работу Таша у себя в спальне.
Айрис протянула ему сверток.
— В ней завернуты бумаги, касающиеся моего рождения, и письма моей…
нашей матери.
Виктор взволнованно разглядывал фуросику, не разворачивая ткань. Ошибки быть не могло: белые аисты на ярко-бирюзовом фоне были в точности такие же, как на шейном платке Фортуната де Виньоля. Виктор молча вернул сверток Айрис, и та положила его на место.
— Благодарю вас за… содействие.
— За мое любопытство, которое позволило вам полюбоваться на такую же ткань, в какую был завернута похищенная чаша. Да-да, и не заговаривайте мне зубы, братец!
— О чем это вы? — прикинулся простачком Виктор.
Айрис только вздохнула.
— Бедняжка Таша! Она очень рассердится, когда узнает, что вы снова взялись расследование!
— Вы ей расскажете? — встревожился Виктор.
— Хм… Это зависит от вас. Я буду нема как рыба при условии…
— Это что, шантаж?
— При условии, что вы будете на нашей с Жозефом стороне.
— Послушайте, Айрис, это несерьезно. Жозеф — наш служащий.
— И я его люблю. Скажите на милость, чем служащий хуже художницы?
— Но это разные вещи, мы…
— Вы друг друга любите. И мы друг друга любим. Виктор, глагол «любить» спрягается во всех лицах, во всех временах, на всех языках.
Она ласково взъерошила ему волосы.
— Итак, нас — тебя и меня — связывает общий секрет. Не сердись, что я позволяю себе «тыкать»: англичанка во мне бунтует против французского «вы». Обещаю, я буду держать язык за зубами, ведь ты — мой старший брат, и я люблю тебя.
Виктор понял, что побежден. Айрис — такая хрупкая и такая сильная — оказалась более решительной, чем он сам. Их объединяла и делала союзниками общая черта характера: стоило им, подобно Одиссею, услышать сладкоголосых сирен, как оба они, вместо того, чтобы заткнуть уши, преисполнялись такого неудержимого любопытства, что с легкостью открывали самые неприступные двери.
— Я поддержу вас, — согласился Виктор. — В конце концов Жозеф — толковый парень.
— И талантливый писатель.
Виктор иронически усмехнулся и отправился вниз, к Жозефу, который потирал руки от радости: ему только что удалось продать неполное собрание сочинений Делиля.
[155]
— Жожо, меня заинтересовала та визитная карточка, которую вы забыли передать месье Мори. Как выглядел тот, кто ее принес?
— Ох, патрон, вы хотите от меня слишком многого! Я-то не фотограф…
— Поскольку вы намерены заниматься сочинительством, вам необходимо развивать наблюдательность.
— Меня завораживает мир фантазий, а не реальность! Дайте-ка подумать… Ну, он, кажется, был вполне обычным, ничем не примечательным посетителем. Шляпа дыней, очки… Похож на буржуа или полицейского в штатском… Не особенно любезен.
— Да уж, ценные сведения. Он что-нибудь говорил о себе?
— Нет. Только то, что хотел бы встретиться с месье Мори. А чем он занимается?
— Зоологией.
— Он что — директор зоопарка? Как, вы сказали, его зовут?
— Антуан дю Уссуа, — проворчал Виктор, устраиваясь за столом и погружаясь в изучение каталогов.
Его не переставал занимать вопрос: каким образом у старого Фортуната де Виньоля оказалась ткань-фуросику? Не мог же он быть вором, который забрался в квартиру Кэндзи и унес чашу! Но тогда кто это сделал? Кто-то из его домочадцев? С какой целью? Виктору казалось, что перед ним забрезжил огонек — слабый, дрожащий, но дающий надежду размотать цепочку странных совпадений. Он просто изнывал от желания немедленно вернуться на улицу Шарло и пролить свет на это дело.
«Не глупи, ты рискуешь нарваться на полицию, — убеждал себя Виктор, — или тебя узнает консьерж, не говоря уже о кузене из музея, которого весьма удивит твое появление».
Так и не приняв решения, что предпринять, он задумчиво рисовал на бюваре карандашом птичку — тощую, с длинными лапками. «Ты столь же хорош в дедукции, сколь в рисовании. Если это аист, то ты… семилетняя девчушка!»
Цилиндр съехал набок, галстук сполз к плечу, кадило болталось из стороны в сторону: Фортунат де Виньоль проводил каббалистический обряд, бормоча что-то себе под нос. Внезапно его ухо уловило шум на улице. Шаги. Кто-то расхаживал взад-вперед. Стремительно темнело, небо набухло тяжелыми тучами. Фортунат осторожно отодвинул занавеску и обнаружил, что посреди двора стоят двое полицейских и с ними — высоченный мужчина в брандебуре.
[156] Они о чем-то разговаривали с консьержем.
Мужчина в брандебуре поправил меховую шапку и легко взбежал по ступенькам крыльца.
— Черт побери! Гусар и с ним два шпика!
Не выпуская из рук кадила, Фортунат де Виньоль вдел ноги в растоптанные домашние туфли, прошаркал по вестибюлю, прокрался в конец коридора и одним глазом заглянул в приоткрытую дверь гостиной.
Его дочь Габриэль лежала на диване, прижав руки к сердцу. Люси, ее камеристка, горестно поджав губы, промокала ей глаза платочком.
— Вавилонская блудница! — прошипел Фортунат; он не выносил Люси.
Алексис Уоллере и Шарль Дорсель стояли у камина, повернувшись к человеку в брандебуре. Тот подошел к безутешной Габриэль.
— Примите мои искренние соболезнования, мадам дю Уссуа, и позвольте представиться: инспектор Лекашер. Понимаю, вам сейчас очень тяжело, но я задам всего пару вопросов. Простая формальность. Итак, ваш супруг ушел из дома в прошлую пятницу довольно рано?
— Да, он всегда выходит рано. В тот день он должен был забрать документы из музея, а потом уехать в Медон на четыре дня. С профессором Гере. Я поднялась в восемь. Мы позавтракали.
— Мы?
— Месье Уоллере, месье Дорсель, мадемуазель Робен и я. Мой отец не выходил из своей комнаты, он очень стар и немного не в себе. Он ни с кем не общается, кроме Бертиль Пио, нашей кухарки. Она готовит ему отдельно.
Фортунат, завернувшийся в тень, как в плащ, возмущенно сплюнул.
«Вот уж поистине дочерняя благодарность! Назвать меня сумасшедшим! Висельники! Тратят мои деньги, а мне приходится их выпрашивать… А этот жулик в мундире, чем он промышляет?»
Инспектор вытащил из кармана коробочку с леденцами и машинально переложил их из одной руки в другую.
— Что вы делали потом?
— Потом была примерка у… О, это невыносимо. Я так устала! Люси…
— Я вышла около девяти, — заговорила Люси Робен, — именно я приношу хозяину корреспонденцию. В одиннадцать я встретилась с мадам Габриэль на улице Рише — у мадам Кусине. Мадам заказала ей два платья на весну. Мы перекусили в городе и отправились за покупками. К семнадцати часам мы вернулись. Месье Уоллере и месье Дорсель работали здесь над диссертацией. Августина — это горничная — подала нам легкий обед, после чего я доехала на фиакре до улицы Виктуар — там у меня была назначена встреча с ювелиром мадам. Я вернулась к ужину. Боже правый! Бедный месье дю Уссуа! Подумать только, пережить столько опасностей в дальних странствиях и быть убитым в Париже! Как это ужасно! Инспектор, быть может, на этом закончим? Мадам устала…
— Разумеется, — ответил инспектор, — мое почтение, дамы.
Фортунат де Виньоль потрясенно сглотнул.
«Антуан убит?! Невероятно. Черт возьми, проклятие сделало свое дело».
— Инспектор, — произнес Алексис Уоллере, — вы подозреваете в убийстве моего кузена кого-то из членов семьи?
— Нет, конечно же нет, месье. Но дело в том… Понимаете, я должен составить полный отчет. Судмедэксперт установил, что смерть наступила примерно за шестьдесят два часа до момента обнаружения тела. Это отсылает нас к пятнице. Определить точное время смерти проблематично. Итак, в пятницу вы были здесь…
— Месье Дорсель и я весь день разбирали записи Антуана.
— Позвольте возразить, Алексис, — заметил Шарль Дорсель, — утром вы отсутствовали.
— Ах, да! Так и есть. Я встречался с коллегой на бульваре Сен-Жермен. Он подтвердит.
— А как насчет вас, месье Дорсель? — повернулся к нему инспектор.
— А я был тут. Спросите у прислуги.
— Хорошо, хорошо, — одобрительно пробормотал инспектор, засовывая леденцы обратно в карман, — не буду вам больше докучать. По моему мнению, месье дю Уссуа стал жертвой гнусного преступления, и…
— Прошу прощения, — перебил его Алексис Уоллере и распахнул дверь.
За ней кто-то стоял, вжавшись в стену.
— Фортунат, что вы тут вынюхиваете?
Фортунат де Виньоль подскочил, как ужаленный, и его шейный платок упал на пол. Он прижал кадило к груди и медленно попятился. Алексис расхохотался.
— Что это за запах? Никак, опиум?
— Смейтесь-смейтесь, господин фанфарон, — огрызнулся Фортунат, — хорошо смеется тот, кто смеется последним.
— Мы об этом еще поговорим, а сейчас вам пора спать, — сурово произнес Алексис, беря Фортуната под локоть.
— Изыди, интриган! Это все из-за той проклятой штуковины! К ней вообще нельзя прикасаться, слышишь? Господи, спаси и помилуй Твоего смиренного раба! Помоги мне найти способ уберечь всех нас от колдовства!
Фортунат почти беззвучно прошептал последние слова: ему не хватало воздуха. Он развернулся и поковылял прочь.
— Эй, Фортунат, постойте! Вы уронили…
В ответ раздался скорбный глас:
— Господи, скажи им, чтобы они никогда не трогали эту вещь! Скажи им!
Алексис наклонился, подобрал платок, глянул на него, скомкал и небрежно сунул в карман.
— Старик окончательно свихнулся, — тихо произнес женский голос.
Алексис вздрогнул и обернулся.
— Вы были здесь?
— Да. Инспектор решил сделать перерыв.
— Как Габриэль?
— Прилегла. Я распорядилась насчет церебрина.
…Фортунат проснулся с ощущением, что ему трудно дышать. В первый момент он подумал, что это любимый ретривер лежит у него на груди, и ему даже показалось, что он слышит шумное дыхание собаки. Старик хотел приласкать Ангеррана, но протянутая рука шарила в пустоте. Только тогда он вспомнил, что его верный друг лежит в подвале, на льду.
«Я последний».
Внезапно он почувствовал себя одиноким и смертельно уставшим. Волна ностальгии подхватила его.
«Ах! Если бы молодость знала, если бы старость могла!
[157]»
Что за прелесть была эта Аделина, когда он встретил ее в театре на премьере «Чаттертона»!
[158] А очаровательная Мими Роз из «Опера Комик»? Она так мило пела этот романс…
Уж пожить умела я!
Где ты, юность знойная?
Ручка моя белая!
— дребезжащим голосом протянул Фортунат и принялся подсчитывать свои неисчислимые победы на любовном фронте, пока не добрался до скорбного поражения, после которого оказался в плену позднего брака с Мелен ле Эрон, принесшего неблагодарную и строптивую дочь. Воспоминание об Эрон
[160] почему-то вызвало у него какое-то неприятное воспоминание. Цапля… аист… Кусок шелковой ткани, из которого он сегодня изгнал дьявола и сделал себе шейный платок. Где он?
Старик вылез из постели, зажег свечи, расставленные под профилем Людовика XVI, перетряхнул брошенную на ковре одежду. Ничего. Платок с аистами исчез.
Шорох за дверью. Фортунат замер.
— Кто там? — выдохнул он.
Тишина.
— Я знаю. Это он, — хриплым голосом произнес Фортунат.
Он крался по темной улице, тяжелая сумка оттягивала правое плечо. Неверный свет свечи падал на засыпанную мусором мостовую. Ноздри щекотал затхлый запах. Это убийство далось ему куда труднее, чем другие. Отдаться на волю Всевышнего оказалось так же трудно, как когда-то подвергнуть себя бичеванию. Он умел подвергать плоть умерщвлению, и рука его не дрожала — не пристало испытывать робость тому, на чьи плечи Небеса возложили столь священную миссию. Но сколько же слез он пролил перед тем, как принять свою избранность, какие бури бушевали в его душе! Иногда божественное откровение разжигало в нем ярость, звучало, как приказ. Подчиняться ему сделалось его моральным долгом. Но сегодняшнее убийство… Нет, оно далось ему непросто.
Вытянув шею, устало моргая, он вышел к реке, вдоль которой шуршали ветвями деревья. Тихое дыхание спящего города нарушали лишь плеск воды у опор моста да скрип баржи, пришвартованной к причалу, где прачки стирали белье.
Мимо проплыла лодка, направляясь к ратуше, и громкий стук весел заглушил тихий всплеск.
Он испытывал невообразимое облегчение оттого что удалось преодолеть отвращение. Однако дело еще не было завершено: предстояло замести следы.
Он шел довольно долго, пока не очутился в глубине заросшего одуванчиками двора.
Пещера. Влажная, зловонная. Ходили слухи, что во время строительных работ на территории, принадлежавшей когда-то храмовникам, здесь нашли гроб с телом человека в одеянии тамплиера. Судя по аграфу,
[161] он был главой ордена.
Миссия еще не завершена. Но она станет великой победой.
Внезапно что-то задело его ногу. Крыса! Она проворно нырнула в дыру между камней. Идеальный тайник!
Он затолкал туда сумку, набрал полные пригоршни глины и замазал ею щель. И вышел на свежий воздух.
Силуэты двух человек вырисовывались на фоне стены церкви Сен-Жермен-л’Оксеруа. Мужчина осенил себя крестным знамением, бросил монетку в кружку для пожертвований, взял свечу и преклонил колени в молитве.
— Господи, Твое Евангелие да направит меня по пути истинному. Господи, вооружи Твоего посланника! Да выжгу я ту язву, что обезобразила Твое творение.
Прислонившись к колонне, он вынул из кармана «Священную историю» Теодора Бенара и принялся читать вслух:
— «И взял Господь глины, и создал тело первочеловека, и вдохнул в него бессмертную душу, и дал ему имя: Адам…»
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Среда, 13 апреля
Стая чаек кружила над кучей мусора на набережной Жевр, лениво выбирая рыбьи кости. Одна из птиц склонила голову, разглядывая что-то в воде. В бледном свете зари чайка увидела какой-то темный предмет; быстрые волны словно передавали его друг другу и он, чуть покачиваясь, уплывал все дальше. Чайка взмахнула крыльями, взлетела, сделала несколько кругов. Она не решалась сесть на то, что казалось ей человеком. Расклевать эту тряпичную кожу, под которой скрывается плоть? А если человек вовсе не мертв? Слишком опасно. И чайка вернулась к куче отходов, течение же медленно несло труп к мосту Менял.
Легкий утренний свет окрасил стены мрачной каморки в розовато-золотистый цвет. Руки, перелистывающие тетрадь, исписанную детским почерком, остановились на странице, прикрытой листом промокательной бумаги.
Господи, Ты воздвиг на моем пути неисчислимые препятствия. Испытываешь ли Ты мою преданность Тебе? Я провел эту ночь в молитвах, я словно птица, залетевшая под крышу дома. Меня не сломить. Отныне и впредь я буду бороться со злом. Алчный союзник, оказавший мне помощь, горит в геенне огненной. Что до второго, то несколько денье развязали ему язык, и он поведал мне, как найти клеймо дьявола. Он никому не расскажет, страх заставит его молчать… Я обнажил меч, я готов к битве, Господи, призри посланника Твоего…
Если бы кто-то сказал Жозефу, что он когда-нибудь будет вешать месье Мори лапшу на уши, лишь бы улизнуть из магазина, юноша бы в это ни за что не поверил.
Но теперь молодой человек приготовил для хозяина заранее придуманную историю; боясь выдать себя, он зарылся лицом в носовой платок и начал так:
— Бесье Бори, бесье Виктор попросил бедя…
— Я не понимаю ни слова из того, что вы говорите. Уберите платок. У вас что, насморк?
— Нет, — ответил Жозеф, густо покраснел и спрятал платок в карман. — Месье Виктор попросил меня забрать Лафонтена, которого мы отнесли переплетчику две недели назад. Можно мне сбегать за ними на улицу Месье-ле-Пренс?
— Тогда захватите заодно мой каталог для месье Андрези. И поторопитесь, я должен уйти к десяти. У меня важная встреча.
Жозеф быстро влез в куртку, нахлобучил картуз. На кухне громыхала посуда. Значит, Эфросиньи нет дома. Успокоенный, он ушел. Жозеф хотел заскочить в свою квартиру на улице Висконти, чтобы убедиться, что там все в порядке, но едва вошел, как услышал стук в дверь.
— Вас никто не видел? — взволнованно спросил он у Айрис.
— А если и видел, что с того? Мне надоело играть в заговорщиков, можно подумать, мы террористы!
— Входите же!
— Ого, сколько книг и газет! Это все ваши?
— Они достались мне от отца.
Жозеф хотел уже провести девушку в свою комнату, но понял, что это неприлично. В комнату Эфросиньи? Еще того хуже. Остается только кухня.
Айрис с любопытством оглядела раковину, плиту и чугунный котелок, а потом попросила показать ей комнаты.
— Было бы разумнее… — замялся Жозеф. — Ну, я… Лучше…
Она наградила насмешливым взглядом.
— Жозеф, неужели в комнате опаснее, чем на кухне? — и побежала в комнату Эфросиньи.
— Это не спальня, а просто какая-то шкатулка! Ваша матушка все обила кретоном!
[162]
— Это недорогой и прочный материал, — пояснил Жозеф, с облегчением отметив, что в комнате чисто. — Подождите! — крикнул он, но девушка уже впорхнула в его комнату.
Сгорая от стыда, он вошел следом. Его глазам предстало ужасное зрелище: разоренная кровать, скомканные подушки, на тумбочке — огрызок яблока и щербатая расческа. Восклицание «Так вот где вы мечтаете обо мне!» его добило. Айрис остановилась, восхищенно созерцая то, что казалось ей скромной обителью парижского отшельника.
— У нас мало мебели, это потому что мало места, вообще-то мы с мамой не спартанцы…
— Мне нравится, когда дома только самое необходимое, — заметила Айрис, плюхнувшись на кровать — единственный стул утопал под грудой одежды.
Смущенный Жозеф приоткрыл окно, не уверенный, что в комнате достаточно хорошо пахнет.
— Перестаньте суетиться, у меня уже голова закружилась.
— Я… обещал патрону вернуться через полчаса.
— Вы его боитесь или меня? Ну же, идите сюда.
Он несмело приблизился к кровати, и Айрис, схватив его за руку, усадила рядом.
Красный как рак, Жозеф искал пути к отступлению.
— Я делаю успехи в английском, — произнес он, — сейчас учу неправильные глаголы:
arise, arose, arisen, awake…
Он больше ничего не успел сказать. Их губы встретились, пальцы переплелись. Прежде чем он осознал, что происходит, его рука сама принялась расстегивать корсаж Айрис. Оба тяжело дышали.
И тут в сознании Жозефа, словно бог из машины,
[163] словно фараон, отсылающий Моисея прочь, возник образ матери. Вид у нее был весьма грозный. Он вскочил.
— Право, я должен бежать! — с жаром произнес он.
Айрис весело расхохоталась и протянула ему картуз, упавший на пол.
— Любимый, вы должны во что бы то ни стало убедить Кэндзи, что мы… что вы…
— Я попытаюсь. Вы возвращаетесь домой?
— Нет, я соврала отцу, что проведу час в Сен-Манде, так что он думает, что я ем пирожные в компании мадемуазель Бонтам. Я отправлюсь по магазинам, но все время буду думать о вас.
Жозеф бежал по улице, и ему казалось, что он парит над крышами Парижа.
Он купил у мальчишки-газетчика «Пасс-парту» и бодрым шагом вошел в книжную лавку, где его с нетерпением поджидал Кэндзи.
— Вот те на! Патрон, да вы прифрантились! Вот это галстук! А ботинки! Сияют так, что мне аж завидно. И туалетная вода… Лилия?
— Лаванда, Жозеф, лаванда.
Кэндзи поправил черный цилиндр, натянул перчатки цвета свежего масла, взял трость, увенчанную набалдашником в виде лошадиной головы и, подмигнув бюсту Мольера, направился к двери.
— Я ухожу. Не забудьте, в три часа мы встречаемся на улице Дрюо с полковником де Реовилем, это новый муж мадам де Бри. Ему нужен совет насчет приобретения манускрипта с миниатюрами. Затем он проводит нас на улицу дю Буа — в свой особняк, где хранит коллекцию сочинений на военные темы. Я рассчитываю заполучить их по сходной цене.
— Можете рассчитывать на меня, патрон!
— Кстати, а что Лафонтен, за которым вы ходили? Жозеф смущенно покраснел и невнятно пробормотал:
— Переплетчик не успел, он… э-э-э… слишком много заказов, он очень сожалеет.
Кэндзи удивленно взглянул на Жозефа, но решил, что разберется с этим позже.
Как только за ним, звякнув колокольчиком, закрылась дверь, Жозеф, воспользовавшись отсутствием клиентов, развернул газету. Его внимание привлекла заметка за подписью Вирус.
ТРУП В ЛЕ-АЛЬ
Установлена личность человека, чье тело было обнаружено недалеко от павильонов Бальтара господином Риве в понедельник в 11 часов вечера. Погибший — известный зоолог Антуан дю Уссуа — не так давно вернулся во Францию после длительной научной экспедиции на остров Ява. Он был убит выстрелом в упор из револьвера. Инспектор Лекашер допросил родственников жертвы и установил, что все они вне подозрения. Итак, мы имеем дело с одним из преступлений, число которых непрестанно…
Жозеф в смятении скомкал газету, не дочитав статьи.
«Зоолог! Дю Уссуа! Это же его имя стояло на той визитной карточке. Убит… А месье Легри расспрашивал меня вчера о нем. Похоже, патрон напал на след, это как пить дать. Если он надеется, что сможет, обвести меня вокруг пальца…».
Ему пришлось отвлечься, чтобы продать «Непосредственные данные сознания» Бергсона
[164] и отделаться от печальной дамы, которая просила посоветовать ей книгу, возвращающую бодрость духа.
Тут вошел Виктор.
— Патрон, я похож на дурака? — с места в карьер набросился на него Жозеф.
— Да нет… не сказал бы.
— Тогда почему вы скрыли от меня, что этого вашего зоолога прикончили? — Жозеф потряс газетой перед носом Виктора.
— А, так вам уже все известно, — вздохнул тот, — и Шерлок Пиньо настаивает на сотрудничестве…
— …С Шерлоком Легри. Разумеется.
— Я как раз собирался просить вас о помощи.
— Так я вам и поверил! Ладно уж, я вас слушаю, месье Легри. Весь внимание.
— В этом месяце в Шотландии было совершено убийство. Жертва, леди Пеббл, знакомая месье Мори. Это она прислала ему чашу, которую унесли воры. Предмет этот не имеет очевидной ценности, однако, по всей вероятности, именно из-за него жестоко убиты Антуан дю Уссуа и леди Пеббл. А теперь слушайте внимательно, Жозеф. Я, кажется, знаю, где сейчас эта чаша, поэтому мне нужна ваша помощь. Вчера я видел одного старика, который может быть замешан…
— Патрон… я должен вам кое в чем признаться. Это не дает мне покоя. В пятницу вечером я закрывал магазин и уже вставил ключ в замочную скважину, когда какая-то женщина оступилась и упала. Я бросился к ней, а когда вернулся — связка моих ключей лежал на земле.
— Вас обвели вокруг пальца! Та женщина — наверняка сообщница вора. Или это просто совпадение?
— Не верится. Я, правда, никого кроме нее не видел, но спрятаться тут проще простого.
— А женщина, как она выглядела?
На лице Жозефа появилось виноватое выражение.
— Это вторая вещь, которая меня беспокоит. Помните, вас по телефону вызвали в Нейи? Так вот, тогда звонила тоже женщина. Теперь я думаю, что ей нужно было отослать вас подальше, вот она и назвала неверный адрес.
— С этим разберемся позже. А сейчас, прошу вас, бегом на улицу Шарло, в дом двадцать восемь. Это около рынка Анфан-Руж. Принесите…
— Анфан-Руж?
— Знаете, где находится Консерватория искусств и ремесел?
[165] Так вот, это не там. Пойдете от нее вниз по улице Реамюр, потом — по улице де Бретань и придете на улицу Шарло.
Виктор открыл ящик стола, выудил оттуда стопку открыток, отобрал несколько и сунул в конверт.
— Передайте это для тестя Антуана дю Уссуа, его зовут Фортунат де Виньоль. Скажете — от фотографа.
— Патрон, но что будет, когда месье Мори заметит, что…
— Ничего он не заметит. Они в двух экземплярах. Ну, или придумаете что-нибудь. Помашите у этого де Виньоля перед носом открытками, и пусть расскажет, где спрятана чаша, которая была завернута в кусок японского шелка, который он носит в качестве шейного платка. И еще постарайтесь выяснить, действительно ли он не в своем уме.
— Проще некуда. Когда мне идти?
— Вам уже пора быть в пути.
— Но я не могу! Ровно в три я должен встретиться с месье Мори в аукционном доме!
— Сейчас еще нет и одиннадцати.
— А когда я пообедаю?
— Это меня не волнует. Вот, я набросал на скорую руку, как выглядит чаша: череп обезьяны на металлическом треножнике, украшенном бриллиантами. Жозеф, я в вас верю. Совать нос не в свои дела — ваше призвание.
«Ничего подобного, наглая клевета!», — возмущенно повторял про себя Жозеф, ожидая экипажа. Он оглянулся, зашел за дерево и вскрыл конверт.
То, что он увидел, заставило его задержать дыхание.
— Разрази меня гром! Вот это да…
Перед домом номер 28 на улице Шарло стояла телега, заваленная мебелью и тюками. Два крепких молодца с красноватыми физиономиями, кряхтя, тащили через двор пианино, носильщики сновали туда-сюда с ящиками в руках.
— Эй, вы там! Вы куда?
Путь Жозефу преградил маленький человечек.
— Я носильщик, — нашелся юноша и в доказательство своих слов схватил коробку со скатертями и салфетками.
Прижав ее к груди, он решительно двинулся к подъезду, ожидая, что его вот-вот остановят. Но ничего подобного не произошло. Жозеф беспрепятственно пересек холл, оставил там коробку и взбежал по лестнице, где столкнулся с горничной. У нее в руках был поднос с чайными чашками, из них поднимался пар.
— Прошу прощения, мадемуазель, у меня назначена встреча с месье де Виньолем, где мне его найти?
— На втором этаже. Я вас провожу.
— А еще я хотел бы принести семье свои соболезнования.
— Месье Уоллере и месье Дорсель поехали распорядиться насчет церемонии. К мадам приехал доктор. Простите, я спешу, мадам нужно выпить чаю, прежде чем отправиться на похороны. Идите по коридору, комната месье де Виньоля вон там, в глубине.
Это был не дом, а настоящий лабиринт. Жозеф шел и шел, а коридор все не кончался. Про какую комнату говорила горничная? Слева — пять дверей, справа — одна.
Он постучал наугад, и до него донеслось приглушенное: «Изыди, Сатана!». Жозеф прилепился губами к замочной скважине.
— Месье де Виньоль? Меня прислал к вам вчерашний фотограф. Он передал вам несколько открыток, я уверен, они придутся вам по вкусу.
— Подсуньте под дверь.
Жозеф наклонился и едва успел пропихнуть конверт в щель, как его тотчас утянули в комнату невидимые пальцы.
— Дьявол! Отлично! — воскликнул голос. — Входите!
Жозеф услышал, как за дверью двигают какую-то тяжелую мебель, затем — звук падения чего-то увесистого и скрип ключа в замочной скважине. В следующее мгновение он увидел хозяина комнаты: морщинистое узкое лицо, напоминающее мордочку хорька, и маленькие, живые глазки.
— Входите же, скорее. За мной охотятся, но я еще в состоянии выдержать осаду. Еще есть такие?
— Надо поискать, — невозмутимо ответил Жозеф, переступая порог.
— Дайте мне адрес этого достойнейшего мастера.
— Мастера?
— Фотографа.
— Улица Сен-Пер, дом восемнадцать, — проворчал Жозеф и тут же пожалел о том, что выдал ценные сведения.
На полу валялась бронзовая статуэтка Дианы, массивный буфет отодвинут от стены. Видимо, хозяин комнаты использовал его, чтобы загородить дверь.
— Черт побери! Как подчеркивают ее аппетитную попку эти черные чулки! Имя этого чудесного создания?
— Лa Гулю. Танцовщица из «Мулен Руж».
— Она и в самом деле такая сдобная штучка, эта плутовка? Ох, все бы отдал, чтобы ее сочные прелести согрели меня холодной ночью! Лучше сделаться добычей этой прекрасной вампирши, чем отвратительного Жака де Моле.
— Он вам угрожает? — поинтересовался Жозеф.
— Глупый мальчишка! Он жаждет моей смерти и вечного проклятия моей души с тех самых пор, как я вышел на след его сокровища! Вот и вчера ночью он слонялся тут, даже пытался стащить мой шейный платок. Если бы верный Ангерран не защитил меня, если б не натолкнул на мысль забаррикадироваться мебелью…
«Жак де Моле, Ангерран,
[166] сокровища… Вот незадача, похоже, этот старый хрыч окончательно спятил!», — подумал Жозеф, лихорадочно соображая, как ему улизнуть.
— И где же можно встретиться с Ангерраном? — очень вежливо спросил он.
— О, я вас отведу к его ложу. Как раз пора его освежить.
И Фортунат де Виньоль, не обращая внимания на растерянность собеседника, приоткрыл дверь и высунул нос в щель.
— Бдительность — прежде всего. Надо проверить, свободен ли путь. Не хватало еще наткнуться на какого-то из этих негодяев… Иди за мной и помалкивай!
Он на цыпочках двинулся по коридору, Жозеф — за ним.
— Пока эта неряха закупает дичь на рынке, мы возьмем все, что нам нужно.
Они проникли на кухню. Старик ткнул пальцем в кусок льда в раковине.
— Хватай его, и бежим, — выдохнул он на ухо Жозефу.
Юноша коснулся прозрачной голубоватой поверхности и тут же отдернул руку.
— Пальцы сводит!
— Эх, ты, неженка!
Фортунат стянул с себя жилет, завернул в него глыбу льда, сунул Жозефу и подтолкнул его к узкой лестнице.
Когда они оказались в темном подвале и дрожащее пламя свечи осветило труп собаки — на вонь уже слетались мухи, — Жозеф почувствовал, что его мутит. Слабым голосом он спросил:
— Что… это такое?
— Доблестный рыцарь, перед тобой Ангерран, шестой обладатель сего славного имени!
— М-м… Вам не кажется, что благоразумнее было бы предать его тело земле — и без промедления, учитывая, в каком он состоянии? — произнес Жозеф, зажимая нос пальцами.
Фортунат де Виньоль задумчиво поскреб затылок.
— Видишь ли, я собирался сделать из него чучело, как поступил с остальными своими вассалами.
Тут Жозеф увидел четырех собак со стеклянными глазами, неподвижно сидящих у алтаря.
— Боюсь, уже поздно, — покачал головой он. — Из него теперь и прикроватного коврика не получится.
— Верно… Но мой верный друг заслуживал того, чтобы оказаться в компании своих соратников. Что ж, тогда похороним его!
И Фортунат, схватив лопату для угля, прислоненную к стене, вручил ее
юноше.
Жозеф совершенно выбился из сил, вскапывая утоптанный земляной пол подвала, и весь взмок. Он мысленно проклинал отправившего его сюда Виктора. Наконец Фортунат счел, что яма достаточно глубока, бережно завернул усопшего друга в желтый жилет, опустился на колени и положил его на дно.
— Прощай, мой храбрый вояка. Если бы злодеи, что морят меня голодом, оставили мне хоть немного монет, твои останки были бы нетленны. Небо отказало мне в этой милости, зато побудило меня избавиться от этой проклятой чаши, украшенной изображением кота — сатанинского животного, столь любимого тамплиерами! Благодарю Тебя, Боже!
— Что еще за тамплиеры? — осведомился Жозеф, решив, что странный старик имеет в виду жителей квартала Тампль.
— Это рыцарский орден, основанный во время Первого крестового похода, дабы защитить пилигримов в их паломничествах по святым местам на Ближнем Востоке. Но воины-монахи, прельстившись властью и богатством, провалили миссию и стали исповедовать культ дьявола. Вот почему добрый наш король Филипп Красивый приказал их сжечь.
«Боже, — промелькнуло в голове Жозефа, — да он окончательно спятил!»
— Сокровище, о котором вы говорили… Оно принадлежало им?
— Молчи, глупец! Когда я откопал его, то передал потомкам Людовика Восемнадцатого, чтобы они восстановили монархию.
— А чаша с орнаментом из кошачьих голов… Она случаем не из черепа обезьяны сделана?
— Юноша, если бы ты не принес мне этот роскошный подарок… эту Ла Гулю, и не помог похоронить беднягу Ангеррана — я бы решил, что ты шпион де Моле!
— Ну нет, месье, вы уж меня не подозревайте понапрасну!
— Я своими глазами видел, как ее забрал старьевщик.
— Старьевщик? А где он живет? Небось, у черта на рогах?
— Понятия не имею. Может, неряха вам подскажет. Собирайтесь, нам пора обратно.
Мари Торн?
[167] Наверное, это одна из служанок, решил Жозеф.
Поднявшись по лестнице, он столкнулся нос к носу с той самой горничной, что относила лекарство хозяйке, и спросил ее про Мари Торн. Та скорчила гримаску.
— Я здесь новенькая, не всех еще знаю по имени. Обратитесь лучше к Бертиль Пио, она сейчас стряпает обед.
Полная блондинка, сновавшая между кухней и погребом, была удивительно похожа на Эфросинью Пиньо, разве что выглядела лет на десять моложе.
— Прошу прощения, мадам, я насчет Фортуната…
— Держу пари, это он стащил у меня лед!
— Он… э-э-э… упоминал о горничной Мари Торн, и я…
— Нет здесь никаких нерях! Ох, у старика с головой день ото дня становится все хуже. Если так будет продолжаться, его придется отправлять в дом умалишенных. Нет здесь нерях, вся прислуга у нас очень аккуратная!
— Вы правы, мадам. Но, может, вы сумеете мне помочь. Я провожу опрос о вывозе ненужных вещей, и мне бы найти старьевщика, который приходит к вам. Я спрашивал консьержа, но…
— Ох уж этот консьерж! Чем меньше работает, там больше устает. Я вам вот что скажу: отправляйтесь к Леонару Дьелетту, он приходит сюда каждое утро. На редкость хороший человек. Живет на улице Доре. Вы меня простите, мне нужно потроха дожарить.
Консьерж так самозабвенно бранил грузчиков, что Жозеф беспрепятственно выскользнул на улицу.
Эдокси Аллар, раскинувшись на постели, любовалась подтянутой, поджарой фигурой Кэндзи. Он быстро одевался, и лицо его, как всегда, было непроницаемо.
— Чем собираешься заняться сегодня? — спросила она.
— Меня ждут в аукционном доме. Завтракать не останусь, я насытился вами.
Она рассмеялась, скрывая разочарование. Кэндзи был к ней внимателен и дарил подарки. Но в последнее время она чувствовала с его стороны некоторое охлаждение.
Эдокси оперлась на локоть, не замечая, что с ее плеч соскользнула простыня.
— Останься, — промурлыкала она.
Кэндзи вызывал у нее сильнейшее желание. Когда его не было рядом, воспоминания о нем мешали ей принимать ухаживания других мужчин.
Он тихонько вздохнул и мягко произнес:
— Эдокси, я большую часть жизни провел в одиночестве. Таков уж я есть, и теперь уже бесполезно пытаться это изменить.
— Интересно, все твои соотечественники так же бесчувственны?
— Я не бесчувственный. Что до японцев, то о них ничего не могу сказать: слишком давно я покинул родину.
— Но все равно следуешь традициям. К примеру, ненавидишь число четыре. А еще заставил меня передвинуть кровать, потому что она стояла изголовьем на север.
— Рот женщины не закроешь на замок.
— Опять эти твои изречения! — воскликнула Эдокси и запустила в него подушкой.
Кэндзи подавил смешок.
— Это народная мудрость. — Он подошел к ней. — Учитесь наслаждаться каждым мгновением, дорогая. Давайте лучше помолчим, тогда у нас не возникнет разногласий.
Эдокси прижалась к его груди. Она готова была мириться со странностями Кэндзи, лишь бы он время от времени приходил к ней. Их связь была достаточно эфемерна: они встречались лишь тогда, когда этого хотелось ему.
— Ты когда-нибудь любил?
Кэндзи молча смотрел на нее. Он понимал: ей хочется, чтобы он полюбил ее, но, увы, после смерти Дафнэ он забыл язык любви.
Эдокси отстранилась, взглянула на него из-под прикрытых век.
— Дорогая, у нас чудесные отношения, — ответил он на ее невысказанный вопрос. — Давайте не будем их портить.
— Прости.
— Не извиняйтесь. И давайте оставим эту тему. До свиданья, дорогая.
Полковник де Реовиль лихо подкрутил ус, а это означало, что он чрезвычайно доволен. Он читал только газеты — финансовые сводки и некоторые статьи из «Ревю иллюстрэ», но коллекционировал старинные рукописи: манускрипт XV века, который полковник рассчитывал заполучить, мог стать жемчужиной его коллекции. Он будет показывать свое сокровище гостям, когда настанет время для кофе: его новая жена вбила себе в голову, что непременно следует устроить салон в их квартире на улице Барбе-де-Жу. Она уже подружилась с Полем Деруледом, основателем Лиги патриотов, Эдуардом Дрюмоном, графиней де Мартель — той, что подписывает свои прелестные светские романы псевдонимом Жип,
[168] и еще множеством известных художников и карикатуристов. Так что у полковника были основания горячо благодарить Кэндзи Мори.
«За сумму, которую он заплатил за эту ерунду, я бы мог снять себе квартиру», — думал Жозеф, разглядывая посетителей аукционного дома, толпившихся у двери. Он приметил румяного, недовольного щеголя — Бони де Пон-Жубера, его держала под руку молодая женщина с округлившейся фигурой.
— Ну и дела! Валентина! — тихонько воскликнул Жозеф. Его сердце дрогнуло, когда он вспомнил свои эротические мечтания об очаровательной племяннице графини де Салиньяк. Теперь они рассеялись без следа: Валентина вышла замуж за этого хлыща, а Жозеф встретил настоящую любовь. Что ж, ему отрадно было видеть, что мадам де Пон-Жубер уже беременна.
Вслед за полковником и Кэндзи он прошел мимо зала номер шестнадцать, где уныло лежали на полках «соловьи», и дал себе слово, что вернется в ближайшую пятницу к изучению приемов некоторых аукционистов, потому что это, как выяснилось, позволяет порой перевести совершенно безнадежные лоты в разряд весьма ценных. Для его будущей карьеры писателя-романиста это, безусловно, тоже окажется весьма полезным.
Ливень хлестал по мостовой. На улице Друо образовался затор из фиакров и купе.
[169] Кэндзи вздохнул:
— Когда же наконец покончат с этими пробками? Про метрополитен нам твердят уже лет двадцать, не меньше, а воз и ныне там! Почему бы не использовать в Париже пневматические трубы?
— Те, что приспособлены для доставки телеграмм? Вы шутите!
— Ничуть. Я современный человек и верю в прогресс. Недавно я читал, что некое научное общество в Гамбурге разрабатывает средство передвижения, которое позволит перемещаться со скоростью два километра в минуту! О таком только мечтать можно!
— Я бы все-таки предпочел лошадей, — сухо ответил полковник.
Он нежно погладил рукопись.
— Прогресс, регресс… Знаю одно: в этом аукционном доме хранится столько грязных предметов, что после его посещения недолго и заболеть. Хорошо бы тут все продезинфицировать. Впрочем, наша столица и сама напоминает Авгиевы конюшни. А все из-за иностранцев, которых тут развелось пруд пруди. Вот, к примеру, полюбуйтесь!
Под проливным дождем от одного прохожего к другому метался мальчуган в замызганной шапчонке, украшенной потрепанным букетиком шерстяных цветов.
— Всего двадцать су за эту чудесную статуэтку, мсье… Это же совсем недорого… Пусть будет пятнадцать су…
Жозеф залился краской до самых ушей и взглянул на Кэндзи. До полковника внезапно дошло, что он ляпнул лишнее.
— Дорогой месье Мори, конечно же, я вовсе не имел в виду вас! Вы не имеете ничего общего с теми людьми, которые приезжают сюда и едят наш хлеб.
— Поставьте себя на их место, — невозмутимо отвечал Кэндзи. — Черная икра не всем по карману.
Движение возобновилось, колесо кареты попало в колею, обдав грязью маленького итальянца, который, не обращая на это внимания, продолжал уныло тянуть:
— Прошу вас, мсье, двадцать су за чудесную статуэтку… У меня есть мадонны, есть наполеоны… Это настоящий шедевр… купите, мсье! Две статуэтки за тридцать су, прошу вас…
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Среда, 13 апреля, вечер
Он довольно долго стоял в начале пустынной улицы, в нескольких метрах от питейного заведения. Сквозь запотевшие стекла были видны силуэты людей, облокотившихся на стойку. Какая-то женщина приоткрыла дверь, выпустив на улицу смех и крики. Он вжался в стену. Женщина застыла на пороге, бормоча что-то под нос. Потом, хрипло расхохотавшись, направилась неверной походкой к товарной станции, куда поминутно прибывали поезда, выпуская клубы грязного дыма в белесое небо. «Посланник» продолжал наблюдать за кабаком.
Наконец оттуда вышел, пошатываясь, мужчина, и направился в ту же сторону, что и женщина. «Посланник» следовал за ним по пятам. Прямо перед ними вырисовывалось приземистое здание газового завода, как в «Бургграфах» Гюго. Он глубоко вдохнул, задержал дыхание и приблизился к мужчине:
— Леонар Дьелетт?
— Угу.
— Вчера, на улице Шарло, вы подобрали предмет, который выбросили по ошибке.
— А, точно. Я утром же велел Иветте вернуть кесарю кесарево.
— Уверены?
— Ну, разумеется, уверен! А как иначе? Мы люди честные. Ежели мы выгребаем мусор за буржуа, это не значит, что совести у нас нет. Я честно зарабатываю монету, а в том году Общество содействия сохранению имущества меня даже наградило, потому как я вернул деньги, забытые в выброшенном пальто. Коли не верите, ступайте в квартал Дюматра — я там живу — и сами поглядите!
— Кто такая Иветта?
— Дочка моя. Я ей говорю: эта штуковина, должно быть, денег стоит. Отнеси-ка ее обратно, покуда не хватились.
— Сколько лет Иветте?
— Одиннадцать.
— И вы ей доверяете?
— Я бы ей свою жизнь доверил! Она вся в отца.
— А как вы узнали, чья это вещица?
— Из-за «Девятнадцатого века» догадался, она в него завернута была. Эту газету читают только жители дома двадцать восемь по улице Шарло. Тамошняя кухарка уже три года заворачивает мне в нее остатки ужинов.
Леонар и «посланник» шли вдоль железнодорожных путей.
— Ваша дочь уже вернулась домой?
— Спит, поди — в такой-то час…
— Давайте зададим ей пару вопросов, — произнес «посланник», засовывая руку в карман.
— А если я не хочу?
— Захочешь, мой друг. Иди-иди, не то — видишь эту красотку? — я нажму на спуск и — оп! — прощай, Леонар!
— Да вы спятили!
Леонар, разинув рот, в ужасе уставился на пистолет и, попятившись, уперся спиной в перила, загораживавшие рельсы.
— Ладно, пойдем, — выдохнул он. — Без проблем.
«Посланник» покачал головой.
— Проблема — это ты. — И, резко шагнув вперед, он с силой толкнул старьевщика в грудь.
Леонар Дьелетт, безумно вращая глазами из-под упавшей на лицо гривы волос и хватаясь руками за воздух, перевалился через перила. Скатившись по насыпи, он растянулся на рельсах — и страшный крик вырвался у него, когда совсем рядом послышался гудок паровоза.
Серая тень скользнула за угол здания газового завода.
Тяжелые серые тучи повисли над кучкой жалких развалюх. Жозеф, измученный обществом старого дурака Реовиля, остановился, чтобы перевести дух. Ни один извозчик не согласился везти его в квартал старьевщиков, и ему пришлось топать пешком от самого Орлеанского вокзала.
[170] Жозеф покосился на зловещего вида лачуги. Так, должно быть, выглядят разбойничьи вертепы. Молодой человек не испытывал радости при мысли, что, возможно, придется зайти в какой-то их этих домов.
«Что мне делать, Мари-Лy? Я пойду? Иль не пойду?» — невольно пришла ему на ум старинная детская песенка о девочке, которой не хочется идти в школу.
Жозеф тяжело вздохнул и побрел дальше по раскисшей дороге. Ему вспомнилось, что Айрис шепнула ему на ухо, когда он вернулся с улицы Фош: «Будьте благоразумны». Откуда она знает, куда и зачем он отправился? Месье Легри ей рассказал? Или она намекала на предстоящий разговор с ее отцом?
Погрузившись в раздумья, Жозеф и сам не заметил, как очутился в квартале Доре.
Несмотря на громкое название,
[171] он не отличался ни богатством, ни красотой. Бывшего владельца этих мест звали Доре; он в 1848 году решил распродать часть своих земель и кое-какие постройки на них, чтобы свести концы с концами. Домишки, предназначенные для рабочих и их семей, привлекли внимание старьевщиков: арендная плата невелика, на клочке земли можно разбить огород… А вслед за старьевщиками сюда потянулись голодранцы всех мастей. Вскоре в квартале Доре появилось множество жалких хижин, сооруженных из досок, промасленной парусины и ржавых листов жести. Теперь эти «дворцы и усадьбы» занимали уже пять улиц и две площади, представляя собой целое мусорное королевство.
Окажись тут Жозеф средь бела дня, он бы оценил живописные крохотные дворики, заросшие вьюнком и клематисом, и покой, царящий на бедных улочках квартала: в отличие от «большого Парижа», драки здесь были редкостью. Но сейчас, в липком сумраке, который едва рассеивал свет газовых рожков, юноше было себя весьма неуютно.
Двери многих домов были открыты настежь, видимо, чтобы выпустить дым очага, и их обитатели сидели прямо на полу вокруг котелков с объедками.
Мужчин среди них было мало: должно быть, все они отправились на промысел с мешком за спиной, фонарем в одной руке и крюком в другой. На земляном полу хижин громоздились кучи мусора, ждущие сортировки, и жидкие охапки соломы, служившие жильцам постелью.
Жозеф подошел к желтому квадрату окна, в котором вырисовывался длинноносый профиль. Мужчина посасывал короткую трубку, время от времени сплевывая на землю.
— Добрый вечер, я ищу Леонара Дьелетта.
— Знать не знаю такого. Погоди, спрошу у брата.
Обитатели дома, у которого стоял Жозеф, жили поистине роскошно: у них были стол, стулья, лампа и две кровати. Четверо малолетних сорванцов проворно ели что-то со сковороды. Вокруг них суетилась мать.
— Эй, Раймон! Не знаешь, где тут живет Дьелетт?
— Прямо за перекрестком Дюматра. Заходите, приятель, пропустите с нами глоток-другой, потом я вас провожу. Вы оптовик?
— Я? Кхм… да, — ответил Жозеф.
— Послушайте, тогда, может, обсудим одно дельце? У меня тут куча солдатских башмаков на левую ногу. Вас это не заинтересует?
— Надо подумать.
Старьевщик тычком согнал мальчишку со стула, чтобы освободить место, а его жена расставила тарелки и наполнила три стакана красным вином. Жозеф нервно сглотнул: он плохо переносил алкоголь.
— Ваше здоровье, мсье, и твое, Эстев. Эй, не так быстро! Ты же не прочувствовал букет!
— Зато так это пойло скорей дойдет до печенок и хорошенько меня согреет!
Рыжеволосые братья-гиганты хлестали вино, а Жозеф вертел в руках свой стакан: по его представлениям, именно таким на вкус должен быть крысиный яд.
— Ну же, мой мальчик, пей!
И Жозеф осушил стакан одним глотком — как в детстве, когда мать заставляла его принимать рыбий жир.
Перед глазами у него все тут же заволокло красным туманом, но, переведя дыхание, Жозеф почувствовал прилив сил. Он встал, и комната поплыла перед ним. Ему пришлось снова сесть.
— Так вы старьевщики? — спросил он, надеясь потянуть время.
— Нет, приятель, я прежде всего каменщик! Уж и не припомню, сколько хибар я построил. Братец Эстев приехал мне подсобить, потому как в одиночку я уже не справляюсь. Я здесь и ростовщик, и нотариус, и адвокат, и мировой судья. Кто тушит пожар, когда горит все это барахло? Я! Кто распределяет наследство, когда умирает отец семейства? Тоже я! Тебе достанется железо — отдашь его литейщику; тебе — мину
[172] костей, отнеси их клеевару или изготовителю пуговиц; тебе — корпия, пригодится бумагопромышленнику.
И Эстев, уже основательно согревшись, затянул песню:
В королевстве лампы и крюка
Правит всем старьевщика рука;
В королевстве никому не нужной дряни
Он один, с крюком и лампой, всеми правит.
Рыцарь лампы и крюка!
Рыцарь лампы и крюка!
— Заткнись, — проворчал Раймон. — И оставь бутыль в покое, мы идем проводить месье. А я заодно заверну к Сивилле, пора ей вернуть должок.
Они прошли почти весь квартал Доре насквозь. Жозеф представлял себя путешественником, оказавшимся в туземной деревне, за которой вырисовывается зеленая стена джунглей, куда еще не ступала нога белого человека. А вон там, вдалеке, несколько слонов — живое воображение Жозефа превратило в них поезда у Орлеанского вокзала.
Наконец они остановились у обшарпанного домика с единственным подслеповатым окошком.
— Конечная станция, выходим. Вот он, дворец папаши Дьелетта. Прощай, приятель, мы пойдем дальше.
Жозеф громко постучал в дверь, но никто не откликнулся. Может, хозяин спит? У него за спиной раздался вопль, Жозеф резко обернулся: братья вышибали дверь соседней хибары, невзирая на рыдания и мольбы одетой в лохмотья пожилой женщины.
— Не надо, я же околею от холода!
— А я тебя предупреждал, старая сова. Если завтра не принесешь деньги — снимем крышу. А если и послезавтра не заплатишь — прощайся с очагом!
— Упыри! — Женщина, упав на колени, хватала Раймона за ноги. Тот грубо оттолкнул ее. Жозеф, преисполнившись негодования, поспешил на помощь:
— Что вы делаете, разве так можно?! — вскричал он.
— Эстев, гляди-ка: мир перевернулся! С каких это пор должники превратились в жертвы?!
— Сколько задолжала вам эта несчастная?
— Два франка пятьдесят.
Жозеф вывернул карманы, выгреб оттуда всю мелочь и гневным жестом протянул Раймону.
Братцы отправились восвояси, а старуха рассыпалась в благодарностях, умоляя своего спасителя зайти на глоток вина.
Жозеф молча перешагнул порог. Женщина зажгла керосиновую лампу, и он разглядел ее изможденное лицо в обрамлении густых растрепанных седых волос. Убогая клетушка шесть на шесть метров была заставлена ящиками из-под фруктов.
— Устраивайтесь поудобнее, мсье, будьте как дома! Я вас попотчую домашней настойкой из перебродившего батата с сахаром.
Жозеф, скрепя сердце, пригубил пойло, от которого несло винным уксусом, и отставил стакан. Старуха горестно вздохнула.
— Мне хорошо живется здесь. Окна выходят в сторону улицы, и летом тут полно маков. Мой маленький рай… Только вот на этой неделе дела шли туго: ни одного клиента! А я уже слишком стара, чтобы спать под открытым небом.
— А… чем вы занимаетесь? — осторожно спросил Жозеф.
— Карты таро. Линии на ладонях. Я читаю будущее. Правда, сама — как сапожник без сапог: что будет с другими — вижу, а вот что станется со мной — не ведаю, тут я слепа, как крот. Паршиво, правда? Ах да, я ж не представилась. Меня звать Корали Бленд.
— Вы знакомы с Леонаром Дьелеттом?
Старуха искоса взглянула на Жозефа.
— Он еще не возвращался. И девчонки его что-то не видать. Недотепу-то — это их осел — я покормила. Наверное, пошли афиши сдирать.
— Зачем это?
— Так выборы уже прошли. А после них положено срывать афиши, наклеенные на стены и деревья. Большая часть старьевщиков голосует за кандидатов от радикал-социалистов. Матерь божья, да коли пухнешь с голоду, тебе плевать на важных шишек. Зато когда нужно снимать афиши, тут уже плевать на цвет плакатов. Впрочем, белые продаются лучше красных.
Растерянный Жозеф поднялся, чтобы уйти, но Корали Бленд ухватила его за рукав.
— Погодите. Сивилла читает по руке, точно в раскрытой книге. Мне нечем отплатить за вашу доброту, разве что я открою вам будущее.
Жозеф колебался.
— Спокойно, молодой человек. Дайте вашу левую руку. Левая — она связана с сердцем. Так… Линия жизни… Превосходно! Вы застанете первую половину двадцатого века! Теперь линия ума… Вы трудолюбивы, умны, упрямы, вы достигнете своей цели… Линия судьбы идет к холму Сатурна… Ба, да вас любит Венера! Отличная линия сердца, просто отличная. Любовь приведет вас на любую вершину!
— Что, это написано прямо на руке?
— Прямо на ладони.
— А как насчет ближайшего будущего?
На лице Корали Бленд мелькнул испуг, но Жозеф этого не заметил.
— Я вижу… вижу поезд… Он мчится… красный глаз светится во мраке… я вижу… человека, он едет далеко, очень далеко… Такой легкий, легче перышка… летит над рельсами… Все, больше ничего не вижу.
— Черт, надеюсь, в ближайшее время это не случится. Я, знаете ли, у нас в лавке просто незаменим. Но когда ко мне придет слава, мы с Айрис объедем весь свет, в точности как Филеас Фогг!
[173] Почему бы и нет?..
Он стоял под окном с треснутыми стеклами и ждал, пока старая ведьма закончит вешать лапшу на уши молодому простофиле. Внезапно кровь просилась ему в лицо: а с какой стати этот тип околачивается возле дома старьевщика? Вряд ли он забрел в эту дыру только ради того, чтобы наведаться к гадалке.
«Выясни».
Он сжал кулаки. Никто не перейдет ему дорогу. Никто!
Наконец парень ушел, старуха заперла дверь, а «посланник» скользнул за угол дома, вне себя от ярости наблюдая, куда двинулся Жозеф.
«Старая обезьяна, грязная карга, ты плохо кончишь! А за тобой, любитель предсказаний, я присмотрю!».
Иветта в своем старом пальтишке, почти не спасающем от холода, стояла возле ослика, положив руку ему на шею. Лицо у нее было усталое, как у взрослой женщины, отягощенной множеством забот.
Виктор вертел фотографию в руках. Как ее назвать? «Смущение»? «Недоверие»? Наконец он нацарапал на обратной стороне. «Маленькая продавщица булавок разглядывает меня, прячась за хромоногим защитником. Апрель…».
Его прервал резкий телефонный звонок. Он снял трубку, прижал ее к уху и свободной рукой дописал: «…1892 года. Иветте всего одиннадцать лет…»
— Да, Жозеф… Да, я понял… Я знаю, что старьевщик живет в квартале Доре. Не сказал вам, потому что не думал, что тут может быть какая-то связь с… Браво. Спасибо, что позвонили. Завтра? Договорились.
Он повесил трубку, натянул пальто, выключил газ и пересек двор.
Когда он толкнул дверь мастерской, Таша заворачивала что-то в бумагу. Он поцеловал ее, потом спросил, кивнув на сверток:
— Что это?
— А, это одежда, которая мне уже мала. Хотела отдать подруге.
— Ты не забыла, что мы сегодня ужинаем в ресторане? Я заказал столик в…
— Черт, совсем вылетело из головы! Сказать по правде, у меня сейчас нет настроения… Все время думаю об этой выставке в Барбизоне…
— Когда ты туда едешь? — невольно вырвалось у Виктора.
Завтра, ты же знаешь. Вернусь в воскресенье вечером. Ох, любимый, ты сейчас выглядишь так, что мог бы стать моделью для художника, чья палитра состоит только из черных, темно-зеленых и свинцово-серых тонов с редкими проблесками оранжевого.
— Не разбираюсь я в живописи. О ком ты говоришь?
— Об Эль Греко.
— Ах, о «Снятии с Креста»! Что ж, благодарю за сравнение.
Таша расхохоталась.
— Прости, но ты действительно так выглядишь: мрачный, обиженный, подозрительный.
— Ну да, а еще слишком чувствительный, безумно влюбленный и ревнивый! Ты жестока ко мне, Таша. Я вечно боюсь упасть в твоих глазах.
— Зачем ты такое говоришь? Я никогда не полюблю другого.
— Правда?
— Правда, потому что никто не будет со мной так терпелив. Со мной трудно ужиться, а?
— Ты не бросаешь меня только поэтому?
— Дурачок! Только с тобой, и ни с кем другим я хочу прожить всю жизнь.
— Тогда выходи за меня.
— Нет уж, я не позволю тебе совершить такую ошибку, ты мне слишком дорог. Разве брак так уж необходим? Ну, зарегистрируют нас как мужа и жену, и я стану мадам Легри — что это изменит в наших отношениях? На тебя будут глядеть с жалостью и перешептываться за спиной: «Бедняга Легри, всем известно, что у его жены ветер в голове. Она же художница! Якшается с вольнодумцами!» Тебе это не понравится, уж я-то знаю. Куда благоразумнее оставаться твоей любовницей. Когда мужчина спит с такой как я — это нормально. Но когда он на ней женится…
— Да плевать я хотел, что о нас подумают…
— Ну-ну, успокойся. Может, не пойдем никуда сегодня? Останемся дома, я принесу твои мягкие туфли, мы немного почитаем, поболтаем у огня… Как тебе такой семейный вечер?
— Да разве я могу не согласиться? — прошептал Виктор, увлекая Таша в альков.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Четверг, 14 апреля
Туман, висевший над Парижем, начал постепенно рассеиваться, и полдень выдался холодным, но ясным. Виктор решил пройтись: ему не нравилось, что Жозеф, отправившийся в квартал Доре в поисках Леонара Дьелетта, наткнулся на запертую дверь, а потом еще долго бродил по грязным улочкам, спрашивая у прохожих, не видел ли кто старьевщика или его дочь. Никто не смог помочь ему. В итоге Жозеф провалил задание.
Что же случилось со Дьелеттом? Этот вопрос — как и многие другие — не давал Виктору покоя. Хоть бы с девочкой все было в порядке. Чем ближе он подходил к Монмартру, тем громче звучал его внутренний голос, подсказывавший, что жестокая смерть ждет всех, кто имеет хоть какое-то отношение к таинственной чаше.
Он остановился передохнуть у церкви Сент-Эсташ. Отсюда были хорошо видны крыши квартала Ле-Аль, напоминающие выщербленные зубы, вцепившиеся в небо. Над ними суровым часовым, стерегущим город от притаившихся в каждой подворотне демонов, возвышалась башня Святого Иакова. Виктору казалось, что демоны крадутся за ним по пятам, и в лошадином ржании за спиной ему чудился злобный хохот…
Он пробирался сквозь толпу уличных торговцев и гуляк, когда вдруг увидел знакомую маленькую фигурку.
— Иветта! — Он коснулся ее плеча, и она обернулась: он увидел старое, морщинистое лицо.
— Купите ленту, мсье.
Виктор помотал головой, поскользнулся на салатном листе, валявшемся у входа в грязную забегаловку, и официант на пороге громко расхохотался. Виктор ринулся к бару с автоматами, как утопающий к проплывающему мимо бревну.
Зазывала, оседлав стул, предлагал прохожим ознакомиться с революционным изобретением французской Ассоциации общественных водозаборных колонок. Вдоль стен располагались ряды бочонков — пунш, пиво, малага: достаточно было опустить монетку в специальную прорезь, чтобы стакан, подставленный под кран, наполнился тем напитком, который вы выбрали.
— Всего за каких-то десять сантимов вы получаете полную кружку или стакан! Наши автоматы работают точнее, чем часы: бросил монетку — получил напиток. И не думайте, что в бочонке кто-то сидит. Нет, мсье, это наука! Правда, ваш стакан сам собой не вымоется, это сделают нежные ручки мадемуазель Прюданс — так что не забывайте про чаевые. Ну же, месье, смелее, наши автоматы не кусаются!
Веселый зазывала впился взглядом в Виктора, приклеившегося к стойке. Но тот, не замечая его, обратился к мадемуазель Прюданс:
— Мадемуазель, вы случайно не видели девочку лет одиннадцати-двенадцати? Она продает булавки около вашего заведения.
— Не знаю. Может, и видала. — Женщина вяло приняла у него двадцать су.
— Когда она была здесь в последний раз? Это очень важно.
Прюданс посмотрела на него с подозрением:
— А вы, случаем, не из тех негодяев, что любят маленьких девочек? — напустилась она на Виктора.
Тот залился краской до самых бровей.
— Да как вы могли такое подумать!
— А что? Скажете, вы ее папаша?
— Прюданс, что там такое? — вмешался зазывала.
— Этот фрукт ищет Иветту.
— Иветту? Так ее еще вчера забрали в участок.
— В какой участок? — повернулся к нему Виктор.
— Какая вам разница? Все равно она наверняка уже в камере.
Виктор приподнял шляпу и вышел.
— Шляются тут всякие и ничего не покупают, — проворчал недовольно зазывала.
Он прислонил велосипед к стене, присел на корточки — якобы чтобы проверить, хорошо ли прокручиваются педали, и украдкой взглянул на книжную лавку «Эльзевир». Японец только что ушел. Тип, который шлялся вчера по кварталу Доре, сидел за прилавком и читал газету. Но утром он, выйдя из дома на улице Висконти, зачем-то долго бродил по городу, и только потом отправился в лавку.
— Вам нужна помощь? — раздалось у него над ухом.
Он вздрогнул от неожиданности.
— Нет, благодарю, я уже сам справился.
Он не стал поднимать головы и видел только, что рядом с ним остановились высокие черные ботинки, длинный фиолетовый плащ и накидка из шотландки.
— Даже не пытайтесь меня убедить, дорогая! — громко произнес визгливый женский голос. — Это только прибавляет лишних забот!
— Но, Рафаэль, подумайте хорошенько: еще лет шестьдесят назад наши деды и представить себе не могли, что можно разъезжать по дорогам на двух колесах. Уверяю вас, за велосипедом — будущее! Матильда, вы-то со мной согласны?
— Хельга права. Пешие прогулки вышли из моды. Человечество делает ставку на скорость.
Он втянул голову в плечи. Уберутся эти три синих чулка когда-нибудь или нет?
Наконец, черные ботинки удалились, за ними — фиолетовый плащ и накидка из шотландки. Он увидел, как они вплывают в книжную лавку. Приказчик поздоровался с дамами, устремился к полкам, набрал целую кипу книг, разложил на прилавке и бросился к столу, где стоял телефонный аппарат.
Поднес трубку к уху, тут же бросил ее на рычаг и поспешил к лестнице, ведущей наверх. Еще через минуту он спустился в обществе юной девицы, которая занялась покупательницами: приказчик тем временем натянул куртку, нахлобучил картуз и понесся к набережной Малакэ.
«Посланник» едва успел оседлать велосипед.
Виктор повесил трубку и посмотрел на фотографию Иветты. Жозеф должен во что бы то ни стало вызволить ее из полиции!
Когда он вышел из бара, слова мадемуазель Прюданс еще звучали в его сознании. В Лe-Аль он сообразил, что надо раздобыть денег, чтобы Иветту выпустили под залог. Он прокладывал себе дорогу между горами картофеля, башнями из тыквы и репы и кочанами капусты, пока, наконец, не оказался в дальнем углу рынка — там жались друг к другу десятка два ребятишек, которые пришли наниматься на работу. Виктор с жалостью разглядывал их — бледных и тощих, голодными глазами смотревших на горы еды. И тут в памяти Виктора всплыла долговязая фигура Рауля Перо с черепашкой на ладони. Отличная мысль! Надо просто послать к нему Жозефа, чтобы тот, справившись о здоровье Нанетты и литературных опытах самого Перо, выцыганил надлежащим образом оформленное постановление об освобождении из-под ареста.
Виктор взглянул на часы. В самом благоприятном случае Жозеф и Иветта появятся здесь не раньше пяти.
Он пересек двор и вошел в мастерскую Таша, где каждая мелочь, каждый предмет мебели и даже стены — всё напоминало о ней. Здесь они занимались любовью, лелеяли мечты, планировали будущее — и Таша полностью принадлежала ему. Тут стоял особенный запах: смесь скипидара и знакомых духов с оттенком ладана. Виктор вспомнил, как накануне сжимал Таша в объятиях, и улыбнулся. Даже царивший тут художественный беспорядок — и тот был ему по душе. Он прошел по следам Таша — разбросанным белью и обуви — до кровати и погладил ладонью простыни, из которых с таким сожалением выбрался несколько часов назад, когда Таша еще спала безмятежным сном младенца. Утром он всегда желал ее еще сильнее, чем вечером.
Он подобрал корсет и панталоны, валявшиеся на полу, расправил подушки. Под ноги ему порхнул листочек бумаги. Письмо. Виктор безотчетно пробежал взглядом по строкам, написанным уверенным квадратным почерком.
…Сгораю от желания сжать тебя в объятиях. После Берлина — такого строгого, застегнутого на все пуговицы, — я мечтаю сесть рядом с тобой за круглым маленьким столиком на веранде какого-нибудь легкомысленного кафе…
Письмо выскользнуло у него из рук и упало на кровать. Какое-то время Виктор слепо повиновался командам мозга: аккуратно свернуть кофточку, выбросить зачерствевший хлеб, помыть стаканы. Боль пришла неожиданно, застав его врасплох, и он застыл над раковиной со стаканом в руке.
Кляча медленно тащилась по многолюдной улице де Пирене, а потом и вовсе встала, пропуская стадо коров.
— Быстрее, быстрее! — нетерпеливо крикнула Таша, высовываясь из дверцы фиакра.
Часы, проведенные в издательстве, помогли ей скоротать время, но еще больше распалили нетерпение.
Фиакр свернул на улицу Партан, миновал больницу Тенон и покатил по улице де ля Шин. Здесь заканчивался Париж, спроектированный бароном Османом,
[174] и начинался Париж Эжена Сю. В лабиринте извилистых улиц с экзотическими названиями, в этих тесных двориках нищета прятала свои язвы и струпья.
Лошаденка с трудом взобралась на пригорок и остановилась перед гостиницей с подслеповатыми окнами.
ОТЕЛЬ ДЕ ПЕКИН
Меблированные комнаты
Сдаются на месяц или на день
Таша выпорхнула из экипажа, сунула деньги хмурому кучеру и вбежала в пропахший вареной капустой вестибюль гостиницы. Толстая угрюмая женщина с волосатым подбородком, восседавшая за столиком, даже не улыбнулась в ответ на приветливое «бонжур» и только буркнула:
— Там он. Сидит, как истукан, с самого утра.
Таша, сжав в руках сверток, взбежала на второй этаж и постучала в дверь. Та тут же открылась, и Таша очутилась в объятиях мужчины. Она прижалась к нему, чувствуя себя такой хрупкой в его сильных руках. Он ногой захлопнул дверь. Матрона за стойкой возвела очи горе:
— Совсем стыд потеряли. Еще чуть-чуть, и придется вешать табличку «Бордель».
Инспектор Жозеф Пиньо толкнул железную дверь и оказался в просторном готическом зале с колоннами под мрамор, которые поддерживали своды из обработанного камня. Напротив него за стеклянной дверью находился кабинет бригадира. Справа располагалась комната для обысков. За ней — зарешеченные камеры.
Инспектор Жозеф Пиньо решительным шагом направился дальше. Из камер на него глядели мошенники всех мастей, карманники и проститутки. Быть может, таинственный убийца, терроризирующий Париж, один из них? Но никто не соответствовал описанию, данному свидетелями…
Пожилой полицейский дремал, сидя на стуле. Он вздрогнул от неожиданности, когда Жозеф сильно потряс его за плечо…
В этот миг над его ухом прозвучал мужской голос:
— Отойдите же вы в сторону!
Жозеф забыл о детективной истории, которую начал мысленно сочинять, и, взволнованный тем, что находится в главном здании полицейского управления, поспешно протянул записку сухопарому жилистому старику.
— Вы, наверное, ошиблись, юноша, я здесь посетитель, — крикнул тот, приложив руку рупором ко рту.
— Дедушка, нам сюда! — громко позвал его молодой человек в серой блузе.
— Не ори, я не глухой!
Жозеф прошел дальше, до конца мрачного коридора, к помещению с приоткрытой дверью, где суетились чиновники и солдаты муниципальной гвардии, записывая данные антропометрии на каждого задержанного и набрасывая их портреты. Жозеф застыл на месте, стараясь ничего не упустить. Но вот в комнату провели очередного заключенного, и дверь захлопнулась. Разочарованный, Жозеф присел на лавку.
— Что там с ними делают? — обратился он к сидящей рядом женщине.
— Ну, их выстраивают в ряд, прямо как в армии. Записывают имя, обыскивают, дают жетон с номером. Коли это утро, то каждый получает круглый хлебец.
— А если не утро?
— Тогда только половину. Ну вот, у кого есть сорок сантимов, те могут заплатить за простыни, а коли денег нет, то терпи четыре дня, покуда получишь. Моего-то муженька это не смущает: наши простыни давненько заложены в ломбарде. Ну так вот, потом к ним приходит писарь с блокнотом, и они отвечают на вопросы: как зовут, сколько лет, где родился, как звали отца и мать. Ох, и зачем им все это знать? Не смотрите на меня так, мсье, я говорю, что думаю.
— Продолжайте, — прошептал Жозеф, пытаясь запомнить каждое ее слово.
— Ладно. Их распределением занимается специальный комитет.
— Комитет?..
— Монахини из монастыря Марии-Иосифа. Делят их на две группы. Одних отправляют в одиночные камеры, других — в общие. А, вот и моя очередь! Я с вами не прощаюсь, месье, а то удачи не будет!
Ожидание затягивалось. Жозеф в полудреме вспоминал свой визит к Раулю Перо, крошечный кабинет с натертым паркетом, зелеными шторами и набитым книгами шкафом, подобающим скорее читальному залу, чем кабинету полицейского. Инспектор задумчиво листал «Жиль Блаз», с которым мечтал сотрудничать. Он радушно пожал Жозефу руку и стал расспрашивать его о том, выяснилось ли, что еще украдено на улице Сен-Пер.
Перо не отказал Жозефу в просьбе и нацарапал записку в тюрьму предварительного заключения при префектуре, а потом перевел разговор на свою излюбленную тему — о литературе. Черепашка Нанетта у него на столе тем временем равнодушно жевала лист салата.
— Молодой человек, вы долго тут будете сидеть? — услышал Жозеф и очнулся от воспоминаний, от неожиданности едва не свалившись со скамьи. Он машинально протянул записку полицейскому в штатском, и тот дважды перечитал ее, прежде чем хрипло произнести:
— Ладно, сейчас приведу, раз уж она — главный свидетель.
Через четверть часа он вернулся, ведя за руку тощую девчонку.
— Вот ваша Иветта Дьелетт. Поскольку она несовершеннолетняя, а вы не являетесь ее родственником, я обязан записать ваше имя и адрес, — он вытащил из кармана блокнот и кивнул Иветте: — Забирай свою корзинку, и чтоб я больше не видел, как ты торгуешь на улице.
Жозеф сжал ледяные пальчики девочки, и у него от жалости защемило сердце. Он чувствовал себя Жаном Вальжаном, только что вызволившим Козетту
[175] из беды.
Они зашагали к набережной Орлож.
— Это папа вас за мной прислал? — спросила Иветта. Она щурилась от яркого света и испуганно сжимала воротник пальто.
Жозеф решил не говорить девочке о том, что ее отец так и не объявился.
— Нет, мой патрон, месье Легри. Да ты его знаешь, это он тебя фотографировал.
— Ах, да, у него такой красивый ящик! Он хороший. Я так испугалась, когда меня схватили. Просила отпустить, потому что папа будет волноваться. Но они заставили меня залезть в повозку, а там были мужчины… страшные, и женщины… такие, как мамаша Клопорт, которая пристает к мсье на бульваре. Я ночевала в общей камере, ужасно замерзла, а одна большая девочка хотела, чтобы я легла рядом с ней, потому что так теплее. Я не хотела, так она оттаскала меня за волосы и обзывалась… Мне хотелось умереть… — Иветта коротко всхлипнула, но не позволила себе расплакаться.
Жозеф украдкой вытер глаза и пробормотал:
— Бедняжка… А ты ходишь в школу?
— Можно подумать, что если ходишь в школу, ты честный человек. Та большая девочка, которую привезли вместе со мной, обворовала своего хозяина! А я никогда не краду.
— Ты не умеешь ни читать, ни писать?
— Умею читать… немножко. У папы есть книги. Я так глупо им попалась. Дама, которая заплатила за булавки, не захотела их брать, а шпик все увидел. Если б я знала, что так выйдет, не взяла бы у нее денег.
Жозеф потянул девочку к фиакру.
— Я отвезу тебя к месье Легри и мадемуазель Таша. Там ты поешь, отдохнешь, и тебе сразу станет лучше.
…Дыши глубже. Не спеши. Подумай хорошенько.
В конце концов Виктору удалось заставить себя успокоиться. Он уже не в первый раз подозревал Таша в измене, но до сих пор не видел реального соперника ни в одном из мужчин, с которыми она водила знакомство. Таша любит его, в этом он был уверен. Наверное, какой-то ее старинный друг пожаловал в Париж, и она спрятала письмо, чтобы не вызвать у него, Виктора, ревность.
«Спрятала? Нет. Она бы нашла тайник получше, чем изголовье кровати, на которой мы любим друг друга».
Когда Жозеф постучал в дверь, Виктору уже удалось совладать с собой. Иветту он приветствовал радостной улыбкой.
— Рад новой встрече с вами, мадемуазель. Жозеф, возвращайтесь в лавку и скажите Кэндзи, что я скоро приду. Благодарю вас, вы блестяще провели эту операцию.
— Знаете, патрон, что такое наше правосудие? Бездушная слепая машина, которая давит всех подряд: бездомных, стариков, детей, воров и убийц!.. А где мадемуазель Таша?
— Она… она в Барбизоне.
Сомнения с новой силой охватили Виктора. А если ее там нет? Если она придумала эту историю с выставкой, чтобы тайно встретиться с каким-то мужчиной? Как это выяснить? В памяти всплыло ненавистное имя. Нет, он не хочет думать о Морисе Ломье сейчас. А завтра сам с ним встретится.
Жозеф ушел.
— Ты есть хочешь? — спросил Виктор у Иветты.
— Ну… в общем, да, мсье.
— Ванная вон там, направо. Тебе нужно хорошенько умыться. И причесаться.
Но Иветта, оказавшись в ванной комнате, замерла, не смея ни к чему прикоснуться.
Виктор тем временем отправился разогревать фрикасе из кролика, приготовленное Эфросиньей. Он пододвинул круглый столик поближе к печке, убрал с него кисти и краски и накрыл скатертью.
— До чего красиво! — воскликнула Иветта. — Как на картинке в кондитерской!
— Садись.
Она присела на краешек стула, не решаясь притронуться к еде. Виктор отошел, притворившись, что перебирает эскизы, и украдкой обернулся: девочка с жадностью набросилась на
еду.
— Хочешь добавки?
— Да!
Он подарил Иветте ее фотографию.
— Ой, это же я! Как забавно, картинка на бумаге… Это трудно сделать?
— Я тебе покажу.
— Папа, наверное, обо мне беспокоится, — дрожащим голоском сказала Иветта и испуганно поглядела на Виктора.
Что же ей сказать?
— Боюсь, он задаст мне трепку, — шепотом добавила она.
— За что? Полиция ведь…
— Да нет, не поэтому! Вчера папа сортировал то, что мы собрали, и нашел что-то вроде чашки. Она лежала среди вещей, которые нам дали на улице Шарло.
— Чашки? Какой чашки?
Сердце Виктора забилось сильнее.
— Чашка была с бриллиантами. Я ничего плохого не сделала, только… Папа сказал: «Черт возьми, да она, должно быть, стоит уйму денег! Наверное, попала к нам по ошибке». Он велел мне отнести ее мадам Бертиль и только потом идти на Монмартр. А я… Мне так хотелось конфет! Особенно тех, розовых и зеленых карамелек, которые продают около Лe-Аль. Я подумала, что никому эта чашка не нужна, ее ведь выкинули! И я… Я ее продала.
Виктор, нагнувшись к девочке, впился в нее взглядом.
—
Кому ты ее продала?
Иветта перепугалась еще больше. Кусая губы, она захныкала:
— Не браните меня, пожалуйста! Если узнают, что я продала чашку, меня точно посадят в тюрьму! А я туда не хочу, не хочу!
Виктор подавил раздражение.
— Ты молодец, что сказала мне правду. Послушай, кто-то по ошибке выкинул эту… чашку. Я уверен, что хозяин ищет ее и хочет вернуть. Никто не знает о том, что ты ее продала. Но если ты мне расскажешь, кто ее купил, я постараюсь все уладить, понимаешь?
— Правда? Вы никому не скажете? Даже папе?
— Клянусь.
— Я продала ее торговцу, который иногда покупает у папы всякое старье. Его зовут Клови Мартель, живет в доме сто двадцать семь на улице Муфтар. Он мне заплатил всего двадцать су, потому что он считает, что чашка — барахло.
— Хорошо, Иветта, я сейчас позвоню кое-кому, а потом отведу тебя в магазин, где я работаю. Там о тебе позаботится моя сестра. Она очень добрая, вот увидишь. Но очень любопытная, как и ее отец. Он японец и разговаривает мало. Мы им скажем, что с твоим папой произошел несчастный случай и что он сейчас в больнице, ладно?
— Да, но… я не понимаю: если мсье японец — отец вашей сестры, то он и ваш отец, а вы вовсе не японец.
Виктор закашлялся.
— Это довольно запутанная семейная история. Погоди, я надену пальто, и пойдем.
Они вышли во двор. Виктор закурил сигару и выпустил большое облако дыма. А еще говорят, что дети простодушны. Да эти негодники соображают лучше любого взрослого. Конечно, они — легкая добыча для коварных людей. Но их болтовня способна вывести из себя. Ему вдруг привиделась Таша, кормящая грудью розовощекого младенца.
«С потомством мы торопиться не будем», — пообещал он себе.
Он ждал долго. Только через час из тюрьмы вышел уже знакомый ему молодой парень, служащий из книжной лавки, он вел за руку девчонку. Куда это они направляются?
Въехать в арку. Прислонить велосипед к пожарной колонке, притвориться, будто чинишь педаль.
По булыжнику двора простучали каблуки. Он повернул голову налево, приметил окошко в невысоком доме со стеклянной крышей — похоже, это мастерская художника или скульптора. Две фигуры — большая и маленькая — появились на пороге.
Большая сказала:
— Пойдем, Иветта.
«Посланник» улыбнулся.
Мужчина и девочка направились к улице Сен-Пер. Он проводил их взглядом, оседлал велосипед и поехал следом.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Четверг, 14 апреля, после полудня
Айрис удобно устроилась в глубоком кресле, положив ноги на пуфик. Она вышивала скатерть, рассчитывая заслужить расположение мадам Пиньо. После долгих колебаний в качестве узора были выбраны огромные цветы — такие невозможно найти в учебнике по ботанике, зато коралловая и шафрановая пряжа на фоне белого полотна смотрелась очень нарядно.
В дверь позвонили, и Айрис, отложив работу, поспешила в прихожую. Открыв дверь, она не сдержала возгласа удивления: на пороге стояли Виктор и тощая девчонка, которую он представил как дочь старьевщика, попавшего в больницу.
— У бедняжки не осталось никого на свете. Поскольку Таша в отъезде, я привел ее к вам: позаботьтесь о ней, пока ее отец не поправится.
— Конечно! А где ее вещи?
— Боюсь, только то, что на ней.
— Вовсе нет, дамы из общества милосердия раздавали нам одежду, но она осталась дома, — возразила Иветта.
— Ничего, я укорочу для тебя одно из моих платьев. Но сначала нужно перекусить. Ты любишь кексы? А оршад? Будешь миндальное печенье? Может, хочешь сначала помыться?
Иветта, онемев под градом вопросов, безропотно позволила отвести себя на кухню — к огромному облегчению Виктора, который поспешил спуститься в лавку.
— Возитесь с заказами?
Жозеф, красный, потный и растрепанный, упаковал три стопки книг. Судя по его виду, покупателей и заказов сегодня хватало.
— А где месье Мори?
— У портного. На подгонке, — буркнул Жожо.
Виктор рассказал ему об Иветте и про то, что сказал ей об отце.
— Понял, — кивнул Жозеф. — Спасибо, что предупредили. Ну что за дурацкая бечевка!
— Оставьте это на завтра. Сейчас нам гораздо важнее узнать, что же стряслось с Леонаром Дьелеттом.
Жозеф тут же выскочил из магазина, чтобы Виктор не успел передумать.
Кучер довольно мурлыкал что-то себе под нос: он два часа простоял на улице Сен-Пер — вот и вся работенка! А заплатили ему заранее — просто за то, чтоб не двигался с места! Единственное, что его смутило — это просьба спрятать велосипед внутри фиакра. Но щедрые чаевые того стоили.
«Посланник» прилип к окошку фиакра, спрашивая себя, долго ли продлится эта игра в «холодно — горячо».
Велосипедный руль упирался ему прямо в ребра, но он терпел. Что же предпринять? Пойти за приказчиком или остаться здесь, в укрытии, продолжая следить за домом, чтобы обрести недостающее в цепочке событий звено, которое приведет его к дьявольской чаше? Если компаньон притащил сюда девчонку, значит, он на верном пути!
«Уеду — потеряю из виду компаньона. Но вдруг они специально отправили приказчика куда-то, чтобы сбить меня со следа? Ну, уж нет, не на таковского напали. Мимо меня и муха не пролетит».
В убогом очаге тлел огонек, в котелке тихо булькало рагу из мясных обрезков по четыре су за фунт. Нынче вечером Корали Бленд позволила себе еще и печеную картофелину. Ослик Недотепа стоял на привязи рядом с хижиной и грустно поддевал мордой камешки, не найдя ни веточки чертополоха. Полуголый ребенок, ковыляя на неокрепших ножках, споткнулся и разразился громким плачем; к нему немедленно подскочила старшая сестра, взяла на руки, поплевала на юбку и вытерла грязь с его щеки. Потом оба замерли у котелка, жадно вдыхая запах рагу.
При виде Жозефа дети юркнули в уголок. Корали Бленд встала на пороге, уперев руки в боки.
— Опять вы!
— Ребятишки хотят есть. Подзовите их, я дам им монетку.
— Ну их, нечего зазря сорить деньгами. Эти бездельники готовы стянуть все, что плохо лежит. А их родители — вот уж кто настоящие трудяги! Вкалывают до седьмого пота: днем считают ворон, ночью плюют в потолок…
— Вчера вы были гораздо более приветливы…
Корали Бленд поджала губы, сломала сухую веточку и подбросила в огонь.
— Нет уж, увольте, мне неприятности ни к чему. Вот, сегодня — иду себе по бульвару де л’Опиталь, а тут мамаша Клопорт — хозяйка борделя, пузатая, что твоя бочка — возьми и назови меня мешком с костями. И еще говорит, мол, я пугаю ее девочек. Чушь! Не пугаю, а открываю им будущее! Я, в отличие от нее, нравственностью не торгую! Давайте руку. Десять су.
— Благодарю, одного раза с меня хватит. Леонар Дьелетт вернулся?
— Как сквозь землю провалился, вместе со своей девчонкой. — Она подошла ближе и прошептала Жозефу на ухо: — Кто-то шнырял возле их дома, так я повесила замок на дверь, мало ли что… Но вмешиваться в это я не буду, мне своих проблем хватает.
— Не дадите мне ключ от замка? Я хотел бы взглянуть…
— Еще чего! Замок-то, поди, новый, я надеюсь, Леонар мне за него заплатит.
— Двадцать су.
— Двадцать пять.
По каморке старьевщика словно пронесся смерч — на полу валялись какие-то кости, ржавые железяки, бумага и тряпки. Стол перевернут, два тюфяка, набитые сухими водорослями, брошены у порога, сундук с одеждой открыт и выпотрошен. Жозефа мутило от запаха старого ветхого тряпья, но он тщательно обыскал все. И не нашел никаких следов чаши. Ему припомнилось недавно прочитанное стихотворение:
Вот вам история о короле Туле
И чаше золотой, что в дар ему дала
Невеста верная — чтоб вспоминал Туле о ней….
[176]
«Кубок Туле»! Вот как он назовет свой следующий роман! Радуясь, что ему удалось ухватить музу за полу хитона, Жозеф вернул Корали Бленд ключ и удалился восвояси. Прорицательница дождалась, пока он отойдет подальше, и крикнула ему вслед:
— Вас ждет путешествие! Долгое, очень долгое путешествие! Из тех, откуда не возвращаются!
— Графиня, время позднее. Пора закрываться.
— Месье Легри, вам удастся выставить меня только после того, как вы отыщете для меня «Мертвую любовь» Максима Фромона и «Воспитанницу Экуэна» Мэри Саммер, — заявила Олимпия де Салиньяк. — В отличие от Пьера Лоти, утверждающего, что по душевной лености он вообще не читает книг,
мы интересуемся литературой.
Виктор устало пожал плечами.
— У нас этих романов точно нет.
— Но послушайте, Максим Фромон и Мэри Саммер — весьма известные авторы!
— Что ж, я закажу для вас эти книги.
— Так я вам и поверила! Снова будете кормить меня пустыми обещаниями…
Звякнул дверной колокольчик. Вошел Жозеф и с мрачным видом потряс перед Виктором газетой. Но тот, не обращая на него внимания, рылся на полках, безуспешно пытаясь найти что-нибудь для графини де Салиньяк, чтобы та отвязалась от него. Его взгляд зацепился за пеструю обложку в куче книг, отложенных для букинистов.
— Вот, держите. «Преступление в Вирье-сюр-Орк».
[177] Думаю, это именно то, что вам нужно. Шестьдесят сантимов.
— О нет! Вы всерьез полагаете, что это подходящее чтение для женщины в положении?
— А кто в положении? — оторопел Виктор.
— Моя племянница. Валентина. Но что это с вашим помощником, у него пляска святого Вита?
[178]
— Дело касается моей кузины Иветты, — свирепо произнес Жозеф.
— Кого? Кузины? — графиня удивленно навела на него лорнет.
— Я пришел сообщить патрону, что необходимо срочно решить вопрос о том, где она будет жить. Ее отец…
И Жозеф выразительно поглядел на книгу «Преступление в Вирье-сюр-Орк».
— Что ж, раз у вас неотложные семейные дела, я вас покидаю, — и графиня покинула магазин, с негодованием хлопнув дверью.
— Патрон, плохо дело! — прошептал Жозеф. — Как только чаша исчезла, старьевщик погиб!
— Что?
— Глядите! — Жозеф протянул ему газету.
ЧЕЛОВЕК ПОПАЛ ПОД ПОЕЗД
Вчера обходчик железнодорожных путей наткнулся на изуродованный труп недалеко от Орлеанского вокзала, поблизости от газового завода…
— Почему вы решили, что это Дьелетт?
— Потому что это произошло в двух шагах от квартала Доре, а еще потому, что Корали Бленд это предвидела. Она сказала дословно вот что: «Я вижу… вижу поезд… Он мчится… красный глаз светится во мраке… я вижу… человека, он едет далеко, очень далеко… Такой легкий, легче перышка… летит над рельсами… Все, больше ничего не вижу». Сначала я подумал, что она говорит о моем будущем, что это я куда-то поеду; она даже крикнула мне вслед: «Вас ждет путешествие! Долгое, очень долгое путешествие! Из тех, откуда не возвращаются!». Старуха казалась испуганной. Патрон, клянусь, она что-то видела! И это точно не несчастный случай: в лачуге старьевщика все перерыто.
— Тс-с-с! Держите рот на замке. И спрячьте подальше газету.
— Но как нам теперь быть с девочкой?
— Пару дней она побудет здесь. Потом придется рассказать ей все и принять меры… Бедняжка!
— А чаша?
— Оказывается, Иветта ее продала. И я как раз собираюсь разыскать этого человека.
— Кроме шуток?
— Я похож на шутника? Я отправляюсь к этому торговцу сию же минуту. До скорого, Жозеф.
Улица Муфтар шла полого под уклон. Моросил противный дождь. На мокрой брусчатке расплывались оранжевые пятна света от газовых рожков. Виктор не знал, где именно находится дом номер 127, и ему пришлось пройти всю улицу — от Пантеона до маленькой площади, окруженной домами с облупившимися стенами. Из одного из них вышла девочка и остановилась рядом с торговкой. Покосившиеся фасады, между которыми были натянуты веревки со свежевыстиранным бельем, казалось, склонялись друг к другу, перешептываясь.
Искомый дом оказался напротив церкви Сен-Медар. Там на втором этаже располагались редакция журнала «Ля Револьт» и меблированные комнаты, а на первом — питейное заведение, где за длинной стойкой, уставленной разнокалиберными бутылками, сидели студенты, рабочие, девицы и сутенеры.
В этот час зеленая фея абсента принимала своих подданных. Время от времени кто-нибудь хрипло затягивал песню.
Хозяин заведения невозмутимо протирал стаканы и каждые несколько минут добавлял костяшку домино к тем, что вытянулись в линию на стойке. Когда Виктор спросил его, где можно найти Клови Мартеля, тот лишь поднял брови, не отрываясь от игры, которую вел сам с собой.
— Меня заверили, что он живет здесь, — настаивал Виктор.
Хозяин что-то невнятно пробурчал.
— Да не ищи ты его, он давно уже свалил. Пойдем лучше ко мне. Останешься доволен! — игриво обратилась к Виктору высокая женщина в алой кофточке, едва прикрывавшей пышную грудь. Слишком яркие губы, слишком толстый слой пудры на щеках щеки — она была похожа на потрепанную куклу…
— Где он?
— Ты что, оглох? Я же сказала, он свалил. На деревянном колоколе.
[179]
— Заткнись, Эйфелева Башня! — рявкнул хозяин.
— А что такого, Люлю? Если месье проведет ночку в моем гнездышке, ты тоже получишь навар. Всем известно, что Клови слинял, не заплатив тебе ни су.
— Верно говоришь, но ничего, я знаю, где его найти.
— Где? — оживился Виктор.
— А какая мне корысть вам помогать?
Виктор перегнулся через стойку.
— Отвечайте, пока прошу по-хорошему. Могу и поколотить так, что мало не покажется.
— Полегче, приятель. Клови по воскресеньям торгует на рынке Сен-Медар. Может, пропустите стаканчик? Я угощаю.
— Спасибо, не надо.
— Ну, пойдем же, я развлеку тебя по полной программе, — прошептала Эйфелева Башня.
— Не стоит мадам, — бросил Виктор, отступая к дверям.
Холод пробирал до костей. Виктор засунул руки в карманы. Краем глаза он заметил неподалеку велосипедиста, который, присев на корточки, возился с задним колесом. Виктор поспешил на улицу Монж.
«Посланник» выпрямился, проводил его взглядом и зашел в пивную.
Холмистая улица Шаронн заканчивалась темной пастью тупика, ощерившейся убогими лачугами, похожими на расшатанные зубы. За палисадниками стояли несколько фургонов; вокруг костров репетировали свои номера бродячие циркачи. В начале улицы Нис появилась девушка, толкая перед собой шарманку на колесах. Она вошла во двор неприметного двухэтажного дома, поставила шарманку под навес и украдкой заглянула в мутное окно. В комнате было тихо. Должно быть, старый боров напился и заснул.
Девушка осторожно поднялась по шатким ступеням, перешагнув через скрипучую пятую, остановилась перед дверью и прислушалась, различив голоса. Значит, старый боров все-таки не спит, болтает с кем-то. Вот и хорошо, значит, он не услышит, как она пробирается по лестнице к себе на чердак.
Анна Марчелли тихо прикрыла за собой чердачный люк и зажгла керосинку. Она целый день таскала по улицам тяжелую шарманку, спину у нее ломило, она вся продрогла. В этом городе ей всегда было холодно, даже когда светило солнце. Она мечтала вернуться в Италию, в теплый Неаполь, где изумрудные волны лижут берег и оборванные босоногие дети носятся по улицам с веселым смехом, пусть даже животы у них подводит от голода. Она и сама когда-то бегала так, пока ее отец, наслушавшись рассказов о богатой, процветающей столице Франции, не вбил себе в голову, что они найдут там счастье. Они собрали нехитрый скарб и перешли через Апеннины.
— Вот увидишь, Анна, мы обязательно разбогатеем. Париж — самый прекрасный город на свете, люди там щедрые! Моя музыка и твой голос принесут нам славу!
Славы они так и не дождались, и всё, чего добились — это темного, продуваемого ветрами чердака, который сдал им по сходной цене скряга Ахилл Менаже (впрочем, отец называл его благодетелем).
— Che freddo!
[180] — прошептала Анна.
Спустя полгода после прибытия в город своей мечты ее отец умер от чахотки. Ему не было и тридцати пяти. Ахилл Менаже оплатил мессу и похороны — по самому дешевому разряду.
— Это Господь покарал его, — бормотал он, гладя Анну по голове.
Она отдала Менаже долг. Стократно. Так что даже сейчас, ловя на себе взгляды мужчин, чувствовала, как к горлу подкатывает тошнота.
Прошло восемь лет. Все эти годы она пела романсы на улицах и получала побои от Менаже — и это вместо обещанного отцом золотого дождя.
Она тихонько запела:
Время летит, летит,
Но любовь ему не унести…
[181]
Ей едва минуло девятнадцать. Вся жизнь впереди, все еще может измениться.
Анна придирчиво оглядела себя в мутном зеркале, висевшем в изголовье убогой постели: светло-карие глаза, тонкий нос; из-под чепчика выбиваются пряди густых волос. Она заметила, что синий фартук на бретелях снова пора штопать. Этот фартук вместе с белой блузкой и красной юбкой был ее рабочей одеждой. Анна повесила пальто на спинку единственного стула, достала из шкафа миску с чечевичной похлебкой и поставила ее подогреваться на керосинку. Окинула взглядом портреты Верди и Гарибальди, приклеенные к стене: она купила их у торговца эстампами на набережной Конти.
…Отставив пустую миску в сторону, девушка подошла к маленькому алтарю, сооруженному в память об отце: ракушечные бусы и три камушка, подобранные на склоне Везувия, были разложены вокруг потрепанного блокнота, в котором Луиджи Марчелли записывал партитуры своих произведений. Не считая этих сокровищ, ее имущество составляли кувшин, лохань, немного посуды и белья. А жалкое жилище принадлежало старому борову. Его надтреснутый голос доносился до нее снизу.
Анна встала на колени, словно пробку из бутылки, вытянула из половицы круглый сучок и приникла ухом к отверстию. Вот лысый череп Ахилла Менаже. Вот мятый шапокляк, прикрывающий макушку незнакомого субъекта. В руках у него какой-то металлический предмет со сверкающими камнями. Ахилл Менаже вынул из кармана две монеты. Шапокляк отрицательно качнулся из стороны в сторону. Ахилл Менаже добавил третью. На этот раз сделка состоялась. Шапокляк получил свои деньги и ушел; старый боров подошел к окну, дождался, пока тот скроется из виду, и тоже выскользнул за дверь. Анна бросилась к люку, приоткрыла его и проследила, как хозяин крадется по лестнице. Вот он присел у пятой скрипучей ступени, приподнял доску и засунул под нее что-то. Выпрямился, не спеша вернулся в дом и минут через десять вновь вышел на улицу, одетый в теплое пальто.
«Сегодня четверг, — сказала себе Анна. — По четвергам он ходит в бордель на улице Петион. Ага, значит ты угрожал сдать меня полиции за то, что у меня нет бумаг, да?»
Она выскользнула на лестницу, подняла доску, вытащила то, что было спрятано под ней, и засунула внутрь шарманки.
«Сначала я тебя обворую, а потом убью, мерзавец!».
Ненависть согрела ее, и вскоре она заснула.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Пятница, 15 апреля
Воркование голубей на крыше возвестило о наступлении утра. Анна съежилась под тонким одеялом: ее комнатушку продувало насквозь. В слуховое окно над кроватью, покрытое мелкими каплями дождя, падал тускло-серый свет.
Анна застонала. Ну почему нельзя, как по волшебству, перенестись в Неаполь, где она всегда просыпалась в благословенном тепле!
Надо вставать и идти на улицу, толкать перед собой шарманку, вертеть ручку и петь — чтобы заработать хоть несколько су. Всё: рывком откинуть одеяло, вскочить и быстро-быстро одеться.
Анна натянула блузку и юбку, вздрагивая от прикосновения холодной ткани. Накануне она засунула одежду под матрас, но это не дало результата. Девушка зажгла керосинку, поставила на нее кастрюлю с водой, отрезала ломоть черствого хлеба и стала медленно жевать его, стараясь растянуть подольше. Когда вода нагрелась, Анна умылась, тщательно расчесала волосы, заплела в косу и спрятала под чепчик. Она уже собиралась сварить кофе, сожалея о том, что у нее осталась лишь одна чайная ложечка драгоценного мокко, купленного за безумные деньги, когда внизу прозвучал громкий сухой щелчок. Анна вздрогнула. Потом присела на корточки, вытащила сучок из половицы и заглянула в дырку. Увидев на полу какую-то темную кучу тряпья, она не сразу поняла, что это ее «благодетель», Ахилл Менаже.
Он дернулся и затих. Анна заметила смутный силуэт, тут же пропавший из поля зрения. Наступила тишина. Девушка слышала только стук собственного сердца. Молясь, чтобы тот, кто напал на хозяина, не догадался, что наверху кто-то есть, она затаила дыхание. Послышался стук, скрежет, царапанье: кто-то методично обыскивал комнату. Интересно, Ахилл мертв или просто без сознания?
Бежать отсюда, бежать немедленно!
Не вставая с пола, Анна дотянулась до люка и медленно открыла его. Спустилась вниз. Несколько минут стояла, почти не дыша, прежде чем на цыпочках пробраться к лестнице. Перешагнула пятую скрипучую ступеньку, пробежала по двору и, дрожа от ужаса, понеслась прочь, остановившись только на углу улиц Нис и Шаронн.
Над палисадниками раздавались звуки гитары — яростное, надрывное фламенко.
Когда Кэндзи уставал, его и без того узкие глаза превращались в щелочки, и он становился похож на кота. Он рассеянно поглаживал рукоять трости, откинувшись на спинку сиденья, и наблюдал законными жандармами перед казармами на площади Монж.
— Не понимаю, зачем вы притащили меня сюда в такой ранний час, — пробормотал он, открывая дверцу фиакра, чтобы выпустить табачный дым.
Только Кэндзи мог опознать чашу. Виктор решился позвонить ему в десять вечера и, утаив истинную роль Иветты в истории с пропажей чаши, рассказал, что во время визита к дю Уссуа кухарка сообщила ему, что эта вещь была случайно выброшена вместе с мусором и попала к антиквару.
— И вот вчера мне удалось, наконец, выяснить, где можно найти этого человека, — закончил Виктор.
— Ваши расследования вечно приходятся на самое неудобное время суток. Если не в полночь, то на рассвете.
— Если сова хочет съесть мышь, ей не след спать. Вы сами мне это говорили.
— Не смейте цитировать мне мои же пословицы! — делано возмутился Кэндзи, довольный тем, как хорошо приемный сын усвоил его уроки. — Раз уж вы нанесли визит владельцу той карточки, могли поставить в известность меня — ведь это ко мне он приходил. Кстати, как вы раздобыли его адрес? На карточке ведь он не указан.
— Очень просто. Я говорил вам, что отправился в музей естественной историй.
— Вы разговаривали с этим господином?
— Нет, его там не было. Но я выяснил, где он живет, — ответил Виктор, решив умолчать о том, что Антуан дю Уссуа убит.
Кучер высадил их у церквушки Сен-Медар, на паперти которой, словно воробьи, теснились нищие.
Чем выше поднимались Виктор и Кэндзи по улице Муфтар к Пантеону, тем больше становилось прохожих. Из коллегии иезуитов высыпали студенты, заигрывая с молоденькими служанками, которые глазели на платья и шляпки в витринах магазинов.
Кэндзи о чем-то глубоко задумался. Виктор полагал, что это связано с чашей, но он ошибался. Вчера, вместо того, чтобы нанести визит портному, Кэндзи отправился на улицу Месье-ле-Пренс к переплетчику Пьеру Андрези.
Узкая витрина мастерской с едва приметной вывеской, втиснувшейся между мебельным складом и мрачным четырехэтажным домом, была завалена образцами кож и тканей. Но когда вы переступали порог, то с удивлением обнаруживали, что очутились в огромном помещении с громоздкими столами, печатными станками и специальными приспособлениями для изготовления корешков. От запаха клея и дубленых кож першило в горле. На полках разложены инструменты: фальцбейны,
[182] ножи для резки бумаги, пунсоны
[183] и многое другое, необходимое для переплетных работ.
Заправлял тут подвижный человек лет шестидесяти со снежно-белой шевелюрой и серо-зелеными глазами, настоящий мастер своего дела. Он радушно приветствовал Кэндзи, но, услышав про два тома Лафонтена, которые якобы несколько дней передал ему Виктор Легри, удивленно покачал головой: «Понятия не имею, о чем это вы». Кэндзи настаивал, переплетчик отпирался, огорчаясь, что клиент ставит под сомнение его слова. В конце концов Кэндзи принес ему извинения: должно быть, книги забыли принести.
Когда он покинул мастерскую, сомнения захлестнули его с новой силой. Он решил позвонить мадемуазель Бонтам — убедиться, что та встречалась с Айрис в среду утром. Недоумение хозяйки пансиона подтвердило его подозрения. Жозеф и Айрис солгали ему в один и тот же день и час — следовательно, они провели это время вместе.
Кэндзи не спал всю ночь в поисках доказательств своей неправоты и убедился, что их ему не найти. А тут еще эта поездка в шесть утра. Кэндзи шагал рядом с Виктором, то зевая во весь рот, то яростно сжимая челюсти — в зависимости от того, что брало в нем верх: усталость или злость.
Они миновали узкую улочку с приземистыми домами. Во дворах громоздились кучи мусора, среди которых бродили люди с огромными корзинами и крюками.
— Тряпки!
— Железо!
— Бумага!
Все, что имело хоть малейшую ценность, вываливали вдоль тротуара и продавали за несколько — максимум пятнадцать — су. Дамские шляпки соседствовали с ракушками, какие прикрепляют на головные уборы паломники; рядом с кучкой ржавых гвоздей валялся ворох старого белья, платья и рваные пальто. Неряшливо одетые женщины хватали жалкие лохмотья, вырывая их друг у друга из рук. Кэндзи невольно пришло на ум, что сам он скорее остался бы в костюме Адама, нежели ввязался в драку с этими гарпиями.
Верзила в ободранной шубе и русской шапке-ушанке из кролика схватил Кэндзи за рукав и принялся нахваливать свой товар:
— Сюда, сюда! Распрощайтесь с зубным камнем! Все стулья в вашей столовой
[184] останутся при вас! А вот это снадобье прочистит вам кишки получше клизмы! А это раз и навсегда избавит от вшей! А вон то…
Кэндзи с трудом вырвался из цепких рук торговца и нагнал Виктора, который с любопытством разглядывал стопку старых книг и газет. Торговка — смуглая мартиниканка с толстыми косами, уложенными на висках наподобие бараньих рогов, низким густым голосом приговаривала:
— Выбирай, выбирай, цыпленочек! Скину четверть цены.
— А где мне найти Клови Мартеля? — осведомился Виктор.
— Иди вон туда. В такой дождливый день он из-под своего навеса и шагу не сделает.
Кэндзи и Виктор, отчаянно работая локтями, пробрались сквозь толпу и вскоре оказались в тупичке перед столиком с товаром, принадлежащим двум косоглазым сестрам-близнецам. Молоденькая покупательница с приклеенной к губе сигаретой, в красном платке на шее, провела пальцем по лезвию старого перочинного ножа.
— И они называют это «пером»! Да эта рухлядь древнее моей бабки! Рукоятка совсем сгнила. Только дотронулась — она возьми и тресни!
Зеваки, столпившиеся здесь же, загоготали.
— Ежели не получается открыть руками нож со стопором, умные люди открывают его устричным. Так что ты сама виновата. У нас первоклассный товар! — вскинулась одна из близнецов.
— Ты со своим первоклассным товаром меня надула, старая кошелка, — крикнула девчонка, — отдавай обратно мои деньги!
— Держи карман шире, — ухмыльнулась вторая сестра.
— Ну, жабы, вы у меня сейчас попляшете! Дьявольское отродье!
Виктор и Кэндзи поспешили отойти. Отыскать Клови Мартеля не составило труда: его невероятных размеров и невероятного же пурпурного цвета нос, выдающий пристрастие к алкоголю, был заметен издалека. Высокий, тощий, с костистым подбородком и пушистыми бакенбардами, Мартель грыз спичку и с интересом наблюдал за потасовкой. Кэндзи окинул взглядом сокровища, разложенные у его ног: ночная ваза, зуб нарвала, две шляпные булавки, скверная копия «Джоконды», щипцы для колки орехов…
— Когда эти милашки закончат выдирать друг у друга волосы, я наконец смогу разложить весь свой товар. Даю слово, если вы не отыщите у меня того, что вам нужно, я сверну лавочку и уеду из города!
— Как насчет чаши из обезьяньего черепа, украшенной бриллиантами и изображением кошачьей головы? — спросил Виктор.
Клови Мартель глядел на них с невинным недоумением.
— Вот так задачка! Где ж мне добыть такую штуковину? В «Кристофле»,
[185] не иначе.
— Вы ее уже добыли. У дочери некого Леонара Дьелетта. Но на самом деле она принадлежит вот этому месье, — и Виктор показал на Кэндзи.
— Я? Я ничего не покупал. Не знаю никакого Дьелетта. И вообще — что, свободный обмен товаром уже запрещен?
— Где чаша?! — не отступался Виктор.
— Понятия не имею, о чем вы толкуете! Где она, где она… Где-то во Франции, должно быть! И вообще, дайте мне спокойно работать, я тут не ворон считаю.
Кэндзи сделал шаг вперед и бесстрастно произнес:
— Повторяю еще раз. Чаша была украдена у меня. А продажа краденого преследуется по закону.
— Ах, вот как вы запели! Я здесь уже десять лет и никто — никто! — не обвинял меня в том, что я торгую краденым! Давайте, зовите шпиков, пусть обыщут меня и убедятся. Эй, Абель, ты слышал? — обратился он к толстобрюхому торговцу вином, — Господь свидетель, голова у меня дырявая, но все свои сделки, всю выручку и все товары я помню наизусть. Обвиняя меня, вы оскорбляете всех представителей нашей славной профессии!
Вокруг уже собиралась толпа, одобрительным гудением поддерживая Мартеля.
— Все верно, мы живем в свободной стране! — выкрикнул здоровяк-старьевщик.
Виктор шепнул Кэндзи:
— Этот тип нам зубы заговаривает.
А Клови Мартель, почувствовав себя увереннее, завопил:
— Что мне сделать, чтобы вы поверили мне? Перерезать себе глотку? Спрыгнуть с колокольни Сен-Медар?
Кэндзи посмотрел на него с презрительной усмешкой.
— А ты, китаеза, чего склабишься? Хочешь, чтобы я тебе зубы вышиб? Проваливайте оба, пока целы!
— Не связывайтесь с ним, — тихо сказала Виктору незаметно подошедшая мартиниканка, — он с утра выпил столько, что у него в брюхе впору киту плавать. Так мы ж не все такие. Не зовите шпиков, не надо. Вы чего ищете?
— Украденную вещь.
— Не надо было обвинять Клови в воровстве, вы все испортили.
— Но ведь он, скорее всего, продал эту вещь, — вздохнул Виктор. — А вы случайно не знаете, с кем он обычно имеет дело?
— Дайте подумать. Коли это что-то ценное, Клови мог сбыть товар своему дружку.
— Он здесь?
— Ну, нет, он у нас помоечный аристократ. У него дом с островерхой крышей.
— Где?
— Хотите, чтобы мамаша Дуду стала доносчицей? — проворчала маркитантка, не спуская глаз с кошелька, который Кэндзи достал из кармана.
— Постарайтесь вспомнить, мадам, прошу вас.
— Ну ладно уж, — милостиво согласилась мартиниканка, засовывая купюру в рукав, — у него тут лавка неподалеку. Его зовут, как того грека, храброго вояку, которого убили, потому что доспехи не закрывали ему пятки. Это я в книжке прочитала. Обхохочешься! Наш-то Ахилл Менаже не из смельчаков. Так вот, его лавка, она на улице Нис, рядом с улицей Шаронн… Номер дома-то я забыла, но лавка там одна.
— Ешьте рыбу. Это улучшает память, — посоветовал Кэндзи, и они с Виктором направились на поиски улицы Нис.
Ссора тем временем прекратилась: близнецы обхаживали очередного покупателя, а торговец в русской шапке-ушанке во всю силу легких рекламировал уникальный, потрясающий, волшебный эликсир молодости:
— Нанесите на седые волосы, мсье, и — оп! — вы скинули десять-двадцать лет! Пять су, мсье, он вас и от «гусиных лапок» избавит!
Кэндзи замедлил шаг. Виктор изумился.
— Неужто вы верите его россказням?
— Я верю вашим. Дьелетт… Ведь это фамилия девочки, которую вы поручили заботам Айрис? — И, усмехнувшись потрясению, отразившемуся на лице Виктора, японец продолжил: — Боюсь, вам придется повторить свой рассказ. И, прошу вас, не упускайте детали… Да что это с вами, Виктор? Советую вам мясную диету, она отлично приводит в тонус и успокаивает нервы. Давайте поужинаем сегодня в «Фуайо», но прежде предупредим Жозефа и навестим этого Ахилла Менаже.
Он потерял счет времени.
«Я провалил свою миссию. Господи, я провалил свою миссию и потерял Твое доверие!».
Он перерыл весь дом, заглянул в каждую щель, перетряхнул барахло — безрезультатно. Вот только кому, интересно, принадлежит найденная на чердаке женская одежда?
Где найти Ахилла Менаже, ему подсказал носатый старьевщик с улицы Сен-Медар. Пришлось сунуть тому деньги, да еще припугнуть. Вкупе это сработало безотказно: тот сразу же выложил все, что знал.
— Улица Нис. Вам нужен Ахилл Менаже. Этот прощелыга отслюнил мне всего ничего за ту штуковину, сказал, что бриллианты фальшивые.
Менаже отошел к праотцам. Из него теперь ничего не вытянешь. Эх, не следовало его убивать… Я идиот! Он в отчаянии смахнул с полки горшочки для горчицы.
На лестнице перед домом послышались шаги, кто-то постучал в дверь и крикнул:
— Месье Менаже, вы дома?
Затаив дыхание, он вжался в стену.
— Закрыто, — констатировал второй голос, — что ж, зайдем в другой раз.
Он осторожно отвел засаленную занавеску и увидел, как две мужские фигуры спускаются по лестнице и выходят на улицу.
Его сердце подпрыгнуло. Это ощущение дежа-вю… Нет, не ощущение! Это они! Откуда они узнали? Носатый болтун рассказал?
«Нужно было прикончить его, да только слишком людно было на улице. А эти двое, похоже, знают больше, чем я!».
Японец и его компаньон исчезли из виду.
Скорее к велосипеду! Не теряй их из виду, это твой последний шанс!
Анна Марчелли была так напугана, что выскочила из дома в чем была. Теперь она потерянно бродила по кварталу Попенкур, дрожа от холода. Булочники, молочники и зеленщики уже снимали ставни с витрин. В лавки заходили простоволосые женщины с корзинами в руках; бойкие мальчишки разливали в жестяные бидоны молоко; рабочие начинали день с чарки дешевого вина.
Анна брела куда глаза глядят. Без привычной шарманки она чувствовала себя такой уязвимой. Ей казалось, что все с неприязнью рассматривают ее, осуждая за трусость.
Пробило девять. Она вошла в церковь Сент-Маргерит, куда, бывало, они с отцом заходили помолиться. После его смерти она взяла за правило хотя бы раз в неделю появляться здесь — сама толком не зная, зачем. Строгая снаружи, внутри церковь была расписана итальянскими мастерами Сальвиати и Джордано, а за коринфскими колоннами стояло несколько статуй, одна из которых напоминала Анне отца. Девушка вставала на колени, закрывала глаза и поверяла статуе все свои надежды и разочарования. Сегодня она рассказала об ужасной сцене, разыгравшейся утром. Закончив свою торопливую исповедь, Анна открыла глаза и увидела отечески протянутые к ней руки статуи… Это помогло ей прийти в себя, и она решила вернуться на улицу Нис — забрать шарманку и кое-что из вещей, пока не обнаружили тело Ахилла Менаже. А может, он вовсе не мертв — его стукнули по голове, он потерял сознание и теперь уже пришел в себя.
На улице Бафруа она нащупала в кармане монетку и купила круассан. В сырой мгле расплывались очертания повозок, колес, забегаловок… Какой-то тип схватил ее под локоть и предложил угостить, а потом развлечься. Анна вырвалась и ускорила шаг. Вдалеке виднелась Июльская колонна, золотой Гений на ее вершине
[186] тщетно старался расправить крылья и взлететь к темному небу. Срезая дорогу, девушка миновала здание Национальной компании по производству автомобилей. Под каштаном, возле жаровни, в которой полыхало оранжевое пламя, сгрудились рабочие в куртках с медными пуговицами, грея над огнем руки. Анна машинально перевела взгляд на свои пальцы, красные от холода. Она тоже с наслаждениям протянула бы их к теплу, но подойти не решилась. Вдоль узкой дороги, ведущей к заводу, росли чахлые деревья. На девушку вдруг навалилась страшная усталость. Голова закружилась, и она остановилась, стараясь восстановить силы.
На мостовую упали первые капли дождя.
Он смотрел, как ливень хлещет по окнам домов. Из своего укрытия — он спрятался под навесом магазина, где продавались старинные музыкальные инструменты, — невозможно было различить, покончили ли японец и тот, другой, с основным блюдом. Каждый раз, как открывалась дверь ресторана «Фуайо», он надеялся, что это выходят они. Но его снова и снова ждало разочарование.
Он терпеливо ждал, стараясь не обращать внимания на холод и промозглую сырость.
В животе урчало. Дождь мало-помалу стих, на улице показались редкие прохожие.
Вот наконец показались и эти двое. Пешком дошли до перекрестка.
Он следовал за ними в отдалении, делая вид, что глазеет на витрины.
— Думаете, это удачная мысль?
— Я в этом убежден — после всего, что вы мне рассказали… Предположим, мы не знаем смерти Антуана дю Уссуа… — ответил Кэндзи.
— Но о ней писали в газетах.
— Мы их не читали. Он оставил мне записку с просьбой о помощи. Естественно, меня интересует, о чем шла речь.
— А как вы узнали, где он живет?
— Проще простого, Виктор. Он сам мне это сказал. Я не собираюсь ставить вам палки в колеса и постараюсь соответствовать представлению обывателей, которые путают Японию и Китай.
— И каково же это представление?
— Я буду вкрадчив, загадочен, стану то и дело кланяться и благодарить хозяйку по-японски:
Arigato okamisan.
Виктор возвел очи горе.
— Невозможно понять, когда вы шутите, а когда говорите серьезно!
— Я более чем серьезен. Эта странная история разожгла во мне любопытство. Извозчик! На улицу Шарло.
— Я с вами, — сказал Виктор.
«Посланник» дал фиакру отъехать подальше и нажал на педали. Он вернется к дому на улице Нис завтра на рассвете.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Пятница, 15 апреля. После полудня
Дверь открылась, и они вошли в просторную прихожую, стены которой были украшены китайскими эстампами. Горничная, украдкой разглядывая Кэндзи, забрала у них пальто. Они прошли по нескончаемым коридорам и оказались в другой прихожей. Лакей в ливрее пригласил их в гостиную.
Тут стояли два дивана абрикосового цвета. Рисунок на гардинах — сюжеты из греческой мифологии — повторялся на обивке стульев. Перед камином располагались четыре кресла, освещали помещение старомодные масляные лампы, в которых нужно было постоянно подкручивать фитиль. Пианино с неизменными фотографиями в рамках, у окна — дубовый стол.
У камина стояла стройная женщина в черном шелковом платье. Кэндзи вежливо поклонился. Она подала ему изящную руку и предложила сесть. Он снял шляпу и опустился на стул, невольно отметив фолианты в кожаных переплетах, выстроившиеся в книжном шкафу.
— Вы были знакомы с моим мужем?
— Увы, нет, мадам. Он оставил мне визитную карточку, когда я был в отъезде, — ответил Кэндзи.
Габриэль дю Уссуа пробежала глазами по нацарапанным на обороте карточки строчкам.
— Даже не представляю, что он имел в виду, — прошептала она, — муж никогда не посвящал меня в свои дела.
— Простите, мадам, но почему вы говорите в прошедшем времени. Когда месье дю Уссуа…
— Месье Мори, мой бедный супруг покинул нас. Он был убит… Пуля попала точно в сердце.
— Боже правый, какой ужас! Убийцу нашли?
— Полиция ведет расследование.
В гостиную вошли двое мужчин. Первый, лет сорока, высокий, щегольски одетый, казался чем-то разочарованным. Второй, гораздо моложе, гладко выбритый, хитровато улыбался.
— Месье Мори, месье Легри, позвольте вам представить Алексиса Уоллерса, кузена моего покойного супруга, и его секретаря Шарля Дорселя.
На лице Уоллерса появилась легкая улыбка.
— Дайте-ка догадаюсь. Мори, Мори… Вы не итальянец, это уж точно. И не китаец, их фамилии просто невозможно произнести! Японец? О, хотел бы я исследовать эту загадочную страну с ее гостеприимством и прелестными женщинами — чего еще желать европейцу…
— Боюсь, вы приукрашиваете действительность.
— Месье Легри, а с вами, если мне не изменяет память, мы встречались в музее.
— Совершенно верно.
— Чем обязаны чести видеть вас здесь?
— Господа хотели поговорить с Антуаном, у них есть какие-то общие знакомые, — ответила Габриэль дю Уссуа.
— Леди Фанни Хоуп Пеббл, — уточнил Кэндзи, — сестра моего близкого друга.
— Жаль, — произнес Алексис Уоллере, — ничем не могу вам помочь. Кузен не имел обыкновения откровенничать со мной. А с вами, Шарль?
— Нет, — коротко ответил молодой человек.
— Да что с вами, Шарль? У вас такой кислый вид, будто вы постились несколько дней.
— Я сейчас разбираю путевые заметки месье дю Уссуа. И постоянно думаю о нем… Не могу примириться с тем, что его больше нет. Мадам Габриэль, Люси вернула вам перевод статьи из «Вокруг света»?
— Милый Шарль, вы прекрасно знаете, что Люси уехала ухаживать за своей захворавшей тетушкой. Я вам об этом говорила, не притворяйтесь.
— Я подумал, что она, быть может, оставила вам статью…
— Послушайте, Шарль, сейчас не самый подходящий момент!
Алексис Уоллере сурово посмотрел на Дорселя, но тот не опустил глаз.
В гостиной повисло неловкое молчание. Виктор спросил, показывая на фотографии:
— Это вы снимали? Отличная работа.
— Нет, это фотографировал Антуан. На Яве, за несколько недель до ужасного извержения вулкана.
— Кракатау? — уточнил Кэндзи.
— Вы там тоже были, месье?
— Нет, в 1883-м я был в Европе. Но новость о катастрофе меня потрясла. Я отлично знаю Зондские острова, у меня там много друзей.
— Сама не понимаю, как мы пережили этот кошмар. Ужасные воспоминания никогда не изгладятся из моей памяти, — прошептала Габриэль дю Уссуа.
— А где были вы? — спросил Виктор.
— Мы жили недалеко от резиденции генерал-губернатора Голландской Ост-Индии,
[187] в Буитензорге. Это рядом с Батавией. Антуан изучал поведение орангутангов, и мы собирались на Борнео. Все началось в одно из воскресений августа. После полудня до нас донесся слабый грохот, будто отдаленные раскаты грома. Мы решили, что надвигается гроза, да и воздух сделался горячим и влажным. Чуть погодя мы увидели вдалеке алое пламя. Взрывы становились все сильнее и к пяти часам достигли апогея. Извержение длилось всю ночь. Если бы я не видела все это своими глазами, ни за что бы не поверила, что гора, которая находится в сотне километров, может, сотрясаясь, вызвать дрожь земли так далеко от себя. В семь утра раздался грохот такой силы, что в доме попадали лампы, а окна и двери захлопали. Затем внезапно наступила оглушительная тишина, небо потемнело. Тучи пепла, исторгнутые Кракатау, окутали все непроницаемой пеленой. К девяти небо стало совсем черным, словно окно дома, в котором потушили свет. Той ночью погибли тридцать тысяч человек.
Виктор, не отрывая взгляда от губ Габриэль дю Уссуа, вспоминал фантастические истории, которые Кэндзи рассказывал ему, когда он был ребенком: «В голубых горах Явы живут летающие драконы. Когда встает жгучее солнце, они, словно огромные летучие мыши, кружат над древними крепостями, воздвигнутыми на склонах вулканов… Иногда драконы хватают человека и уносят. Так они унесли и принцессу Сурабайи…»
— Габриэль, позвольте мне удалиться? Я чувствую себя совсем разбитым, — произнес Шарль Дорсель.
Мадам дю Уссуа отпустила его.
— Простите его, месье, — обратилась она к гостям, — Шарль был крайне предан моему супругу и теперь в свободное время разбирает его бумаги.
— А мои усилия, Габриэль, для вас ничего не значат? — обиженно поинтересовался Алексис Уоллере. Он курил сигару, и голубоватый дымок окутал ореолом его голову. Кэндзи деликатно кашлянул и переменил позу.
— А что было дальше? — спросил Виктор.
— Часть острова Кракатау исчезла в глубинах океана. В результате извержения образовалась гигантская волна высотой тридцать шесть метров. Она обрушилась на восточное побережье Явы и смыла десятки деревень. Огромные волны возникли не только в Индийском океане, но и в Тихом, и в Атлантическом. Эти фотографии сделаны до катастрофы.
— Я знаю, — сказал Кэндзи, — я был там в 1860 году вместе с братом леди Пеббл. Остров тогда покрывали густые леса, такие роскошные, что мне казалось, будто я в раю. После катаклизма в разных странах по всему миру наблюдались странные явления. Помните, Виктор, в 1883-м, когда мы собирались открыть свой магазин, в Париже и других регионах Франции люди видели странное свечение. Думали, это пожары.
Кэндзи поднялся.
— Примите мои искренние соболезнования, мадам, и простите за неурочное вторжение — я всего лишь хотел познакомиться с вашим мужем и узнать, о какой услуге он просил меня.
— Быть может, ваша общая знакомая леди Пеббл подскажет вам, — заметил Алексис Уоллере. — Если что-то выясните, дайте нам знать.
— Непременно, — пообещал Кэндзи. — Спасибо, что приняли нас.
Нечасто Жозеф с такой яростью орудовал метелкой из перьев. От стопок книг поднимались сероватые облачка, щекотавшие ноздри Эфросиньи, и она раздраженно выговаривала сыну:
— Что с тобой, мальчик мой? Можно подумать, эта пыль — твой злейший враг! Мало того, у девчонки — кстати, где ее подобрали? — началась инфлюэнца… Между нами говоря, зря мадемуазель Айрис вызвала этого доктора Рейно: его хваленые лекарства — все равно что мертвому порка.
— Надо говорить: мертвому припарка, мама, — раздраженно поправил Жозеф.
— Неважно, суть-то одна. Так вот, для лечения инфлюэнцы есть только одно действенное средство.
— Сироп из улиток, что ли?
— Вовсе нет! «Куриное молоко».
[188]
— Меня сейчас стошнит.
— Еще бы — размахивать метелкой с такой силой.
Жозеф сжал зубы, борясь с желанием накричать на мать. Господи, что ей здесь нужно? Сидит за прилавком уже полчаса, будто толстая курица, которая ревностно охраняет яйцо.
«И это яйцо — я», — мрачно подумал Жозеф.
Хоть бы Айрис спустилась! Но нет, она не отходит от Иветты.
«Покинут всеми, оставлен наедине с маман! В такую погоду покупателей ждать нечего, да и на скорое возвращение месье Мори и Виктора рассчитывать не приходится…».
Метелка в руках Жозефа плясала сарабанду.
[189] Эфросинья снова чихнула, схватила зонтик и бросилась к двери:
— Уж лучше град, чем пыль!
Жозефу стало стыдно: он хотел было ее остановить, но тут в магазин вошли Виктор и Кэндзи, вымокшие до нитки.
— Вас хоть выжимай, — заметил Жозеф, довольный их появлением.
— Где Айрис? — сухо осведомился Кэндзи, стряхивая со шляпы капли воды.
— Наверху. Иветта кашляет, и она вызвала доктора.
— Заприте магазин на ключ и присоединяйтесь к нам. Все равно ни одно дело без вас не обходится, — бросил Кэндзи, — а я пока выпью стаканчик саке.
— Какая муха его укусила? — удивленно спросил Жозеф у Виктора.
— Ш-ш-ш! Наше расследование продвигается.
«И мы теперь ведем его втроем? — удивленно подумал Жозеф. — Неужели Виктор и Кэндзи держат меня за равного?» Впрочем, японец бросал на него не слишком приветливые взгляды…
Виктор вкратце рассказал о визите в дом дю Уссуа и добавил:
— Мне показалось, что внезапная смерть супруга не слишком опечалила прелестную мадам дю Уссуа. А кузен Алексис бросал на нее весьма нежные взгляды…
— Думаете, они любовники? — спросил Жозеф.
— Кто знает? Может, любовники. А может, сообщники… — ответил Виктор. — А еще есть секретарь…
— Серая мышь, — отрезал Кэндзи.
— Я уверен, перед нами специально разыграли спектакль. Они действуют сообща.
Кэндзи поджал губы.
— В таком случае их импровизаторские способности не знают равных, ведь им не было известно о нашем визите заранее. Я внимательно наблюдал за ними. Когда упомянул имя леди Пеббл, никто из троих и бровью не повел. Возможно, мы зря их подозреваем. Да и в чем, в похищении чаши? В убийстве леди Пеббл и Антуана дю Уссуа?
— Не забудьте про Леонара Дьелетта. Итак, по-вашему, за всем этим стоит некто, к кому ведут все нити?
— Не знаю, — покачал головой Виктор, — у нас несколько подозреваемых.
— Точнее, пять, патрон. Еще внезапно уехавшая камеристка и спятивший старикан с его собачьими чучелами и разговорами о сокровище тамплиеров. Вдруг главный — это он?
— Ясно одно: кто-то охотится за моей чашей. Осталось только понять, почему. Что в ней особенного? Нам надо хорошенько это обдумать. Кстати, в письме сестра Джона Кавендиша намекала на проклятие, связанное с чашей, — вмешался Кэндзи.
— Ява! — вскричал Жозеф. — Чашу привезли с Явы, так? Джон Кавендиш купил ее шесть лет назад. Антуан дю Уссуа, перед тем как вернуться в Париж, где его и убили, тоже путешествовал по Индонезии и бывал на Яве. Интересно, сопровождали ли его в этой поездке жена, кузен, секретарь, камеристка или этот безумный старик?
— Жозеф, вы — гений дедукции! — лицо Кэндзи просветлело.
— Что вы, патрон, не стоит преувеличивать мои способности. Я лишь припомнил присущие преступникам ходы и комбинации. Возможно, их двое, и они обеспечивают друг другу алиби. Фортунат де Виньоль и его дочь, например, или же мадам дю Уссуа и кузен Алексис, или Алексис и секретарь… Черт возьми! Конечно же, когда та женщина шлепнулась на мостовую прямо у нашего магазина, она отвлекала мое внимание от сообщницы! А та тем временем сделала отпечаток с ключей!
— Почему вы думаете, что женщин было две? — спросил Виктор.
— Одежда в русском стиле. Мадам Баллю сказала, что странная посетительница была одета нелепо и вычурно, а уж у нашей консьержки глаз наметанный. А вы, мсье Виктор, сами упоминали о двух дамочках, выряженных по русской моде, так что я сделал логичный вывод о…
— Это могли быть и двое мужчин, переодетые женщинами, — заметил Кэндзи. — Замолчите хоть на секунду, я не могу сосредоточиться.
Он вынул из портфеля письмо Джона Кавендиша, развернул его и принялся перечитывать. Виктор, откинувшись на спинку стула, произнес:
— Мы еще не обсудили способы убийства. Леди Пеббл застрелена из револьвера. Как и Антуан дю Уссуа. Оба преступления совершены одно за другим. Первое — в Шотландии, второе — здесь, в Париже. Необходимо выяснить, не пересекал ли кто-то из обитателей дома на улице Шарло в последние пару недель Ла-Манш.
— А Леонар Дьелетт, патрон? Думаете, его застрелили перед тем, как столкнуть на рельсы?
— Кэндзи, а вы что думаете?
Кэндзи, помолчав, вполголоса читал письмо Кавендиша.
— Скримшоу, — прошептал он, мысленно перебирая товар, разложенный на земле на улице Сен-Медар, и в памяти у него всплыло воспоминание о зубе нарвала.
«Клови Мартель… Ахилл Менаже…».
— Жозеф!
— К вашим услугам, патрон!
— Я хочу понять, в чем секрет моей чаши. Прошу вас, навестите завтра Ахилла Менаже. Он наверняка будет дома. Я могу рассчитывать на вас?
— Как на родного брата, месье Мори!
Кэндзи аккуратно сложил письмо.
День клонился к закату. Анна так и осмелилась вернуться на улицу Нис. Ее преследовало страшное видение: Ахилл Менаже лежит на полу в нелепой позе, как сломанная марионетка, а над ним нависла черная тень, словно огромный паук, который вот-вот вцепится в свою добычу.
Девушка припомнила, что один из приятелей ее отца, когда не мог найти другого пристанища, пользовался ночлежкой. Она была устроена лет двадцать назад и предоставляла кров всякому нуждающемуся, независимо от возраста, пола и вероисповедания. Бедняки говорили, что приходить туда нужно между семью и восемью часами вечера, тогда тебе укажут место для ночлега и выдадут одеяло. Анне стыдно было идти туда, но она так замерзла и проголодалась, что все-таки побрела к бульвару Шаронн.
По обеим сторонам дороги высились грязные здания с торчащими на крышах трубами. Дом под номером 122 относился к Двадцатому округу. Он состоял из двух низких корпусов, и в его широко раскрытую дверь тек бесконечный поток людей. Лишившись работы, а затем и жилья, они отправлялись бродяжничать. Были здесь и женщины: молодые оборванки, прижимавшие к груди младенцев, и старухи в лохмотьях.
Анна заняла очередь за стариком в черном сюртуке и цилиндре, знававших лучшие времена. Опустив голову, он перешагнул порог ночлежки, и человек лет сорока, заносивший постояльцев в список, насмешливо крикнул ему:
— Вечер добрый, господин профессор!
«Профессор» заполнил листок и направился в дальний конец коридора, где находилась отдельная комната с пятью кроватями, предназначенная для привилегированных обитателей ночлежки.
— Они никогда не меняют белье, — пробормотал мужчина, которому выделили место в общей комнате.
— И ты еще жалуешься?! Скажи лучше спасибо, что помогли тебе найти работу. Пошевеливайся, ты тут не один! — прикрикнул на него управляющий.
Мужчина удалился, ворча что-то про бездушных чинуш, а управляющий любезно обратился к Анне:
— Вы новенькая? Запишите здесь ваше имя, возраст и профессию. Поскольку сегодня суббота, вам предоставят спальное место не на четыре, а на три ночи. Дамская комната на втором этаже слева. Можете умыться, потом спускайтесь в столовую.
Анна поднялась по лестнице и отыскала помещение, где были раковины, мыло и полотенца. Когда она привела себя в порядок и спустилась в столовую, распоряжавшаяся там женщина выдала ей кусок хлеба. Несмотря на приветливость персонала ночлежки, Анне казалось, будто она угодила в тюрьму.
Она присела на краешек скамьи и принялась есть, разглядывая обитателей ночлежки.
В их распоряжении были и книги, и бумага, и чернильницы, но они предпочитали обсуждать свои беды-злосчастья. Анна с горечью подумала, что ей-то и писать некому: ни родственников, ни друзей. Только черная тень, которая поджидает ее там, на улице Нис. Кстати, как бы забрать оттуда свою шарманку?
Управляющий и смотрительница сообщили женщинам, что завтра им выдадут новую одежду, горячий суп и, если необходимо, справку, чтобы они могли устроиться на работу. Затем зачитали правила проживания и пригласили присоединиться к краткой молитве.
Когда Анна увидела тридцать кроватей, застеленных сероватыми одеялами, ей захотелось повернуться и убежать. Но куда? Она огляделась. Какая-то молодая женщина баюкала младенца, другая штопала юбку. Анна немного успокоилась и опустилась на кровать. Старуха, лежавшая справа, то и дело заходилась в приступах грудного кашля. Анна прижалась щекой к пахнущей дешевым мылом подушке и вскоре уснула.
Виктор сидел в вольтеровском кресле, в бессильной ярости сжимая кулаки. Жаль, что он не нашел времени задать несколько вопросов Морису Ломье! Время от времени он бросал гневные взгляды на стенные часы, раздражавшие его своим назойливым тиканьем. Казалось, оно становилось все громче и громче, заполняя всю комнату. Виктор отвернулся, словно надеясь, что проклятое письмо исчезнет. Но оно, разумеется, никуда не делось. Он взял его, хотя ему казалось, что бумага жжет пальцы. Развернул.
Дорогая, милая Таша!
Вот видишь, я пишу тебе по-французски, потому что теперь это твой язык. Я рад, что все у тебя хорошо. Благодарю за милое письмо. Что касается денег, не беспокойся, я выпутаюсь. Приеду в Париж в среду вечером и остановлюсь в недорогой гостинице «Отель де Пекин» — мне ее посоветовали. Я сгораю от желания сжать тебя в объятиях и увидеть твои успехи в живописи. Я давно жду этой минуты, но, как ты знаешь, обстоятельства были против меня. После Берлина — такого строгого, застегнутого на все пуговицы, — я мечтаю сесть рядом с тобой за круглым маленьким столиком на веранде какого-нибудь легкомысленного кафе… О Париж! Жизнь прекрасна! Недаром у нас говорится: «Во Франции я счастлив, как бог[190]».
До скорого свидания, дорогая.
Старый, горячо любящий тебя безумец.
Виктор перечитывал письмо снова и снова. Странное чувство охватило его: будто тело осталось в кресле, а сам он, легкий, невесомый, парит где-то высоко. Он не мог пошевелиться.
А потом на него набросилась боль. В горле встал ком, руки дрожали. Ревность накатывала волнами, казалось, он в ней вот-вот утонет. Он знал мужчин, которые не придавали значения чувствам, и считал себя одним из них — скользил от одного романа к другому, не заботясь о том, что творится в душе подруг, следуя лишь собственным желаниям, подчиняясь привычке. Так было до встречи с Таша.
Что это за «старый безумец»? Таша как-то раз упомянула об одном из своих бывших возлюбленных — скульпторе из Берлина. Неужели Ганс? А кто же еще? Что с того, что он женат, Таша любила его.
Виктор сложил письмо и сунул в карман. Зря он его прочитал. Разочарование сменилось угрызениями совести, а потом — уверенностью, что ему не пережить утрату Таша.
Он пытался убедить себя, что она отправилась в Барбизон, и нашел этому тысячу доказательств. Какой бы придумать предлог, чтобы оправдать свой визит к Ломье и при этом не выглядеть идиотом?
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Суббота, 16 апреля
Сон пошел Анне на пользу. Она отдохнула, согрелась, ее накормили сытной гороховой похлебкой, она почистила обувь и даже получила от администрации теплую накидку — пожертвование какой-то богатой дамы. Пора было возвращаться к себе. Однако стоило ей выйти на улицу, как в животе у нее словно лег холодный камень. Страх вернулся отголоском ночного кошмара, в котором Ахилл Менаже с окровавленным ртом гнался за ней, а потом превратился в ворона с острым клювом. Анна проснулась вся в поту на заре холодного серого дня. Соседку по-прежнему бил кашель.
Не зная, как поступить, Анна прислонилась к стене. Она сразу же замерзла. Руки, судорожно сжимающие края накидки, казались двумя белыми пятнами на черной ткани.
Мимо нее быстрым шагом прошел мужчина. Остановился, повернулся, окинул ее оценивающим взглядом.
— Малышка, что-то у тебя усталый вид. Ночка выдалась жаркая, а? Бьюсь об заклад, у тебя еще остались силы! Пойдешь со мной?
Анна, разом очнувшись, бросилась к булочной, гневно крикнув:
— Отвали, скотина!
Буржуа, разозлившись, обратился к прохожим:
— Вы видели, как она приставала ко мне? Бесстыжая!
И он попытался ухватить девушку за рукав. В этот миг из булочной вышел высокий молодой человек.
— Аттила! — воскликнул он с сильным акцентом уроженца юго-востока и, схватив буржуа за воротник, отшвырнул его в сторону. Тот поспешил прочь, а спаситель Анны поглядел на нее и, приподняв шляпу, произнес: — Святая Женевьева!
Анна, окончательно сбитая с толку, не решалась и рта раскрыть. Не хватало еще, чтобы и этот прицепился к ней.
— Не бойтесь, я в здравом уме. Просто вы точь-в-точь — героиня моей пьесы, именно такой я себе ее и представляю!
— Пьесы? — несмело переспросила Анна.
— Драма в пяти актах под названием «Святая из Лютеции»! Еще две сцены — и я завершу мой труд! — гордо объявил незнакомец и откинул назад длинные волосы.
— О, так вы писатель?
— Матюрен Ферран, драматург, — усмехнулся он и поклонился так низко, что Анна не удержалась от улыбки.
— Пресвятые угодники, вы улыбаетесь! Может, мне стоит сменить жанр и вместо трагедии написать комедию?
С этими словами он извлек из кармана булку, разломил пополам и протянул половину Анне.
— Так с кем я имею честь беседовать, о прелестная незнакомка?
— Меня зовут Анна Манчини.
— Ага. Вы землячка Данте и Ариосто! Могу ли я пригласить вас во французское кафе, мадам… или мадемуазель?..
— Мадемуазель.
Они сели за круглый столик в глубине полупустого зала. Хозяйка, пышная блондинка, поставила перед ними две огромные чашки горячего кофе, сливки и две тартинки на блюдце, потому что, объяснила она, ей нравится подкармливать художников и поэтов.
— Благодарю, мадам Нобла! Непременно приглашу вас на премьеру моей пьесы в «Театр Франсе»!
[191] — Матюрен ущипнул ее за пухлую щеку.
Дождавшись, пока хозяйка вернется за стойку, он шепнул Анне:
— Она уверена, что как только я прославлюсь, немедленно на ней женюсь. Насчет второго она ошибается.
Он рассмеялся и отпил кофе. Анна, сама не зная почему, испытывала доверие к этому длинноволосому чудаку. Поэтому, когда он спросил, чем она занимается, без колебаний ответила:
— Музыкой. Хожу по улицам и исполняю под шарманку итальянские и французские песенки. Кое-какие из них написал мой отец. Когда я пою — пусть даже при этом стою по колено в грязи, — мне так хорошо… Хочется, чтобы все, кто слушают меня, были счастливы. Иногда они принимаются подпевать — о, это такая награда для меня!
— Как я вас понимаю! Со мной творится то же самое, когда я пишу. Я уношусь в мир фантазий. Порой скачу галопом по лесам и степям с криком «Н-н-но!» и сражаюсь с врагами. Порой я — святая Женевьева и уговариваю жителей Лютеции покаянием и молитвой отвести от города полчища варваров. Пожмем друг другу руки, ибо наша встреча неслучайна!
Анна несмело коснулась его твердой, горячей ладони.
— Да вы совсем замерзли, — покачал головой Матюрен. — Это никуда не годится. Мадам Нобла, принесите нам коньяку!
Анна запротестовала, но Матюрен настоял, чтобы она сделала хотя бы глоток. Она поморщилась и закашлялась, а он рассмеялся.
— Я и сам вчера чертовски замерз в своей конуре. Пришлось отправиться к коллеге по лицею Вольтера. Я там наставник.
— Наставник?
— Наставник, воспитатель… Увы, неделю назад меня уволили. Нечего, мол, было читать ученикам аморальный рассказ. Они называют аморальным — Мопассана! Правда, я еще продавал школярам лотерейные билеты. Тому, кто вытянет счастливый номер, должна была достаться моя шляпа… Ба! Жизнь — череда невзгод, к которым нужно относиться философски. Найду другую работу. Черт, я все болтаю, а вам, должно быть, пора возвращаться к шарманке.
Анна помрачнела.
— К сожалению, моя шарманка… осталась дома, а я боюсь туда возвращаться. Сегодня я спала в ночлежке.
— Понимаю… что ж, влюбленные ссорятся, это бывает. — Он задумчиво пощипывал бородку.
— Нет, вы не понимаете… Вчера утром я завтракала, когда…
— Ни слова больше! Это ваша тайна. Итак, как я уже сказал, угля у меня маловато, но какое-никакое жилье есть. Не «Гранд-Отель», конечно, зато с видом на площадь Сент-Андре-дез-Ар. Если пообещаете сидеть тихо, как мышка, пока я сражаюсь с александрийцами, приглашу вас разделить со мной кров. Да, у меня еще есть целый мешок картошки! Вы можете занять кровать, а с меня довольно и кресла. Ну, что скажете?
— Лучшего предложения я еще не получала.
— Тогда вперед, мадемуазель Анна!
Всю дорогу Виктора терзали невеселые мысли. Он старался не думать о цели поездки, но невольно снова и снова возвращался к ней — так пациент изнывает в ожидании диагноза. «Серьезно ли я болен? Я поправлюсь?» — спрашивает он себя.
Внутренний голос шептал Виктору, что ревность придает его отношениям с любимой остроты, она словно приправа к блюду. Таша наслаждалась его ревностью подобно тому, как он — каждым новым расследованием. Без этого жизнь казалась бы скучноватой.
На соседней церквушке перекликались колокола, бледное солнце освещало пригорок, где гуляли парочки. Они пили вино в ожидании танцев и толпились у лотков уличных торговцев, сметая колбаски и пирожки.
На улице Толозе Виктор повернул направо. Толкнув двери бистро «Бибулус», путь к которому указывала табличка с надписью «К поддатой собаке», — дорогого его сердцу заведения, в котором он часто встречался с Таша, пока она не переехала на улицу Фонтен, — Виктор почувствовал, как у него сладко кольнуло в груди. В нос ударил знакомый запах дешевого пива, а вот обстановка тут изменилась. Фирмен, трактирщик, заменил табуреты и бочонки, служившие столами, на круглые столики и плетеные стулья. На стойке красовалась кофеварка. На полках выстроились рядами пузатые и плоские бутылки, стаканы и сияющие чистотой чашки. Помещение освещали не керосиновые лампы, как раньше, а газовые рожки.
— Ave, Фирмен! Помните меня?
Толстый краснолицый мужчина поправил очки.
— Мсье Легри! Amen! Давненько вы к нам не заглядывали!
— Здесь все так изменилось…
— Я женился, мсье Легри, вот и все объяснение. Супруга моя — редкая чистюля. Мне-то по душе старые добрые времена, но нельзя же и масло купить, и деньги сохранить.
[192]
— Я ищу Мориса Ломье, он тут? — небрежно спросил Виктор, косясь на узкий коридор, ведущий в мастерские художников.
— «Телемская обитель» осталась в прошлом.
Моя супруга устроила там бильярдный зал. Что ж поделаешь! Кстати, я скоро сделаюсь отцом!
— Мои поздравления, Фирмен. А вы случайно не знаете, где мне найти Ломье?
— Он обосновался в доме пятнадцать по улице Жирардон, это рядом с аллеей де Бруйяр. Его я тоже давненько не видал…
Виктор поблагодарил и вышел. Ему на ум невольно пришло услышанное когда-то от Кэндзи изречение: «Неизменны только перемены».
«Да уж, конец этого суматошного века полон перемен! — думал он. — Не проходит ни дня, чтобы не появилась какая-нибудь техническая новинка. Чувствуется, что новое столетие уже стучится в дверь… Наверное, это естественный процесс: зерно падает в землю, дает росток… Да что это со мной, неужели ностальгия?..»
Окна квартиры Мориса Ломье выходили в сад, полный розовых кустов и кошек. Виктор долго барабанил в дверь, пока тягучий голос не произнес:
— Кто там?
Виктор назвался, дверь медленно приоткрылась, потом замерла, будто не решаясь показать хозяина: растрепанного и полураздетого.
— Вы? Вот так сюрприз! Входите. Старина, вы прервали сатурналию, которая заставила бы покраснеть маковое поле!
Они прошли в комнату, где единственным предметом мебели была старая кровать. Из-под скомканного одеяла свешивались длинные черные кудри. На стенах темнели сырые пятна. Ломье натянул брюки и заляпанную краской блузу.
— Мы тут замерзнем. Давайте пройдем в мастерскую.
Он повернулся к кровати:
— Мими, набери-ка воды. А потом сбегай на улицу Норвен за двумя порциями супа. Или тремя? — обратился он к Виктору, но тот отрицательно покачал головой. — А зря. Во-первых, суп бесплатный, а во-вторых, картофель и сало придают сил дожить вечера.
Соседнюю комнатушку заполняли холсты всевозможных размеров, на большинстве из которых была изображена восхитительная обнаженная брюнетка. Стиль Ломье напоминал Гогена, отличаясь, пожалуй, большей прозрачностью.
«Похоже на передержанные, размытые фотографии», — подумал Виктор.
Ломье приоткрыл заслонку печи, чтобы усилить тягу, а через несколько секунд открыл дверцу и подбросил угля.
— Итак, что привело вас ко мне?
— Желание кое-что прояснить. Таша говорила о какой-то выставке в Барбизоне… Я бы хотел поехать туда и присоединиться к ней, но не уверен, правильно ли запомнил, где это…
— Барбизон? Вполне вероятно. Таша давно перестала со мной откровенничать. В любом случае, вы можете быть довольны: я предложил ей вместе расписывать стены у Поля Фора, а она отказалась!
— Уверяю, я здесь не при чем.
Ломье только пожал плечами.
— Да вам стоит нахмуриться и — оп! — она поступает так, как вы хотите. Я знаю, вы не питаете ко мне симпатии, Легри, но можете быть уверены, я вам не соперник. Конечно, в свое время я пробовал закинуть удочку, но… потерпел фиаско.
Виктор моментально воспрянул духом.
— А что, она вас бросила? — осведомился Ломье.
— С чего вы взяли?
— Если она сбежала от вас, может статься, ей просто не хватает воздуха, вот и все.
— Вы что-то от меня скрываете!
Ломье расхохотался.
— Да нет, дружище, я невинен, как тот ягненок из басни. А вот вы — тиран и собственник. Я всего лишь пытаюсь открыть вам на это глаза. Кстати говоря, подобное бегство для влюбленных бывает полезнее, чем самая пылкая страсть.
Он подбросил в печь угля и продолжил:
— Поверьте, я знаю, о чем говорю. Я много наблюдал за людьми и делал выводы. Совместная жизнь достойна уважения, но это дело нелегкое. Таша в вас по уши влюблена и — как ни печально это признавать! — хранит вам верность. Но вы, как и многие счастливчики, вот-вот профукаете свое счастье…
— Избавьте меня от советов, прошу вас. Вы ушли от ответа.
— На какой вопрос? Ах да, Барбизон-зон-зон! Слушайте, если Таша сказала вам, что она там выставляется, значит, так оно и есть. Вместо того чтобы болтать тут со мной, прыгайте в первый же поезд и — вперед! Раз сомневаетесь, проверьте. И не забудьте фотокамеру. Если уж вам не повезет в любви, хотя бы получите фотографию адюльтера. Это сейчас модная тема. А теперь простите, мой желудок требует обеда.
Виктор распрощался и вышел. Его переполняли ликование и злорадство одновременно. Явное раздражение Ломье грело ему душу.
«Таша по уши в меня влюблена!»
Он прошелся по аллее Бруйяр, ощущая такую радость, что у него даже закружилась голова.
И зачем он пошел к этому старому развратнику? Ведь, по сути, Ломье не сказал ничего такого, чего не знал сам Виктор. Теперь можно вернуться на улицу Фонтен и ожидать возвращения Таша. А по дороге заскочить в «Пасс-парту»: глядишь, и расследование сдвинется с мертвой точки. Что же все-таки случилось с Леонаром Дьелеттом?
Он услышал мяуканье и поднял голову. На низкой стене сидел тощий черный кот и что-то говорил ему на своем кошачьем языке.
…Анна Марчелли разглядывала комнату. На полу громоздились стопки книг, рядом с колченогим столом приткнулось продавленное кресло, в углу была уродливая печь, а полосатое покрывало на кровати напоминало арестантскую робу. Глаз радовало только крошечное слуховое окошко: можно было облокотиться на подоконник и смотреть, как снуют люди по площади Сент-Андре-дез-Ар.
Анне казалось, что она в раю. Усталость и страх бесследно исчезли, растворились в ярком солнце этой апрельской субботы. Она сама удивлялась тому, как благотворно подействовала на нее атмосфера тесной комнатушки.
Матюрен, примостившись за столом, лихорадочно покрывал листы бумаги неровными строчками. Покусывая кончик пера, он замирал на секунду, потом снова принимался писать, бормоча:
— «Очей твоих темное золото…». Нет, не рифмуется. «Твоих очей жемчужное сиянье…». Да, хорошо. «Твоих очей жемчужное сиянье и бледный свет серебряной луны…».
Иногда он откладывал перо и рассказывал Анне о своей юности в Бордо, о мечте поехать в Париж, о ссоре с отцом, который настаивал, чтобы сын изучал право вместо того чтобы тратить время на всякую ерунду. Матюрен подчинился его воле и целый год жил на двести франков в месяц (пятьдесят франков — за комнату, сорок сантимов — бифштекс с бульоном). Каждое утро он шел в колледж, где зубрил законы. Но в конце концов срезался на экзаменах и бросил постылую юриспруденцию ради высокого искусства. Разгневанный отец резко сократил ему содержание, и Матюрену пришлось искать подработку: он побывал и носильщиком на рынке Лe-Аль, и истопником в префектуре, и расклейщиком афиш, и классным надзирателем…
— Быть может, мои пьесы все-таки когда-нибудь будут поставлены, кто знает… Главное — я ни о чем не жалею! Я был узником, точно джинн в бутылке — а теперь пробка вылетела! Мое богатство — свобода! — кричал он во все горло.
Анна подавила вздох. Свобода… А кто позаботится о еде, о керосине, об угле? Сырая картошка — это не еда.
— Эврика! — вдруг воскликнул Матюрен и продекламировал:
Твоих очей жемчужное сиянье
И бледный свет серебряной луны
Меня согрели и околдовали,
Как жар огня в объятьях зимней тьмы.
Он повернулся к Анне, ожидая одобрения.
— Очень красиво, — согласилась она. — Послушайте, я привыкла сама заботиться о себе. Я не буду мешать вашему вдохновению и вернусь домой за шарманкой. Благодаря вам ко мне вернулись силы. Я пойду петь, и, быть может, мне удастся немного заработать, чтобы купить еды нам на ужин.
— Мне бы не хотелось, чтобы о Матюрене Ферране кто-то мог сказать, будто он позволяет женщине содержать себя!
— Что вы! Я просто люблю свою работу. До вечера.
Дверь за ней закрылась.
— Увижу ли я ее снова? Я никогда не пользовался успехом у женщин. А жаль, такая прелестная крошка… «Твоих очей жемчужное сиянье… твоей груди упругое тепло…» Что у нас рифмуется со словом «тепло»?..
На первом этаже массивного дома на улице Гранж-Бательер в редакции «Пасс-парту» стояла обычная суматоха. Низенький, упитанный человечек с заложенной за ухо сигаретой спокойно втолковывал длинному субъекту в венгерке, сосавшему леденец.
— Любезный инспектор, позвольте вам заметить: читателей не интересует, что Пруссия отмечает семьдесят седьмой день рождения Бисмарка, что на двенадцать французов приходится одна собака, что рост австрийской великанши Розиты составляет двести сорок пять сантиметров… Тиражи нам это не поднимет! То ли дело симпатичное преступленьице… Вы понимаете, о чем я?
— Месье Гувье, я не дурак. Отныне, если вы заведете себе осведомителя в префектуре, его немедленно переведут в провинцию.
Исидор сладко улыбнулся инспектору Лекашеру.
— Мне на это плевать. Дворцовая площадь кишит осведомителями, выбирай любого. Наши читатели будут смаковать заметки о растяпах-полицейских, и все тут. Профессор, сотрудник музея естественной истории, убит выстрелом из револьвера, а его останками полакомились крысы! Отличная выйдет заметка, не хуже чем о взрывах, совершенных анархистами.
Инспектор Аристид Лекашер в ярости потряс коробочкой с леденцами, молча повернулся и пошел к выходу. Он был уже у дверей, когда заметил мужчину в черном пальто.
— Виктор Легри! Да что же это такое: вы ходите за мной по пятам!
— Добрый день, инспектор. Как поживаете? Вы, я вижу, держитесь стойко. Это вызывает уважение.
— Вы о чем?
— О сигаретах, — пояснил Виктор, кивая на коробочку с леденцами.
— А вы, месье Легри? Надеюсь, покончили с криминальными расследованиями? — язвительно поинтересовался инспектор.
— Я занимаюсь исключительно продажей книг.
— Не верю ни единому вашему слову, месье Легри. Вы готовы на все, лишь бы удовлетворить свое любопытство. Прощайте.
Виктор приподнял шляпу и направился в кабинет главного редактора.
Антонен Клюзель, он же Вирус, метался среди журналистов и типографов, раздавая указания.
— Месье Клюзель, куда поместить заметку о краже в музее Клюни? Ну, про охранника, который унес галльские монеты?
— Заткни ею какую-нибудь «дырку». А на первой полосе дайте заголовок крупным шрифтом:
«МЕСЬЕ БЕРТЛО
[193] РАСКРЫВАЕТ СВОИ ТАЙНЫ!». Дети мои, мелинит и динамит — сосцы, питающие современность! Это интересует и сенаторов, и депутатов, и уличных торговцев! Пусть они думают об этом перед тем, как идти баиньки, пусть видят это в ночных кошмарах, пусть дрожат от страха днем! Элали, милочка, что это вы считаете ворон? Записывайте! И остальные — тоже! Мне нужно интервью Бертло. Все на штурм института, Сената, его дома! Делайте что хотите и как хотите — но вы обязаны добыть его авторитетное мнение по поводу происходящего в столице. Спросите, что он думает о завтрашнем дне, о послезавтрашнем, вообще о производстве взрывчатых веществ. И как насчет «Пособия для анархиста», которое продается повсюду, словно конфеты? Велика ли грозящая нам опасность? Что общего у наших анархистов с русскими нигилистами? Все на охоту! Вперед!
Антонен Клюзель, отдуваясь, промокнул лоб носовым платком, опрокинул рюмку коньяка и только тогда заметил Виктора:
— О, какие люди! Вы слышали? Мы не сидим без дела, а? Преступление — это именно то, что нужно читателю в мягких домашних тапочках, уютно устроившемуся в кресле. Что привело вас ко мне?
— Хотел уточнить одну деталь…
— Простите, но я ужасно спешу. Вирус должен набросать портрет Равашоля. Его вот-вот осудят, и он отправится на свидание с Шарлоттой.
[194] Вжик — и голова долой! Легри, вы можете обратиться к Гувье. — И он выбежал из кабинета, хлопнув дверью.
Виктор, подойдя к Исидору Гувье, хлопнул его по плечу.
— Мсье Легри! — воскликнул тот, оборачиваясь. — Как поживает ваш детективный роман? Изнываю от желания прочитать его.
— Чем слабее огонь, тем нежнее будет мясо. Уверен, вы слышали о том типе, старьевщике из квартала Доре, которого нашли на рельсах у Орлеанского вокзала?
— Ну да. До сих пор неясно, то ли это несчастный случай, то ли самоубийство, то ли убийство. А что?
— Хочу узнать, стреляли ли в него.
— Ну-у, тело в таком состоянии, что работники морга могут до конца дней своих развлекаться, собирая его по кусочкам. Вообще, если хотите выяснить насчет огнестрельного ранения, спросите у мадам Ирмы. А кстати, а зачем вам это? Собираетесь добавить вкусную главу к своему роману?
— Спасибо за помощь, Исидор, я в долгу не останусь.
Жозеф сидел у себя в комнате и любовался вечным пером, которое Айрис привезла ему в подарок из Лондона. Конечно, он был рад, что участвует в расследовании на равных с Виктором и Кэндзи, но ему хотелось увидеться с Айрис, а это никак не получалось. Он задумчиво вертел перо в руках, мечтая о том, как напишет новый детективный роман с лихо закрученным сюжетом. А гонорар пойдет на покупку пишущей машинки — не хуже той, что у месье Мори. Только у Жозефа это будет не «Ламбер», а «Ремингтон». И юноша мысленно произнес текст рекламы, которую прочитал в газете «Иллюстрасьон»: «Невероятно простая в использовании, надежная, быстрая!».
Он решительно начертал на первой странице чистой тетради:
Вот уже пять лет Фрида фон Глокеншпиль безуспешно искала следы сокровища тамплиеров. Стояла полночь. На черном небе сверкали молнии. Внезапно ее мастиф принялся яростно рыть землю.
— Фу, Элевтерий! — прикрикнула она.
Всю дорогу до улицы Нис Жозеф придумывал, что же такое учуял пес, и в нем крепла уверенность, что это был человеческий скелет. Наконец он подошел к стоящему на краю пустыря дому. На фасаде белой краской было написано:
АХИЛЛ МЕНАЖЕ
Антиквариат и подержанные вещи
Чуть ниже висел листок бумаги с объявлением:
Закрыто
В случае необходимости обращайтесь в дом № 4
В страхе увидеть ту же картину, что и в лачуге Леонара Дьелетта, Жозеф осторожно толкнул дверь. Она оказалась незаперта.
Тут действительно царил беспорядок. А пахло, как в помещении, куда несколько дней никто не заходил.
«Видно, покупатели, если и забредут сюда, то случайно», — решил Жозеф, глядя на покрытые пылью груды хлама: тут были и деревянный манекен, и сундук моряка с откинутой крышкой, и медная плевательница, и изрядно траченная молью лошадка на колесиках, и несколько ночных ваз, и горшочки для горчицы. А еще наковальня, веер для андалузского танца и множество разнообразных тростей и тросточек: из слоновой кости, эбенового дерева, черепахового панциря и бамбука. Чаши с головами кошек тут не было.
Жозеф скрупулезно обыскал каждый угол, прежде чем признать поражение. Потом, поскольку владелец магазина и не думал появляться, вышел во двор, исследовал его и дошел до двухэтажной хибары. Бросив взгляд на навес, под которым печально стояли велосипед и шарманка, юноша поднялся по темной лестнице. Пятая ступенька громко скрипнула у него под ногами.
«Посланник» подскочил. Шаги… Кто-то идет сюда. Напасть первым? Он затаил дыхание.
Дверь была приоткрыта. Жозеф сделал шаг в комнату и застыл на пороге. Здесь все было перерыто, точно так же, как в хижине Дьелетта.
— Месье Менаже?
Юноша прошел во вторую комнату с узким окошком. Там царил полумрак. Из буфета все вывалено на пол, кровать в беспорядке.
— Месье Менаже, вы тут?
«Посланник», который стоял, вжавшись в стену, за открытой дверью, выскользнул из комнаты, поднялся по лестнице, бесшумно открыл чердачный люк. Детская забава для того, кто привык поддерживать себя в отличной физической форме.
Жозеф сделал еще пару шагов и увидел человека. Тот лежал на спине, одна рука закинута за голову. Остекленевший взгляд яснее ясного говорил, что он мертв. Жозефа прошиб холодный пот.
«О нет! — мысленно воскликнул он, — только не это, пожалуйста, нет!».
Стараясь справиться с отвращением и страхом, он осторожно протянул руку и взялся за пальто покойника. Вот оно — темное пятно крови на груди.
И тут Жозеф замер: ему послышался какой-то шум. Нет, все тихо. Он сделал шаг назад и снова услышал какие-то звуки. Юноша бросился к окну.
К лестнице шла темноволосая женщина в темной накидке.
Жозеф попятился, споткнулся, упал на пол, заполз под кровать. Голова у него кружилась, зубы стучали от страха. Мелькнула глупая мысль: «Тут, должно быть, полно клопов». Взгляд снова упал на труп Менаже.
«Успокойся, держи себя в руках», — сказал себе он.
Он услышал на лестнице легкие, явно женские шаги. Ступенька почему-то не скрипнула. «Ага, значит, эта дамочка частенько здесь бывает», — догадался Жозеф.
Вскоре он увидел маленькие ножки в ботинках. Женщина шла прямо на него. Она остановилась в нескольких сантиметрах от тела Менаже. Жозеф затаил дыхание. Ботинки развернулись и направились к двери. На этот раз ступенька протяжно застонала.
Жозеф выбрался из-под кровати и приклеился к окну: женщина уходила, толкая перед собой шарманку. Юноша бросился на улицу. Незнакомка направлялась в сторону улицы Шаронн.
«Посланник», выждав немного, спустился по лестнице, заглянул во двор, под навес: шарманка исчезла.
Скорее к велосипеду.
Так, один за другим, они достигли улицы Шаронн: женщина с шарманкой, служащий из книжной лавки и он, «Посланник».
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Воскресенье, 16 апреля, полдень
Мадам Баллю вынесла на улицу стул и теперь, запахнув теплое пальто, грелась на солнышке, наслаждалась заслуженным отдыхом и глазела на прохожих.
Появилась Эфросинья Пиньо с корзиной, полной яблок. Отдуваясь, поставила ее не землю.
— Бедняжка, что же вы таскаете такие тяжести? — с сочувствием заметила мадам Баллю. — Это очень вредно для почек.
— А то я не знаю! — раздраженно буркнула Эфросинья. — Я бы попросила сына помочь, да только он занят: крутит шуры-муры.
— Ну, это нормально в его возрасте, не все же ему за материнскую юбку держаться!
— А я что, против? Пусть ухлестывает за кем угодно, если ему так хочется, — проворчала Эфросинья, растирая поясницу.
— Ну-ну, полноте, я же вижу, как вы за него волнуетесь. Кстати, когда выйдет его новый роман? Я уже предвкушаю увлекательное чтение.
— Мой Жожо — лентяй, каких свет не видывал! Знаете, кого он обхаживает? Дочку месье Мори!
— Не может быть! — поразилась мадам Баллю.
— Еще как может! Представляете, что будет, если эти двое натворят глупостей? Придется мне нянчить внуков — полушарантонцев-полуяпонцев!
[195]
— Так вы из Шаранты? Хорошо там, поди: устриц много.
— Откуда? Там нет никакого моря. Я погляжу, вы с географией не больно-то ладите.
— Да? Ну и ладно. Отличные яблоки у вас в корзине! Почем брали? Мне вот тоже дорого обходится эта дыра у меня под носом, — и она показала на свой рот. — Сколько в нее ни клади, все мало.
— Да вы угощайтесь. Яблоки я купила у знакомого торговца в Лe-Аль. Он мне их почти даром отдал.
Мадам Баллю не заставила себя упрашивать. Она взяла сразу несколько яблок и снова уселась, а Эфросинья подхватила корзину.
— Я бы вам помогла донести, но что-то притомилась, ноги прямо гудят, — произнесла консьержка.
— Не подскажете, где тут студия фотографа? — раздался незнакомый голос.
Эфросинья и мадам Баллю одновременно повернулись к женщине в черном шерстяном пальто и покачали головами.
— Здесь нет такой.
— Но мне дали этот адрес: улица Сен-Пер, дом восемнадцать!
Кумушки переглянулись.
— Должно быть, это какая-то ошибка, — предположила мадам Баллю.
— Да нет же, у меня и письмо есть для фотографа, который живет в этом доме!
— Погодите-ка! Это, наверное, для месье Легри.
— Отлично, значит, я пришла по адресу. На каком этаже он живет?
Эфросинья сомневалась, что Виктор дома. Насколько ей было известно, он отбыл в Девятый округ к той, кого именовал своим «предметом обожания». Быть может, дама передаст послание через месье Мори, «будущего тестя моего Жожо», добавила Эфросинья про себя.
Айрис оставила Иветту, чтобы открыть дверь. Кэндзи не было дома, но она пообещала передать ему письмо, как только он вернется. Эфросинья, инстинктивно симпатизируя приветливой, миловидной гостье, предложила ей кофе. Айрис попросила ее чувствовать себя как дома, извинилась и вернулась к постели больной.
— Вы далеко живете? — спросила Эфросинья.
— Я пришла сюда пешком с улицы Шарло, там живет моя матушка — она сдает стулья напрокат в Люксембургском саду. Ее там называют мамашей Талон. Ну, я и сказала себе: «Бертиль, ты сможешь убить одним выстрелом двух зайцев: и матушку навестить, и письмо передать».
— Вас зовут Бертиль? Красивое имя. А я Эфросинья. Раньше торговала зеленью, теперь служу тут кухаркой.
— Неужели? Вот так совпадение — я тоже кухарка. В доме семьи дю Уссуа.
— И сколько у вас едоков?
Бертиль принялась загибать пальцы:
— Шесть… нет, теперь пять. Один умер. Ну, и слуги, конечно.
— С ума сойти! А я-то жалуюсь, что мне тяжело на всех готовить…
— Ничего, я справляюсь. Хотя порой, конечно, приходится повертеться. То мясо потуши, то приготовь жаркое по-бургундски, то подай особый соус… Уж вы-то знаете, приготовить соус — такая морока. Зато правду говорят: под соусом любое блюдо сойдет.
— И что, ваши господа довольны?
— А то! Едят так, что за ушами трещит. И все толстеют. Немудрено — я готовлю луковый соус с мукой.
— Мне приходится сложнее — мадемуазель, которую вы только что видели, вообще не ест мяса, представляете! Только овощи! Вот и выкручиваешься — придумываешь всякие блюда, — пожаловалась Эфросинья.
— А вы попробуйте добавить в овощи чуток отваренного мозга, и увидите: все добавку будут просить, — посоветовала Бертиль и поднялась, несмотря на уговоры Эфросиньи посидеть еще.
«Голодное брюхо глухо», — вспомнил Жозеф известную пословицу. Он уже устал слушать грустные песенки итальянки.
Прогулка получилась долгой: от пригорода Сент-Маргерит аж до Латинского квартала. Девушка завела свою шарманку на площади Бастилии, а потом шла с ней до набережной Сены, под мостами, к Нотр-Даму — откуда спешно ретировалась, завидев полицейских.
На улице Эколь-де-Медсин она наконец остановилась у дома номер один и зашла в лавку, где торговали подержанной одеждой. Там итальянка пару минут поговорила с хозяином — папашей Бланкаром, которого чаще называли папашей Монако, и он прилепил ей на шарманку листочек с названием своей лавки. Жозеф понял, что это давало девице право стоять здесь столько, сколько ей заблагорассудится.
Он провел два часа, укрывшись за тележкой торговца фиалками, страдал от голода и жажды, но переносил трудности стоически, считая своим долгом найти объяснение ужасному зрелищу, которое открылось ему в доме Ахилла Менаже. Жозеф верил в Бога, и потому не боялся покойников — когда речь шла о смерти естественной. Но убийство — совсем другое дело! К тому же его мучило чувство вины оттого, что он вот так взял и бросил тело старьевщика. Наконец он не выдержал:
«Итальянка явно не собирается уходить. Если я потороплюсь, то успею позвонить в полицию и сообщить об убийстве».
«Посланник» отпрянул в тень арки. Какого черта этот сопляк ошивается здесь? Куда он вдруг побежал? Ах, в кафе. Понятно. Видимо, в туалет.
Он тоже не отказался бы от посещения этого заведения. Какая глупость с его стороны — обыскать все комнаты в доме старьевщика и упустить из виду сарай и навес! Эта омерзительная вещь, эта скверна — она внутри шарманки.
Жозеф подошел к телефону, висевшему на стене, нажал на рычаг и замер в мучительном ожидании. Наконец раздался резкий звонок. Жозеф снял трубку, зажал нос и гнусавым голосом произнес заранее заготовленную фразу:
— Алло? Это полиция? Инспектора Перо, пожалуйста… Да, это крайне важно. Его нет? У меня срочное сообщение. В доме номер четыре по улице Нис в квартале Попенкур обнаружен труп.
Он залпом выпил стакан гренадина и бегом вернулся на улицу Эколь-де-Медсин.
«Уф, итальянка по-прежнему тут. Слава богу. Ого! Да ей накидали кучу монет! Когда же она, наконец, уйдет?».
Когда девушка смолкла и направилась со своей шарманкой вниз по улице, Жозеф поспешил следом. Через полчаса они очутились на узкой и темной улочке Сен-Северен. Из приоткрытой двери дома донесся запах съестного. Жозеф заглянул в окно и сглотнул слюну, увидев людей, толпившихся вокруг двух здоровенных котлов и что-то накладывавших себе на тарелки. Итальянка, оставив шарманку снаружи, зашла к булочнику, купила хлеба на четыре ливра, заскочила к угольщику и в винную лавку. Затем пересекла площадь Сен-Мишель, миновала кафе, полное студентов и проституток, прошла, толкая перед собой шарманку, между верениц фиакров и омнибусов, остановилась у фонтана с барельефами, на которых были изображены драконы, сунула покупки внутрь шарманки и направилась в сторону площади Сент-Андре-дез-Ар.
В начале одноименной улицы она нырнула в подъезд покосившегося домишки.
Жозеф колебался. Зайти следом? Заговорить с ней? Но под каким предлогом? Или лучше подождать ее здесь? А может, вернуться на улицу Сен-Пер? Нешуточный голод заставил его выбрать третье.
«Посланник», радуясь, что парень, наконец, убрался, проскользнул в дом. Сердце его забилось сильнее: Вот она, шарманка, стоит под лестницей. Он уже протянул к ней руки, когда услышал чьи-то шаги на лестнице, и ушел ни с чем, вне себя от ярости.
Матюрен Ферран, растроганный тем, что Анна целый день пела на улицах, чтобы заработать им на ужин, спустился вниз, открыл чулан, закатил в него шарманку, запер и снова поднялся к себе.
В котелке уже варилась картошка, наполняя комнату аппетитным ароматом.
— Нарежьте хлеб, откройте вино. Ой, керосин почти кончился. Завтра куплю.
— О, прекрасная фея домашнего очага, вы моя принцесса! Ай! — Забыв про скошенный потолок, Матюрен ударился об него макушкой.
— Садитесь и поешьте, — приказала Анна, протягивая ему тарелку.
Котелок быстро опустел. Они отставили тарелки, поглядели друг на друга и расхохотались.
— Черт побери, оказывается, я просто умирал с голоду! Вы — моя счастливая звезда! Которая вот-вот закатится, — добавил он, заметив, что Анна клюет носом. — А ну-ка марш в кровать!
Дождавшись, пока он отвернется, она стянула с себя юбку и блузку и скользнула под одеяло. И, уже засыпая, почему-то вспомнила, как отец целовал ее в лоб и задувал свечу.
— Спокойной ночи, — прошептал Матюрен, устраиваясь в кресле поудобнее.
Лунный свет падал на стоящую на столе чашу, которую Анна забрала из дома старьевщика Менаже, и ее металлическое подножие отсвечивало серебром. Анна изо всех сил зажмурилась, но оранжевое пятно — огонек свечи — по-прежнему жгло изнутри веки. Она взглянула на чашу, и ей отчего-то стало очень страшно.
— Матюрен, вы не спите?
— М-м-м…
— Не могли бы вы лечь со мной рядом? Я ужасно замерзла.
— О… вы… вы уверены?
— Да.
Матюрен осторожно улегся в кровать. Его охватило непреодолимое желание обнять Анну.
А она, не подозревая о его чувствах, сразу успокоилась и принялась рассказывать ему о своих горестях: о смерти отца, об ужасной жизни в доме Менаже, о том, как его убили у нее на глазах и она украла чашу.
— Согрей меня, — прошептала она.
Рука Матюрена, гладившая ее волосы, скользнула ниже. Она вздрогнула, ощутив его длинные пальцы на своем плече, и крепче прижалась к нему. Кровать под ними скрипнула.
— Сейчас мы оба окажемся на полу, — выдохнул он.
Анна прижала палец к его губам.
«Памятник надо поставить тому, кто придумал жареную картошку!» — подумал насытившийся Жозеф.
Он скомкал пустой бумажный кулек, выбросил в урну и зашагал вдоль длинной вереницы фиакров, выстроившихся у бульвара Шарло.
На улице Фонтен Жозеф остановился под газовым рожком, тщательно вытер жирные пальцы и, поколебавшись, развернул письмо, которое Айрис, когда он вернулся на улицу Сен-Пер, попросила срочно передать Виктору: она сказала, что послание принесла кухарка из дома на улице Шарло.
«Я имею право знать, ведь мы с месье Мори и Виктором расследуем это дело вместе».
Господин фотограф!
Немедленно приходите, я должен рассказать вам нечто чрезвычайно важное. Но — услуга за услугу: я жду от вас по меньшей мере еще пять-шесть картинок из тех, что вы передавали мне.
Ваш покорный слуга,
барон Фортунат де Виньоль.
Жозеф присвистнул.
— Вот тебе и старый маразматик! В молодости, должно быть, не пропускал ни одной юбки!
Он сложил письмо и понял, что как ни устал, должен вернуться на улице Сен-Пер и рассказать Виктору обо всем, что случилось сегодня.
Его встретила Айрис, одетая в красивое кимоно, и, после того как они обменялись целомудренным поцелуем, пообещала, что, пока отца нет дома, она напечатает на его неприкосновенной пишущей машинке фирмы «Ламбер» пролог к «Кубку Туле».
Когда Жозеф постучал, Виктор надевал голубую рубашку с накрахмаленным воротничком и манжетами, шерстяные брюки и бархатный жилет. Он крикнул юноше, чтобы тот подождал пару минут, а когда открыл дверь, тот ахнул:
— Патрон, да вы шикарно выглядите! Постойте-ка, вы и бабочку надели? Ну и дела!
— Надеюсь, вы пришли не за тем, чтобы восхищаться моим внешним видом. Вам удалось встретиться с Менаже?
— Ну… можно сказать, что я с ним встретился, да только это дохлый номер.
— Что вы хотите этим сказать?
— По квартире старьевщика словно пронесся табун лошадей. И кроме того…
— Что такое?
— Он мертв. Получил пулю в сердце. Я анонимно позвонил инспектору Перо.
— И правильно сделали, — задумчиво произнес Виктор. — Мне жаль, что так вышло, Жозеф. Хотите чего-нибудь выпить?
— Нет, патрон, спасибо. И вот еще что. Пока я был у Менаже, туда приходила девушка. Увидела тело, испугалась и убежала. Она взяла с собой шарманку и бродила с ней по городу весь божий день. Она итальянка, поет неаполитанские песенки. Я проследил за ней и выяснил, что она живет в доме номер три на улице Сент-Андре-дез-Ар. Не знаю, имеет ли она какое-то отношение к этим смертям, но…
— Браво, Жозеф! Вы настоящий Шерлок Холмс. Может быть, чаша у девушки?
— Если так, мы это выясним. Завтра чуть свет я буду у ее дома. О, чуть не забыл! — и Жозеф вытащил из кармана письмо Фортуната.
— Должен признаться, патрон, я его прочитал, — виновато произнес он.
Виктор почесал затылок.
— Что ж, у нас общее дело и одна цель. Как вы смотрите на то, чтобы заскочить к старому развратнику?
— Патрон, он меня пугает. Эти его чучела в подвале и безумные речи…
— Что ж, если вы боитесь, я сам этим займусь.
— Боюсь?! Я?! После всего, с чем я сегодня столкнулся?
— Отлично. Тогда бегите к нему, передайте от меня подарок и внимательно выслушайте его рассказ. Постарайтесь заодно выяснить, есть ли среди членов семьи меткие стрелки и не ездил ли кто-нибудь из них в недавнем прошлом в Англию. А я отправлюсь на улицу Сент-Андре-дез-Ар. Как вам такой план?
— Я восхищен вашим организаторским талантом, патрон. А теперь мне пора, не то мать раскудахчется.
Решение Виктор принял быстро, но на душе у него было неспокойно. Таша. Она скоро вернется. Хватит ли у него решимости высказать ей все, что камнем лежит у него на сердце?
«Прекрати об этом думать. Твоя беда в том, что ты все анализируешь, пытаешься объяснить каждую мелочь, учитывая при этом только собственное восприятие. Пусть Таша выскажет свое мнение. Если между нами возникли какие-то вопросы, мы решим их вместе».
Он снял нарядный жилет и расхаживал по квартире, сжимая его в руке. Ревность снова запустила в него острые когти. Наконец он вышел, пересек двор и открыл дверь мастерской, заполненной сумеречными тенями. Зажег лампу, подошел к окну. На улице носились наперегонки мальчишки столяра, играли в «Кошку на дереве»,
[196] их звонкий смех метался между домами. Виктору не хотелось ужинать. В девять он развязал галстук и растянулся на кровати. Взгляд упал на знакомую подушку, у него перехватило дыхание, и он сердито смахнул ее на пол. Внезапно на смену ревности пришла злость, злость и обида на Таша, которая делала его несчастным.
Что он ей скажет? Что прочитал письмо, что все знает, но «ты свободна, дорогая, и можешь уйти к своему возлюбленному»? Вздор!
Он заставил себя сосредоточиться на таинственной чаше. Что в ней такого, из-за чего можно убить?
Кэндзи Мори, в небрежной позе сидя в кресле, смотрел на него с улыбкой и, казалось, вот-вот произнесет одну из своих любимых поговорок. Виктор резко отвернулся от портрета, написанного Таша пару лет назад. Что за нелепая мысль повесить его напротив кровати! Он встал, схватил одну из блузок Таша и набросил на картину.
В половине десятого Таша открыла дверь. Лампа едва освещала комнату. Таша подошла к кровати. Виктор спал, лежа на спине и закинув руки за голову. Он даже ботинки не снял. Таша пару минут стояла неподвижно, чувствуя, как сердце заходится от нежности, потом осторожно тронула Виктора за плечо. Он открыл глаза и сел.
— Это ты… Как прошла выставка?
Ей очень хотелось рассказать ему всю правду, но она обещала молчать.
— Ни одну из моих работ не купили, — произнесла она наконец.
Он смотрел, как она раздевается, и думал, как сильно ее любит. А потом сжал в объятиях и сказал себе: «Ты мне солгала».
— Мне пора, — Эдокси поправляла перед зеркалом шляпку, украшенную крупным бантом.
— Встретимся в четверг утром?
Она старалась выглядеть равнодушной, но не удержалась и расплылась в улыбке.
— Я тебе позвоню, милый.
Ей хотелось еще раз напоследок прижаться к Кэндзи, но она сдержалась, помня, как он не любит открытого проявления эмоций, и, послав ему воздушный поцелуй, упорхнула.
Как только дверь за любовницей закрылась, Кэндзи встал с постели, накинул халат и упал в уютное мягкое кресло. Он воспитывался в христианской семье, но был далек от догм и ритуалов. Жизненный опыт привел его к собственному пониманию той стороны бытия, о которой принято говорить полунамеками. Он мог часами наблюдать за видениями, созданными собственным воображением, но никогда не позволял пустым мечтаниям отравлять его жизнь. Контролировать чувства и эмоции и в то же время не перегораживать плотиной разума их вольный поток — таким было его кредо.
Кэндзи не спеша оделся и похлопал по карману, чтобы удостовериться в том, что блокнот с пословицами и афоризмами на месте. Ему не давало покоя словечко из письма Джона Кавендиша: оно трепетало в голове, взмахивая, точно бабочка крылышками, двумя слогами: Три-нил, Три-нил… Интуиция подсказывала Кэндзи уцепиться него и позволить провести себя в потаенный уголок памяти.
Он закрыл глаза и начал вспоминать. Путешествие в крытой повозке под проливным дождем. Китайское кладбище, возле которого колымага увязла в грязи. Радушный прием со стороны жителей кампонга, которые, угостив их ампо, танцевали тандак.
[197] Он вспомнил и прелестную Пати, ее нежную кожу, смуглые плечи и груди, очертания пышных бедер под саронгом, густые волосы, украшенные цветами. Во всех историях, которые она рассказывала ему полушепотом, фигурировал крис — национальный кинжал с клинком ассиметричной формы, с помощью которого вершили правосудие. Тихий голос девушки смешивался с журчанием воды.
— Река Соло, — прошептал Кэндзи.
Он перелистал записную книжку и вспомнил книгу «Таинственные истории и неведомые народы» Виктора Тиссо:
[198]
«Тринил. Деревушка на севере острова Ява, у подножия вулкана Лаву-Кукусан, на берегу реки Соло. В период муссонов река выходит из берегов, и Тринил часто страдает от наводнений…».
Кэндзи вздохнул. Ему никогда не забыть прелестное лицо своей первой женщины, хотя он провел с ней всего одну ночь. Уезжая от нее на рассвете, он обещал вернуться. Кто знал, что судьба занесет его северный остров, почти всегда окутанный холодным туманом…
Он встал, подошел к телефону, запросил Лондон и снова сел, размышляя об Айрис и Жозефе. И почему интерес дочери к этому юноше так его раздражает? Потому что он опасается, что тот может разбить ей сердце?
Зазвонил телефон. Кэндзи проинформировал собеседника о предмете своих поисков и продиктовал адрес лавки «Эльзевир».
Что ж, ответ на вопрос он получит только послезавтра. Придется подождать.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Воскресенье, 17 апреля
Жозеф, насвистывая, пересек рынок Анфан-Руж. Мимо лотков сновали хозяйки с корзинами, явившиеся с утра пораньше закупить продукты. Мрачного вида торговец предлагал прохожим приобрести мазь от укусов клопов. Тучи на небе разошлись, и на сердце у Жозефа тоже посветлело: Айрис сказала, что любит его! Не удержавшись, он купил у толстой торговки две колбаски, а вот от абсента отказался, несмотря на настойчивые уговоры. Подкрепившись, он вытащил из кармана большой конверт, который Виктор велел передать Фортунату де Виньолю.
«Открой», — шепнул Жозефу внутренний голос. И он не стал противиться искушению. В конверте оказался набор открыток с изображениями обнаженных женщин — в анфас, со спины, в профиль, стоя и лежа.
«Да уж, за такие картинки он мне все выложит», — сказал себе Жозеф и решил, что поступит по-умному: один ответ — одна картинка. Это будет честный обмен. Он аккуратно сложил открытки обратно в конверт и отправился дальше.
— Эй вы, господин в шляпе! — Жозеф остановился и послал свою самую ослепительную улыбку злюке-консьержу, стоявшему на страже у ворот частного дома. — Меня матушка к вам отправила. Велела передать мадам Бертиль, что топинамбур принесут вечером.
Его уловка сработала, Мишель Креву пропустив его в дом.
«Черт возьми, — выругался Жозеф, оказавшись внутри, — как мне потом найти дорогу обратно? Это не коридоры, а настоящий лабиринт».
Он поднялся по лестнице, тут же заблудился, толкнул первую попавшуюся дверь и оказался в комнате, стены которой были сплошь увешаны гримасничающими масками.
Жозеф услышал голоса, доносящиеся из холла, принялся искать выход и наткнулся на дверь, скрытую гардиной. Он осторожно приоткрыл ее: посреди салона стояли двое.
— Дорогая Габи, — устало произнес высокий мужчина, — согласитесь, это просто смешно.
— Что именно? — спросила дама, усаживаясь за пианино.
— Да то, что вы изображаете перед всеми домочадцами скорбь… О нет, умоляю, только не «Похоронный марш», ненавижу Шопена!
Дама опустила крышку и повернулась к мужчине. Она улыбалась. Происходящее явно ее забавляло.
— Да что случилось с вашим чувством юмора, Алексис? Вы такой угрюмый!
— Не буду отрицать. Вы, похоже, получаете удовольствие, обрекая меня на воздержание. А я…
— Мой бедный друг, вам незнакомо чувство меры… Антуана только что похоронили, а вы думаете лишь о…
— Именно об этом, моя прелестная фарисейка! Почему бы в один прекрасный день не совершить то, в чем нас давно подозревают все и каждый?
— Я… — Женщина, не договорив, повернулась к кому-то, вошедшему в комнату, его лица Жозеф не видел — только спину. — Что вам угодно, мой милый Дорсель?
— Сегодня во второй половине дня меня не будет…
Вдруг Жозеф услышал приближающиеся шаги.
Они становились все отчетливее, а потом прошли мимо. Жозеф выглянул в коридор — пусто. Зато в отдалении слышались голоса, явно указывающие на то, что комната Фортуната де Виньоля находится где-то там:
— Месье Фортунат, ваша дочь дала мне четкие указания: вам запрещается нюхать табак, а также курить, иначе вас оштрафуют.
— Молчи, потаскуха! Я скорее сдохну от голода, чем дам ей хоть один су!
— Мне-то что, — обиженно бросила Бертиль Пио. — Но вот когда вы спалите весь дом…
Жозеф выждал пару минут, пока она уйдет, нашел нужную дверь и постучал.
— Чертово отродье! Изыди, неряха! Иди, начищай свои котелки! Назвать меня поджигателем…
— Месье де Виньоль, это я, помощник фотографа. Принес вам подарок.
— А, это вы! Очень рад. Входите же, юноша. Вижу, наша неряха-посудомойка все-таки передала ему мое послание.
— Должен сказать, мой патрон не совсем понял, что вы хотели сказать.
Жозеф протянул Фортунату первую открытку. Тот жадно впился в нее взглядом.
— Прелестное создание… Увы, годы не щадят меня, и в своей немощи я более не могу поднять копье! Не мешайте, юноша, я должен сосредоточиться, — приказал Фортунат.
Он преклонил колени перед портретом Людовика XVI, пробормотал короткую молитву и поднялся.
— Мой юный друг, на сердце у меня неспокойно. Обещайте передать вашему патрону то, что я сейчас расскажу, слово в слово.
— Клянусь честью.
— Мне отчаянно не хватает денег. Не осталось ни понюшки табаку, кормят меня прескверно, не выпускают из дома. Я взываю к вам о помощи! Но что еще хуже…
Фортунат порылся в ворохе одежды, сваленной на полу, и извлек оттуда предмет, смутно напомнивший Жозефу орудие пытки.
— Гляньте-ка сюда… Что это, по-вашему?
— Э-э-э… корсет?
— Браво. Безукоризненно сшит, не правда ли? Стягивает талию «в рюмочку». У той, которая его носила, талия была не более пятидесяти сантиметров, я мог обхватить ее руками!
— К чему вы клоните?
— Терпение, мой добрый друг, терпение! Важна каждая деталь. Благодаря этому корсету подчеркивается линия бедер. Потрогайте его. Жесткий, а? Он делает фигуру необыкновенно изящной, поддерживает грудь и… Да вы меня не слушаете!
— Что вы, я весь внимание.
— Повторяю, каждая деталь чрезвычайно важна. Взгляните на вышивку сиреневым шелком — это ее цвет. Ах, сколько раз я подсматривал, как она раздевается! Она прекрасно знала, что я шпионю за ней, чертовка, и гасила свечу, прежде чем снять нижнее белье! А потом к ней приходил мужчина, и я крепко зажимал уши, чтобы не слышать, как они задыхаются в пылу страсти. Глядите, — настаивал Фортунат, суя корсет Жозефу под нос.
— Не вижу ничего необычного.
— Да вот же. Вышитая божья коровка, у нее на спинке семь черных пятнышек. Такая же татуировка с божьей коровкой была у нее на левом плече.
— О ком вы толкуете?
— О порочной Далиле, обрезавшей волосы несчастному Самсону. Ах, мой юный друг, этот танец с покрывалами…
— Тысяча извинений, но…
— Как вы объясните тот факт, что нижняя юбка — вот она, взгляните, — а еще эти подвязку и корсет с вышитыми инициалами «Л. Р.» я нашел в пещере на улице Пуату? Я был там во время своей последней вылазки.
— Понятия не имею.
— Я тоже. А она, между прочим, уже пять дней как пропала.
— Да кто же? — Жозеф терял терпение.
— Люси Робен. Камеристка моей дочери. Весьма странно. Уж не дьявол ли сыграл со мной шутку, подкинув ее одежду как раз туда, где были найдены останки одного из магистров ордена? Что думаете, юноша?
Интересно, спятивший старик говорит правду или выдумал эту историю? Жозеф взглянул на грушевидное лицо на портрете, висящем над камином. Покойный Луи-Филипп.
[199] Юноша раздумывал над тем, как бы ему направить разговор в нужное русло.
— Не могу найти всему этому разумного объяснения, — признался он. — Потерять одежду в таком месте? Эта Люси Робен, верно, рехнулась.
— Считаете, что я тоже сошел с ума? Нет, нет и нет! Я говорю истинную правду и пребываю в здравом рассудке, юноша. Никому из этой семейки нельзя доверять, я вам точно говорю. Черт подери! Вы меня оскорбили и заплатите за это. Где моя аркебуза?
«Еще немного, и мне придется спасаться бегством, — мрачно подумал Жозеф. — Нет, пока задание не выполнено, ни шагу назад!».
— Месье, почему бы нам сначала не поговорить о ставке? Защитить свою честь вы сможете и позже.
— Что ж… и какова она, ваша ставка?
— Ваши ответы на мои вопросы… в обмен вот на это, — и Жозеф показал старику вторую открытку с обнаженными нимфами.
— По рукам!
— Кто из ваших близких в недавнем прошлом бывал на Яве?
— Все, черт бы их побрал! Оставили меня на попечение бестолковой прислуги — на целых четыре месяца. И все ради того, чтобы изучать приматов. Гиббоны и орангутанги для них важнее, чем старейший член семьи!
— Мне нужны имена.
— Габриэль, моя дочь. Ее муж Антуан — тьфу на него. Кузен Максим — размазня! Секретарь Шарль — вот кто отличный малый. Ну, и вавилонская блудница.
Жозеф протянул Фортунату третью открытку.
— А кто из них ездил в Англию?
— Англия… Давайте-ка лучше выпьем, мой друг, за короля Франции! И не упоминайте при мне о проклятом Альбионе. Мой двоюродный дед погиб в Трафальгарской битве! К чертям англичан!.. Антуан наведывался туда время от времени, ездил на свои обезьяньи конференции. Ах, юноша, знали бы вы, как мне тяжело без табака! Без него в голове туман и мысли путаются. Мою дочь Габриэль околдовали… Я много рассказал вам, хоть вы и простолюдин. Знайте, я сумею себя защитить. Рапирой и пистолетом!
— Вы и стрелять умеете?
— Ха! Да в тридцатом году я обстреливал мятежников из укрытия!
[200] И дочку свою, Габриэль, научил обращаться с оружием… Ну, молодой человек, вам пора. А я пойду за своей стаей: сигнал к травле дан! Ату!
— Последний вопрос. Кто еще, помимо вашей дочери, умеет стрелять?
— Все. Скажу по секрету, их любимым занятием на Яве было изрешечивать пулями насаженные на колья дыни. Да-да, даже вавилонская блудница не отставала… Дыни, черт возьми…
Жозеф удрал, не дожидаясь продолжения.
«Посланник» наконец заметил белобрысого помощника книготорговца и тут же бросился к витрине магазина, в которой все отражалось, как в зеркале. Он не сомневался, что белобрысый пришел, чтобы сменить своего патрона, сидящего в засаде и наблюдающего за домом девчонки.
Перед прилавком толпились первые покупатели, а мальчишка, подручный мясника, засучив рукава и вооружившись лопаточкой, выкладывал на поднос свиное сало, пытаясь придать ему форму поросенка.
«Посланник» наблюдал за книготорговцем и его помощником, а на прилавке тем временем появились бараньи окорока, завернутые в бумагу а-ля воротник Медичи.
[201] С такого расстояния трудно было разобрать слова, но белобрысый помощник явно узнал что-то важное, потому что говорил, отчаянно размахивая руками. О чем он докладывал книготорговцу?
«Господи, сжалься надо мной и прекрати мои мучения! Сделай так, чтобы эти нечестивцы указали мне путь к амулету дьявола!».
— Ну, что с итальянкой? Вы ее видели?
— Нет, Жозеф. Я торчу здесь с шести утра. Из дома выходили женщины, но среди них не было ни одной с шарманкой. Думаю, девушка отправится на заработки после полудня. А как ваш визит к месье де Виньолю?
— Вас ждет сюрприз. Антуан дю Уссуа был рогоносцем. Я случайно стал свидетелем нежного тет-а-тет, которое не оставляет в этом никаких сомнений. Жена Антуана изменяла ему с неким Алексисом.
— Вот так новость. Что-нибудь еще?
— Нет. Старый маразматик так меня допек, что я и сам едва не рехнулся. В следующий раз, патрон, идите к нему сами. Я — пас!
И Жозеф передал Виктору сумбурные ответы старика, из которых следовало, что у каждого из обитателей дома имеется по дюжине скелетов в шкафу. Виктор задумался. Женская одежда, найденная в пещере на улице Пуату, — что все это значит?
— Она точно принадлежит горничной?
— Так утверждает старик. Ее зовут Люси Робен, он показал мне ее инициалы, вышитые на одежде. А еще божью коровку с семью пятнышками. Я вам точно говорю: он спятил, но при этом умело использует свое безумие. Он выложил мне всю эту чушь… словно бросил кость собаке, чтобы отстала. А уж в собаках он разбирается. И еще…
Виктор кивнул. Он внезапно вспомнил реплику мадам дю Уссуа насчет камеристки: «Уехала, чтобы ухаживать…». За кем?
— Так… Да, секретарь спросил, когда… Когда она уехала? — пробормотал он, щипая себя за ус.
Жозеф лишился дара речи. Месье Легри плевать хотел на все его старания. Виктор, видимо, что-то почувствовав, поднял на него взгляд и не удержался от улыбки — до того комично-негодующий вид был у его помощника.
— Итак, у нас появился новый подозреваемый — горничная может оказаться убийцей, — сказал он примирительным тоном. — Возможно, она только сделала вид, что исчезла. Ладно, я возвращаюсь на улицу Сен-Пер, вернусь сюда в шесть вечера. А вы глядите в оба, Шерлок Пиньо!
— Эй, постойте, они все ездили на… И еще я есть хочу! — возмутился Жозеф.
— Вспомните принцип месье Мори: хочешь есть — ешь, — бросил Виктор, запрыгивая на нижнюю ступеньку омнибуса.
Жозеф надулся. Он вообразил себя жертвой злобного тирана и пока наслаждался, представляя, как лежит, истекая кровью, а вокруг собирается толпа, не заметил Анну с шарманкой.
Инспектор Рауль Перо вернулся в контору. Он потянулся, снял ботинки, огорченно вздохнул, поглядев на дырявые носки, и принялся массировать себе ступни. Затем ослабил узел галстука, развязал его и бросил на стул. Он бы сейчас не отказался от глоточка чего-нибудь подкрепляющего. Вспомнилась фраза Жюля Жанена:
[202] «Журналист войдет в любую дверь при условии, что потом найдет выход». Он заменил «журналист» на «полицейский» и с надеждой подумал о том, что недалек тот день, когда он покинет ряды служителей закона. Впрочем, работа в полиции приносила ему тысячу восемьсот франков в год, оставляя время для занятий сочинительством.
Когда у входа появились два стража правопорядка со зловещей ношей, инспектора разобрало нездоровое любопытство. Он приподнял простыню с лица покойника и почувствовал, что сейчас упадет в обморок. Нечасто он так близко видел смерть. Увиденное окончательно убедило его как можно скорее покончить с карьерой полицейского.
Рауль Перо снова надел ботинки и закрыл окно. Полицейский участок располагался в темном, узком помещении на нижнем этаже огромного жилого дома и состоял из караульного помещения, четверть которого занимали здоровенная печь и стол, за которым Шаваньяк и Жербекур играли в «морской бой», и из по большей части пустовавшей камеры. Чтобы добраться до удобств, нужно идти к папаше Арсену, державшему скромный ресторанчик. Там же можно было пропустить стаканчик-другой дешевого вина. Из-за ошибки одной канцелярской крысы телефон установили прямо на стене кабинета инспектора — крошечной комнатки, которую он обставил на свой вкус.
Инспектор занимал должность уже шестнадцать месяцев: он старался относиться к своим обязанностям добросовестно, хотя этот район, населенный мелкими торговцами и рабочими, был таким сонным болотом, что единственными более или менее значимыми делами стали ограбление книжного магазина на улице Сен-Пер и задержание одного бедолаги-сумасшедшего, который искал жену, бродя по улицам в одних носках. Его отправили в лечебницу.
Жизнь, похожая на один нескончаемый день, текла своим чередом, и от скуки избавляли только частые ссоры, «морской бой» и черепашьи бега.
Так что, когда утром 17 апреля в участок явилась делегация прачек и рыбаков, Рауль Перо и четверо его коллег поняли: случилось что-то из ряда вон выходящее. Выяснилось, что на рассвете папаша Фигаро, который занимался стрижкой собак, обнаружил труп — его прибило течением к опоре моста Искусств.
Рауль Перо называл такие совпадения законом парных случаев. Накануне в участке раздался телефонный звонок, и неизвестный сообщил, что в Одиннадцатом округе, в доме на улице Нис лежит труп. И действительно — прибывшие на место полицейские обнаружили тело старьевщика, убитого выстрелом в сердце.
В дверь постучали. Вошел, теребя в руках кепи, бледный Антенор Бюшроль.
— Паршивая у нас работенка, шеф… Мы осмотрели тело и отправили его в морг. Женщине лет двадцать пять — тридцать. У нее дорогое нижнее белье с инициалами «Л. Р.». На плече татуировка в виде божьей коровки. Ее убили выстрелом в сердце, а потом тело бросили в реку.
— Бедняжка, видно, она питала слабость к жучкам, — заметил Рауль Перо и тотчас сложил четверостишие:
Божье создание,
Кончены страдания.
Жизнь — одно мгновение,
Декаданс и тление.
— Верно подмечено, шеф! Там пришел какой-то господин, хочет вас видеть.
— Пусть войдет.
Рауль Перо поспешно завязал шнурки на ботинках. В дверях показался Виктор Легри.
— Месье Легри, рад вас видеть! Принесли список украденного?
— Нет, я хотел лично поблагодарить вас за то, что вы помогли освободить девочку. Это вам. — И Виктор протянул инспектору книгу.
— Жюль Лафорг! «Феерический собор»!
[203] Благодарю вас, это чудесный подарок! Ах, как жаль, что мы не можем поболтать в свое удовольствие! Я должен идти: у нас убийство.
— Да что вы? Это объясняет суматоху у вас в участке и толпу зевак снаружи.
— Труп выбросили в Сену. Бедняжка… Маленький жучок, божье создание, должен был принести ей удачу, но увы… Мне надо бежать в морг. Врач, осмотревший тело, сказал, что женщину убили выстрелом из пистолета.
— Божье создание… Вы имеете в виду божью коровку? — воскликнул Виктор.
— Да, у нее такая татуировка на плече. Надеюсь, это поможет нам установить личность.
Виктор, объятый лихорадочной дрожью, наклонился к инспектору:
— Прошу вас, окажите мне милость. Я сочиняю детективный роман, и, если бы вы посвятили меня в детали расследования, это бы мне так помогло…
— Как?! Месье Легри, вы тоже пишете?! Ну и совпадение! Что ж… я подумаю, что можно для вас сделать, не разглашая тайну следствия. Можете на меня рассчитывать.
Таша удалось убедить его, что никакая опасность ему не грозит, и он согласился в полдень покинуть «Отель де Пекин».
— Кто обратит на тебя внимание? В этом городе тысячи иностранцев! Ты не такая уж важная шишка, как тебе кажется.
Стояла прохладная, но солнечная погода, и они просто прогуливались без цели — совсем как в прежние времена. Прошлись по бульвару Менильмонтан и потом шли через весь Одиннадцатый округ, болтая о том о сем. У канала Сен-Мартен об почувствовали усталость и уселись на скамейке на набережной Жемап, недалеко от госпиталя Сен-Луи.
Молча наблюдали за прачками, смотрели, как солнце поблескивает на мокрых вальках, прислушивались к их ритмичным ударам. Поблизости разгружали лодки, казавшиеся черными пятнышками на фоне синего неба с черточками заводских труб.
— Тебе не холодно? Малышка, ты ведешь разгульную жизнь.
— Ты ничего не знаешь про мою жизнь, — сердито ответила Таша.
Мимо них скользила по воде парусная шлюпка. Двое мальчишек, с трудом удерживая равновесие, бегали по ней друг за другом с кормы на нос и обратно.
— Я боюсь этого путешествия! Отчего у меня нет привычки к морю? Будь я такой, как эти сорванцы, пришел бы в восторг от предстоящей одиссеи, — сказал он и рассмеялся, но тут же помрачнел: — Да что теперь об этом говорить! Все равно я не могу уехать.
— Мне так жаль! Я сделала все, что могла, но мне не удалось собрать и четверти нужной суммы. Обещаю, ты получишь билет самое позднее в конце мая. Издатель пообещал, что заплатит, как только я представлю половину иллюстраций к книге Эдагара По, а еще я надеюсь выручить хоть что-то за картину, выставленную в галерее «Буссо и Валадон». Но если бы ты принял мое предложение — проблема была бы уже решена!
— Нет.
— Виктор — человек широких взглядов и наверняка согласится одолжить тебе денег…
— Нет.
— Эти акции… Он не сам купил их, а унаследовал от отца, и уже не раз предлагал мне обналичить.
— Ты представляешь, что будет, если ты скажешь ему, кому предназначены деньги?
— Он куда более щедр, чем ты думаешь! — воскликнула Таша.
— Ты сама наивность. Как бы там ни было, я не притронусь к его грязным деньгам. Биржа отвратительнее, чем самый мерзкий бордель.
— А ты сам бел и чист, как первый снег? Кто бросил жену и дочерей на произвол судьбы?
— Не смешивай личную жизнь и политику.
Таша вскочила, вне себя от гнева.
— Пока мужчины не начнут применять к семье те же революционные теории, которые провозглашают на улицах, ничего в этом мире не изменится!
— Ты такая хорошенькая, когда сердишься!
— Перестань обращаться со мной, как с девчонкой!
Она быстро пошла прочь, не оглядываясь. Перед ней вырастали уродливые силуэты фабрик, покачивались мачты пришвартованных к пристани лодок У Ла Виллетт в нос ударил затхлый запах тины.
Там он и догнал ее, задыхаясь.
— Ну чего ты злишься, малышка?
— Прости, но ты несправедлив к Виктору. Быть может, он буржуа в социальном значении этого слова, но у него доброе сердце. Только благодаря ему я почувствовала себя во Франции как дома.
— Любовь ослепляет тебя. Ты его идеализируешь. Твой Виктор отлично устроился: ты возишься у плиты, а он избавлен от какой-либо ответственности за тебя.
— Неправда! Он умолял выйти за него замуж. Это я отказала ему.
— Отчего же? Сделалась бы парижской матроной, супругой почтенного буржуа.
— С тобой невозможно разговаривать!
Они стояли перед бойнями Ла Виллетт. В воздухе стоял запах крови. По длинной грязной улице сновали мясники с освежеванными коровьими тушами. Таша едва сдерживалась, чтобы не расплакаться.
Виктор увидел молодую женщину с шарманкой лишь около восьми вечера. Она пересекла площадь и вошла в дом номер три на улице Сент-Андре-дез-Ар. Виктор хотел было подойти к ней, окликнуть, но решил, что лучше подождать. Она — их единственный шанс найти чашу. Когда девушка снова вышла на улицу, на этот раз вместе с длинноволосым парнем в берете, Виктор последовал за ними.
Среди студентов, толпившихся у пивных, многие были в старомодных вычурных костюмах — широких куртках или пелеринах, перехваченных на талии поясом, узких облегающих трико и с длинными волосами. Таким образом они бунтовали против условностей, жертвуя карьерой во имя свободы, и бросали вызов благопристойным парижанам.
Спутник итальянки, видно, был из их числа: он то и дело срывал с головы берет, приветствуя единомышленников, и поглядывал на свою спутницу с немым вопросом. Но она каждый раз отрицательно качала головой.
Виктору не составило труда затеряться в толпе и проследовать за парочкой. На углу улицы дез Эколь они вошли в кафе «Ле Вашетт». Виктор медлил, размышляя, войти ли следом, и его то и дело толкали входившие и выходившие посетители. Наконец он принял решение и толкнул дверь.
Почти все столики оказались заняты, но ему удалось найти свободное местечко недалеко от итальянки и ее длинноволосого спутника: Виктор уселся за один столик с каким-то пьянчугой в старой шляпе с обвисшими полями. Несмотря на то, что сосед по столику довольно громко храпел, Виктор слышал все, о чем разговаривали девушка и парень.
К ним подсел тип с бородой до самых глаз, и парень в рембрандтовском берете представил его своей спутнице как Тримуйя, поэта. Тот поинтересовался, успешно ли продвигается работа над «Святой из Лютеции».
— Она скоро даст отпор захватчикам. А сейчас там зима 451 года, гунны встали лагерем в Мелуне. Аттила сжимает кольцо окружения, Лютеция охвачена паникой, жители хотят бежать. И вот тут вступает Женевьева:
Друзья, молитесь!
Молитвою спасетесь, вооружитесь верой.
Не тронет враг Парижа! Господь убережет!
— Господь — и Анна, моя муза, — закончил Матюрен с волнением в голосе.
Тримуйя впился взглядом в итальянку и принялся теребить бороду.
— Мадемуазель, вы просто вылитая Ника Самофракийская. Только у вас голова на месте.
— Ну а ты что сейчас пишешь? — поинтересовался Матюрен.
— Начал поэму на злободневную политическую тему. Называется «Кризис на Елисейских Полях».
Слетело колесо с повозки министерства:
Конь с норовом в парламент запряжен.
Не знает власть, какое нужно средство,
Чтоб обуздать…
Декламацию прервал официант с двумя чашечками кофе по четыре су. Тримуйя смолк и снова запустил пальцы в бороду.
— Что будешь пить? — обратился к нему Матюрен.
— Если я закажу ликер из черешни, это не сильно ударит по твоему карману?
— Ничуть. Оскар! Один черешневый ликер. Это все Анна! Она не только моя вдохновительница, благодаря ей у нас завелись деньги. Ты знаешь, у нее чудный голос, она прекрасно поет. Кроме того — опять же благодаря ей — нам досталась одна старинная штуковина, которая поможет дотянуть до конца месяца.
Виктор замер. Старинная штуковина? Чаша из обезьяньего черепа? Он даже привстал, движимый безотчетным порывом немедленно расспросить итальянку, но тут вернулся официант.
— Ваш ликер! Хороший выбор, месье, сейчас самое время начинать праздновать. Первое мая на носу.
— И что?
— А то, что анархисты попотчуют нас грандиозным фейерверком. Берегитесь петард!
Виктор допил свой кассис. Матюрен извлек из кармана сверток и развернул его, предложив Анне и Тримуйя угощаться.
— Негоже пить на пустой желудок.
— Колбаски! Да ты и впрямь напал на золотую жилу! — И Тримуйя охотно присоединился к трапезе, добавив: — Пить вообще вредно. Возьми хотя бы Верлена: он скоро доконает себя алкоголем. Вчера вечером набрался так, что еле передвигал ноги. Устроил скандал в церкви Сен-Северен, орал, что ему немедленно нужно исповедаться… Ночь провел в участке.
Виктор, горячий почитатель «Давно и недавно»,
[204] был готов воспользоваться моментом и присоединиться к беседе.
Неожиданно послышались громкие голоса и смех, в «Ле Вашетт» появился импозантный мужчина с моноклем, в крылатке и цилиндре, в сопровождении целой свиты горлопанов. Он потребовал домино и котлету.
— Это еще кто? — тихо спросила Анна.
— Жан Мореас. На самом деле его зовут Пападиамантопулос.
[205] Поэт. Гений. Выглядит щеголем, и притом настоящий джентльмен…
— Он вчера сказал фразу, которая меня порядком развеселила:
«Опирайтесь как можно крепче на свои моральные принципы, в конце концов они не выдержат и согнутся». Прошу меня простить, я хочу с ним поздороваться, — сказал Тримуйя и встал из-за стола.
— Иди и ты, — подбодрила Матюрена Анна.
— Нет, я робею перед Мореасом. К тому же с ним Гюисманс и Баррес,
[206] а Баррес…
Анна смутилась. Она еще никогда не бывала в таком странном обществе: преподаватели без учеников, адвокаты без практики, врачи без пациентов сидели за столиками в кафе и беседовали о литературе. В воздухе висело плотное облако табачного дыма, и у девушки першило в горле. Она отвернулась и встретилась взглядом с симпатичным молодым человеком. Ей стало не по себе. Отчего он так пристально ее разглядывает? Зачем это он поднялся со своего места и идет к их столику?
Виктор занял место Тримуйя и сразу перешел к делу:
— Позвольте представиться: меня зовут Виктор Перо, я инспектор полиции. Мадемуазель, вы можете поведать мне один секрет.
Анна побледнела. Ее рука нащупала широкую ладонь Матюрена и сжала ее.
— Я прошу вас оставить мадемуазель в покое, — грозно произнес тот.
— Я не отниму у вас много времени. Я знаю, она ни в чем не виновата. Ей не грозит никакое обвинение… если она согласится сотрудничать.
— Почему мы должны верить, что вы на самом деле из полиции? — не сдавался Матюрен.
— Хотите пройти со мной в участок?
— Что вам от меня нужно? — прошептала Анна.
— Скажите, что вы сделали с чашей, украшенной изображением кошачьей головы?
Анна и Матюрен испуганно переглянулись.
— Эта девушка по моему совету продала ее этим утром старику, который занимается резьбой по кости.
Сердце Виктора упало.
— Сегодня утром вы выходили из дома? С шарманкой?
— Выходила, но без нее. Чтобы отнести чашу резчику.
«Идиот! — обругал себя Виктор. — Ты выслеживал женщину с шарманкой, а она была без нее; прошла у тебя перед носом, а ты ее и не заметил».
— Как зовут резчика? — спросил он.
— Настоящего имени я не знаю, но кличут его Оссо Буко. Он эмигрант-итальянец. Обычно торгует своими поделками возле всяких кафе, иногда продает картины.
— Где его найти?
— Я сама долго его искала и нашла недалеко от кафе «Прокоп», — ответила Анна.
— Он часто захаживает в «Академию бочонков» — это заведение на улице Сен-Жак, — добавил Матюрен. — но только днем. Как только солнце заходит, отправляется восвояси.
— А где он живет?
— Не знаю. Месье, мы с Анной были уверены, что эта чаша — просто дешевая безделушка. Иначе мы непременно сообщили бы…
— Кому? — не удержался Виктор.
— Нам удалось выручить за нее всего три франка и шесть су.
— У вас талант увиливать от неудобных вопросов, — горько констатировал Виктор и встал.
На самом деле всё не так уж и плохо. Теперь он знает, где искать чашу.
— Я свободна? — спросила Анна.
— Оставайтесь в доме на улице Сент-Андре-дез-Ар. Там вы будете в безопасности.
Сидевший за соседним столиком и делавший вид, будто дремлет, «посланник» вскочил и ринулся к дверям, толкнув Виктора. Отвратительный предмет у резчика по кости. Какая ирония судьбы! Быть может, если его мерзкая форма изменится, это сведет на нет злую силу, и в его уничтожении уже не будет смысла.
Через некоторое время он сидел в своей комнате, склонившись над книгой.
«…Посему ночь будет вам вместо видения и тьма — вместо предвещаний; зайдет солнце над пророками и потемнеет день над ними…»
[207]
Он захлопнул книгу, погасил лампу и некоторое время сидел в темноте и тишине, предаваясь размышлениям. В древние времена, когда свершилось невыразимое, люди услышали глас Господень. Ныне он прозвучит громче, чем когда-либо.
Время пришло.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Понедельник, 18 апреля
В первый понедельник после Пасхи книжная лавка «Эльзевир» была закрыта. Рано утром Виктор позвонил Кэндзи, сообщил о результатах расследования и сказал, что после полудня собирается наведаться на улицу Шарло, а потом разыскать резчика по кости. Кэндзи призвал Виктора к осторожности и попросил держать его в курсе новостей.
Он повесил трубку и глубоко задумался.
— Мсье… можно с вами поговорить? — окликнул его тихий голос. Иветта, бледная, одетая в белую ночную рубашку, слишком широкую и длинную для нее, походила на маленькое привидение.
— Вам лучше вернуться в постель, — пробормотал Кэндзи. — Где мадемуазель Айрис?
— В ванной… Ваш друг фотограф сказал, что папа в больнице — но это неправда.
— Знаю, — ответил Кэндзи, накидывая девочке на плечи свой редингот.
— Представляю, как он на меня сердится! Мне надо домой.
— Вам здесь не нравится?
— Нравится, но… папа, должно быть, повсюду меня ищет.
— Нет-нет, его… его предупредили и… — Кэндзи запнулся. Рано или поздно придется сказать Иветте о том, что она больше никогда не увидит отца.
Его спас телефонный звонок.
— Ложитесь в постель, я отвечу на звонок и потом поднимусь к вам. Ну-ка, быстро!
Иветта, помедлив, положила редингот на стул и вышла.
— Алло? Это вы! Спасибо, что позвонили. Записываю.
Прижав трубку плечом к уху, Кэндзи наспех нацарапал в книге заказов:
Дюбуа. Голландец. Зимой случилось наводнение, был вынужден остановить поиски. Теперь потихоньку возобновляет. Ставки высоки. Зимой 1891 года он…
На губах Кэндзи появилась чуть заметная улыбка.
Дул сильный свежий ветер. Пахло весной. Слева от рынка Анфан-Руж, на улице Шарло, дремал, пригревшись на солнышке, бродячий торговец. С той минуты, как Виктор занял свой пост, наблюдая за домом номер двадцать восемь, разложенные перед ним чулки, носки и перчатки привлекли внимание лишь малыша в матросском костюмчике с ладошками, липкими от лакрицы. Из дома вышла женщина с корзиной, заметила торговца и подошла ближе.
— Сколько стоят перчатки?
Торговец лениво приоткрыл глаза и пробормотал:
— Десять су.
Судя по описанию Жозефа, это была кухарка дю Уссуа.
— Мадам Бертиль Пио? — осведомился он, когда женщина с сожалением отошла от торговца.
Она обернулась и узнала в нем того, кто приходил к старику.
— Я собираюсь нанести визит месье де Виньолю и…
Виктор взял ее под локоть и потянул внутрь рынка — на противоположной стороне улицы он заметил долговязую фигуру инспектора Лекашера.
— Что вы себе позволяете! — возмутилась Бертиль Пио, выдергивая руку.
— Простите, мадам, просто вон тот малыш уже собирался схватить вас за пальто — а руки у него испачканы.
Кухарка направилась к лотку с овощами и принялась выбирать лук-порей.
— Зачем вам этот старик? Господь свидетель, я привыкла, что он несет галиматью, но сейчас он окончательно выжил из ума. Верно, это смерть месье дю Уссуа так на него подействовала…
Продавщице не понравилось, что кухарка уж слишком придирчиво выбирает товар, и Бертиль Пио отомстила тем, что купила овощи у ее конкурента — старика в темной одежде. Виктор терпеливо ждал, пока она наполнит корзину.
— Он носит траур по своей жене, — улыбнулась Виктору Бертиль Пио, — но картофель и лук у него отличные.
— Вы так и не рассказали, что же случилось с месье де Виньолем.
— A-а, ну да. На рассвете он, как обычно, спустился в подвал. Бормотал молитвы, сидя рядом со своими жуткими псами, набитыми соломой, а когда потянулся за свечой, над его головой просвистела пуля. Он бросился наверх, вереща что есть сил. Мадам Габриэль — надо сказать, она женщина суровая, — отчитала его, да и месье Уоллере рявкнул, что еще одна такая выходка, и он запрет старика в подвале. Только месье Дорсель, который всегда был добр к бедному месье де Виньолю, усадил его в кресло и принялся расспрашивать, что стряслось. Месье Фортунат пришел в себя и рассказал про выстрел. Позвали доктора, и он прописал старику двойную дозу успокоительного.
— А если он говорил правду? — предположил Виктор.
— Месье Уоллере спустился в подвал, обыскал там все, но не нашел ничего подозрительного. Заболталась я с вами, мне уж пора.
— Погодите, еще один маленький вопрос. Люси Робен ладила с хозяевами?
— Почему «ладила»?
— Она разве не уехала?
— Да, но скоро должна вернуться. Помяните мое слово: эта девица притворяется недотрогой, а на самом деле кокетка, каких поискать! Она их всех завлекала по очереди: сначала месье Антуана, потом — месье Уоллерса. И даже старика!
— А месье Дорселя?
— Не-е-ет, он вздыхает о мадам Габриэль. Но, кажется, ей больше по вкусу кузен.
— А вы, кажется, его недолюбливаете.
— Мне нравится только месье Дорсель. А месье Уоллере любит распускать руки.
И Бертиль отошла к прилавку мясника.
«Ошибаетесь, — подумал Виктор, — горничная уже никогда не вернется в дом на улице Шарло».
В наглухо застегнутом твидовом пиджаке, полосатых брюках и клетчатой шляпе Кэндзи был так похож на английского денди, что Эфросинья не сразу его узнала. Сама она вырядилась в желтое платье с пышными рукавами и широкополую шляпку с большим бантом, напоминающем пропеллер.
— Я иду на мессу в Сен-Сюльпис. Если вы ищете Жозефа, то он у себя. Марает бумагу вместо того чтобы сходить на исповедь. — И, ругая сына за атеизм, мадам Пиньо бочком протиснулась в дверь.
Кэндзи нашел Жозефа в подавленном настроении. Муза покинула его, и он глядел на перо и чернильницу с таким выражением, словно ждал от них спасения.
— Патрон! Какая неожиданность! Вы еще ни разу к нам не заглядывали. Простите, у меня тут беспорядок, сейчас я освобожу для вас место.
— Не беспокойтесь, я постою. Итак, вот каковы наши новости.
Кэндзи вкратце рассказал Жозефу все, что узнал от Виктора. Он был рад, что отложил болезненный разговор с Иветтой. Айрис отведет девочку посмотреть «Волшебный источник» — последнюю фантастическую иллюзию Жоржа Мельеса
[208] в театре «Робер-Уден». Иветта развлечется, а Айрис будет лишена возможности общаться с Жозефом.
— Боже правый, опять убийство! Он что, маньяк? Хоть бы месье Легри нашел этого художника-костореза, мы бы тогда увидели бы, что к чему!
— Увидели, что к чему… — задумчиво повторил Кэндзи. — Кстати, Жозеф, вы что, считаете, я ничего не вижу?
Жозеф даже привстал от удивления.
— Но патрон… о чем вы? Я сделал что-то плохое?
— Надеюсь, что нет. Но было бы прискорбно, если бы бесстыдный флирт с моей дочерью завел вас слишком далеко!
Жозефу показалось, что у него остановилось сердце.
— Месье Мори, слово «флирт» здесь неуместно. Это Любовь!
— Это вы так утверждаете.
— Единственный наш проступок состоит в том, что мы оба ответили на зов сердца, — заявил Жозеф, который очень кстати вспомнил фразу из любовного романа, украдкой позаимствованного у матери.
Кэндзи тяжело вздохнул.
— Что ж, следите за тем, чтобы зов сердца не увел вас за рамки приличий. Не забывайте, Айрис несовершеннолетняя и к тому же на редкость ветреная и взбалмошная особа.
— У вас странное мнение о собственной дочери, патрон.
— Я знаком с ней дольше, чем вы. Ее легко воспламенить — она загорается быстро, как сухая солома, и так же быстро гаснет. Айрис завораживают ею же придуманные химеры.
— Химеры?! Так вот за кого вы меня держите? За чудовище! — с горечью возопил Жозеф.
— Не передергивайте. Я вовсе не имел в виду вашу наружность. Но вы столь же романтичны, как и Айрис, и готовы примерить роль Квазимодо, мечтающего об Эсмеральде…
— Вот!
— Что?
— Квазимодо! Благодарю вас, патрон, теперь я знаю, что вы обо мне думаете.
— Полно, Жозеф, оставьте. Вы уверены, что производите на женщин впечатление.
— Я помню, что всего лишь жалкий служащий. Но даже собака вправе смотреть на епископа.
— А я — отец Айрис, и мой долг — оберегать ее от душевных порывов, которые могут оказаться пагубными. Кроме того, я отвечаю и за вас. Вы оба слишком юны и понятия не имеете…
— Мне уже двадцать два года! Исполнилось четырнадцатого февраля. Быть молодым — это что, преступление?
— Нет. Но иногда — серьезное испытание, — заключил Кэндзи.
Он был доволен собой — кажется, роль строгого отца ему удалась. Кэндзи вспомнил о недавно появившейся седине и решил, что надо будет подкрасить волосы.
— Если вас интересует расследование, возвращайтесь в книжный магазин после полудня, — бросил он, идя к выходу, — мы, вероятно, узнаем о чаше кое-что новое.
— Мне все равно, — обиженно отозвался Жозеф. «Он презирает меня, — думал юноша, — ну ничего, поглядим, что он скажет, когда мой второй роман сделает меня героем дня!»
И он с яростью набросился на бумагу:
Элевтерий работал лапами, продолжая рыть сырую плотную землю. Чутье еще никогда не подводило его. Внезапно его когти чиркнули по человеческому черепу… Фрида фон Глокеншпиль вскрикнула от ужаса…
Небо затянуло серыми тучами. Холодный ветер, словно метлой, смел консьержей, которые переговаривались у дверей домов, а начавшийся ливень прогнал посетителей кафе с террас.
Он укрылся от непогоды под навесом бакалейной лавки, ругая себя за то, что в голову ему пришла та же идея, что и книготорговцу. Тот уже битый час торчал у «Прокопа», ожидая, когда же наконец явится Оссо Буко.
Дождь мало-помалу стих, и на улице снова появились прохожие. Вечерами у «Прокопа» было оживленно — тут собирались молодые литераторы, привлеченные именем художника и куплетиста Казальса,
[209] друга Верлена. А вот днем кафе пустовало, не считая нескольких любителей пива и кюммеля.
[210]
Устав топтаться на одном месте, Виктор решил расспросить официанта об итальянце. Тот лишь пожал плечами и ответил, что макаронник не приходит сюда по расписанию, он бродит повсюду, продавая свои безделушки на террасах кафе «Источник», «Вольтер», «Золотое солнце» и «Академия», что на улице Сен-Жак.
Виктор отправился к бульвару Сен-Жермен, прошел улицу Дюпюитрен, перекресток и оказался на улице Эколь-де-Медсин, по которой тек поток студентов, играя на тромбонах и офиклеидах:
[211] они праздновали Пасху. Извозчики и пешеходы, встречаясь с процессией, снимали шляпы, то же сделал и Виктор. «Посланник», ехавший за ним на велосипеде, последовал его примеру.
На узкой улочке Сен-Жак, упиравшейся в фасад дома в стиле Людовика XIV, находилась крошечная лавочка продавца ликеров и настоек. Виктор огляделся, не заметил никого похожего на резчика-итальянца и окончательно пал духом. Но все же решился зайти в лавку и расспросить хозяина об Оссо Буко.
Вдоль стен громоздились уложенные друг на друга бочонки; несколько посетителей, усевшись на табуретах за деревянными столами, внимательно слушали буржуа в рединготе, который увлеченно рассказывал что-то, энергично размахивая руками. Виктор подсел за стойку, заказал стакан белого сансерского и спросил у хозяина, долговязого тощего субъекта, который раскрыв рот внимал словам оратора, не появлялся ли здесь человек по имени Оссо Буко.
— Не мешайте, видите, я слушаю. Спросите у его приятеля, вон он сидит. — И хозяин ткнул пальцем в сторону оборванца с приплюснутым носом, грустно созерцающего пустой стакан.
Виктор, прихватив свое вино, пересел за столик, пристроившись между оборванцем и лохматым черно-коричневым псом неопределенной породы, который тоже сидел на табурете.
— Простите за беспокойство, месье… — начал он.
— Никаких месье. Зови меня Ма Гёль,
[212] так меня все здесь кличут. Купи мой портрет, а? Вот, на выбор: Ма Гёль перед Пантеоном, Ма Гёль рядом с Сорбонной, Ма Гёль на выходе из церкви Сен-Жермен-де-Пре после вечерней службы. — И он развернул перед носом Виктора веер безобразных карикатур.
Заплатив, Виктор выбрал ту, на которой был изображен углем человечек с огромной головой, рассматривающий в лорнет корчащуюся в конвульсиях церковь.
— Очень оригинально. Знаете, я хочу купить одну из вещиц, которыми торгует ваш друг Оссо Буко.
— Я бы для начала промочил горло.
— Вот, угощайтесь, — Виктор придвинул ему свой стакан.
Пока Ма Гёль потягивал вино, Виктор изучал ремесленников, уличных торговцев, увядших женщин и поэтов-неудачников, составлявших аудиторию оратора. Тот, наконец, закончил свою длинную речь, поклонился и сел; ему тут же налили ликеру из бутылки на полке над бочками.
— Браво, Кубель! Просто восхитительная нудятина. Как обычно, — проворчал Ма Гёль и пояснил: — Этот Кубель, он немного ученый, немного астроном, немного сомелье и даже немного повар — одним словом, занимается всем понемногу. — Ма Гёль зашелся в кашле, сделав слишком большой глоток вина.
Виктор хлопнул его по спине, и тот, отдышавшись, продолжил:
— Вам нужен Оссо Буко? Везет же этому тупице и бездари! Все ученики художников за ним бегают Чего они нашли в его роже? Чем она лучше моей? Кончится тем, что в Люксембургском музее все святые будут на одно лицо. Мало того — сейчас с Буко пишут Верцингеторикса.
[213]
— Кто пишет?
— Один художник, как его… Жорж… фамилию я забыл, какая-то птичья.
— Муано? Алуэтт? Пенсон? Мезанж?
[214] — предположил Виктор.
— Нет! Вертится в голове, вот… сейчас… Буврей,
[215] точно!
— Ага, Жорж Тимон-Буврей, ученик Фернана Кормона.
[216] А где его мастерская?
— Где-то в богатом квартале недалеко от Ла-Мюэтт.
Виктор распрощался и вышел на улицу.
«Посланник» наблюдал за ним, прижавшись к стене красивого дома в стиле Людовика XIV, и решился оседлать велосипед, только когда книготорговец сел в фиакр. Он словно нарочно издевался над «посланником», вынуждая того опять крутить педали, не жалея ног. И куда же он направился? Выяснить можно только одним способом — следовать за ним по пятам.
Виктор вышел на площади Пасси и свернул на улицу с тем же названием. Он расспрашивал прохожих о Тимон-Буврее, пока наконец ему не подсказали, что тот живет на улице Рафаэль.
Квартал и правда оказался зажиточным, с красивыми домами. Здесь было тихо и спокойно, время от времени из боковых улочек выезжали велосипедисты. Мысли Виктора вернулись к двум загадочным событиям последнего времени — украденной чаше и письму, найденному у Таша. Внезапно они странным образом соединились, и перед его внутренним взором возник жуткий образ: на металлическом основании зловещей чаши вместо обезьяньего черепа — голова Таша, на ее губах играет улыбка. Он остановился и крепко зажмурился, прогоняя чудовищное видение.
Наконец он увидел роскошный дом Жоржа Тимон-Буврея. Виктор так устал, словно прошел пешком через всю столицу, но взял себя в руки и бодрым тоном попросил мажордома сообщить хозяевам о его приходе. Тот с недоверчивым видом прочитал его визитную карточку, помедлил, но в конце концов проводил в маленький салон, посоветовав сидеть смирно и не шуметь; минут через пятнадцать у натурщиков будет перерыв, и хозяин его примет.
Комната больше напоминала склад реквизита, чем салон. Тут было оружие всех эпох, начиная с древности: напротив бомбарды
[217] выстроились рогатины и дубинки; мушкеты, алебарды и арбалеты соседствовали со шпагами и другим холодным оружием. Вдоль стен были расставлены манекены, закованные в латы и шлемы. Виктор заметил, что краешек гобелена, украшающего одну из стен, чуть колышется. Он поднялся, подошел ближе — там оказалась приоткрытая дверь, и он увидел часть мастерской художника.
Взгляд приковывало огромное полотно, изображающее военный лагерь: горящий костер, греющиеся у него солдаты, одетые в наполеоновскую форму. Позади, на подмостках, стояли пятеро натурщиков. Время от времени кто-нибудь из них устало облокачивался на перила. Если усы и брака
[218] еще оставляли место для сомнений относительно того, кого они изображали, то чучело петуха, которое держал на руке самый пожилой из них, подтверждало: это галлы.
— Я устал как собака, с меня хватит, — заявил старик с петухом.
— Еще пару минут. Не шевелитесь, — холодно ответил голос откуда-то справа.
Виктор осторожно приоткрыл дверь шире и увидел сухопарого человека лет сорока в офицерской форме. Он стоял на верхней ступени стремянки с палитрой в одной руке и кистью в другой, словно капитан на мостике.
— Людоед, — пробурчал натурщик, изображавший Верцингеторикса.
Мэтр спустился на пару ступеней, чтобы нанести еще несколько мазков (Виктор заметил, что на нем удобные зимние ботинки), и мрачно объявил пятнадцатиминутный перерыв.
— Костюмы не испортите! — крикнул он натурщикам, которые поспешно стягивали парики.
Виктор вернулся в салон и подкараулил их, когда они выходили во дворик. Он сразу заметил итальянца в белом, как у судьи, парике и тронул его за плечо.
— Вы — Оссо Буко?
Старик с оскорбленным видом смерил его взглядом и хрипло произнес:
— Не так дерзко! Ты обращаешься к защитнику Герговии!
[219]
Остальные натурщики расхохотались и принялись зажигать трубки и сигареты.
— Жаль, что нельзя устроить сражение между галлами и римлянами, — усмехнулся один из них, — я бы поставил пару франков на Цезаря!
Оссо Буко сплюнул и отошел с Виктором в сторонку.
— Вчера вы получили от вашей соотечественницы некий предмет, который принадлежал моему другу. Я говорю о чаше, сделанной из черепа. Я готов выкупить его у вас. Назовите цену.
— Откуда у вашего друга эта дрянь и зачем она ему?
— Это семейная реликвия.
— Ничего себе! Я бы предпочел быть сиротой, чем расти в семье, у которой такие реликвии. Чаша была у меня, не стану отрицать. Я думал сделать из нее пепельницу. Но когда понял, что это такое, поспешил от нее избавиться.
Виктор удивленно наморщил лоб.
— Вы что, выбросили ее? Лучше бы вернули девушке!
— Почему выбросил? Просто не хотел хранить у себя. Не хватало еще, чтобы меня сочли людоедом! Этот Тимон-Буврей нанял меня за три франка в день — тогда как французы получают по пять! Обычно меня пишут в костюме бретонского рыбака или отшельника. А когда я не отдаю себя на растерзание мазилам, продаю мои маленькие поделки — мне хватает на пот-о-фе.
[220]
— Погодите, при чем здесь людоедство?
— Я вырезаю вещицы из бедренных и теменных костей, коленных чашечек, позвонков. Делаю ложечки для горчицы, пепельницы, подушечки для полировки ногтей из костей крупного рогатого скота. Но скорее сдохну, чем осмелюсь использовать кости человека! Это не только безнравственно, но и запрещено законом!
— И все равно мне непонятно…
— Чаша вашего друга сделана из черепа ребенка. Черт, какая мерзость!
— Ребенка?! Вы с ума сошли, это обезьяний череп!
— Вчера вечером я для верности показал ее одному студенту-медику. Его вердикт однозначен: это человеческий череп. Так что я продал ее моему соседу с улицы Удон, его можно найти на мясном рынке.
— Как его зовут?
— Эспри Боррез. Думаю, он уже сбыл ее своему кузену. А этого ищите на ярмарке железного лома.
— Бульвар Ришар-Леонар?
— Точно. Около Бастоша.
И Оссо Буко опустил в карман монетку в четырнадцать су.
— Благодарю за пожертвование. Приходите на бульвар Сен-Миш, я вырежу для вас ушную лопаточку или крючок для накалывания бумаг.
Виктор покинул дом художника. Что за странное дело! Каждый раз, когда кажется, что чаша Джона Кавендиша вот-вот попадет ему в руки, она снова ускользает! Похоже, найти Грааль и то проще! Нужно рассказать все Кэндзи, и чем быстрее, тем лучше.
И он поспешил к улице Пасси, стараясь выкинуть из головы мысли о Таша. «Посланник» неотступно следовал за ним.
Они условились встретиться у железнодорожного вокзала Венсенн. Кэндзи и Жозеф приехали первыми и теперь в ожидании Виктора лакомились жареными каштанами, наблюдая за текущим мимо потоком пассажиров.
Жозеф обратил внимание на молодого человека в шляпе-канотье, с гвоздикой в петлице и букетом лилий в руках. К нему подбежала девушка в светлом платье, и Жозеф отвернулся, не в силах спокойно глядеть на счастье, которое не нужно было прятать. Доведется ли ему когда-нибудь вот так, прилюдно, демонстрировать свои чувства к Айрис? Он с укором взглянул на Кэндзи, но тот невозмутимо жевал каштаны. Вот из-за кого им приходится довольствоваться мимолетными поцелуями в комнатке позади книжной лавки! Кончится тем, что Айрис, как и Валентину, выдадут за какого-нибудь хлыща!
Неподалеку остановился фиакр, втиснувшись между группой жандармов и омнибусом, и Виктор, выйдя, поднял трость, привлекая внимание Жозефа и Кэндзи. Перекинувшись парой слов — суть дела он успел изложить по телефону, — они направились к бульвару. Солнце снова вышло из-за туч, подсушило брусчатку, и она тут же покрылась тонким слоем пыли.
Они дошли до ярмарки, откуда доносился аппетитный запах жареного мяса. Здесь были подвешены на крюках окорока, колбасы, ветчина. Жозеф застыл перед прилавком, и Виктору пришлось взять его под руку:
— Скорее, у нас мало времени!
Вокруг царила веселая ярмарочная суматоха.
— Попробуйте мой крепинетты!
[221] Тают во рту!
— Это не просто заливное, это пища богов!
— Кто еще не попробовал мои колбаски?
— Хочу смородиновый сироп! — ныл мальчишка, дергая за руку отца, который склонился над прилавком с кровяной колбасой.
Торговцы и торговки в национальных костюмах своих регионов надсаживали глотки, отрезая огромными ножами ломтики ветчины и окорока и предлагая на пробу прохожим.
Виктор рассматривал таблички с именами торговцев.
— Кэндзи! — внезапно позвал он и показал на коленкоровую ленту, на которой была намалевана вереница поросят и зеленая надпись:
ЭСПРИ БОРРЕЗ
Король туренских[222] шкварок Париж,
XVIII округ, улица Удон, дом 12
Жозефа угощала паштетом хорошенькая продавщица из Франш-Конте.
— Только попробуйте, мсье! Вы никогда еще не ели такой вкуснотищи!
Виктор вернулся, схватил своего помощника за рукав и увлек к прилавку, где их нетерпеливо ждал Кэндзи.
Им не пришлось долго искать месье Борреза: этого здоровенного громогласного детину с красной рожей было видно и слышно издалека.
— Подходите ближе, месье! Изволите сыру? Или предпочитаете паштет из гусятины?
— Мы хотим получить чашу, которую вам продал некий Оссо Буко. Он намекнул, что она, вероятно, находится у вашего кузена.
— Старый прохвост попал в яблочко! Я и впрямь толкнул ее Жану-Луи Дигона, как только случай представился.
— Как его найти?
— Должно быть, он тут со своим товаром. Вы его сразу узнаете: у него черная повязка на глазу, вылитый пират.
Жозеф с горечью покидал ветчинный рай во имя куда менее привлекательного царства железа.
Вдоль аллеи вытянулись серые хибары старьевщиков, порой их товар был разложен прямо на земле, и толпа текла между ними медленным тонким ручейком. Как Виктор ни старался, идти быстрее не получалось.
— Кто мне объяснит, почему всех тянет сюда, словно магнитом? Я еще понимаю — еда… Но что интересного в этом барахле? — недоумевал Жозеф.
— Абсолютно с вами согласен, — ответил Кэндзи. — Это лишь подтверждает мое мнение о том, что западному человеку присуще набивать свой дом ненужными вещами. Едва избавившись от тарелки, доставшейся от двоюродной прабабушки, он тут же покупает бюст Жан-Жака Руссо. Вещи странствуют из одного дома в другой.
— Человек по природе своей страшится пустоты, — пробормотал Виктор, борясь с искушением подойти поближе к фотографическим принадлежностям, расставленным между лоханками и флаконами на одном из лотков.
Но Кэндзи уже пожалел о своих словах, потому что теперь не мог свернуть к книгам в надежде обнаружить редкий экземпляр — его друг и коллега как-то раз нашел на ярмарке издание Мольера с иллюстрациями Буше.
Через пару минут им пришлось замедлить шаг, потому что впереди идущие останавливались, глядя на девушку в модных ботиночках, забравшуюся на кучу ящиков и звонким голосом предлагавшую купить ключи, замки, кастрюли и кочерги — вдвое дешевле, чем в любом магазине! Жозеф со смутным волнением уставился на ее щиколотки в шелковых чулках, тряхнул головой и отвел взгляд в сторону.
— Патрон! Вон наш одноглазый!
Жан-Луи Дигона продавал всё что ни попадя — от пуантов до чучела крокодила. В данный момент он раскладывал перед собой потрепанные зонтики.
— Десять франков! Пять франков, мадам, отдаю по дешевке! Спицы жесткие, как ваш корсет, малышка! Вот этот месье не даст соврать, — кивнул на Кэндзи одноглазый, обращаясь к пышнотелой матроне.
Кэндзи, наклонившись, взялся за свою чашу:
— Сколько?
— О-о-о, месье, это чрезвычайно ценный предмет домашней утвари. Редкая жемчужина в моей коллекции! Экзотический сосуд, в котором патагонский охотник смешивал яд, чтобы смочить наконечники своих стрел и отправиться выслеживать пекарей
[223] в лесах Амазо…
— Сколько? — повторил Кэндзи, с деланным пренебрежением глядя на чашу.
Одноглазый, которого так бесцеремонно прервали посередине вдохновенной импровизации, замолчал и спустя пару секунд произнес:
— Десять франков.
Кэндзи протянул деньги.
— Вы… вы не торгуетесь?
— Не вижу смысла. Ведь это чаша из самой Патагонии, разве нет?
— Подождите, я вам ее заверну.
— Сойдет и так, — бросил Кэндзи и отошел от прилавка.
Жозеф готов был обнять одноглазого — так восхитило его красноречие торговца. Он еще несколько минут слушал его, разинув рот, а потом бросился догонять Виктора и Кэндзи.
— Послушайте, вы переплатили за вашу патагонскую чашу, — пропыхтел он, — это всего лишь дурацкая подделка. Считай, выброшенные деньги!
Кэндзи, не замедляя шага, ответил:
— Вы полагаете? Что же не сказали раньше, когда я ее покупал? Тем хуже для вас — вычту эту сумму из вашего жалованья.
Обида и ярость захлестнули Жозефа. Он шел молча, проговаривая про себя отповедь Кэндзи:
«Раз так, патрон, завтра утром я отдам вам деньги, а потом увезу вашу дочь!»
Он не слышал, как Виктор посоветовал ему не обращать внимания на слова патрона, сказав, что это просто шутка, и не заметил велосипедиста, который на полной скорости несся им навстречу. Когда тот промчался мимо, едва не сбив с ног Жозефа, юноша очнулся и послал ему вдогонку длинное ругательство. И тут велосипедист наехал на Кэндзи. Мелькнула рука, вырвала кубок, велосипед набрал скорость, резко затормозил перед рельсами и упал на мостовую под негодующие крики пассажиров империала. Велосипедист вскочил, прижимая к себе чашу, и, обогнув омнибус, бросился наутек. Виктор — за ним. Кэндзи, выбравшись из толпы, побежал следом. Жозеф был последним в этой процессии, он отчаянно лавировал между фиакрами и повозками, не обращая внимания на проклятия, которые неслись ему в спину. Куда бежит этот воришка?
«Боже правый! Да нет, не настолько же он идиот…».
Вор бежал прямиком к Июльской колонне. Он что, хочет взобраться наверх? Охранник, раскинув руки, перегородил вору проход. Раздался выстрел, охранник завопил, вор исчез. Виктор тоже.
Второй выстрел.
Пуля ужалила Виктора в правый бок, он крутанулся на месте. Кэндзи, не заметив, что Виктор ранен, бросился за похитителем внутрь колонны, вверх по винтовой лестнице. Виктор несколько секунд не двигался. Он понял, что произошло, только когда к нему подбежал Жозеф:
— Патрон!
Виктор с усилием приподнялся, оперся о стену, пошатываясь, встал на ноги. Он попытался расстегнуть ремень и снова упал, прижав руку к ране. Голова у него кружилась, в глазах потемнело.
— Патрон, вы ранены?!
— Ничего серьезного, царапина… Кэндзи…
— Патрон, вы истекаете кровью, вам нужен врач!
Виктор, собравшись с силами, приоткрыл глаза и увидел искаженное страхом лицо Жозефа.
— Вы… нужны Кэндзи, — выдохнул он.
— Патрон!
— Бегите же… скорее…
Голоса вокруг… Внезапно накатившая слабость, почти приятная… жутковатый шепот, похожий на шелест листвы… И — пустота.
На лестнице было просторнее и светлее, чем ожидал Жозеф. Мысли о месье Легри, который истекал кровью там, у подножия колонны, удвоили его силы, но, одолев двести сорок высоких ступеней, он начал задыхаться, и голова кружилась так, словно он выпил пойла, которым его потчевали в квартале Доре. Выбежав наружу и оказавшись на открытой площадке на вершине колонны, он в растерянности заметался, не зная, куда двигаться дальше. Кровь бешено стучала в висках, пот заливал глаза, перед ними плыли разноцветные пятна.
Он услышал приглушенный вскрик и, побежав на голос, увидел невероятную сцену: Кэндзи боролся с вором, перехватив его руку с пистолетом. Жозеф застыл на месте, не в силах шевельнуться. Вор вдруг перестал сопротивляться и обмяк, но спустя долю секунды резко дернулся назад и ударил Кэндзи коленом между ног. Тот согнулся от боли и выпустил его руку, а противник двинул его ботинком в висок. Жозеф услышал щелчок: к шее Кэндзи был приставлен револьвер, и палец уже нажимал на спусковой крючок. Жозеф одним движением он сорвал с себя куртку, бросился вперед, накинул ее на голову вору и дернул назад. Прозвучал выстрел, но пуля прошла мимо Кэндзи, а пистолет отлетел в сторону.
Вор боролся так отчаянно и с такой злобой, что очень скоро выпутался из куртки, толкнул Жозефа, сдавил ему горло и, поставив подножку, повалил на пол. Он оседлал юношу и нанес ему прямой удар. Жозеф, не чувствуя боли, вцепился противнику в волосы, оттянул его голову назад, и тот ослабил хватку, но тут же снова навалился на Жозефа, прижимая к перилам и норовя перекинуть через них. Юноша извивался, стараясь высвободиться, он чувствовал, что его голова, плечи и груди уже висят в пустоте. Внизу было пятьдесят два метра до отливающей металлическим блеском ленты канала Сен-Мартен; Жозеф видел кажущийся таким маленьким пригород Сент-Антуан и ярмарку. Он почувствовал, что вот-вот потеряет сознание, отчаянно замолотил руками, последним страшным усилием восстановил равновесие, схватил противника за плечи и столкнул вниз.
Он не видел, как тот падает. Но потом еще много месяцев ночной кошмар вползал в уютное гнездо его сна, и перед глазами вставали летящий вниз человек и неподвижное тело у подножия колонны.
Кэндзи очнулся и увидел перед собой серо-голубое небо.
— Месье Мори! Месье Мори! Очнитесь! — взывал к нему Жозеф.
Голова у Кэндзи гудела. Он стряхнул оцепенение, попытался встать и тут же согнулся от резкой боли.
— Благодарю вас, Жозеф, я обязан вам жизнью, — слабым голосом произнес он, прижав руку к низу живота. — Помогите-ка встать…
— Патрон, это ужасно, я… я убил человека! Я столкнул его вниз! Это тот самый, в темных очках, кто передал для вас визитку от месье дю Уссуа… Боже правый, я убийца!
— Успокойтесь, мой мальчик, вы всего лишь защищались. Где чаша?
— Здесь ее нет. Должно быть, упала вместе с ним. — Жозеф с укоризной посмотрел на Кэндзи. Как можно думать о какой-то чаше, когда месье Легри, быть может, уже мертв!
Искалеченное тело Шарля Дорселя лежало на мостовой лицом вниз. Из кармана куртки выпала разбитая на куски чаша Джона Кавендиша. Маленькая кошачья голова откатилась к ногам маленькой девочки, которая проворно подобрала ее и сунула в карман — а ее мать истерически закричала, прижимая к себе ребенка. «Это будет мой талисман», — решила девочка.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Среда, 20 апреля
Инспектор Лекашер вел себя так, будто пришел только для того, чтобы оценить интерьер комнаты: он ходил взад-вперед, останавливался около овального письменного стола, гладил его полированную поверхность, наклонялся к гравюрам, разложенным под стеклом, рассматривал рисунки Таша. Виктор, полулежа в постели, наблюдал за инспектором, на лице которого читался с трудом сдерживаемый гнев.
Наконец инспектор отправил в рот целую горсть леденцов и застыл, облокотившись о ночной столик. Виктор, чувствуя себя неуютно, беспокойно дернулся и не смог удержаться от стона.
— Вам больно, месье Легри? Мне вас ничуть не жаль. Посеешь ветер — пожнешь бурю.
— Избавьте меня от нравоучительных пословиц в стиле месье Мори.
— Кажется, его любимая: «Слово — серебро, а молчание — золото». Я весь вечер пытался выяснить у него, что вы трое делали на верхушке Июльской колонны. Но он словно воды в рот набрал. И между прочим, ваш помощник — тоже.
— Жозеф пережил шок.
— Еще бы! Пусть этот ваш верный Санчо Панса скажет спасибо, что его не обвинили в убийстве! И посоветуйте ему на будущее утолять жажду приключений сочинением романов! Что до вас, то я надеюсь, ранение послужит вам уроком. Чудо, что вы вообще остались живы.
— Позвольте не согласиться: пуля попала в хронометр, который отец подарил мне в детстве, чтобы приучить к пунктуальности. Я хранил его в ящике стола и уже почти забыл о нем, а недавно разбирал свои вещи и решил носить с собой.
— Вы водили за нос полицию! Во-первых, проводя свое расследование, вы самонадеянно подвергали смертельному риску нескольких людей, в том числе и себя самого, и в результате один-таки погиб! Во-вторых, хотя обещали оставить детективную деятельность, снова помешали следственным действиям. Мало того, вы издевались надо мной, месье Легри, и этого я вам не прощу!
— Я никогда бы не позволил себе…
— Хватит! Сказать вам, где я только что был? На улице Шарло, в доме двадцать восемь: Ваши визиты, как и визиты вашего помощника, стали предметом пересудов у прислуги Я имел долгую беседу с мадам дю Уссуа, но не выяснил ничего, что проливало бы свет на случившееся. Интуиция подсказывает мне что она лжет. Мадам дю Уссуа настаивает на том, что убийца был эмоционально неустойчив, поэтому, узнав, что любовница-камеристка изменила ему, застрелил ее и выбросил труп в Сену.
— Камеристка? Вы говорите о Люси Робен?
— Да! Когда труп с татуировкой в виде божьей коровки, фигурально выражаясь, упал ему прямо в руки, инспектор Перо вспомнил о вашем неожиданном визите в полицейский участок Седьмого округа. Мадам дю Уссуа, которую я пригласил на опознание после того, как Бертиль Пио рассказала мне об исчезновении Люси Робен, подтвердила, что утопленница — ее камеристка.
— Что ж, тайна раскрыта. Тривиальная любовная история, — заметил Виктор, но тут же пожалел о своих словах: инспектор вытащил из кармана хорошо знакомую ему вещь.
— А это, по-вашему, что такое? Нашли рядом с телом человека, упавшего с Июльской колонны.
Виктор, стараясь изобразить удивление, посмотрел на погнутый маленький треножник.
— Понятия не имею…
— Нет, вы когда-нибудь окончательно выведете меня из себя… Кто такой Фортунат де Виньоль, вы тоже понятия не имеете?
— Разумеется нет.
— Я показал ему этот предмет — после того как его дочь заявила, что не знает, что это такое. Так вот, он подпрыгнул на месте и сказал, что узнает сокровище тамплиеров, о существовании которого он вам говорил. По его словам, это — часть некой проклятой чаши, спрятанной в глубине старого шкафа… как вы думаете, кем?
— Сдаюсь. Говорите.
— Великим магистром ордена, самим Жаком де Моле! Когда я упомянул ваше имя, месье де Виньоль принялся что-то сконфуженно бормотать про «шикарные картинки» — я цитирую — в обмен на услуги, имеющие отношение к вышеупомянутой чаше. Кухарка Бертиль Пио подтвердила его слова и добавила, что по просьбе хозяина относила письмо фотографу с улицы Сен-Пер. И после этого вы еще продолжаете утверждать, что ничего не знаете о чаше?
Виктор надолго задумался, а потом со вздохом признался:
— Вы правы, я имею ко всему этому отношение.
— Мошенник! Жулик! Лицемер! — взорвался инспектор. — Я не поверил Фортунату де Виньолю насчет сокровища тамплиеров — он же чокнутый, это очевидно! Но вы и ваш помощник Жозеф явно искали то, что было украдено у вас из квартиры! Рауль Перо доложил мне об ограблении.
— Инспектор, Кэндзи действительно был очень расстроен пропажей «Французского кондитера» и «Правил выживания» барона Стаффа, но я клянусь, что…
— Избавьте меня от ваших клятв. Я более чем уверен, что если этот загадочный предмет возбудил ваше любопытство, значит, вы определенно с ним связаны. Но всякий раз, когда пытаюсь поговорить с вашим окружением, я наталкиваюсь на стену молчания! Все держат язык за зубами, все! Даже дочь вашего компаньона и кузен этой мадам дю Уссуа!
Инспектор Перо сунул треножник обратно в карман, делая вид, что отказывается от попыток распутать тайну, но Виктор понимал, что это лишь передышка перед новой атакой, поэтому и глазом не моргнул, когда инспектор, подойдя к нему вплотную, четко проговорил:
— Ахилл Менаже.
— Это кто-то из ваших знакомых? — с невинным видом переспросил Виктор.
— Старьевщик с улицы Нис. Девятый округ. Кто-то анонимно позвонил моему коллеге Раулю Перо и сообщил об убийстве Менаже. Пуля в сердце. Третья жертва, убитая аналогичным способом. Приехав, полицейские обнаружили, что в доме Менаже все перевернуто вверх дном и в его лавке тоже кто-то побывал. Но он торговал только грошовым барахлом. Так что же искал убийца?
— Может, вы это выясните, инспектор?
— Мы допросили юную неаполитанку, шарманщицу, которая жила в доме Менаже, а потом внезапно перебралась в Латинский квартал. Увы — добрая дюжина студентов и местных поэтов утверждают, что плясали с ней сардану
[224] в день убийства.
— Сардану? Вряд ли. Скорее сальтареллу.
[225]
— Не перебивайте! Когда я упомянул о вас, итальянка смутилась. Но и от нее я не добился ни слова! Она тоже что-то скрывает! Вы что, опаиваете женщин любовным зельем, чтобы сделать своими соучастницами?
— Наверное, все дело в моем природном обаянии, — скромно потупил взор Виктор.
Инспектор грозно воздел кверху указательный палец.
— Ничего, я найду горшочек с розами,
[226] попомните мое слово! И тогда вам придется несладко!
Лекашер нахлобучил меховую шапку и направился к двери. У порога он обернулся:
— Ваша рана причиняет вам страдания?
— Нет. Только когда смеюсь.
— В
таком случае желаю вам отлично повеселиться.
— Благодарю, инспектор. А вы все еще разыскиваете оригинальное издание «Манон Леско»?
Инспектор подобрел.
— А у вас оно есть?
— Насколько мне известно, нет. Но я постараюсь о нем разузнать.
Дверь захлопнулась. Виктор прикрыл глаза: этот визит его порядком утомил. Он обдумал услышанное от инспектора. Итак, Лекашеру неизвестно еще о двух убийствах: леди Пеббл и Леонара Дьелетта. Бертиль Пио не рассказала об интересе Жозефа к кварталу Доре. Картинка пока не складывалась, в ней не хватало отдельных фрагментов: в частности, причины такого пристального интереса убийцы к чаше. Быть может, удастся выяснить что-нибудь у Габриэль дю Уссуа… Надо нанести ей визит.
Несмотря на резкую боль, Виктор откинул одеяло и встал, но тут дверь тихо отворилась.
— Я так и знала! Как только полицейский ушел, ты решил удрать. Доктор Рейно запретил тебе подниматься! — воскликнула Таша.
Виктор с обреченным видом улегся обратно в постель.
— Я всего лишь хотел размяться, у меня все тело затекло.
Таша поправила одеяло и погладила Виктора по щеке, разрываясь между гневом и нежностью.
— Тебя могли убить. Почему ты так неосторожен? Ты меня больше не любишь? Представь, каково бы мне было, если бы с тобой что-то случилось?
Ее голос дрогнул, и Виктора это тронуло. Справившись с волнением, он произнес:
— Не надо, Таша. Ты не настолько привязана ко мне. Если бы я умер, ты бы утешилась довольно быстро. Расстроилась бы, конечно, но… Я прочитал вот это. — И он протянул ей сложенный вчетверо листок бумаги.
Она испугалась. Что он себе напридумывал?
— Виктор, ты с ума сошел!
— Нет, дорогая, я в здравом уме. Ты часто встречаешься с художниками… многих давно знаешь, они сыграли определенную роль в твоей жизни. Ничего удивительного, что ты не смогла окончательно порвать… например, с Гансом.
— Ганс?! При чем тут он?
— Я повторяю: ты свободна. И вольна распоряжаться собой. И, хотя мне трудно это принять, я сознаю, что не имею никакого права на… Что с тобой?
По мере того, как он говорил, на ее лице расплывалась улыбка. Она расхохоталась, потом расплакалась.
— Виктор, ты что, опять меня приревновал?! Я говорила себе: ревнует — значит любит. Но сейчас, после почти двух лет совместной жизни…
— Не совместной, а параллельной, — уточнил он.
— Какая разница! Ты до сих пор мне не доверяешь?! Это так больно!
— А знаешь, какую боль причинило мне это письмо?!
Таша вынула из потрепанного кожаного портмоне фотографию темноволосого мужчины лет пятидесяти в шляпе и показала ее Виктору. Потом перевернула снимок, и Виктор прочитал на обратной стороне несколько строк, нацарапанных карандашом:
Tsu dir, mayn zis-lebn, tsit dokh mayn harts.[227]
Посылаю тебе из Берлина мой портрет. Скоро напишу подробное письмо.
Твой любящий отец
Пинхас.
Виктор сглотнул. Он узнал почерк.
— Я солгала тебе, это правда, — сказала Таша, пряча фотографию, — не было никакой выставки в Барбизоне. Просто отец просил никому не рассказывать о его приезде — даже тебе. Его ищет царская полиция, и он никому не доверяет.
— Таша, прости меня! Я идиот. Я должен был доверять тебе…
Она пожала плечами и продолжила:
— Если ты будешь постоянно бояться потерять меня, в конечном итоге потеряешь себя.
— Дорогая, торжественно клянусь, с подозрениями покончено! Отныне я…
Она приложила палец к его губам.
— Не торопись. Тебе предстоит серьезное испытание. Я уезжаю.
— Нет!
— Моя мама, Джина, сейчас в Берлине. Она больна. До сих пор о ней заботилась ее сестра Ханна, но сейчас та при смерти. Моя сестра Рахиль замужем, она живет в Кракове, отец уезжает в Америку. Кто позаботится о Джине? Мне придется поехать к ней — и, возможно, надолго. Потом я привезу ее сюда. Ты… ты мне очень нужен.
Он поймал ее за руку и горячо обнял.
— Я идиот. Как это по-русски — дурак? Я куплю тебе билет в Берлин и дам денег, чтобы устроить твою матушку в Париже и помочь твоему отцу с отъездом. Только обещай, что вернешься ко мне.
Они снова обнялись, не замечая, что дверь приоткрылась. Кто-то деликатно кашлянул.
— Прошу прощения, но мне пора возвращаться в отель, — произнес хриплый голос.
Таша отстранилась от Виктора, ее щеки вспыхнули. Мужчины обменялись изучающим взглядом. Пинхас был в точности таким, как на фотографии, только одет по-другому: в бархатные штаны, блузу и кепку.
— Итак, это вы вскружили голову моей дочери! Должен сказать, вы склонны к авантюрам и притягиваете внимание полиции, как собака — блох. А я бы предпочел держаться от нее подальше.
— Таша сказала, что вы собираетесь в Соединенные Штаты. Я бы с радостью помог вам.
Пинхас подмигнул дочери, и та снова покраснела.
— Понимаю… Хотите от меня избавиться, верно?
— Папа! — укоризненно воскликнула Таша. — Прошу тебя, перестань!
— Я ничего ни у кого не прошу, — с достоинством произнес Пинхас. — И привык справляться сам. А твой приятель просто пытается завоевать мою симпатию.
Виктор сел на кровати. Грудь снова заболела.
— Ничего подобного. Я люблю Таша, а вы — ее отец.
— Вы в точности такой, каким она вас описывала. Ладно уж, я приму вашу помощь. Несмотря на сомнительное происхождение этих денег.
— Хотите, чтобы я перед вами оправдывался? Извольте. Я действительно распоряжаюсь акциями, унаследованными от отца. Но не спекулирую на бирже. Моя профессия — книготорговец, и нет ничего предосудительного в том, как я зарабатываю на жизнь.
Таша молча улыбнулась ему. Пинхас насмешливо произнес:
— Месье Легри, я верну вам долг, как только смогу. По правде говоря, я надеялся выпутаться из этой неприятной ситуации, не прибегая к помощи дочери, ибо, как гласит еврейская пословица, «когда отец помогает сыну, оба улыбаются, а когда сын помогает отцу — оба плачут».
— Папа, не будь таким циником, прошу тебя! — воскликнула Таша.
Пинхас потрепал ее по щеке, и Виктор вдруг увидел, как они похожи, хотя у отца волосы были темно-каштановые, а у дочери — рыжие.
— Месье Легри, я уехал из России в 1882 году, после волны погромов, и долгие годы не получал от родных никаких известий. Мои политические взгляды сделали невозможными их поиски, я не имел права подвергать их опасности, потому что слишком дорожил ими: они могли погибнуть по моей вине. Какое-то время я жил в Вильно, где вступил в организацию, которая готовила забастовки рабочих-евреев.
— Подумать только, такого безбожника, как ты, почитали в Иерусалиме и Литве за пророка! — рассмеялась Таша, явно годясь отцом.
— Вы поддерживаете бомбистов? — насторожился Виктор.
— Вовсе нет, я осуждаю терроризм. И категорически против насилия. Мой идеал — справедливость… Но в царской России в отношении евреев применяют жестокие репрессии… Не щадят ни женщин, ни детей. У властей четкий план: треть иудеев обратить в православие, треть убить, остальных заставить покинуть страну. За последние десять лет Одесса, Киев и десятки других городов стали ареной кровавых расправ. Цивилизованный мир возмутился. Был создан комитет помощи иудеям, бегущим из России, его возглавил Виктор Гюго. Я, в свою очередь, организовывал сбор средств. Тайная полиция выследила меня, и мне снова пришлось бежать — на этот раз в Берлин. Там мне удалось увидеться с Джиной, моей женой. Я хотел остаться там и заботиться о ней, но она настаивает, чтобы я нашел для себя более надежное укрытие.
Он тихо вздохнул, отвернулся, взял из стоящей на столе вазы розу и вдохнул ее нежный аромат, словно надеясь рассеять печаль.
— Бывают обстоятельства, которые сильнее чувств, — прошептал он, вытащил из кармана газету и протянул ее Виктору.
— «Либр Пароль»?
[228] Что это?
— Новая газета, рупор антисемитизма. Учтите, месье Легри, женившись на моей дочери, вы рискуете нажить себе серьезных врагов.
— За кого вы меня принимаете?!
— За влюбленного. Во Франции пока еще не практикуется физическая расправа над евреями и нет декретов, ограничивающих их права… но всякое может случиться. Люди с древнейших времен нуждались в козлах отпущения, чтобы изгонять собственных демонов.
— Но, папа, мы в демократической стране, Франция — республика, здесь соблюдают права человека. То, о чем ты говоришь, здесь невозможно!
— Ты в это веришь?
— Да, — бросила Таша, выходя из комнаты.
Повисло неловкое молчание.
— Вы знаете легенду о Мелюзине? — спросил Пинхас.
— О фее в обличье получеловека-полузмеи?
— Да, на ней лежало заклятье: она превращалась в змею от талии и ниже каждую субботу. Она согласилась выйти замуж за Раймондина, основателя дома Лузиньянов, при условии, что он никогда не будет входить по субботам в ее спальню. Но Раймондин был слишком любопытен и, подглядев однажды за женой, принимавшей ванну, увидел ее змеиный хвост.
— Вы прекрасно знаете французскую мифологию.
— Я художник. В юности мне нравилось иллюстрировать народные легенды и сказки. Знаете, чем закончилась история о Мелюзине?
— Она испустила душераздирающий крик и исчезла навсегда. Я понимаю, к чему вы клоните, но уверяю вас, я не Раймондин.
— Будьте бдительны, Виктор. Таша — дочь, достойная своего отца. Ей нужна независимость, не то она сбежит.
— По-моему, именно это сейчас и происходит. Мне кажется — и вы это подтверждаете, — что я ничего не могу с этим поделать.
Пинхас крепко сжал Виктору руку.
— Месье Легри… Виктор… Сделайте ей предложение. Благодаря вам она может заниматься любимым делом, и я вижу: она очень выросла как художник… Спасибо вам.
Пинхас ушел, а Виктор, потирая ладонь (рукопожатие отца Таша оказалось крепким), с удовольствием вспоминал его сказанные на прощание слова. А потом решительно поднялся с постели.
Габриэль дю Уссуа медленно положила на круглый столик школьную тетрадь.
— Я была уверена, что ваш друг или вы, месье Легри, нанесете мне визит.
Она предложила ему сесть на оттоманку, а сама устроилась в кресле напротив.
— Инспектор сказал, вы были ранены. Как себя чувствуете?
— Все в порядке. Пуля только задела меня.
Платья оттенка лаванды очень шло к матовой коже и темным волосам Габриэль.
— Бедняга инспектор, — произнес Виктор, — ему почти ничего не удалось выяснить о чаше.
— А вам, месье Легри?
— В тот день, когда едва не простился с жизнью, я видел ее собственными глазами и хотя бы знаю, как она выглядит. Суть в другом: что это такое?
— Шанс для моего мужа приобрести известность и, вероятно, славу. А прежде всего — избавиться от тоски, — ответила Габриэль дю Уссуа.
— С трудом представляю себе, чтобы эта топорно сработанная вещь из черепа…
— Выслушайте меня, и вы все поймете. Еще в самом начале нашей совместной жизни Антуан был горячо увлечен теориями трансформистов.
[229] Он часто ездил в центральную и восточную Африку, изучая горилл и шимпанзе, которые, если верить Дарвину, являются далекими предками человека. Вам известна эта гипотеза?
— Весьма приблизительно.
Габриэль дю Уссуа снисходительно улыбнулась.
— Антуан специализировался на орангутангах — в переводе с малайского это слово означает «лесной человек», — и предпринимал длительные экспедиции на Яву, Борнео и Суматру. Во время одной из таких поездок, осенью 1889 года, он впервые услышал о некоем Эжене Дюбуа, некогда читавшем лекции по анатомии в университете Амстердама, а затем увлекшемся палеонтологией. В местечке Ваджак тот обнаружил череп, отличавшийся от всех, какие видел ранее. Тогда Антуану не удалось встретиться с Дюбуа лично, но, вернувшись в Париж, он с интересом прочитал записи немецкого профессора зоологии, Эрнста Хейкеля, который настаивал на существовании еще одного звена между высшими обезьянами и человеком. Хейкель назвал его «питекантропом», то есть «человеко-обезьяной». Вы следите за моей мыслью?
— Стараюсь. Но почему поиски проводились не в Африке, а в Азии?
— Эрнста Хейкеля потрясло сходство между эмбрионом человека и гиббона — а Голландская Индия — родина гиббонов. Эжен Дюбуа продолжил научные изыскания Хейкеля и подал заявку на должность военного врача в одну из колоний. Он поехал туда вместе с женой.
Габриэль встала, открыла шкаф, достала бутылку коньяку, налила в бокал и протянула Виктору. Сама она расхаживала взад-вперед по комнате.
— Антуан был очень увлеченным человеком. Я многое прощала ему за это, хотя со временем мы охладели друг к другу. Он быстро пришел к выводу, что череп, найденный Дюбуа, принадлежит питекантропу.
— Я начинаю понимать, что было дальше…
— Антуан добился, чтобы его снова отправили в экспедицию в Голландскую Индию, которая и состоялась прошлым летом. Формально тема его исследований осталась прежней: жизнь орангутангов в привычной среде обитания. Мне, моей горничной Люси Робен и Алексису Уоллерсу разрешили сопровождать Антуана. Шарля Дорселя муж нанял секретарем уже на Яве в 1888 году, и с тех пор тот жил с нами под одной крышей.
— Так главные действующие лица этой истории собрались вместе, — отметил Виктор.
— У двоих второстепенные роли, месье Легри, — поправила его Габриэль. — На сей раз Антуан был твердо намерен встретиться с Дюбуа и уговорить раскрыть цель исследования. Шарль Дорсель, который бегло говорил по-голландски, должен был облегчить эту задачу. Дюбуа перенес раскопки в окрестности деревни Тринил, богатые ископаемыми третичного периода и плейстоцена — благодаря реке Соло.
— Простите мое невежество, но что такое плейстоцен?
— Так называется начало четвертичной эры.
Габриэль снова села и наклонилась к Виктору, демонстрируя декольте.
— Вам интересно знать, что было дальше?
— Э-э… Конечно.
— В сентябре 1891 года был найден третий верхний правый коренной зуб примата. В октябре военные инженеры, которых привлекли к раскопкам, нашли еще один зуб и череп существа, которое Дюбуа назвал антропопитеком. — Она чуть улыбнулась. — Это вид, промежуточный между обезьяной и человеком.
— Палеонтология похожа на криминальное расследование: и там и там в конечном счете находят труп, — пробормотал Виктор. — Так что, Дюбуа охотно комментировал свою находку?
— Куда там! Он оказался крайне неразговорчив и обсуждал с Шарлем Дорселем только зубы орангутанга. Мужу пришлось подкупить местных жителей, которые работали на раскопках, чтобы они снабжали его информацией.
— Проверенный метод, я его тоже частенько использую.
— Мой муж мечтал опередить Дюбуа и первым найти недостающее звено — то есть, череп, слишком маленький для человека и слишком крупный для обезьян того региона.
— Понимаю. Такой трофей прославил бы его.
— Судьба, казалось, дала нам шанс: один молодой яванец рассказал Антуану, что его отец, резчик по кости, откопал в 1886 году череп, похожий на тот, что нашел Дюбуа, и установил его на маленький металлический треножник, украшенный бриллиантами и кошачьими головами. Получилась курильница.
— Чаша Джона Кавендиша…
— Простите?
— Нет, ничего. Прошу вас, продолжайте.
— Курильницу он продал китайскому торговцу из Сурабайи. Антуан немедленно поехал к нему, и тот сказал, что, в свою очередь, перепродал курильницу. Покупатель был убежден, что это старинная вещь, и заплатил за нее рубином размером с ноготь. Это был ботаник, остановившийся в отеле «Амстердам». Антуан отправился в отель и в списках постояльцев нашел его имя. — Габриэль дю Уссуа наклонилась к Виктору еще ближе и прошептала: — Джон Кавендиш.
— Ваш супруг посвящал вас в подробности своих поисков? — осведомился Виктор, не поднимая глаз со своих ботинок.
— Только мне он и мог довериться. Алексиса, который не отходил от него ни на шаг, мечтая разделить его славу, Антуан презирал. Шарль Дорсель был ему больше не нужен. Увы, у моего мужа была дурацкая привычка вести дневник. Когда в декабре мы вернулись в Париж, Антуан написал письмо Джону Кавендишу, который жил у своей сестры, леди Фанни Хоуп Пеббл. Она ответила, что ее брат скончался в Париже в 1889 году. Тогда Антуан решил воспользоваться случаем — в Лондоне должна была состояться научная конференция, — и съездить в Эдинбург, в окрестностях которого проживала эта дама.
— Но за месье дю Уссуа следили, и когда он уехал от леди Пеббл, направившей его к Кэндзи Мори, ее убили.
— Ах! Так вы об этом знаете. Тогда вам, должно быть, известно и то, что убийца леди Пеббл убил и моего мужа.
— А также Люси Робен, Леонара Дьелетта и Ахилла Менаже. Он пытался прикончить и меня, и месье Мори, в чем почти преуспел. Неужели причиной всех этих преступления Шарля Дорселя было только честолюбие?
— Нет, вовсе нет. Сначала я подозревала Алексиса. Но когда увидела труп Люси… она ведь была любовницей Шарля, мне стало страшно за себя и своих близких. И не напрасно: несмотря на глубокую привязанность, которую Шарль питал к моему отцу, он пытался убить и его.
— Значит, история с выстрелом в подвале — правда?
— Вы меня удивили, месье Легри! Я-то было поверила, что вы всеведущи. Да, Шарль стрелял в моего отца, но, к счастью, тот вовремя наклонился, и пуля просвистела мимо, угодив в глаз одного из чучел.
— Ваш секретарь убивал одного за другим, а вы хранили молчание!
— Мне искренне жаль, что вы подверглись опасности. Я собиралась вызвать полицию позавчера, но вы меня опередили.
— Расследования, подобные этому — мое хобби.
— Самое забавное, что чаша, скорее всего, оказалась бы для нас бесполезной. Алексис — я ему все рассказала — это подтвердил. Антуан полагал, что достаточно одного черепа, чтобы объявить о существовании питекантропа и сделать себе имя в научных кругах. Но оказывается, необходимо предоставить и другие кости скелета, чтобы доказать, что череп действительно принадлежит не обезьяне. Кроме того, резчик по кости наверняка удалил купол черепа, чтобы сделать курильницу, да и надбровные дуги, скорее всего, отсутствуют…
— Так и есть. Я видел чашу.
— Антуан погиб напрасно. А я после его смерти продолжала питать ложные надежды, — с горечью произнесла Габриэль.
— После гибели мужа вы боялись за свою жизнь и потому молчали, это понятно. Но неужели вы рассчитывали договориться с убийцей?
— Я умею ладить с мужчинами, месье Легри, — ответила Габриэль, поправляя платье на груди.
— Вероятно, так думала и несчастная Люси Робен.
— Я из другого теста.
— Но чем вызвана такая жестокость по отношению к тем, у кого находилась чаша? Почему Дорсель не мог просто забрать ее?
— Ответ кроется в его прошлом. Он родился в 1868 году в Нимеге, маленьком голландском городишке, и был старшим из троих детей. Его мать, бельгийка по происхождению, во всем повиновалась мужу, лютеранскому пастору самого пуританского толка. Когда мальчику было десять лет, пастора отправили миссионером в Голландскую Индию, и семья поехала вместе с ним. Через некоторое время Шарля отослали к одному пастору из Батавии, у которого он продолжил учиться теологии. 27 августа 1883 года случилось извержение вулкана Кракатау, вся семья Шарля Дорселя погибла, и это оставило в его сердце незаживающую рану.
— И все же из-за такого не становятся убийцами.
— Это зависит от того, чему учат ребенка, месье Легри. По мнению наставника, оказавшего на Шарля огромное влияние, извержение Кракатау символизировало начало Апокалипсиса. Шарль отличался ригоризмом, который оставался его истинным кредо даже тогда, когда сам смеялся над ним вместе со мной и Антуаном. Он даже писал проповеди, но, понимая, что это его не прокормит, отправился служить в армию. Как-то раз, на одном из приемов, он представился Антуану, и тот его нанял…
— Вы не догадывались о том, что его психика неустойчива?
— Шарль отличался импульсивностью. Иногда у него случались приступы гнева. Но перед ним трудно было устоять. Мы считали его чуть ли не сыном, не подозревая, что он чувствует себя призванным исполнить некое мистическое предназначение. Он мечтал встретиться с родными в раю… Принимая во внимание его образование, логично предположить, что он ненавидел трансформистов за их теории, считал богохульством и ересью теорию о том, что человек произошел от обезьяны. Антуан же был ее убежденным сторонником. И все же Шарль до поры до времени держал себя в руках. Час пробил 27 марта, когда он случайно оказался свидетелем теракта, напугавшего весь Париж.
— 27 марта… Взрыв на улице Клиши! Понимаю, это вызвало эмоциональное потрясение и разбудило мистические воспоминания.
— Именно. Шарль почувствовал себя избранным. Еще коньяку, месье Легри?
— Нет, спасибо. Продолжайте.
— Вчера я заходила в его спальню и нашла там дневник. Записи касаются не только поездки в Шотландию по следам Антуана, там есть и весьма экзальтированные строки.
Габриэль подошла к круглому столику, взяла тетрадь, вернулась в кресло и протянула ее Виктору.
— Посмотрите сами, месье Легри.
Округлые синие буквы налезали друг на друга и переплетались, словно крошечные осьминоги.
27 марта
Сегодня утром грохот оглушил меня, потряс все мое существо. Гнев Господень вновь обрушился на нас…
2 апреля
Мы прибыли в Лондон на конгресс Национального географического общества. Прочитал заметки Антуана. Какой позор! Меня мучает совесть, я не спал всю ночь.
Виктор медленно перелистал тетрадь. На одной из страниц он прочел:
7 апреля
Мы в море. Дело сделано, старая дама упокоилась в мире. Она не страдала. Раздобыл имя и адрес человека, у которого находится проклятая вещь: месье Мори, дом 18, улица Сен-Пер.
9 апреля, воскресенье
Победа! Богомерзкая вещь у меня в руках! Люси считает, что камни, которыми украшено ее основание, представляют огромную ценность. Ее глупость меня огорчила. Спрятали эту мерзость в подвале, в старом шкафу…
12 апреля, вторник
Были в морге. Габриэль в слезах, Люси держится молодцом, Алексис делает вид, что убит горем, но я знаю, в глубине души он ликует, ведь теперь путь к сердцу Габриэль свободен. Я верю, Господь не допустит их сближения…
Приходил инспектор. Сказал, что это гнусное преступление. Когда старик уронил платок, Алексис его поднял, и Люси узнала ткань, в которую была завернута богомерзкая вещь. Спустились в подвал: она пропала! Люси мне лжет? Господь велит избавиться от этой порочной женщины. Жаль, она так красива и не раз приносила мне радость…
Шарль писал мелким почерком, буквы прыгали перед глазами Виктора. Он переждал мгновение, глубоко вздохнул.
Почтенный старец признался мне, что выбросил в помойное ведро то, что считал проклятой чашей тамплиеров! Узнай тамплиеры о нашем договоре, они бы точно отомстили. Прощай, Люси.
14 апреля, четверг
Книготорговец ищет Клови Мартеля, старьевщика из Сен-Медара. Благодарю Тебя, Господи, Ты указал мне путь! Я расчистил Твои поля и избавил их от дурной травы, которой поросло царство сатаны.
Да преумножится слава Твоя! Эта отвратительная вещь не достанется никому… Господи, дай меч возмездия посланнику Твоему!
— Этот «посланник» следовал за вами повсюду, словно тень, — заметила Габриэль, заглядывая в тетрадь через плечо Виктора, — он ездил на велосипеде.
— Теперь я припоминаю… Пару раз я видел его… Но велосипедов сейчас так много, я и сам подумываю купить себе. Вы правы, я был недостаточно внимателен.
— А Шарль был умным и ловким человеком.
— Неужели вы не заметили в его поведении ничего подозрительного?
— Он, несомненно, был одержим, но умел хранить самообладание. Кроме того, отклонения в психике есть у всех без исключения. Случай с Шарлем Дорселем показал, насколько пагубным может быть влияние религиозных фанатиков. Что ж, месье Легри, теперь мы все знаем. И я хотела бы обо всем этом как можно скорее забыть. — Габриэль поправила прическу, взглянула на Виктора и мягко улыбнулась. — Поэтому, дорогой месье Легри, я думаю, инспектору незачем знать подоплеку этой истории. Пусть лучше вы, я, Алексис и ваши друзья останемся единственными хранителями тайны.
— Я тоже так считаю. Боюсь, мне немного нездоровится. Я бы вернулся домой и прилег.
— В добрый час. Вы поступаете весьма благоразумно.
Она проводила его до двери.
В вестибюле Виктора настиг Фортунат де Виньоль.
— Мошенник… я вас узнал. Это вы присылали мне изображения крутобедрых красоток. Принесли еще?
— Нет, я случайно оказался…
— Ах, у вас было свидание с коварной Габриэль. Будьте осторожны, она не перед чем не остановится! Даже перед отцеубийством!
— Ошибаетесь, ваша дочь никогда бы…
— Она считает меня безумцем, но это не так. Ее врач подсунул мне наркотик, чтобы я все забыл, но я настаиваю, это она пыталась меня убить.
— Убийцей оказался Шарль Дорсель, — спокойно произнес Виктор.
Его слова привели Фортуната в негодование.
— Шарль?! Вы обвиняете малыша Шарля? Единственного во всем этом проклятом семействе, кто всегда меня защищал? Изыди, приспешник дьявола! Ты прикинулся фотографом, чтобы втереться мне в доверие, но наступит день, когда ты за все заплатишь, мерзкий Жак де Моле! Уходи и не смей возвращаться, я дорого продам свою жизнь!
И старик, поспешно вернувшись в комнату, захлопнул за собой дверь. Виктор вздохнул. Возможно, добровольное затворничество убережет его от психиатрической клиники. Виктор решил при первой возможности прислать ему еще жизнеутверждающих и пикантных картинок.
Фортунат де Виньоль, стоя за занавеской, с горечью наблюдал, как идет к воротам его поставщик нимф и гурий. Через двор пробежал черный кот. Испуганный старик, решив, что это сам дьявол явился ему в одном из своих обличий, упал на колени перед изображением Людовика XVI и принялся бормотать заклинания.
Виктор вернулся к себе и увидев, что Таша нет дома, вздохнул с облегчением: она не узнает о его побеге. Не успел он улечься в постель, как услышал тяжелые шаги, и на пороге появилась Эфросинья с плетеной корзиной, в которой лежали метелки для пыли и прочие приспособления для уборки.
— Добрый день, месье Легри. Вы, можно сказать, стояли на пороге чистилища, а мы вынуждены прозябать…
— Откуда у вас вдруг такой оптимизм? — с иронией поинтересовался Виктор.
— А как вы думали: не щадя сил воспитываешь сына двадцать два года, а теперь его вот-вот потеряешь!
— Неужели Жожо так плохо? — испугался Виктор.
— Он в добром здравии, если вы это имеете в виду. Конечно, на него сильно подействовало то, что он болтался на вершине колонны, прямо у ног Гения свободы, да еще тот тип упал и разбился насмерть у него на глазах… Но дело не в этом: вчера вечером месье Мори согласился на брак Жозефа и вашей сестры. Еще бы, ведь он обязан моему сыну жизнью, — произнесла Эфросинья с похоронным видом.
Виктор подскочил в кровати, забыв о ране, и вскрикнул от боли.
— Жозеф и Айрис поженятся?!
— Обручатся. В следующем году, сразу после дня рождения моего сына, то есть после четырнадцатого февраля. А свадьбу сыграют еще через полгода.
— Не могу сказать, что я одобряю решение месье Мори. Но вы правы, если бы не Жозеф, Кэндзи мог погибнуть. Но я вас не понимаю: если до обручения еще пятнадцать месяцев, значит, вы не так уж скоро расстанетесь с сыном. Да и после будете видеться каждый день.
— Месье Легри, меня другое заботит! Я ведь мечтала, чтобы он женился на француженке!
— Ну и дела, — удивился Виктор, — а что, Айрис, по-вашему, не француженка?
— Я против нее ничего не имею. Она хорошенькая, с образованием и все такое. Но коли у них пойдут дети…
— Они могут получиться несколько узкоглазы. Зато акцент у них будет самый что ни на есть французский. Вы ведь сами из Шаранты, ведь так?
— Точно, месье Легри. Вся моя семья из Ангулема.
— А вы знаете, что графство Ангумуа присоединили к французской короне только во время правления Филиппа Красивого, потом оно отошло Англии, потом Франция вернула его себе, а Франциск Первый отдал в удел своей матери, Луизе Савойской. Эти земли перебрасывали, словно мяч, из рук в руки! Так что вам не стоит презирать мою сестру из-за ее происхождения.
— Я никого не презираю, что вы! Дело в другом…
И Эфросинья внезапно расплакалась.
— Ну-ну, успокойтесь, — проворчал порядком уставший Виктор.
Эфросинья вытерла слёзы и громко высморкалась.
— Понимаете, отец Жозефа… был женат, когда мы полюбили друг друга. Потом его жена заболела, и он поклялся мне, что если она умрет, женится на мне. Но сам умер прежде нее. Хвала Всевышнему, он признал Жозефа и дал ему свою фамилию. На я-то так и осталась Курлак! — пробормотала Эфросинья, складывая огромный носовой платок.
Виктор подавил смех.
— Так вот что вас мучает? Вы не говорили об этом Жозефу?
— Как я могла?! Он бы стал меня презирать.
— Вам нечего стыдиться. Жожо любит вас и примет правду. К тому же на Айрис женится он, а не вы!
— Ох, месье Легри, спасибо вам, утешили старуху. У меня прямо камень с сердца упал!
— Сходите к Таша, там есть водка. Выпейте стаканчик и полежите немного… если, конечно, патриотическое чувство позволит вам принять такое предложение от франко-англичанина, который сожительствует с молодой эмигранткой из России…
— Ох, месье Легри, мне так стыдно за свои слова!
— Ну все, идите, я устал, — буркнул Виктор и закрыл глаза.
Эфросинья на цыпочках вышла из комнаты, и он тут же уснул.
Проснувшись, он увидел Кэндзи. Тот улыбался.
— Я бы еще вчера пришел, да только Таша меня не пустила. Как ваша рана?
— Поскорей бы сняли чертовы швы.
— Терпение. «Деревья скоро садят, да не скоро с них плод едят».
— Звучит ободряюще. А как вы?
— Ерунда, несколько синяков… Правда там, где не следует.
— Мадам Пиньо рассказала мне про Жозефа и Айрис.
— Я очень благодарен Жозефу, но решил по возможности оттянуть это событие.
— Понятно. А знаете, я сегодня днем нанес визит Габриэль дю Уссуа. Разгадка тайны у меня в руках. Хотите узнать подробности?
— Разумеется. Надеюсь, в вашем рассказе промелькнет имя Эжена Дюбуа… Закройте рот, муха залетит.
— Откуда вы знаете?
— Перечитывая письмо Джона Кавендиша, я наткнулся на название местечка Тринил. В юности, во время путешествия на Яву, я останавливался там и в свободное время рассматривал фрагменты скелетов гиббонов, собранные местными жителями на берегу реки Соло. Интуиция подсказала мне позвонить другу из Национального географического общества. Он живет в Лондоне и многое знает о Юго-Восточной Азии. Он-то и рассказал мне об Эжене Дюбуа, который занимался археологическими раскопками. Я понял, что моя чаша могла заинтересовать Антуана дю Уссуа в связи с исследованиями Дюбуа.
— В детстве, увидев что-то забавное в нашем магазине или на улице, я с нетерпением ожидал вашего прихода, рассчитывая удивить вас своей историей. Но всякий раз меня постигало разочарование: не знаю, как — может, вам сам черт помогает, — вы всегда знали хотя бы ее часть!
— Вот именно, только часть. А вот развязка была мне неведома. Я и теперь узнаю ее только от вас. Мы прекрасно дополняем друг друга, как вы считаете?
Виктор кивнул.
— Неужели даже мне нельзя рассказать, что случилось?
— Даже вам, Айрис. Я поклялся в этом месье Мори, когда просил вашей руки.
Айрис скорчила недовольную гримаску, но утешила себя тем, что после обручения у Жозефа не будет от нее тайн.
— Жаль только, мне запретили использовать материалы этого расследования в романе. Что ж, придется довольствоваться версией о сокровищах тамплиеров. Все лучше, чем ничего.
— А вам сегодня удалось поработать? — Айрис подошла к прилавку, за которым сидел с угрюмым видом Жозеф. Он печально посмотрел на тетрадь в сафьяновом переплете, которую накануне подарила ему возлюбленная.
— Нет. Ни строчки. Наверное, я больше ни на что не гожусь. Айрис… вы не перестанете меня уважать?
— Уважать? Жозеф, я люблю вас!
— Да, но уважение тоже играет роль. А ведь я — убийца.
— Вовсе нет! Инспектор Лекашер вам сто раз повторил: это была самозащита! Мой милый, вы ведь спасли моего отца!
— Ваш милый? Вы это серьезно?
Их губы соединились.
— Надо задвинуть защелку, — прошептал Жозеф, и в эту минуту звякнул дверной колокольчик.
Запыхавшаяся, красная Эфросинья опустила на пол корзины и протянула сыну большой прямоугольный сверток из плотной бумаги.
— Подарок от мадемуазель Таша к вашему обручению. Она уезжает и боится, что задержится надолго.
Заинтригованный Жозеф перерезал бечевку. Приятно самому получить посылку после того, как всю неделю упаковывал их для других. Он увидел знакомое лицо, загадочный взгляд, «гусиные лапки» в уголках глаз…
— Папа! — возликовала Айрис, заглянув ему через плечо. — Портрет, который мне так нравится! Как мило!
Жозеф промолчал, не разделяя ее радость.
«Ты меня больше не любишь?» — хотелось спросить Эдокси, но она вспомнила, как Кэндзи честно признался в своей неспособности испытывать эмоциональную привязанность, и вслух произнесла:
— Ты меня больше не хочешь? Прости, ты, должно быть, устал. Отдыхай, а я пока приму ванну.
Кэндзи, запрокинув руки за голову, вытянулся на кровати.
— Это не так, дорогая. Дело в том, что… меня ударили в низ живота, так что на какое-то время нам придется воздержаться от…
— Ударили? Ты… подрался?
— Ну да, можно сказать и так.
— Ты? С трудом могу себе это представить. Тебе очень больно?
— Давайте сменим тему. Идите-ка сюда, у меня для вас есть подарок.
Кэндзи положил на прикроватный столик маленький футляр. Эдокси поспешно раскрыла его и увидела ожерелье из крошечных золотистых бусин, внутри которых, казалось, плясали блестки.
— Янтарь! Как красиво! Ты такой щедрый!
— Я подумал, что оно пойдет к вашим темным волосам. Видите ли, Эдокси, со мной произошло приключение, после которого я начал снова ценить жизнь и понял, что хочу прежде всего давать, а не получать. И… я знаю способы ублажить возлюбленную, — прошептал Кэндзи, засовывая руку под черный крепдешин платья Эдокси. — Идите ко мне, ложитесь рядом. Ванна подождет.
Граница между сном и реальностью стерлась. Виктор странствовал в мире, где становились возможными самые безумные приключения. Нежная рука приподняла одеяло, прохладное тело прижалось к его разгоряченному. Что это, ночные химеры?
— Просыпайся, любовь моя. Нет, не шевелись, а то повязка сползёт…
Он поворчал для порядка и отдался ласкам Таша, убаюканный ночным дождем, который барабанил по крышам Парижа.
ЭПИЛОГ
Вторник, 10 мая 1892 года
Под застекленным сводом Восточного вокзала белыми лентами тянулся пар. Состав дрогнул, поезд готов был тронуться. Сквозь толпу проталкивались носильщики. Громко гомонил взвод саперов, отправлявших на учения. Послышались крики: «Да здравствует армия!». Аплодисменты перекрыл свисток локомотива.
Таша, лавируя между тележками с багажом, бежала к своему вагону. Виктор нес за ней чемодан, втайне мечтая, чтобы что-нибудь помешало ее отъезду. Еще десять минут — и поезд повезет Таша к первой важной остановке на ее пути — Страсбургу.
— Нашла! — воскликнула она и обернулась.
Виктор подошел к ней, бросил взгляд на мальчишку-газетчика.
— Тебе купить что-нибудь почитать в дорогу?
Она покачала головой.
— Нет, не надо.
Он отнес чемодан в вагон и вышел наружу. Таша медлила взойти на подножку: она только сейчас осознала, что ее ждет разлука с любимым.
Звуки бравурного военного марша смешивались с криками провожающих и шумом работающего локомотива. Эта какофония раздражала Виктора: морщинка на лбу, след бессонных ночей, стала резче. Таша с тревогой посмотрела на него и провела рукой по его лицу, словно стараясь разгладить морщинку, а потом пальцем притронулась губам.
— Маленькая моя, — прошептал он, крепко прижимая ее к себе.
Он закрыла глаза, перевела дыхание.
— Я очень волнуюсь.
— Все будет хорошо. Ты приедешь к Джине, будешь о ней заботиться, а потом привезешь ее сюда. Только постарайся вернуться поскорее.
— А ты обещай, что будешь вести себя хорошо. И никаких расследований!
— Это все, что тебя беспокоит? А женщины?
— Ограничься общением с Айрис и Эфросиньей.
Виктор шутливо нахмурился и помог Таша подняться в вагон, поддержав за локоть.
— Иди уже, я ненавижу прощаться, — проворчал он.
Но она снова спустилась на перрон. Их губы соприкоснулись, и в этот момент какое-то многочисленное семейство бросилось на штурм вагона. Виктор подтолкнул Таша к подножке.
— Я напишу! — крикнула она, и проводник захлопнул дверь.
Раздался пронзительный гудок. Вагон дернулся, поезд тронулся. Виктор шел по платформе вслед за ним, постепенно ускоряя шаг и не сводя глаз с Таша, прильнувшей к окну. Поезд набрал скорость, Виктор перешел на бег, потом остановился, вытер глаза и двинулся прочь.
Теперь, когда Таша уехала, на него навалилась усталость и охватило единственное желание — спать. Он взял фиакр, и вскоре мерное покачивание на рессорах убаюкало его. Он откинулся на спинку сиденья и задремал.
…Проснулся он внезапно. Фиакр стоял у перекрестка, на котором образовался затор. Виктор услышал, как девичий голос с итальянским акцентом протяжно выводит:
Порой, когда на сердце тяжело,
Я выхожу из дома и брожу
По улицам Парижа моего…
Виктор высунулся из окна и узнал Анну Марчелли. Она вертела ручку шарманки возле фонтанчика Уоллеса,
[230] а рядом стоял неуклюжий верзила — как его… Матюрен Ферран. Когда девушка допела куплет, он подхватил, слегка фальшивя:
На грязных улицах девчонки и мальчишки
Играют в прятки, в мяч и в «кошки-мышки»,
Рисуют угольками дождь и солнце…
[231]
Виктор хотел было окликнуть их, но не успел — фиакр снова поехал.
Увиденная сценка успокоила Виктора. Значит, Анна и этот студент по-прежнему вместе. Зловещие события, в которые оказалась вовлечена девушка, изменили ее жизнь к лучшему. Он подумал об Иветте и ее ослике. Вчера они переехали на улицу Шарло: Габриэль дю Уссуа решила взять девочку к себе. Тоже не такой уж плохой исход, хотя, конечно, Иветта очень переживала из-за гибели отца. Что до Недотепы, то ему определенно повезло: теперь он будет бродить на свободе, подобно Модестине, ослице Стивенсона,
[232] а мог бы томиться в конюшне префектуры Третьего парижского округа. Мысли Виктора перенеслись к Пинхасу: его корабль уже, должно быть, на подходе к Нью-Йорку, и вскоре он увидит в тумане над Гудзоном статую Свободы.
Всю предыдущую неделю в Париже шли дожди, на неровной брусчатке двора образовались широкие лужи. Виктор решил заглянуть в мастерскую. На веревке, протянутой между акацией и окном второго этажа, сушилось белье, ветер раздувал простыни, словно паруса трехмачтового парусника.
Виктор вошел в мастерскую, зажег лампу, вдохнул знакомый аромат росного ладана, любимых духов Таша. Снимая редингот и собирая разбросанные по полу кисти и тюбики масляной краски, он строил планы на ближайшее будущее: купить велосипед; побродить по кварталу Доре с фотоаппаратом; помочь Кэндзи с составлением каталога; разобрать фотографии Иветты. И вдруг поймал себя на том, что тихонько напевает:
Порой, когда на сердце тяжело,
Я выхожу из дома и брожу
По улицам Парижа моего…
ПОСЛЕСЛОВИЕ
В 1892 году в возрасте ста одного года скончался последний участник Трафальгарской битвы. «Старики уходят, а сменить их некому», — с горечью пишет по этому поводу журналист Орельен Шолль.
Весна выдалась поздней. После пасхальных каникул погода оставалась почти по-зимнему холодной. Хроникер «Пти журналь» вопрошал: «Неужели не будет конца взрывам на улицах и столкновениям на почве политики? Такое впечатление, что в высших эшелонах власти тоже царит анархия!».
Парижане не осмеливаются ходить в театры и отсиживаются дома. Все вспоминают о первых терактах в Лондоне, о судебных процессах в Риме, об арестах в Венгрии, не говоря уже о нигилистах царской России.
11 марта 1892 года взорван жилой дом на бульваре Сен-Жермен. Одной из жертв стал президент суда Бенуа, который в мае 1891 года возглавлял процесс над анархистами Дардаром и Декамом, которых обвиняли в сопротивлении полиции. Декам был осужден на пять лет, Дардар — на три года.
15 марта 1892 года бомбу бросили в окно казармы Лобо, а 27 марта взрывом разрушен жилой дом на улице Клиши, где жил генеральный адвокат Було, принимавший участие в том же судебном процессе.
Эти теракты подготовил человек по имени Франсуа Клавдий Кёнигштайн, более известный как Равашоль (девичья фамилия его матери). Он был франко-голландцем, в 1892 году ему исполнилось тридцать три. Полиция схватила его после доноса Жюля Леро — молодого официанта из ресторана «Вери».
25 апреля, накануне суда над Равашолем, бомба взорвалась в «Вери». Погиб его хозяин, а один из посетителей был тяжело ранен. «Берификация», — написали об этом в «Пэр пенар», одном из изданий анархистов.
Французский писатель, мыслитель-мистик Леон Блуа в своем литературном дневнике «Неблагодарный нищий» описывает этот взрыв и празднование в мае очередной годовщины открытия Америки Колумбом, а также излагает теорию о том, что микробы — выдумка, а на самом деле человеку вредят демонические силы.
Тем не менее к микробам отнеслись со всей серьезностью: 2 апреля проведена массовая вакцинация против туберкулеза, и следующей зимой в Париже заболеют инфлюэнцей всего 2 тысячи человек против 6 тысяч, переболевших ею в 1891 году. Аукционные дома и рынок Карро-дю-Тампль объявили рассадниками заразы, и полицейские продезинфецировали все эти помещения сернистой кислотой.
Альфонс Бертильон опробует свой метод, впоследствии названный бертильонажем, на анархистах — при поимке Равашоля и для доказательства его вины. В результате появляется монография сэра Фрэнсиса Гальтона
[233]«Отпечатки пальцев», которая в первом десятилетии XX века произведет революцию в методах полицейского расследования.
Изобретен дизельный двигатель. Генри Форд выпускает
первый автомобиль. Ипполит Маринони, известный инженер и изобретатель, усовершенствует типографские машины, увеличивая скорость печати оттисков.
Любитель свежей прессы теперь может выбирать из 250 иллюстрированных периодических изданий; еженедельно продается до 100 тысяч экземпляров журнала «Иллюстрасьон». Лоренц
[234] формулирует теорию электричества, магнетизма и света. Жюль Верн в романе «Замок в Карпатах» описывает изобретение будущего — телевизор. Инженер Франсуа Хеннебик впервые использует в строительстве зданий железобетонные конструкции. В Ньюхевене проводятся испытания нового пулемета, что позволяет французской армии смело выступить против его высочества Беганзина, короля Дагомеи.
[235]
26 апреля начинается суд над Равашолем. Дворец Правосудия охраняет полиция. Обвинение требует смертной казни, но защитник Равашоля мэтр Лагасс добивается смягчения наказания, и подсудимого приговаривают к каторжным работам. Однако через два месяца в Монбризоне на втором судебном заседании за убийство 93-летнего отшельника, совершенное 18 июня 1891 года в Шамбле, Равашолю выносят новый приговор: смертная казнь. Отшельник просил милостыню, но не тратил ее на себя и жил в нищете. Добычей Равашоля стали три тысячи франков.
Казнь состоялась 11 июля 1891 года в 4 часа утра.
Когда с лидером анархистов было покончено, Париж вздохнул с облегчением. В театре Шатле с успехом идут «Дети капитана Гранта»; бомонд собирается в «Гранд Опера» послушать «Вильгельма Телля» Россини и показать себя. В моде русский стиль: длинные «московские» блузы, перехваченные «византийским» ремнем, широкие, до локтя «русские» рукава, роскошные восточные ткани, которые называют «кремлевскими». На ярмарке хлебобулочных изделий даже продают пряничных «царей», а зазывалы кричат: «Попробуйте русско-французскую дружбу!».
Париж в то время считается самым зеленым городом в Европе, он может похвастаться наибольшим количеством деревьев. И нищих, которых в 1982 году в городе насчитывается 41 тысяча, причем 4 400 из них — в Одиннадцатом, самом густонаселенном и самом бедном округе Города Света.
[236]
Условия труда рабочего класса постепенно улучшаются. 2 ноября 1892 года, после пятилетних дебатов между Сенатом и Палатой депутатов, принят закон, запрещающий детям в возрасте до тринадцати лет работать на предприятиях и в шахтах. Рабочий день сокращен до десяти часов для несовершеннолетних и до одиннадцати — для женщин. Обе эти категории трудящихся имеют право на еженедельный выходной. Но хотя за исполнением этого закона должна следить армия инспекторов труда, образующих целое министерство, на большинстве предприятий он исполняется плохо или не исполняется вовсе.
В департаменте Тарн четыре месяца бастуют шахтеры. В сентябре к ним присоединяются рабочие заводов по производству сахара из свеклы, возмущенные понижением зарплаты: 50 сантимов за изготовление 100 килограммов сахара вместо 60 сантимов, как было раньше.
Журналист Жюль Гюре, известный своими интервью с Эмилем Золя, Ги де Мопассаном, Анатолем Франсом и другими великими писателями, пишет в газете «Фигаро»: «Капитализм превратил рабочего в машину, а буржуа — в пассивного держателя акций. Основываются новые колонии, появляются молодые государства, но потребности людей не учитываются, и малейшая попытка сопротивления жестоко подавляется; происходит перепроизводство товаров… В результате во всем мире развиваются социалистические идеи, их исповедуют и танцовщица канкана Нини, и писатель Морис Барре, и даже папа Римский…».
И действительно, папа Лев XIII публикует энциклику о положении трудящихся, в которой возвещает о том, что «республика — столь же законная форма правления, как и прочие».
Продолжается скандал вокруг Панамского канала.
Промышленник Эмиль Делайе, инженер с опытом создания паровых двигателей, 19 ноября заявляет о намерении наладить во Франции производство легковых автомобилей.
Несколькими днями ранее при загадочных обстоятельствах умирает известный археолог Саломон Рейнах, возбуждено уголовное расследование.
Выходят в отставку министр финансов Морис Рувье и премьер-министр Эмиль Лубе, начинается противостояние «сокрушителя министерств» Жоржа Клемансо и ярого шовиниста и реакционера Поля Деруледа.
Многие устали от натурализма Пьера Лоти и проповедуют возвращение к религиозным догмам. Самого Лоти тем не менее принимают в члены Академии, и в феврале выходит в свет «Призрак Востока», о которой «Ля Ви Паризьен» едко отзывается: «Пьер Лоти, последний академик, написавший когда-то роман о своем увлечении турчанкой, решил рассказать о нем вновь».
Выходит в свет «Разгром» Эмиля Золя, в книжных магазинах появляются «Мертвый Брюгге» Жоржа Роденбаха, «Перламутровый ларец» Анатоля Франса, «Блюдолиз» Жюля Ренара,
[237] «Пеллеас и Мелизанда» Метерлинка, эссе «Франция и Бельгия» Виктора Гюго, «Интимные литургии» Поля Верлена. У читателей помоложе популярны «Подводная война» — фантастический роман Жоржа ле Фора и, конечно, «Замок в Карпатах». Что до Поля Бурже и Марселя Прево,
[238] то они остаются искушенными знатоками женских сердец и беспощадными критиками светскости.
В моде муслин, многочисленные нижние юбки, ленты и кружева. Корсет затягивается все туже, это орудие пытки вызывает у женщин мигрени, боли в желудке, выкидыши… Артистка оперетты Анна Жюдик пишет: «Я благодарна корсету за то, что он ежедневно дает мне радость: мучения, которые он приносит, — ничто по сравнению с наслаждением, которое испытываешь, избавляясь от него каждый вечер». Корсет становится даже объектом сатиры:
Сельское хозяйство погибает,
Промышленность корчится в муках:
Так туго Мелин
[239] затянул в корсет
Сосцы Франции, дающие нам жизнь.
На эти сосцы можно полюбоваться на полотне «Вторжение» Вильяма-Адольфа Бугро, крупнейшего представителя салонного академизма: художник изобразил полуобнаженную женщину, окруженную голенькими пухленькими херувимами.
Любители живописи охотно посещают и выставки «Наби», или «Пророков» — группы французских художников, стремившихся отделиться от академической школы: Тулуз-Лотрек пишет «Женщину в черном боа»; Моне выставляет галерее Дюрана-Рюэля
[240]«Тополя». Певицу Иветту Гильбер, актеров Бенуа Коклена и великую Сару Бернар изображают на плакатах, рекламирующих слабительное средство «Жеродель».
Утром 28 сентября 1892 года все тротуары от Больших бульваров до Площади Республики буквально завалены новым печатным изданием «Журналь» — и к десяти утрам продано 200 тысяч экземпляров. Основателем газеты был журналист из Нанта Фернан Ксо, который, разработав систему крайне выгодных договоров, собрал у себя известнейших писателей того времени: Эмиля Золя, Ги де Мопассана, Леона Доде, Эдмона Ростана, Жана Ришпена, Октава Мирбо, Жана Лоррена, Анри Бека,
[241] — такого не удастся больше ни одной еженедельной газете.
8 ноября 1892 года, в самый разгар забастовки в Кармо,
[242] некий молодой человек, переодетый женщиной, пронес бомбу в штаб-квартиру горнорудной компании на авеню Опера. Консьержка вовремя обнаружила бомбу, которую отвезли в полицейский участок на улице Бонзанфан, где она и взорвалась, убив секретаря и троих полицейских. Парижан снова охватывает страх перед террористами.
«Мы превращаемся в пещерных людей!» — восклицают парижане, которые, однако, выбираются время от времени поглядеть в Музее естественной истории на челюсти своих далеких предков, обнаруженные археологом Буше де Пертом. Возможно, они уже читали «Вамирэх» Жозефа Анри Рони-старшего;
[243] возможно, вспоминают строки из его же романа «Ксипехузы», но теперь все знают о том, что умение пользоваться верхними конечностями развило мозг человека, который когда-то был точно таким же, как у высших млекопитающих. В конце XIX века совершаются важные археологические открытия, совершенствуется научно-исследовательский метод. Наибольший резонанс получают три работы: «Происхождение человека и половой отбор» Чарльза Дарвина, впервые опубликованная в 1871 году, «Учение о развитии организмов» Эрнста Геккеля (1872 год) и его же «Антропогения, или История развития человека» (1874 год).
Новым теориям яростно противостоят представители ортодоксальной науки и церковнослужители, которые отвергают теорию эволюции; в доказательство своей правоты они даже устанавливают даты событий, о которых говорится в Книге Бытия. Так, сотворение мира, по их мнению, относится к 4963-му, а Всемирный потоп — к 3308 году до Рождества Христова. Между официальной наукой и Церковью разгораются ожесточенные дебаты, суть которых иллюстрирует высказывание католического философа графа Жоржа-Мари де Местра: «Книги Бытия достаточно для того, чтобы узнать о начале мироздания. Принять идею о том, что человек может являться дальним потомком обезьяны, означает отрицать существование Бога, а это ведет к агностицизму — то есть ереси».
Эрнст Геккель, изучив теорию Ламарка, выдвигает предположение о существовании промежуточного звена между высшими приматами и современным человеком и называет это существо питекантропом. Однако никто понятия не имеет, где искать этого человека-обезьяну.
[244] У Эрнста Геккеля, пораженного сходством между эмбрионами человека и обезьяны, появляется идея о том, что промежуточное звено между этими видами можно найти в регионах, где еще встречаются примитивные гиббонообразные.
Молодой двадцативосьмилетний голландский ученый Эжен Дюбуа, преподаватель анатомии Амстердамского университета, увлеченный работами Геккеля о предке человека, задается целью найти доказательство существования промежуточного звена между человеком и обезьяной на индонезийском архипелаге — родине гиббонов. В 1887 году он устраивается военным хирургом в госпиталь Паданга на острове Суматра и в свободное время занимается раскопками.
Осенью 1981 года на острове Ява, недалеко от деревушки Тринил, на берегу реки Соло Дюбуа находит третий верхний правый коренной зуб человека-обезьяны, а спустя несколько недель — верхнюю часть черепной коробки с выраженными надбровными дугами, слишком большой для обезьяны и слишком маленькой для человека. В следующем году Дюбуа удается отыскать бедренную кость предполагаемого питекантропа, который, по его заключению, жил около полумиллиона лет назад.
В 1984 году Эжен Дюбуа публикует работу под названием «Pithecanthropus erectus» («Питекантроп прямоходящий»), а годом позже выступает с докладом на конгрессе по зоологии в городе Лейдене, предъявляя найденные образцы светилам антропологии. Некоторые из них с энтузиазмом признают в находке ископаемого человека-обезьяну, другие считают, что это обычная обезьяна, третьи вообще сомневаются, что кости принадлежат одному и тому же существу.
Жесткая критика заставляет Дюбуа скрывать свои находки, и хотя вплоть до 1900 года некоторые из коллег, проводивших раскопки на Яве, присылают ему ящики с окаменевшими останками, он никому их не показывает (гораздо позже, в период с 1936 по 1941 год, палеонтолог Густав Генрих Ральф фон Кенигсвальд найдет еще три черепа и нижнюю челюсть питекантропа). Эжен Дюбуа закончит свою карьеру преподавателем минералогии в Амстердамском университете.
В наши дни питекантропа более не считают отсутствующим звеном эволюции, потому что доказано: его скелет — это скелет хотя и примитивного, но человека. К тому же теперь известно, что человечество зародилось гораздо раньше, чем полагали Дарвин и Геккель.
Клод Изнер
«Леопард из Батиньоля»
Смежит веки Париж,
И тишь
Нарушает во тьме
Стон стен.
Жюль Жуй «Стена», 1872
Кто повелел начать кровавую расправу?
Виктор Гюго. «Крик». Из сборника «Грозный год», 1872
Посвящается тем, без кого писатель Клод Изнер не появился бы на свет:
Рахили и Пинхасу, Розе и Жозефу, Этья и Морису.
Борису.
Нашим друзьям-букинистам с набережных Сены
ПРОЛОГ
Париж, весна 1891 года
В третьем этаже распахнулось окно, и сполохи солнечного света на стеклах привлекли внимание прохожего. Подняв голову, он увидел женщину, наклонившуюся к горшку с геранью; рядом с хозяйкой собака, просунув нос меж прутьев фигурной решетки, наблюдала свысока за положением дел на улице Ласепед. Женщина повела над геранью леечкой. Кап-кап — полилось на тротуар.
Труп лежит ничком. На застиранной синей блузе расплывается темное пятно, струйка тянется от него, и капли летят в канаву, окрашивая воду в розоватый цвет. Холодеющие пальцы касаются приклада винтовки Шаспо с прилаженным штыком. Винтовку подхватывает солдат в серой шинели. Штык вонзается в тело, которое уже покинула жизнь. Солдат упирается в мертвеца ногой, чтобы выдернуть застрявшее острие…
Собака гавкнула — и видение истаяло. Прохожий ускорил шаг, словно хотел ускользнуть от прошлого. Тщетно. Едва он ступил на улицу Грасьёз, у него на глазах лошадь, тащившая груженую телегу, споткнулась и рухнула на колени. Потеряв точку опоры, телега покатилась под уклон, хомут потянул кобылу вперед. Животина воспротивилась было, замолотила копытами, но, побежденная, встала и покорно поплелась дальше.
Кишмя кишит пехота на подступах к развороченной баррикаде. Взятые на прицел коммунары бросаются врассыпную, на бегу срывая со штанов красные ленты — метки верной смерти. Тяжелая митральеза опрокидывается в ров, по которому бредет гнедая кобыла. Душераздирающее ржание перекрывает залпы и визг пуль, но еще громче крики: «Версальцы!» Проносится волна заполошного бегства, оставляя за собой шапки, фляги, походные мешки, портупеи — мусор. Как будто город вывернул тысячи каменных карманов…
Прохожий прислонился спиной к витрине кондитерской лавки, закрыл глаза. Челюсти сжались, сдерживая рыдание. Прочь! Раз и навсегда избавиться от видений! Когда же они перестанут терзать его?! Столько лет минуло — неужто время не в силах справиться с этим ужасом?..
Вокруг злополучной упряжки уже собралась толпа любопытствующих. Владелец груза при попустительстве околоточного и зевак подбадривал лошадку добрым словом, а кучера погонял кнутом.
Прохожий снова двинулся в путь, и вскоре тишина на улочке Эстрапад принесла некоторое умиротворение в его душу. Он прошел мимо кузницы, вдыхая запах разогретого железа; миновал прачечную и красильную мастерскую. Из булочной выпросталась разносчица хлеба, навьюченная четырехфунтовыми буханками.
Бродячая торговка, впряженная в тележку со снедью, драла глотку:
— Капуста! Репа! Пуд картошки! А вот кому зелень? Нарвала при луне, продаю на солнышке! — Волосы, накрученные на папильотки, и платье из линялого ситца свидетельствовали о том, что их владелица знавала лучшие времена. Когда прохожий уступал ей дорогу, торговка подмигнула ему и выкрикнула: — А вишни каковы — алые-спелые! Первые в году, не припоздайте попробовать!
— Дороговаты будут, — бросила кумушка, которая шла навстречу.
— Дамочка, да где ж вы дешевле найдете? — обиделась торговка. — Поди редкое лакомство-то. А сережки из них — куда там рубинам!
Прохожий зашагал дальше, невольно напевая себе под нос:
Время вишен любил я и юный, и зрелый,
С той поры в моем сердце рану таю…
[245]
Израненные фасады зданий, мостовая черна от пороховой копоти, под окнами — разломанная мебель. На площади Эстрапад выстроилась расстрельная команда версальцев из Национальной гвардии — сабля на боку, триколор на рукаве. Стволы «шаспо» нацелены на офицера коммунаров в фуражке с двойным серебристым кантом.
— Пли!
Грохот фиакра на улице Сен-Жак вырвал прохожего из очередного кошмара. Женщина лопатой сгребала с мостовой лошадиный навоз, распугивая воробьев и голубей. Из кабачка в помещении обувной лавки, которую держал на улице Сен-Жак овернский предприниматель, вывалился пьянчужка, дохнул прохожему в лицо винным перегаром:
— Видал?! Чё тока не удумают деляги-безделяги, чтоб половчей обуть работяг!
Прохожему вдруг тоже захотелось выпить. Он собрался уже войти в заведение овернца, но его взгляд притянула рекламная афиша: смазливая брюнетка подкручивает фитиль лампы, красный абажур жарко полыхает на сине-зеленом фоне.
САКСОЛЕИН
Керосин наивысшего качества!
Безопасен, прозрачен, без запаха,
самовоспламенение исключе…
На афише, как на палимпсесте, неожиданно проступает нижний, не до конца стертый временем слой.
Долгий список на серой стене, шесть колонок, сотни имен:
АРЕСТАНТКИ
В Версале…
Босой старик — ступни в язвах и порезах — валяется у порога ликерной лавки, перегородив тротуар. Полицейский агент, присев рядом, засовывает старику в рот горлышко бутылки; вокруг радостно гогочут. У стойки в кафе версальские офицеры и гражданские с довольными рожами громогласно тостуют за победу, звенят бокалы. На пустыре по улице Эколь не прекращаются расстрелы.[246] Медленно отползает фургон; дверца болтается на ветру, и внутри видны сваленные в кучу тела. Жандармы, в мундирах с надраенными пуговицами заставляют жителей квартала разбирать баррикаду. Женщина воет над трупами с проломленными черепами. Солдат наотмашь бьет ее по лицу.
На улице Расина взвод держит на мушке съежившегося у стены подростка. Его обвиняют в том, что он спрятал в канализационном люке горсть патронов, чтобы отвести подозрения от отца. Офицер вскидывает руку:
— Отставить!
К мальчишке прикладами подталкивают какого-то попрошайку, тот упирается и орет:
— Да чтоб у вас повылазило! Зуб даю, со жмура я их снял, эти чертовы годиллоты.[247]
— К стенке!
«К стенке!» —
Капитан бубнит,
Рот закускою набит,
Сам упился в стельку.
Прохожий понял, что сражаться с прошлым бесполезно — не утопишь его, не одолеешь. Кабак овернца остался позади.
На аллеи Люксембургского сада просеивали солнечный свет кроны каштанов, тени растекались лужицами. Малышня в матросских костюмчиках гоняла обручи под взором каменного льва, стерегущего лестницы Обсерватории. Опустившись на скамейку, прохожий вместе со львом принялся следить за прихотливыми маршрутами обручей: легкий толчок палочкой — и деревянное кольцо возобновляет бег. Двадцать лет назад здесь тоже были дети…
Женщина прижимает к груди младенца. Ее лицо неподвижно — настолько мертво, что похоже на гипсовую маску. Она только что увидела мужа в толпе арестованных. Несчастная бросается к нему, но удар прикладом слишком силен — она теряет равновесие и выпускает ребенка из рук…
Подкатился обруч, наткнулся на башмак прохожего и, качнувшись, неспешно завалился плашмя.
Статуи слепо таращатся на заваленные трупами лужайки. Из здания Сената тянется бесконечная вереница бледных, перепуганных людей. Их ведут к большому пруду — коммунаров и схваченных по навету соседей простых горожан; тех, у кого руки замараны, и тех, кто стал жертвой обстоятельств. «Шаспо» плюются смертью. Первые ряды приговоренных падают и вскоре исчезают, погребенные под новыми пластами мертвецов. Кровь разливается морем, в крови тонут солдаты, которые убивают, убивают, не перестают убивать. Морги и кладбища уже повсюду: Военное училище, казармы Лобо, тюрьма Мазас, парки Монсо и Бют-Шомон, Рокет, Пер-Лашез. Мебельные фургоны вывозят трупы. Париж воняет падалью.
Восемь дней. Это длилось неделю. Каждое утро благонамеренные горожане собирались у. Нового моста поглазеть на очередную казнь. На бойню. Двадцать тысяч расстрелянных в столице — таков итог работы военных трибуналов и уличных расправ.
Восемь дней — им не затеряться среди тысяч других, прожитых человеком, который сидит на скамейке в Люксембургском саду. Память об этих восьми днях будет преследовать его до последнего вздоха.
Пороховая гарь, алые брызги, ненависть, расстрельные стены. Людей убивали у любой вертикальной поверхности.
И что же, сойти с ума? Или найти стену, чтобы совершить
свое правосудие?..
По глади большого пруда заскользила лодка под парусом, и в барабанные перепонки ударили раскаты музыки, перекличка веселых голосов, смех, жалобный мотивчик:
Забава на грош, скупым не будь.
Всем хороша милашка —
Сладка, как забывашка.
[249]Забудься и забудь!
Забыть? Невозможно. Надо действовать. Нет иного способа избыть гнетущее бремя — око за око, зуб за зуб.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Два года спустя
Воскресенье 11 июня 1893 года
Поезд вытряхнул на перрон дюжину любителей гребного спорта в полосатых фуфайках и соломенных шляпах и шумно перевел дух, пустив вверх длинную струю пара. Полосатые фуфайки создали на минуту затор в вокзальных дверях, вырвались на волю и гурьбой устремились к набережной. За ними поспешили нарядные отцы семейств с нарядными женами и детьми. Последним перрон покинул низенький упитанный буржуа в клетчатой мелоне.
[250]
Буржуа направил свои стопы к мосту Шату, не удостоив взглядом искрящуюся на солнце реку, которую ранняя в этом году весна и едва начавшееся, но более жаркое, чем обычно, лето уже запрудили судами и суденышками. Взревел тягач. Буржуа промокнул лоб платком, помешкал, раскуривая сигару, и вразвалочку зашагал дальше.
На открытой террасе харчевни «Фурнез», расположенной в самом центре острова,
[251] сидел стройный мужчина и, потягивая пиво, не сводил глаз с приближающейся пузатой фигуры в клетчатой мелоне. Впрочем, на какое-то время его отвлекли парочки, выплясывавшие под тополями у эстрады, где трое музыкантов наяривали польку. Затем, отбивая ногой ритм, он залюбовался яликом, тонким и острым, как стрелка у изгиба Сены. Но его внимание вскоре снова сосредоточилось на толстяке, который уже вскарабкался по ступенькам на террасу.
— Секунда в секунду! — констатировал мужчина за столиком, отставив пивную кружку. — С вами не расслабишься! — И, тотчас расслабившись, непринужденно потянулся.
— Чертово солнце! Я весь взмок, — пропыхтел буржуа. — Тут найдется тихое местечко — поболтать с глазу на глаз?
— Я зарезервировал отдельный кабинет на втором этаже.
Они пересекли обеденный зал, где суетились половые, разносившие корюшку во фритюре, жареную картошку и кувшины белого вина, поднялись на один лестничный пролет, отыскали кабинет в дальнем конце коридора и, устроившись за столиком лицом к лицу, уставились друг на друга.
У владельца клетчатой мелоны была румяная физиономия с набрякшими веками и красными прожилками, кудрявые волосы и седоватые бакенбарды — он походил на раскормленного пуделя.
«Вот уж не зря пузана наградили погонялом Барбос», — хмыкнул про себя стройный, который мог похвастаться орлиным носом и светлыми усиками, воинственно подкрученными вверх. В его повадке было что-то кошачье, и он определенно обладал природным обаянием, которое наверняка обеспечивало ему успех у женщин. С лица этого человека не сходило полунасмешливое-полуснисходительное выражение, так что казалось, он если не сейчас, то в следующий миг рассмеется. Впрочем, в отличие от пухлого компаньона, у него и не было причин для уныния.
— Надо бы свистнуть официантишке — я спешу, — проворчал Барбос, раздавив каблуком окурок сигары.
— Не суетитесь, уважаемый. Я тут завсегдатай, сейчас нас обслужат по высшему разряду. А пока выкладывайте, что за дело у вас ко мне.
— Халтура — не бей лежачего. За всё про всё — две сотни.
— Что именно требуется? — подобрался блондин.
— Свинтить портсигары.
— А вы не заливаете, уважаемый? Две сотни за какие-то портсигары?
— Они из янтаря. Хочешь упустить выгоду, Даглан?
— Сколько портсигаров вам нужно?
— Штук пятьдесят. Прихватишь больше — тащи, не пропадут.
— Где взять барахлишко?
— Ювелирный магазин Бридуара на пересечении улиц Пэ и Дону. Если загребешь там еще какого фуфла — не сливай сразу, потерпи.
Дверь открылась, и вошли двое половых. У одного на подносе красовалась жареная индюшка, у второго в тесноте да не в обиде соседствовали бокалы, тарелки, бутылка мюскаде и салатница с жареной картошкой. Как только все было стремительно расставлено на столе, птица разделана, а вино разлито по бокалам, гарсоны испарились.
— Угощайтесь, уважаемый.
Барбос присвистнул:
— Однако! — Покачав головой, он вонзил вилку в индюшачью ногу и хмыкнул: — Ежели ты, шельмец, так швыряешься деньгами, неудивительно, что у тебя в карманах частенько ветер гуляет, как говорят.
— О, наконец-то я вижу улыбку! Но должен признаться, эта индюшка мне ничего не стоила. Все проделано силой мысли — тут со мной никто не сравнится!
В активе Фредерика Даглана действительно были навыки и дарования, каковых с избытком хватило бы на десяток отборных мошенников. В свое время он специализировался на подлоге изделий из серебра, затем прошел курсы повышения квалификации у собирателя пожертвований, отличался наблюдательностью, владел методой поиска сведений и был наделен затейливым воображением. Кроме того, Даглан на зубок знал уголовный кодекс и превзошел науку шифров, чем обеспечил своим посланиям полную конфиденциальность и оградил себя от любопытных читателей на случай перехвата.
— Стало быть, эта индюшка досталась тебе даром? Ну-ка, ну-ка, поделись, такие байки меня забавляют, — пробубнил Барбос, заталкивая в рот изрядный кусок поджаристой индюшачьей шкурки.
— Итак, вчера, — охотно начал рассказ Даглан, — околачиваюсь я во Дворце Правосудия — у меня была забита стрелка с корешком. Торчу, значит, там, и вдруг появляется — кто бы вы думали? Сам главный судья Ламастр, ну тот жирняга, который судейским молотком орудует что твой плотник и любого ни за грош доведет до каторги. И что же он бухтит своему собрату? «Вот незадача, часы дома забыл! А ведь это неудобственно — не знать точного времени на заседании. Присяжным только дай волю — до ночи шушукаться будут». Как говорится, имеющий уши да услышит! А я, надо сказать, с господами магистратами не один день знаком, так что и адресок любого из них раздобыть не закавыка. Короче, я сваливаю и, разжившись по дороге роскошной жирной индюшкой за пару денье, звоню в дверь обиталища дражайшего судьи Ламастра…
— Хитрая бестия! — фыркнул Барбос, опрокидывая в глотку бокал вина.
— Открывает мне его холуй, а я холую излагаю: «Господин главный судья Ламастр изволили приобрести по дороге в суд эту восхитительную индюшку и велели сюда доставить — желают завтра отведать ее с трюфелями на обед. И еще его превосходительство по забывчивости оставили дома свой хронометр, так просили им в суд принести и вознаграждение мне за это посулили». Оцените, уважаемый, тот факт, что я продемонстрировал безупречные манеры!
— Я оценил тот факт, что ты конченый прохвост.
— Короче, холуй помчался к хозяйке. Мадам Ламастр индюшку приняла, вручила мне мужнины часы без опаски и пятьдесят сантимов на чай. Вот и все вознаграждение. Ну не жмоты эти судейские, а?
— И что ты сделал с часами, негодник?
— Немедленно загнал! Выручил, правда, всего сорок франков, хотя они стоят не меньше тысячи. Но времена нынче тяжелые, уважаемый, скупщики совсем стыд потеряли, дурят нашего брата трудягу только так.
— А с индюшкой-то что?
— О! На выручку чудо-птице я сегодня спозаранку отрядил своего корешка. Она, бедняжка, к тому времени была насажена на вертел, жарилась на медленном огне и уже обретала тот волшебный золотистый оттенок, каковой столь приятен взору всякого гурмана. «Мадам! — возопил мой корешок, явившись к супруге месье Ламастра. — Его превосходительство главный судья прислал меня за индюшкой, потому как вор, укравший его часы, пойман и суду нужны улики». Довод сей показался мадам Ламастр настолько убедительным, что она тотчас сняла птичку с вертела и доверила ее заботам моего корешка. А тот без промедления слинял с добычей, ибо негоже заставлять судей ждать. Ну, так как вам моя индюшка?
— Чертовски вкусна, пройдоха ты этакий! — признал Барбос, сотрясаясь от хохота. Отсмеявшись, толстяк вытер рот салфеткой и заработал зубочисткой. — Так я могу на тебя рассчитывать? — напомнил он о деле.
— Когда вы хотите получить портсигары?
— В следующее воскресенье, здесь, в тот же час.
— Недели мало…
— Справишься. Да, вот еще что. Если вляпаешься — держи рот на замке, понял? Меня ты не видел и знать не знаешь.
— Будьте покойны, уважаемый. Когда Фредерик Даглан дает слово, сам сатана не заставит его это слово забрать, даже если будет щекотать вилами у себя в аду. А сейчас промочите-ка глотку еще разок да возвращайтесь к индюшке — не выбрасывать же жратву. И кстати, не рассчитывайте, что в следующее воскресенье я попотчую вас такой же!
В тот же день, ближе к вечеру
Церковь Святой Марии в квартале Батиньоль треугольным фронтоном и дорическими колоннами напоминала древнегреческий храм. К ее апсиде примыкал сквер с искусственным гротом, водопадом и даже миниатюрной речушкой, впадавшей в озерцо. Из сквера открывался вид на железнодорожные пути, на озерце резвились утки, а вокруг него прогуливался Фредерик Даглан с ящиком для письменных принадлежностей на ремне, перекинутом через плечо. На крышке ящика проступал полустершийся герб: золотой леопард на лазурном поле.
Даглан обмозговывал ситуацию: «Двести франков за кражу портсигаров, пусть и янтарных, — что-то слишком щедро. Похоже, у пузана тут свой интерес. Надо будет его прощупать, нельзя же оставлять тылы без пригляда…» Он остановился около смотрителя сквера. Старый инвалид в изношенном мундире поприветствовал знакомца по-военному:
— Здравия желаю, мсье Даглан!
— И вы не хворайте, капрал Клеман. Ну как оно? Урожай хороший?
— Соска, палка от обруча, швейная игла и номер «Журналь амюзан». Эх, мсье Даглан, и ведь что самое прискорбное — ни на минутку не присядешь передохнуть, иначе выставят вон, давно уж говорят, что староват я для такой работы. А я, однако, дело свое знаю! Да только когда работяге за шестьдесят перевалит, любой приказчик его обузой считает. Мне же в конце августа ровно шесть десятков и стукнет — уволят как пить дать. Жена уж совсем извелась. Сынок у нас — портняжка в ателье Гуэна, гроши домой приносит, да еще дочка подрастает… Хотя, конечно, пенсия мне военная полагается как инвалиду — крошечная, но как-нибудь протянем… Ах да, мсье Даглан, я ж не поблагодарил вас за вишню! Жена обрадовалась, вишня-то в нынешнем году совсем дорогая, так жена обещает варенья наварить, а для вас настоечку на водке сделает.
— Полно вам, Клеман, мне эта вишня ничего не стоила.
— Все одно спасибо. А сейчас куда, мсье Даглан? Тоже небось на работу?
— Ну да, у меня-то она не пыльная — сиди меню переписывай. К ужину рестораторы приспосабливают то, что осталось с обеда. Тунец под зеленым соусом у них превращается в тунца под майонезом, помидоры в масле — в помидоры фаршированные и так далее. Такие вот чудеса! — Даглан сунул в руку старику монету. — Скромное вспомоществование, папаша Клеман. И не переживайте, по миру вы не пойдете и в ломбард дорожку не протопчете — я за этим прослежу.
— О нет, мсье Даглан, я не просил милостыни!
— Милостыни, папаша Клеман? Обидеть меня хотите? Жизнь — это бег с препятствиями. В свое время мне помогали их одолевать, теперь мой черед помогать людям.
Пятница 16 июня
Перемазанный штукатуркой каменщик миновал конюшни предприятия братьев Дебриз, что у церкви Святого Дионисия на улице Шапель. У входа в местный кабак он вымыл руки под краном, из которого ломовые извозчики обычно наполняли ведра водой для лошадей. Пахло творогом и парным молоком. Каменщик надвинул поглубже картуз, пересек круглую площадку возле котельной и вышел на улицу Жан-Котен, застроенную разновеликими зданиями.
Местный мальчишка колотил мячом о забор. Мяч отскакивал и колотил мальчишку. Когда каменщик проходил мимо, шалопай заговорщически подмигнул ему и заголосил:
Генерал Клебер
[252] попал впросак —
В ад угодил, а там тот же пруссак!
[253]
Ругнувшись сквозь зубы, каменщик свернул во двор облезлого дома. В подъезде неторопливо одолел несколько лестничных пролетов. На третьем этаже окинул взглядом дверь, достал из кармана отмычку, просунул ее в замочную скважину и, подцепив язычок, осторожно нажал. Дверь открылась.
В первой комнате небольшой квартиры его ждали внушительных размеров платяной шкаф, стол, застекленные книжные полки, четыре стула и печка. Каменщик снял башмаки и принялся за дело.
В шкафу не оказалось ничего, кроме двух сюртуков, жилета, трех пар брюк да пары простыней. Осмотр книжных полок тоже не принес искомого результата. Тщательно обшарив всю комнату, каменщик перешел в спальню. Незастеленная кровать, ворох грязного белья, мусорное ведро… Он брезгливо взялся за матрас, приподнял его — и замер. На пружинах лежал коричневый портфель.
Каменщик достал из портфеля пачку бумаг, быстро пролистал, затем внимательно изучил первую в стопке и изумленно ахнул:
— Проклятье! Вот мерзавец! — От гнева перехватило дыхание. Он попытался справиться с собой. — Так, спокойствие…
За окном не унимался шалопай:
Кто обчистит вам карманы и подрежет кошельки?
Мы, фартовые ребята из ватаги Рикики!
[254]
Каменщик отодвинул занавеску, понаблюдал некоторое время за двумя кумушками, сплетничавшими во дворе, затем спрятал бумаги обратно в портфель, пристроил его на прежнее место, придирчиво удостоверился, что не оставил никаких следов своего пребывания в квартире, и, не забыв про башмаки, вышел на лестничную клетку. Защелкнув замок с помощью той же отмычки, он сбежал по ступенькам.
У основания лестницы Фредерик Даглан обулся. Когда он завязывал шнурки, его руки дрожали.
Суббота 17 июня
Магазины на улице Пэ опустели в мгновение ока — настал обеденный час. Служащие и работницы всех мастей ринулись в набег на дешевые закусочные Больших бульваров. Портнихи и приказчики модных заведений, шляпницы и канцелярские крысы лихо работали локтями, прокладывая себе дорогу в толпе, толкая друг дружку и клерков банка «Лионский кредит», решивших сперва выкурить сигаретку у входа в родную контору, а уж потом воздать должное тушеному мясу в каком-нибудь ресторанчике. Полицейские важно прохаживались, пялясь на девиц, которых то и дело выносило течением с тротуаров на мостовую. Означенные девицы, прислуживавшие в ателье, все в светлых блузках, черных юбках и разноцветных башмачках, были юны и явлены в изобилии. Под козырьком у входа одной из лавок пристроилась белошвейка и, не обращая внимания на зубоскальство маляра — тот совсем извертелся на своей стремянке, — неспешно заедала круассан плиткой шоколада.
Мало-помалу оживление стихло. Толпа схлынула, остались только газетчица в киоске, довольствовавшаяся коврижкой на рабочем месте, привратник, вооруженный метлой, и мальчишка в фартуке, вяло протиравший витрину ювелирной лавки под надзором стража порядка.
Аккурат напротив полицейского агента остановилась двуколка, запряженная мулом. Возница, юноша лет семнадцати-восемнадцати, сдернул картуз:
— Простите, господин полицейский, не подскажете, как найти ювелирный магазин Бридуара?
— Да вот он, — ткнул тот пальцем в сторону витрины, которую только что тер мальчишка в фартуке: нельзя сказать, чтобы она сияла как новенькая, но мальчишка, похоже, счел свою миссию выполненной и сбежал.
— Ой мамочки! Закрыто! — схватился за вихры возница. — А я им сейф должен доставить, сегодня утром крайний срок, во второй половине дня не смогу… Слушайте, а если я его вот тут, у дверей, пристрою, никто ж не уволочет, верно? При вас-то не осмелятся!
Полицейский нерешительно поскреб щеку, но в итоге согласился:
— Ладно, парень, оставляй. Продавцы с обеда придут в половине второго.
Сейф был незамедлительно выгружен из двуколки и установлен у порога лавки вплотную к дверям. Приказчик не позаботился опустить охранную решетку — то ли слишком торопился на обед, то ли рассчитывал на стража порядка.
— Тяжеленный, а? Свинцовый, что ли? — поинтересовался полицейский.
— Мраморный! Безмерно вам благодарен!
Двуколка выкатилась на улицу Гайон и, на полном ходу разминувшись с двумя фиакрами и омнибусом, свернула на улицу Шуазеля.
Полицейский агент Состен Котре к своим обязанностям относился с похвальным рвением, тем более примечательным, что оно никак не соответствовало жалованью, ибо похвала не имела материального воплощения. В качестве моральной компенсации он позволял себе помечтать, созерцая несессер с янтарным набором курильщика, выставленный в витрине лавки Бридуара между кубком из позолоченного серебра и сапфировым гарнитуром. Состен представлял, как пускает дым дорогого табака прямо в бородатое лицо комиссара Пашлена, своего начальника, и воображал, как тот лопается от зависти к нему, глядя на мадам Жюльену Котре в сапфировой диадеме, дефилирующую по полицейскому участку.
Вот и на сей раз месье Котре так замечтался, что не заметил, как через три четверти часа та же двуколка остановилась у края тротуара. Юноше из службы доставки даже пришлось похлопать его по плечу, чтобы привлечь внимание. Курьер, впрочем, тотчас извинился за дерзость и объяснил свое повторное появление:
— Такая невезуха, перепутал сейфы! Хозяин меня вздует! Но теперь уж я привез тот, что надо. Не будет ли господин полицейский любезен помочь мне заменить сейф?
Второй неподъемный куб занял место первого, а Состен Котре, отдуваясь и утирая пот, проклял судьбу, занесшую его на этот участок.
— Черт побери, ну и весит же! Опять, что ли, мраморный?
— Ну конечно! Только этот, видите, розовый, а тот черный. Страшно вам благодарен, господин полицейский!
Состен Котре, массируя поясницу, пригорюнился: он знал, что седалищный нерв не замедлит отомстить ему за услужливость.
Понедельник 19 июня
У конторки книжной лавки «Эльзевир», что в доме 18 по улице Сен-Пер, управляющий Жозеф Пиньо, примостившись на стремянке, читал вслух всякую всячину из «Пасс-парту». Старался он ради хозяина, Виктора Легри, ибо мнил своим долгом держать его в курсе событий. Сам Виктор до подобного чтива никогда не снисходил, полагая изложенные в газетах факты досужими сплетнями.
В час тридцать служащие ювелирного магазина Бридуара обнаружили, что произошло ограбление. Как ни странно, исчезли только принадлежности для курильщиков. Остается загадкой, почему налетчики обошли вниманием бриллиантовые браслеты, жемчуг, дорогие часы и ювелирные изделия. Еще удивительнее то, каким чудом полицейский агент Состен Котре, дежуривший на пересечении улиц Дону и Пэ, ничего не заметил, хотя утверждает, что глаз не сводил с витрины. Можно лишь посоветовать владельцу лавки купить ему очки!
Второй сейф оказался заполненным песком. По предположениям комиссара Пашлена, вор сидел в первом сейфе со съемной стенкой. Он вырезал в двери ювелирного магазина круглое отверстие, достаточно широкое, чтобы пролезть через него в торговое помещение. Завладев добычей, негодяй вернулся в сейф, установил на место вырезанный круг, замазал контур мастикой и закрасил быстро сохнущей краской. После этого ему нужно было лишь дождаться своего сообщника, которому надлежало заменить сейф.
— Ловко проделано, а, патрон? Однако стоило ли так стараться ради каких-то трубок и портсигаров… — Подняв взгляд от газеты, молодой человек с неудовольствием убедился, что Виктор Легри погружен в изучение списка заказов. — Вы меня не слушаете!
— Ошибаетесь, Жозеф, я ловлю каждое ваше слово. Эта мелкая кража напомнила мне историю побега Гуго де Гроота.
— А кто он?
— Голландский юрист семнадцатого века. Его приговорили к пожизненному заключению в замке Лёвенштайн. Считалось, что сбежать оттуда невозможно, и Гуго де Гроот вроде бы смирился — испросил дозволение скрасить дни в неволе чтением и стал выписывать книги в таком количестве, что новые приносили, а прочитанные уносили в сундуке. Спустя два года, проведенных в темнице, Гуго решился бежать: он спрятался в сундуке и вскоре оказался за крепостной стеной. Видите, Жозеф, чтение — путь к свободе.
— Да уж… А при чем тут портсигары?
— Собственно, ни при чем… Постойте-ка, ведь вы должны были нынче утром доставить графине де Салиньяк «Славься, отечество» Пьера Маэля?
[255]
— Я выполнил ваше поручение, хоть это и не доставило мне удовольствия! Что ж такое творится, нет больше доверия к честным труженикам? Вы превращаетесь в диктатора, патрон! — Жозеф гневно схватил ножницы и принялся вырезать статейку о краже, бормоча: — Усомнился во мне патрон, усомнился. Коли так пойдет и дальше, всё брошу — и в деревню, в глушь, в поля, туда, где трава зеленее!
— Вы там со скуки помрете, Жозеф, в полях. Поверьте, ничто не сравнится с бурлящим жизнью городом. Сожалею, если обидел вас, это не входило в мои намерения.
— Я прощаю вас, патрон, — величественно кивнул Жозеф, подувшись для порядка полминутки.
— Хотите взглянуть на подарок, который мы с мадемуазель Айрис приготовили на день рождения месье Мори? — улыбнулся в усы Виктор.
— Когда же у него день рождения?
— Двадцать второго июня.
— А сколько ему исполнится?
— Пятьдесят четыре. Вы приглашены на наше маленькое семейное торжество.
— Я не приду, и причина вам известна. Так что же вы подарите своему приемному отцу?
— Редкую книгу о Японии.
— О, вы разбередите ему душу, патрон. Сколько лет прошло с тех пор, как он покинул японское отечество? Двадцать, тридцать? Ему бы следовало свозить дочь на историческую родину — туда, где люди знают, что такое верность!
— Извольте относиться с уважением к мадемуазель Айрис, Жозеф. В конце концов, она осталась вам верна.
— Я лишь хотел сказать, что европейская половина вашей сводной сестры, патрон, несколько легкомысленна! — запальчиво воскликнул молодой человек и горько добавил: — И что я здесь делаю? Меня же ничего не держит…
— Ох, опять вы за свое! Ну откуда в вас эта злопамятность? То жалуетесь, то молча страдаете. За счастье надо сражаться, черт побери! Уверен, Айрис вас любит и раскаивается в своем поступке. По-моему, она постоянно на это намекает, и весьма прозрачно, а вы ведете себя как бестолочь! — Виктор вдруг прикусил язык и как будто смутился. — Послушайте, Жожо, я надеюсь, вы с ней… э-э… еще не… ну, знаете, там, пестики, тычинки…
— Нет, патрон, мы с ней сошлись во мнении, что изучать на практике репродуктивный процесс растений до свадьбы не следует. Хотя, если вам нужна правда, я об этом сожалею! — Жозеф с непроницаемым видом уставился на Виктора, но в следующий миг опять взорвался: — А вы, патрон, как вы вели бы себя на моем месте? Что, если бы мадемуазель Таша поступила с вами, известным ревнивцем, как Айрис со мной? Да вы, при вашей-то подозрительности, лопнули бы от злости!
— При моей подозрительности?! — Ошеломленный и шокированный Виктор воздел руку, словно призывая небо в свидетели того, что он давно изжил в себе этот недостаток, но тут зазвенел колокольчик на входной двери.
Явление постоянной клиентки Бланш де Камбрези, как всегда, произвело фурор. Кружева на ее платье из черного плиссированного гренадина зацепили стопку экземпляров нового романа Эмиля Золя «Доктор Паскаль», только что вышедшего у Шарпантье и Фаскеля, книги обрушились на пол, Виктор бросился их подбирать, а чопорная Бланш разразилась обличительной речью о тесноте в иных книжных лавках.
— Мы, между прочим, вынесли стулья и еще стол заменили геридоном,
[256] а тетенька возмущаться изволит, — пробурчал Жозеф, ныряя в укрытие за полку томов ин-кварто.
— Что-что? — вскинулась Бланш де Камбрези; извечная презрительная гримаска делала ее похожей на козу.
— О, пустяки, мадам, не слушайте его — сущий вздор, — поспешно вмешался Виктор Легри. — Чем могу служить?
Жозеф, не выдержав, ретировался в подсобку, дабы вволю предаться негодованию.
— Нет, ну надо же! Может, он хочет, чтобы я к его сестрице на коленках приполз? А ведь и сам он, и месье Мори не одобряли наш союз. Но стоило Айрис сделать глупость — как я сразу стал хорош и просто позарез всем нужен, чтобы замять скандал и побыстрее устроить свадьбу! Даже родная мать переметнулась в их лагерь! Все против меня! — бормотал молодой человек себе под нос, рассеянно поглаживая переплеты. Прикосновение к тисненой коже его немного успокоило, гнев утих, и тотчас воспоминания о недавнем прошлом болезненно отозвались в сердце.
Ах, как быстро исчезла радость, переполнявшая его в феврале 1893 года, когда хозяева, недовольные официальной помолвкой своего служащего с Айрис, все же вынуждены были сделать его управляющим… Отныне ему полагалось жалованье тысяча шестьсот франков в год, что давало возможность существенной экономии. Было условлено, что после свадьбы они с Ирис поселятся в прежних апартаментах месье Легри над книжной лавкой, однако Жозеф рассчитывал на сэкономленные деньги поскорее переехать куда-нибудь из дома 18 по улице Сен-Пер, хотя и скрывал до поры свое стремление к независимости — он знал о нежной привязанности будущей супруги к месье Мори, ее отцу.
Все складывалось замечательно, пока мадемуазель Таша, которой Жозеф искренне восхищался, не взбрело в голову написать портрет Айрис. Мог ли он предположить, что этот чертов портрет станет прелюдией драмы? С чего бы? Разумеется, Жозеф и не подумал возражать против сеансов позирования в мастерской на улице Фонтен, как не препятствовал и урокам акварели, которые Айрис дважды в неделю брала у матери мадемуазель Таша, мадам Джины Херсон, русской эмигрантки, пожившей в Берлине, перебравшейся оттуда во Францию и в конце концов неплохо устроившейся стараниями месье Легри неподалеку от парка Бют-Шомон на улице Дюн.
Март был посвящен предварительным наброскам к портрету. Айрис только об этом и говорила, месье Мори даже в шутку называл ее Джокондой. И все бы ничего, да в один злополучный день эскиз портрета увидел некто Морис Ломье — художник, знакомый Таша, пустозвон и бездарь, которого Виктор Легри терпеть не мог. Ломье рассыпался в похвалах, превознося мастерство приятельницы и красоту натурщицы, принялся расспрашивать о девушке, изображенной на картине. Мадемуазель Таша ответила, что это сводная сестра Виктора. А уж дальше у Ломье были наготове испытанная стратегия обольщения и верное оружие: буря и натиск, смазливая внешность и ложное обаяние. Он выследил жертву и атаковал ее, куртуазно приподняв шляпу: «Мадемуазель, обычно я не позволяю себе заговаривать с незнакомыми барышнями на улице, однако же, увидев, как вы выходите из мастерской моей коллеги Таша Херсон, не смог противиться соблазну. Я сам художник и вскоре должен предоставить работу для Салона
[257] — о, я замыслил написать для них экзотическую деву, и потому, узрев ваши сияющие очи, безупречную кожу, прелестное личико…»
Впоследствии Айрис, заливаясь слезами, поведала отцу, сводному брату и жениху обо всех этапах этой гнусной авантюры. С ее слов выходило, что неподалеку от апартаментов Таша и Виктора к ней, невинной овечке, подошел мужчина, чье имя она не раз слышала, и попросил позировать ему для картины, предназначенной к выставке. А что тут такого? Почему она должна была насторожиться при виде симпатичного художника, который всего лишь искал натурщицу восточного типа внешности?
В этом месте повествования Жозеф тогда живо представил себе всю сцену: неискушенная девица поддается чарам красавчика-мазилки. Молодой человек понимал, что у опытного ловеласа больше шансов покорить неискушенную девицу, нежели у горбуна вроде него, Жозефа, удержать ее. И хоть горб был невелик, а в остальном Жозеф на внешность не жаловался, разве мог он тягаться с Ломье? Жозеф понимал, что Айрис не устоит, возможно даже будет лгать, чтобы каждую неделю бегать в логово к этому донжуану на улицу Жирардон. Он всё понимал — в конце концов, он был писателем по призванию, — но простить не мог!
А «жалкая инженю» не замедлила «пойти на всё»: известила Джину Херсон, что вынуждена отменить уроки акварели, и упросила никому об этом не говорить. Она, дескать, готовит сюрприз жениху. Джина поверила. Да и убедить саму себя в чистоте собственных намерений Айрис ничего не стоило: конечно же она выкупит портрет, который напишет Морис Ломье, и вместе с портретом работы Таша подарит жениху в знак вечной любви!
Жозеф не желал знать, что происходило в мастерской проклятого бабника, но Айрис продолжила рассказ. Выяснилось, что на четвертом или пятом сеансе позирования ее насильно поцеловали. Что еще через две или три недели художник позволил себе вольность, за которую получил пощечину. Что, наконец, в середине мая, когда обстоятельства помешали Айрис явиться в назначенный день и она пришла к Ломье без упреждения на следующее утро, негодяй встретил ее без штанов и набросился с пылкими признаниями в любви. В этот миг дверь, отделявшая мастерскую от жилых помещений, открылась и на пороге возникла обнаженная нимфа, каковая тотчас обернулась разъяренной гарпией и начала осыпать Айрис оскорблениями. Что именно тогда услышала о себе Айрис, ей не позволяют сказать правила приличия, нет-нет, ни за что, иначе потом рот придется мыть с мылом.
Закончив исповедь, девушка принялась умолять Жозефа о прощении. Ее раскаяние было таким искренним, что даже Эфросинья Пиньо, возмущенная жестокосердием сына, встала на защиту бедняжки, категорично заявив: «Мужчины все как есть подлецы!»
Но Жозеф был неумолим. Он потребовал отложить на неопределенный срок свадьбу, назначенную на конец июля. И вот уже больше месяца Айрис не выходит из комнаты над лавкой «Эльзевир», месье Мори предельно холоден со своим управляющим, а Виктор Легри безуспешно пытается исполнять роль миротворца. Что до главного виновника драмы, то допрошенный Таша Морис Ломье ответил в свойственной ему игривой и циничной манере: «А чего ты хотела, моя ласточка? Малышка Айрис так хороша, что я охотно сошелся бы с ней поближе, да вот незадача — эта чаровница заявилась не вовремя и попала Мими под горячую руку!»
Бланш де Камбрези с козьей миной выложила Виктору деньги за роман Арсена Уссе, каковой она имела счастье откопать в книжных торосах, и удалилась. Удостоверившись, что дверь за ней захлопнулась, Жозеф покинул свое убежище в тот самый момент, когда по винтовой лестнице спустился Кэндзи Мори. Оба сделали вид, что не замечают друг друга.
— Я иду к доктору Рейно, — мрачно сообщил Кэндзи, по суеверной привычке украдкой прикоснувшись к бюстику Мольера на каминном колпаке. И ни с того ни с сего брякнул: — Виктор, только честно, вы не находите, что я стал ниже ростом?
— Ну, все мы подвержены силе земного тяготения… Вас что-то беспокоит?
— Спина.
Не обращая внимания на Жозефа, компаньоны обсудили свои проблемы со здоровьем, а затем состояние духа «бедняжки Айрис». «Только чаю с ватрушками не хватает!» — желчно прокомментировал про себя молодой человек.
— Вы на обед не останетесь? — спросил Виктор японца. — Эфросинья приготовила нам крокеты из сельдерея с репой.
— Нет уж, увольте, — отрезал Кэндзи. — До вечера, пожелайте мне удачи.
— Все беды от женщин, — проворчал Жозеф, проводив его взглядом. — Возьмите месье Мори — становится ниже ростом, сохнет и морит себя голодом оттого, что эта его танцовщица, Фифи Ба-Рен, бросила канкан и укатила в Санкт-Петербург с каким-то русским князьком.
— Ой ли, Жожо. Я подозреваю, что Кэндзи предпочел сочное жареное мясо овощной диете, навязанной всем нам моей сестрицей-вегетарианкой, и отправился в «Фуайо» полакомиться эскалопами по-милански или говяжьим филе под острым соусом. — Последние слова Виктор произнес таким скорбным тоном, что стало очевидно: он умирает от желания последовать за приемным отцом. На месте его удержал лишь страх навлечь на себя немилость мадам Пиньо.
Фредерик Даглан с ящиком для письменных принадлежностей, висевшим на ремне через плечо, засунув руки в карманы, шагал вдоль старой линии укреплений,
[258] отрезавшей Париж от предместий. У подножия фортификаций, поросших чахлой травой, тянулось внешнее бульварное кольцо, облепленное крольчатниками и досчатыми бараками. Небо над предместьем Сент-Уан было замарано фабричным дымом; с черными клубами в одиночку бился ветер. Фредерик Даглан пересек городскую черту на заставе Клиньянкур — он всегда начинал обход рабочих мест с бистро Анкизе Джакометти, земляка, который протянул ему руку помощи в давние времена, когда он, Фредерик, вышел из поезда на Лионском вокзале без гроша за душой, без ремесла за плечами и без планов на будущее.
Сейчас Фредерику было сорок три года. От отца, Энрико Леопарди, гарибальдийца, убитого в 1862 году в сражении при Аспромонте, не осталось ничего, кроме теплых воспоминаний. Мать, овдовев, эмигрировала с сыном в Марсель в надежде на лучшую долю. Там она четырнадцать часов в день трудилась на мануфактуре «Каучук и гуттаперча» на авеню Прадо и отказывала себе во всем, чтобы ее Федерико мог посещать школу. Преподаватель, славный человек месье Даглан, научил мальчика читать, писать и считать. Когда мать умерла от сердечного приступа, Федерико Леопарди купил билет на поезд до Парижа и сделался Фредериком Дагланом. В ту пору ему едва исполнилось пятнадцать.
Это был индивидуалист, бунтарь, преисполненный сочувствия к простому люду, эксплуатируемым массам, ко всем униженным и оскорбленным. Занятия каллиграфией служили ему прикрытием для другой деятельности — тайной, незаконной. Он работал в одиночку, лишь изредка привлекая в напарники Тео, племянника смотрителя сквера капрала Клемана, и никогда не стремился урвать больше, чем нужно для того, чтобы поделиться с бедствующими друзьями и обеспечить себе и своим многочисленным женщинам земные удовольствия. Вся его философия укладывалась в несколько сентенций: «Большинство людей обречены на нищету. Столкнувшись с этой печальной реальностью, я сделал вывод, что при таком раскладе от богатых не убудет. Я слишком люблю свое „эго“, чтобы позволить ему страдать или довольствоваться объедками. Общество — это джунгли, в которых сильные пожирают слабых, а мораль — так, для виду, все равно конец у всех один. Мы все окажемся в одной могиле — вот где истинные свобода, равенство, братство. Я никому не чиню урона, просто изымаю скромные излишки. В любом случае, сдохнешь ты в хижине или во дворце, на тот свет с собой ничего не прихватишь, даже булавочной головки».
Но в данный момент он был жив и влип по самую макушку. Бумаги в коричневом портфеле не оставляли на этот счет никаких сомнений. Нужно было срочно залечь на дно и попытаться решить проблему.
«Пикколо», бистро Анкизе Джакометти, стояло на границе предместий. Стены, выкрашенные голубой краской, клетчатые скатерти на столиках, деревенская горка в углу — ни дать ни взять обеденный зал в сельской гостинице. Анкизе Джакометти, молчаливый патриарх с величественными усами, председательствовал за стойкой; его жена, миниатюрная калабрийка, смуглая и черноволосая, царствовала на кухне. Каждый день к полудню зал заполнялся служащими с окраин и зеленщиками.
Фредерик Даглан, поприветствовав Анкизе, уселся за столик, откинув скатерть со своего края. Хозяин заведения выложил перед ним стопку прямоугольных карточек и обеденное меню. Фредерик открыл ящик для письменных принадлежностей, расставил на столе бутылочки с чернилами, перья, подставки и взялся за работу. Карточки одна за другой заполнялись ровным почерком, пустое место между названиями блюд занимали виньетки. Десерты он вписывал легким курсивом, а какую-нибудь «говядину с капустой» выводил солидными жирными буквами. Анкизе принес ему запотевшую кружку пива и вернулся за стойку протирать бокалы.
Фредерик выпил пиво залпом.
— Анкизе, у тебя есть на примете надежная малина?
— Si. Иди к мамаше Мокрице, она обретается у Немецких ворот.
[259] Скажешь, что от меня.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Среда 21 июня, 6 часов утра
Леопольд Гранжан с женой и двумя сыновьями занимал три комнаты в пятом этаже дома на улице Буле неподалеку от площади Насьон. Он платил триста десять франков годовой аренды, что включало налог на двери и окна, а также траты на прочистку дымоходов. Дороговато, зато жилище было оснащено газовым освещением и водопроводом. Главным утешением Леопольду Гранжану служили книги. История, география, естественные науки, беллетристика — его увлекало всё. Жан-Жака Руссо он мог цитировать наизусть целыми страницами. Две фразы из «Общественного договора» произвели на него в свое время особое впечатление:
«Человек рождается свободным, но повсюду мы видим людей в оковах»;
«Плоды принадлежат всем, земля — никому».
По воскресеньям Леопольд Гранжан с семьей отправлялся на прогулку к линии укреплений. Шагал и думал о переустройстве мира. Жизнь его была светла.
Скромное предприятие Леопольда — эмальерная мастерская — давало неплохой доход. Богатеем его, конечно, никто бы не назвал — порой бывало трудно сводить концы с концами, однако Леопольд любил свое дело, и в мастерской царил вольный богемный дух. Сам он когда-то учился на гравера, занимался росписью по фарфору, перенял повадки людей искусства и плевал на мнение соседей-обывателей. Его мануфактура находилась в конце проезда Гонне, за которым начиналась мозаика пустырей, где сопливые оборванцы вечно играли в могикан. Здание примостилось в тени огромной липы, чья крона летом служила прибежищем десяткам птиц. Это был старый каретный сарай с застекленной крышей; внутреннее помещение делилось на две половины: собственно мастерскую и торговый зал, где на полках был выставлен самый ходовой товар современного эмального промысла: бонбоньерки, пудреницы, бокалы, броши, набалдашники для тростей и рукоятки зонтов.
С наступлением весны Леопольд находил особое удовольствие в том, чтобы приступать к работе пораньше, с рассветом, пока в мастерской никого нет, — он нередко сам брался за важные заказы, требующие определенного изящества в исполнении. На сей раз ему предстояло воплотить в эмали композицию с иконописным мотивом. Задачу он перед собой поставил сложную, однако в успехе не сомневался.
Уверенной рукой мастер сделал набросок. «Отлично, — кивнул сам себе, — теперь займемся проработкой деталей», — и направился к станку, на котором была закреплена медная пластина, уже покрытая первым, бесцветным слоем эмали. Он перенес пластину на низкий столик, загроможденный емкостями с эмалевыми красками, кистями на подпорках, шпателями, стопками золотой и серебряной фольги. Леопольд ценил такие моменты творческой свободы, выдававшиеся между серийным производством и подведением баланса; это был его тайный сад, куда чужакам доступ заказан. В свои тридцать девять лет эмальер сохранил осанку молодого здорового парня. Приземистый и широкоплечий, он производил впечатление человека волевого, уверенного в себе и редко терял душевное равновесие.
В этот ранний час ничто не нарушало безмятежную тишину мастерской, даже чириканье воробьев долетало с улицы едва различимо. Леопольд Гранжан расставил краски в нужном порядке и принялся наносить пастозную массу на самые светлые участки композиции. Эта подготовительная работа не требовала сосредоточенности, и он позволил себе предаться мечтам.
Если дела и дальше будут идти в гору, надо непременно купить надел земли в Монтрёе и посадить там персиковые деревья — со временем они станут приносить отменную выгоду. Сыновья тогда возглавят эмальерную мануфактуру — всё лучше, чем трудиться на заводе, — да и супруга наконец-то сможет удовлетворить свою страсть к огородничеству…
Повозка молочника прогрохотала по спящей улице, где-то во дворе заскрежетали мусорные баки, хлопнули деревянные ставни — и словно эти звуки разбудили город, отовсюду понесся привычный утренний шум. Леопольд отложил кисточку. Еще полчаса — и мастерскую заполнят ремесленники, а пока в самый раз хватит времени на чашечку кофе. Насвистывая, он накинул пиджак, надел старую помятую шляпу, сунул в зубы сигарету и вышел из мастерской.
Кафе «У Кики» расположилось на пересечении улиц Шеврель и Фобур-Сент-Антуан в окружении бакалейных, колбасных и винных лавок. В лавках уютно горели керосинки, днем из двери в дверь сновали кумушки — все как на подбор острые на язык, готовые отбрить им любого и с любым затеять перестрелку глазами. Сейчас же в окрестностях еще было пусто, Леопольд лишь раскланялся на полпути с Жозеттой, цветочницей-мулаткой, которая катила тележку с Центрального рынка, где уже успела затовариться букетами.
Шагая к цели, эмальер зашарил по карманам в поисках спичек, но какой-то прохожий — непонятно, откуда и взялся — поднес к его сигарете огонек. Леопольд открыл рот, чтобы поблагодарить, но начавшая было расцветать на его губах улыбка исчезла, потому что прохожий вдруг подался к нему, что-то шепнул на ухо, отступил на полшага и резко выкинул руку вперед.
Падая навзничь, Леопольд Гранжан видел стайку воробьев, уносящиеся вверх фасады, небо, подернутое летними облаками…
Потом в глазах у него помутилось, в животе полыхнула боль. Последнее, что он слышал, ускользая во тьму, была знакомая мелодия:
Увы, краток век вишневого счастья.
Мы вишни-сережки пойдем обрывать,
Рубиновым каплям подставим ладони.
Но вишни заплачут каплями крови,
Уронят к ногам их — кому подбирать?
Увы, краток век вишневого счастья,
И вишен-сережек уже не сорвать…
* * *
Тот же день, после полудня
— Тьма тьмущая, чтоб тебя расплющило! Ты хочешь набить пузо котлетами или так и будешь хлебать пустой бульон?! — бушевал человек в коротких пышных панталонах, набитых паклей и подвязанных на ляжках, в чулках, колете и шляпе с белым пером.
Горничная краснела и таращила на него хорошенькие глазки, на которых уже выступили слезы. Она собралась даже бухнуться на колени, отчего на подносе в ее руках опасно закачались курица из папье-маше и восковые груши.
— Я… п-простите… не понимаю… — всхлипнула девушка, передумав падать ниц.
— Чего тут понимать, цыпа моя?! — пуще прежнего взревел вельможный господин. — Если хочешь заиметь котлеты, то бишь успех на сцене, всё, что от тебя требуется, — это прислуживать твоему королю Генриху Четвертому, то бишь мне, с огоньком! Тут покрутила задом, там сиськи выставила, а то их у тебя без керосинки не разглядишь. Потом пошла туда, к оркестровой яме, встала и спела:
Чист помыслами и к врагам великодушен,
Наш государь весьма отважен сердцем.
Однако же и в личной жизни он не скучен:
Король наш Генрих — тот еще повеса.
Трудно, что ли? Можно вообразить, тебя камни ворочать заставляют!.. Ладно, не хнычь. Зовут-то тебя как?
— Андреа…
— Ишь ты, миленько. Вытри нос, Андреа, мы их всех порвем. Так, отдыхаем пятнадцать минут.
Эдмон Леглантье, исполнитель главной роли и постановщик «Сердца, пронзенного стрелой», исторической драмы в четырех актах, он же директор театра «Эшикье», слез с подмостков и направился к третьему ряду, где сидели актер и актриса, игравшие в этой пьесе Равальяка и Марию Медичи.
— Ну, а вы что скажете, дети мои? Порвем галерку или как?
— Клакеры будут устраивать овацию при появлении каждого персонажа, — доложил Равальяк. — Ручаюсь, даже на последних рядах никто не заснет.
— Да услышит тебя всемогущий Маниту! Но каково невезение! Кто бы догадался, что этим летом в городе пойдут еще два спектакля на ту же тему? И вот вам пожалуйста: «Шатле» проанонсировал «Цветочницу с кладбища Невинноубиенных»,
[260] а «Порт-Сен-Мартен» ставит «Дом банщика»!
[261] Ты, между прочим, главный герой обеих пьес.
— Я?!
— Не ты, дубина, а Равальяк! Получается, мы с нашим «Сердцем» — третьи. А я-то готовил оглушительную премьеру для открытия театра «Эшикье»! — Эдмон раздосадованно окинул взглядом зал, отделанный на итальянский манер. Ремонт загнал его в долги, и эта премьера была сродни ставке ва-банк — в случае провала кредиторы его удавят… Вся надежда на одну затеянную мистификацию — если дело выгорит, банкротство ему не грозит.
Помощник режиссера свесился с балкона:
— Мсье Леглантье! Вас повсюду ищет Филибер Дюмон. Я ему сказал, что вы домой ушли.
— Какая неприятность, теперь придется ночевать в гостинице. И все же благодарю вас.
— Кто такой этот Дюмон? — полюбопытствовала Мария Медичи, повернувшись к Леглантье.
— Автор пьесы, по-простому — заноза в заднице. Ладно, пойду перекурю и начнем репетицию последнего акта. Точи свой кинжал, Равальяк!
Когда Генрих IV удалился, Андреа подсела к коллегам:
— Он что, льва на завтрак живьем проглотил? Не привыкла я к таким головомойкам…
— Привыкай, — посоветовал Равальяк. — Месье Леглантье изволят нервничать. Этот театр ему что любовница — сплошные расходы, уже кучу денег сюда вбухал.
— Откуда же у него деньги? Театр-то еще не открылся.
— Откуда-откуда… Может, дядюшка у него в Америке, а может, он финансовыми махинациями занимается — почем я знаю?
— Я знаю, — подала голос пышнотелая Мария Медичи. — Карты. Он предается игре с тем же пылом, с каким Генрих Наваррский охотился на кабанов. У нашего Эдмона всегда наготове две маски античной комедии: одна смеется, другая плачет. Если у него с лица не сходит улыбка — значит, накануне он выиграл в баккара, если кислая мина — продулся в прах. К счастью для нас, Эдмон скалится чаще, чем куксится.
— Когда же он успевает играть? — удивился Равальяк. — Ведь безвылазно в театре торчит — то костюмерами командует, то рабочих учит, как декорации собирать. Постановщиков опять же тиранит. «Гамлета», «Сида», «Андромаху» потрошит, каждое слово разжевывает фиглярам, которые ни ухом ни рылом… Это ж никакого здоровья не хватит!
— О, будь покоен — маэстро в свои пятьдесят еще ого-го! — фыркнула Мария Медичи. — Говорят, у него толпа любовниц, то и дело меняются, а есть одна постоянная зазноба — некая Аделаида Пайе, так он у нее проводит две ночи в неделю и, исполнив мужеский долг, до утра шляется по Большим бульварам — удовлетворяет картежную страсть. Играет, играет, не может остановиться, обещает себе, что при первом прибытке встанет и уйдет — и продолжает делать ставки. Хотя в последние дни ему, похоже, везло. Стало быть, и мы при удаче — у него есть чем жалованье заплатить.
— Что же, он никогда не спит? — спросила Андреа.
— Ложится с рассветом, встает в полдень.
— Надо же, а ты чертовски хорошо осведомлена, Эжени, — констатировал Равальяк. — И такое впечатление, что всё узнала из первых уст… в спальне маэстро.
— А кем, по-твоему, Мария Медичи приходилась королю Генриху, охальник? Законной половиной, разве не так?
Громоподобное «На сцену!» положило беседе конец — все трое бросились на подмостки, где Беарнец уже восседал в карете из штакетника, а машинисты натужно воздвигали задник, являвший миру фасады контор общественных писарей и бельевых лавок улицы Феронри.
— Эй, Равальяк, ты там не упарился отдыхать? Где твой парик? Ты должен быть рыжим! И на хрена ты мне сдался, шут гороховый? Уволю к чертям собачьим! Я тебя нанимал для того, чтоб ты мне кишки выпустил, а не для того, чтоб ты любезничал с этими дамочками, тьма тьмущая, чтоб тебя расплющило!
Кабинет директора театра находился во втором этаже над фойе. Как только закончилась репетиция, Эдмон Леглантье побежал переодеваться. Шустро отклеил накладную бороду, намазал лицо кольдкремом, смыл грим и напомадил седеющие усы субстанцией из баночки, которую стянул у Эжени. Застегивая рубашку, он напевал:
Побоку бабы, побоку пьянки!
Эххей! Мухомор и четыре поганки!
Ждет меня самая главная роль —
Гамлет, Отелло иль Генрих-король!
«Слава! Я чую приближенье славы, я еще задеру подол этой шлюхе! Успех! Признание! И тогда — роскошь, золоченые кресла, зал, освещенный электричеством — уж будьте любезны! Кто скажет, что я не везунчик? Сегодня вечером я сыграю не в баккара, я сыграю кое с кем злую шутку, и это будет мой лучший выход!» С этими мыслями Эдмон достал из ящика стопку бумаг и пробежал взглядом ту, что лежала сверху. Изящная композиция из трубки и портсигара служила заставкой к тексту, который он с выражением прочел вслух:
Анонимное общество
АМБРЕКС
Устав зарегистрирован у мэтра Пиара,
парижского нотариуса, 14 февраля 1893 года.
Акционерный капитал — 1 000 000 франков —
разделен на 2 000 акций по 500 франков каждая.
Контора в Париже.
Долевое участие вкладчика: ________
Париж, 30 апреля 1893 года
Управляющий: ________
Управляющий: ________
«Безупречно, — с улыбкой мысленно заключил актер и даже поцеловал акцию от избытка чувств. — Художник прыгнул выше головы. Вы неотразимы, мои красотулечки, вы и ваш драгоценный наряд. Судят-то по одежке! Ничто так не внушает доверия вкладчику, как умело выгравированная золотая жила, из которой сыплются готовенькие монеты прямиком в его кубышку. В нашем случае золотая жила приняла вид курительных принадлежностей, и до того убедительный вид, что ни одна иллюстрация в научном трактате не будет смотреться правдоподобнее. А мы знаем, что публика безоглядно верит любому печатному слову, каждой картинке в газете!»
Эдмон Леглантье отсчитал из пачки двадцать пять акций, остальные спрятал в несгораемый шкаф, предварительно достав оттуда двадцать пять портсигаров; сложил всё отложенное в чемоданчик и подошел к зеркалу завязать галстук. Сооружая узел, он декламировал монолог собственного сочинения, сдобренный модуляциями, достойными звучать под сводами «Комеди-Франсез»:
— Не придумано еще лучшего применения бумаге, нежели ее обращение в банковские купюры или же в обещание дивидендов, каковое воплощается в акциях многоликих мануфактур… — Он с упоением повторил, раскатывая «р»: — Мануфактур-р-р, как-то: культивация лапшичного дерева в заповедных уголках наших колоний или производство носогреек из окаменевшей смолы! Старина Леглантье, приготовиться к выходу, вот-вот воссияют огни рампы!
Широкий тротуар бульвара Бон-Нувель кишел горожанами, спешившими за покупками или выбиравшими себе террасу кафе по вкусу, чтобы предаться прекрасному farniente.
[262] Эдмон Леглантье первым делом удостоверился, что люди-«сандвичи», упакованные в рекламу театра «Эшикье» и сосланные на тихую улочку, добросовестно выполняют свои обязанности. Один из них обнаружился у входа в причудливое строение, занятое рынком, второй красовался на лужайке перед театром Гимназии, ловя взгляды зевак, устроившихся вокруг на скамейках.
Удовлетворенный увиденным, Эдмон продолжил путь по бульвару Пуасоньер и лишь на бульваре Монмартр заметил, что за ним следует блондин в светлой визитке, который определенно встречался ему раньше. Актер скользнул в уличную уборную и, чтобы сосредоточиться, забормотал себе под нос:
Природа спит, дыша устало,
Под долгий, скучный шум дождей,
А он, смеясь, на одеяло
Бутоны роз бросает ей!
[263]
Ум его тем временем лихорадочно работал. Точно, этот блондинистый субъект недавно попался ему на глаза дважды за день: в первый раз при выходе из театра, а затем у стойки пивнушки «Мюллер», неподалеку от столика, за которым толстячок передал ему, Эдмону, портсигары и акции. Тогда это не вызвало у него подозрений, однако сейчас… «Третье совпадение — уже не совпадение, субчик таскается за мной по пятам не случайно». Эдмон отошел от общественного писсуара и со скучающим видом остановился у витрины парикмахерской — в ней, как в зеркале, отражался участок Монмартра, но человек в светлой визитке уже затерялся среди прохожих.
Безудержная англомания в последнее время превратила квартал в филиал Лондона. Все тут было британским — от оптик до шляпных магазинов, а портные и продавцы обуви наперебой уснащали свои вывески словечками «modern» и «select». Зато уличные разносчики демонстрировали неистребимый французский дух, взывая к фланирующей публике.
— Дамочки-господа, а вот кому лакричную настойку со льдом? Освежает, мозги прочищает! — орал торговец и размахивал колокольчиком, сгибаясь под грузом жестяной емкости с напитком.
— Подарите букет даме сердца, месье! — призывала девушка, толкая тележку, заваленную цветами, в пестром ворохе которых преобладали фиалки.
Эдмон Леглантье подарил самому себе алую гвоздику и, пристраивая ее в бутоньерке, отмахнулся от затейника, норовившего всучить ему пачку скабрезных фотографий под названием «Облачение и разоблачение Полины».
От предвечерней духоты Эдмона совсем разморило, он замедлил шаг, прислушиваясь к ощущениям. Может, подождать омнибус маршрута Мадлен — Бастилия? Или выпить хинной настойки за столиком под навесом кафе?.. Но, взвесив в руке чемоданчик, он все же предпочел отправиться дальше пешком — дело не ждало и требовало ясности мыслей.
У дверей клуба его, как всегда, встретила необъятных размеров бабища, которую все звали Прекрасной Черкешенкой, невзирая на ее роморантенские корни. Бабища совмещала обязанности подпольной букмекерши, гадалки и сводницы. Следуя неписаному ритуалу, Эдмон сунул ей франк и получил взамен многозначительный взгляд вкупе с именем начинающей певички, которая еще не обзавелась меценатом.
— Ее зовут Розальба. Пышечка что надо, такая сдобненькая — пальчики оближете, — шепнула людоедка.
Эдмон Леглантье с улыбкой отверг угощение.
«Меридиан» принадлежал к категории открытых клубов — число его членов никем не ограничивалось, доступ мог получить всякий желающий. Среди завсегдатаев попадались художники, беллетристы, дамы из высшего общества, предприниматели и богатые промышленники. Сюда приходили пообедать, поужинать, написать пару писем и — главное — удовлетворить страсть к азартным играм.
В большом зале с монументальным камином, высокими золочеными столами и расписными эмалями на стенах — считалось, что это копии работ Бернара Палисси,
[264] — сияли люстры о пяти рожках. У дверей меланхоличный субъект, в чьи обязанности входило продавать и обналичивать фишки, вытянулся по стойке смирно, приветствуя нового гостя. «Здорово, Макс», — рассеянно бросил в ответ Эдмон Леглантье и окинул цепким взглядом публику, рассредоточившуюся по салону. Вечер только начинался. Любители абсента готовили свое волшебное зелье, процеживая яд через кусочки сахара на ложках с дырочками — зеленые капли сыпались на дно бокалов. Разыгрывались карточные партии. Понтёры толпились вокруг банкомёта, постепенно входя во вкус. Для некоторых это было единственным способом прокормиться — они не ждали от карт ничего, кроме скромной каждодневной двадцатки на пропитание, а потому действовали благоразумно, просчитывали комбинации и на ставку отваживались, лишь когда не сомневались, что карта принесет им выигрыш. Это были «меркантилы». Большинство же игроков сдавались на милость демона по имени Азарт, способного обогатить их или пустить по миру мановением руки, при том на лицах не отражалось и следа внутренней муки или торжества — отчаянье и ликованье прорвутся наружу пот
ом, за стенами клуба.
За бессвязными диалогами о пустяках таились личные драмы. Неизвестный поэт исходил желчью:
— В наши дни романы и пьесы штампуют как на станке! Деляги от литературы из кожи вон лезут на потребу читающей публике. Все издатели достойны презрения!
— А что же вы хотите, старина? — снисходительно пожимал плечами его собеседник. — Искусство — это вам не пончики, прибыли не приносит.
— И вы знаете, чт
о сей наглец ответил автору?! — Вопли хроникера из соседней кампании заставили обоих замолчать. — «Милостивый государь, я прочитал вашу рукопись и вызываю вас на дуэль!» Вы были на премьере театра «Нувоте»? Эта комедия не выдерживает никакой критики — сущий головастик с рыбьим хвостом. О, Леглантье, наконец-то!
Появление директора театра «Эшикье», которого тут многие считали своим наставником, было замечено, и публика оживилась: два десятка завсегдатаев в черных сюртуках и моноклях тотчас окружили его. К толпе военных, буржуа и господ с дворянскими частицами в именах присоединились непризнанный поэт и хроникер. Эдмон Леглантье обладал даром разряжать атмосферу. Он всегда был в курсе свежих парижских сплетен, пользовался благосклонностью нескольких театральных примадонн, ради красного словца не щадил собратьев по цеху и оттого был желанным гостем в любом обществе. Что, впрочем, не мешало поклонникам перемывать косточки своему кумиру, стоило тому повернуться спиной.
— Дорогой друг, мы вас заждались! — вскричал отставной полковник.
— Прошу простить за опоздание, господа, но реставрация зрительного зала требует моего постоянного присутствия и поглощает мое внимание настолько, что я теряю счет времени.
— Однако, говорят, ремонтные работы остановлены из-за отсутствия финансирования…
— «Клевета, сударь, клевета, я видел достойнейших людей, павших ее жертвой»,
[265] дорогой полковник де Реовиль. Очень скоро госпожа Фортуна воспылает ко мне страстью, и мы наплодим с ней много маленьких фортунчиков!
— И как же вы намерены завоевать сердце капризной богини?
Эдмон Леглантье выложил на зеленое сукно двадцать пять акций:
— С помощью этого. К сожалению, я был несколько стеснен в средствах, иначе приобрел бы больше. Руку даю на отсечение — в ближайшее время котировки подскочат до потолка!
— «Амбрекс»? Никогда о таком не слышал, — сказал хроникер.
— Действительно, акции общества «Амбрекс» пока не котируются на бирже, но в будущем месяце ждите сенсации. Я убежден, что эти инвестиции поправят мое финансовое положение. Чего и вам желаю, — заключил Эдмон, помахав в воздухе стопкой ценных бумаг.
— «Амбрекс», «Амбрекс», — забормотал полковник де Реовиль, — что за слово чудное?
— Да, что такое «Амбрекс»? — поддержал его галерист с улицы Лафит. — Ну же, Леглантье, сорвите уже покров с тайны, явите ее нам в ослепительной наготе!
— Нет тут никакой тайны, господа, вот смотрите. — Эдмон выложил на стол портсигар. — По-вашему, из чего это сделано?
— Очевидно, из янтаря.
— Ошибаетесь. Речь идет о его искусственном аналоге — амбрексе.
[266] Это изобретение произведет революцию в ювелирном промысле!
— Полно вам, Леглантье, всем известно, что в бижутерии широко распространены имитации янтарных изделий из стекла! — воскликнул полковник де Реовиль.
— Это не стекло.
— Стало быть, гуммилак?
— Нет, нет и нет! Клянусь вам, амбрекс — искусственно созданное вещество, неотличимое по свойствам от янтаря, и могу поручиться, я ни за что не ввязался бы в это дело, не будучи уверенным в его успехе! — Эдмон сунул портсигар в карман, сделал вид, что колеблется, и как будто решился: — Вот, господа, это подарок вам, будущим зрителям «Сердца, пронзенного стрелой», — он открыл чемоданчик, — возьмите и приходите в театр «Эшикье» с женами, дочерьми и любовницами!
Внимательно изучив портсигары, все пришли в восторг: прозрачность, цвет, крошечные пузырьки воздуха и даже насекомые, застывшие внутри, — в точности янтарь с берегов Балтики.
— Воистину, никакой разницы, — констатировал хроникер.
— Технология только что запатентована, — сообщил Эдмон.
— Вы накоротке с изобретателем?
— Мы с ним друзья детства, и он предоставил мне возможность подзаработать.
— Как ни странно, меня это заинтересовало, — объявил галерист.
— Это
нас заинтересовало, — подал голос высокий субъект с закрученными кверху гусарскими усами, стрижкой бобриком и апоплектическими отвислыми щеками.
— Старина Кудре, предложение ограничено, — развел руками Эдмон. — Мой друг детства предпочитает поспешать медленно — ведь цена на акции вот-вот взлетит до небес. Как сказал Расин в «Плакальщицах», акт первый, сцена первая: «Кто в путешествие отправится далёко…»
— Ясное дело, тише едешь — дальше будешь, слыхали-слыхали, — перебил Кудре. — Я в доле. Беру пятьдесят акций.
— А я — семьдесят! — крикнул кто-то в монокле.
— Мне тоже пятьдесят!
— Покупаю, покупаю! Тридцать!
— Меня не забудьте! Сорок!
Эдмон Леглантье расхохотался:
— Спокойствие, господа, спокойствие, мы же не на базаре. Постараюсь что-нибудь придумать, но пока ничего не обещаю. Знать бы, сколько там у него осталось… — Он открыл блокнот и принялся записывать заказы. — Итого, двести сорок акций. Господа, сдается мне, вам повезло — я смогу удовлетворить ваши запросы. Пока акции не прошли оценку на бирже, буду рад послужить посредником. Но надобно уладить все по-быстрому — встречаемся здесь же в девятнадцать часов… И постарайтесь обойтись без чеков — наличные, только наличные!
Засим месье Леглантье покинул благородное собрание. Его победа была столь оглушительной, что, выходя на бульвар, он даже позволил себе шлепнуть Черкешенку по обширному заду.
«Пам-пара-рам, дело в шляпе! Вот простофили! Прикинем-ка: двести сорок умножить на пятьсот — будет… сто двадцать тысяч. Из них шестьдесят — мои! А если нынче вечером удастся облапошить этого олуха герцога де Фриуля, он накупит бумажек еще на сотню тысяч — золотое дно!»
Простоволосая белошвейка, попавшаяся навстречу, подарила ему улыбку. Эдмон резво сорвал шляпу и поклонился:
— Мадемуазель, вы божественно прекрасны! — Выпрямившись, он замер. В нескольких шагах от него блондин в светлой визитке подпирал плечом фонарный столб, то и дело поглядывая на карманные часы, словно у него тут было назначено свидание. «Он что, ошивается здесь с тех пор, как я вошел в клуб? — подумал Эдмон. — Ессе homo!»
[267]
Мысль заговорить с незнакомцем он сразу же отмел, еще долю секунды поборолся с желанием дать стрекача, но в конце концов взял себя в руки и поднялся на террасу ближайшего кафе. Перед мысленным взором возникло лицо человека, подрядившего его на аферу с «Амбрексом». Добродушное лицо, но Эдмон сразу почуял опасную и дьявольски умную личность: чтобы спланировать и осуществить мошенничество такого размаха, нельзя ни на миг выпускать ситуацию из-под контроля. Быть может, он и организовал слежку — дескать, не пытайся меня надуть, Эдмон Леглантье?.. Актер поежился. С подобными личностями он и сам предпочитал быть честным, как папа римский, — ради собственного же здоровья.
Шпион слонялся по тротуару под фонарем, старательно делая вид, будто его бросила возлюбленная, и он страшно расстроен.
«На сцене тебя бы обстреляли вишневыми косточками, — мысленно попенял ему Эдмон Леглантье. — Ладно, занавес!»
Так ничего и не заказав, он встал из-за столика и отправился домой, при том намеренно выбирал окольные пути, сворачивал в переулки и усилием воли запрещал себе оборачиваться, повторяя: «Помни о жене Лота!»
У своего подъезда актер все же не выдержал и внимательно оглядел окрестности — шпиона нигде не было.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Вторник 4 июля
Фредерик Даглан чистил картошку. Солнце припекало, зато здесь, в тени буйного садика, где калина, вьюн и бузина вели с огородными грядками битву за территорию, было прохладно, и он чувствовал себя в полной безопасности.
«Малина», которую указал ему Анкизе Джакометти, находилась у подножия крепостной стены, построенной в свое время для защиты Парижа, но так и не выполнившей задачи.
[268] Когда Фредерик Даглан явился сюда две недели назад, мамаша Мокрица не задавала вопросов. Гость сослался на Анкизе — этого было достаточно, он мог остаться, спать в пристройке-кладовке и заниматься стряпней в отсутствие хозяйки.
Мамаше Мокрице было за сорок, и она прослыла ярой поборницей женской эмансипации, когда выставила вон мужа-пьяницу и изыскала способ зарабатывать себе на жизнь в любое время года. Теперь, в дождь и в зной, закинув за плечи ивовую корзину, наполненную свежей зеленью, она бродила по улицам, оглашая округу звонким криком:
— Мокрица
[269] для пичу-у-ужек!
Консьержки, экономки, надомницы поджидали ее каждый день, потому что без мокрицы пернатые любимцы грустили, смолкали их трели и рулады. А птичка, весело чирикающая в клетке, подвешенной за окном, — одна из немногих радостей бедняка. Потому, даже если в доме не было ни крошки и приходилось потуже затягивать пояс, монетка на пучок мокрицы все равно находилась.
Когда сезон заканчивался, травка-мокрица становилась редкостью и увядала, мамаша Мокрица продолжала служить кормилицей для всех пичужек квартала — выращивала для них вкусный подорожник и зеленое просо.
Фредерик Даглан сгреб картофельные очистки в газету и уже собирался отнести их кроликам, но его взгляд упал на статейку в низу полосы. Лицо Фредерика окаменело. Он посмотрел на дату выпуска: 22 июня 1893 года.
УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ШЕВРЕЛЬ
Вчера около семи утра на улице Шеврель мужчина был заколот кинжалом. Личность жертвы установлена — это был художник по эмали, некий Леопольд Гранжан. У полиции есть свидетель…
— Ч-черт! — сквозь зубы выдохнул Фредерик Даглан.
Вечер того же дня
Поль Тэней, владелец типографии, уже больше четверти часа топтался под навесом, прячась от дождя. Он ненавидел тратить время попусту и отличался предельной пунктуальностью. Судя по всему, этими добродетелями не мог похвастаться человек, по чьей прихоти Поль оказался здесь, да еще в непогоду.
Нынче утром, в начале рабочего дня, ему принесли телеграмму, содержание которой дошло до него не сразу. Поль стоял в застекленном бюро, внизу громыхали печатные станки, а он читал и перечитывал текст и наконец порвал голубую полоску телеграммы в клочья. Мало того, что приславшему ее хватило наглости напомнить об истории, после которой они ни разу не виделись, он еще назначил встречу в приказном тоне! Но Поль не мог отказаться. Гадать, что понадобилось от него этому типу, он тоже не стал. Не привыкший полагаться на волю случая, месье Тэней предпочитал иметь дело с фактами и, единожды приняв решение, уже не отступал. Никому, кроме месье Лёза, типографского бухгалтера, не дозволялось оспаривать его распоряжения. Поль знал, что на сей раз придется иметь дело с более сильным противником, однако не сомневался, что сумеет с ним справиться.
Из типографии в квартале Пти-Монруж он вышел ближе к вечеру. Встреча была назначена на девятнадцать часов, так что еще оставалось время заскочить к Марте — предупредить, чтобы не ждала к ужину. Никогда не изменять своим привычкам — вот залог спокойной семейной жизни. Поль Тэней прошел по Фермопильскому проезду и переступил порог галантерейной лавки. В торговом зале было пусто — Марта гремела кастрюлями на кухне.
— Это ты, Поль?
— Я на минутку! У меня встреча с заказчиком — похоже, будем печатать афиши… О-о, какой запах! Что ты там стряпаешь?
— Заячье рагу.
Поль Тэней прямо из горлышка бутылки отхлебнул сансерского, сменил пиджак и взял зонт.
— Оставь мне, лапушка, кусочек… то есть большую тарелку этой вкуснятины!
Лапушка послала ему из кухни воздушный поцелуй и подлила в соус белое вино.
Погода портилась — определенно надвигалась гроза. Взглянув на небо, Поль Тэней заскочил в омнибус, и вовремя — хлынул дождь.
К своим шестидесяти годам владелец типографии в Пти-Монруж был еще крепок — от коренастой фигуры веяло грубой силой, волосы, правда, поредели, но седина проступила только на висках, щеки же вечно покрывала черная щетина на вид суточной давности, даже если он пять минут назад чисто выбрился. На красном мясистом носу с трудом удерживали равновесие очки. Печатники и подмастерья ласково звали его за глаза Борода-в-три-ряда.
Ливень наконец утихомирился. Двор и улица перед Полем Тэнеем были пустынны. Он вдруг подумал, что автор телеграммы не уточнил, где именно будет ждать — внутри или снаружи. Возможно, при таком-то потопе, он предпочел спрятаться под крышей? Тем лучше, это упростит задачу. Поль потянул за ручку, и дверь открылась, явив взору темное помещение, загроможденное стопками картона. Грязные оконные стекла неохотно пропускали тусклый вечерний свет. Поль окинул взглядом стол, заваленный бумажным хламом, стеллажи с папками, длинный верстак у стены.
— Эй! Есть тут кто-нибудь?
Он услышал чье-то дыхание.
Со спины слева надвинулась тень.
Поль Тэней резко обернулся…
Среда 5 июля
Выйдя от профессора Мортье, Жозеф от души наподдал ногой мусорному ведру у крыльца. Он был в ярости. Его отправили на другой конец столицы, велев доставить профессору словарь древнегреческого языка, — и на все про все пожаловали каких-то шестьдесят сантимов! Раньше, до предательства Айрис, ему бы разрешили нанять фиакр, но теперь месье Мори всячески намекал, что управляющий впал в немилость.
Жозеф угрюмо направился к остановке омнибусов. Кондуктор сидел на подножке желтой колымаги и докуривал сигарету, созерцая мыски собственных ботинок.
— Еще не отправляемся? Я успею купить газету? — спросил Жозеф.
Кондуктор сплюнул, не выпуская из зубов окурка.
— Отчаливаем через две минуты, парень.
Жозеф бросился к газетчику, у лотка ненароком толкнул престарелого господина, покупавшего свежий выпуск «Фигаро», услышал в свой адрес «Грубиян!», извинился и с «Пасс-парту» подмышкой запрыгнул в омнибус. Важно было как можно раньше занять уютное местечко, чтобы, отгородившись газетой от мира, совершить путешествие со всей приятностью. Маршрут он уже знал вдоль и поперек — бульвары и улицы, становящиеся все респектабельнее по мере приближения к центру города, ничего интересного.
Омнибус маршрута Плезанс — Ратуша набрал ход.
— Жарковато, — высказался пассажир по соседству.
— Гнусная погода, чего уж, — покивал Жозеф.
— В газетах пишут, опять ожидаются дожди.
— Кто ж нынче газетам верит…
На антресольном этаже Национальной библиотеки дежурили пожарные — облокотившись на перила балкона, со скучающим видом наблюдали сверху за дорожным движением. Через открытые окна в читальном зале видно было бездельничающих служащих; один, правда, был очень занят — точил карандаш. В небе толкались свинцово-серые тучи, перекрывая путь солнечному свету и оправдывая предсказания газет. На остановке ломовая лошадь с любопытством сунула морду в салон.
— Э, я имею право брать на борт только двуногую скотину, принцесса, — сообщил ей кондуктор. — Два места внизу! Номер семь, номер восемь!
Лошадь со вздохом отвернулась, а тройка в упряжке желтой колымаги заложила вираж и с оглушительным грохотом поволокла омнибус по авеню. На каждой остановке пассажиров прибывало, они делали знак кучеру и, поднимаясь в салон, покупали у кондуктора номерок. Вскоре все места были заняты. Кондуктор, заступив проход очередному желавшему прокатиться, философски заметил;
— У нас в омнибусах как в литературе — тех, кто пишет, много, а тех, кого читают, мало, — и дернул за шнурок звонка, извещая кучера о том, что салон заполнен.
Тот натянул вожжи, пропуская другой омнибус, пересекавший ему дорогу, и радостно откликнулся:
— На стаканчик уже заработали, коллега!
— Да и на закуску!
На следующей остановке вышел один пассажир.
— Лувр, Шатле, Одеон, место наверху, номер шесть! — возвестил кондуктор.
На тротуаре два десятка человек разочарованно посмотрели в грозящее дождем небо, и ни у кого не возникло желания карабкаться на империал.
[270]
— Кому «Фигаро», «Энтранзижан», «Пти журналь»? — воспользовался заминкой уличный разносчик газет, шныряя в очереди и заглядывая в салон.
Жозеф тщательно расправил «Пасс-парту» — и вовремя. Номер шесть все же отыскался — вернее, отыскалась. В омнибус втиснулась толстая тетка, увешанная корзинками. Никто и не подумал уступить ей место.
— Не, мамаша, тут тебе ничего не светит, — констатировал кондуктор. — Таки полезай на империал, давай подсажу… эх-хей!
Жозеф, притиснувшись к окну, позорно укрылся за газетой и принялся просматривать заголовки, сладко замирая от уколов нечистой совести.
ОБНАРУЖЕН ТРУП ГИ ДЕ ЛАБРОССА
В заброшенных пещерах, некогда занятых зоологическими экспозициями Музея естественной истории, найдены останки Ги де Лабросса, основателя означенного музея…
— Ваш номерок, пожал-ста… А это что за дела?
Омнибус «Плезанс — Ратуша» забуксовал на бульваре Сен-Жермен, запруженном горланящей толпой. Жозеф, ничего не замечая вокруг, размышлял о том, не вернуться ли ему к своему незаконченному роману-фельетону
[271] под названием «Кубок Туле». Внезапно его внимание привлекла статья на второй полосе:
СМЕРТЬ ЭМАЛЬЕРА
Убийство Леопольда Гранжана, художника по эмали, заколотого кинжалом 21 июня на улице Шеврель, до сих пор остается загадкой. Единственный свидетель оказался не в состоянии описать убийцу, поскольку видел его только со…
Толстая тетка не вынесла путешествия на империале и слезла обратно в салон, громогласно высказываясь по поводу «нынешней молодежи». Жозеф устыдился, с сожалением поднялся и учтиво указал ей на сиденье:
— Прошу вас, мадам… — Сам он пробрался к платформе и остался там, рассеянно слушая щебетание двух горничных.
— Чего мы так плетемся? — негодовала пухленькая коротышка.
— Почем я знаю, опять небось студенты безобразят, — пожала плечами ее товарка, хорошенькая брюнетка, кокетливо поглядывая на Жозефа. — Студенты все как есть бездельники, только и знают, что глотку драть: «Долой правительство!», а мы за них отдувайся!
— А что твоя хозяйка? Все собачится с мужем?
— Да у него зазноба на стороне, деньги из него тянет, вот мадам и боится остаться на бобах.
Шум и сутолока на бульваре усилились — манифестанты совсем разбушевались.
— Становится горячо, — пробормотала пухленькая.
— Вот-вот, и у нас тоже, — подхватила брюнетка. — Месье мне то какое непотребство скажет, то за что-нибудь ущип…
Омнибус тряхнуло. Ватага студентов схватила под уздцы трех впряженных в него лошадей и потянула их в сторону улицы Эшоде, игнорируя отчаянную брань кучера. Перепуганные пассажиры салона бросились к выходу, но сверху уже спускались те, кто занимал империал, и в проеме образовалась куча мала.
— И чего им неймется, школярам-то?! — воскликнула брюнетка.
— А того, что этот зануда, сенатор Беранже,
[272] добился запрета на вольности в одежде во время их Бала Четырех Муз,
[273] — невозмутимо ответил ей долговязый гражданин, не отрываясь от газеты.
— Какие такие вольности? — заинтересовалась брюнетка.
— Порнографические, мадемуазель. Такие, от которых святоши в обморок падают. А молодого здорового избирателя ничто так не возмущает, как покушение на право разгуливать в чем мать родила. — Последние слова гражданин адресовал Жозефу и при этом окинул его таким сальным взглядом, что юноша покраснел и одним прыжком оказался на подножке, подальше от извращенца.
Оттуда открывался вид на опрокинутый трамвай, лежащий вдали от рельсов и вкупе с горящим киоском исполняющий роль баррикады. Бульвар превратился в поле битвы. На одной его стороне бунтари громили торговые лавки с воплями «Долой Беранже! Беранже, ты нас допёк!», на другой разворачивали строй жандармы.
При поддержке кондуктора кучер разогнал студентов кнутом, и омнибус, скрежеща и раскачиваясь, выкатился на улицу Ансьен-Комеди, но на подступах к медицинскому факультету снова попал в окружение.
— Туристы по пятнадцать франков за сотню — налетай! — заорал какой-то всклокоченный субъект.
Охваченные паникой пассажиры горохом высыпались к памятнику Брока.
[274] Кучер ухитрился распрячь своих першеронов и погнал их к перекрестку Одеон, кондуктора и след простыл. Прижавшись к бортику фонтана Уоллеса, Жозеф смотрел, как желтый параллелепипед омнибуса заваливается на бок. Вот по его поверхности побежали веселые язычки пламени, еще мгновение — и вся колымага вспыхнула факелом под гром аплодисментов. Поджигателей тотчас же обратил в бегство взвод жандармов.
Жозеф сам не понял, как добрался до тротуара улицы Дюпюитрана. Ругая на чем свет стоит распроклятых студентов, стражей порядка, своих хозяев и все человечество, он добежал до улицы Месье-ле-Пренс. Здесь покуда было тихо. Жозеф прислонился к фонарному столбу, чтобы отдышаться и привести мысли в порядок.
— Это что, революция? — спросил он у ломовика, грузившего на телегу ящики с овощами.
— Похоже на то. Вчера вон одного уже ухайдакали. Жандармы из Четвертой бригады грохнули какого-то коммивояжера, который и не сделал-то ничего — тянул себе аперитивчик на террасе кабака «Аркур». То ли еще будет! — Ломовик запрыгнул на телегу. — Н-но, красавица моя, где наша не пропадала!
Жозеф направился к переплетной мастерской Пьера Андрези — месье Мори велел забрать у него персидский манускрипт. «А еще говорят, прогулки полезны для здоровья! Как же! Я с них за это премию стрясу!» — ворчал себе под нос молодой человек.
Его ожидал сюрприз: мастерская оказалась заперта, хотя в этот утренний час Пьера Андрези всегда можно было застать на рабочем месте. Жозеф постоял возле узкой витрины с образцами сафьяна, веленевой бумаги и шагрени, покосился на дверь мебельного склада по соседству и подошел к запыленному окошку мастерской. Прижав нос к стеклу, он разглядел внутри прессовальную машину, нагромождение инструментов… Пьера Андрези не было.
— Веселенькое дельце, — проворчал Жозеф, раздосадованный тем, что придется возвращаться сюда снова. — Обхохочешься.
Напасть за напастью преследовали его — казалось, он стал жертвой какого-то заговора. Предаваясь мрачным мыслям, молодой человек прошел по улице Месье-ле-Пренс, свернул на Вожирар и поплелся в Люксембургский сад.
На мирных аллеях трудно было представить, что совсем рядом бушует толпа, вспыхивают уличные схватки. Здесь неспешно прогуливались дамы, прячась от июльского зноя под шелковыми зонтиками с перламутровыми рукоятками, — маленькие круглые солнышки всех цветов радуги плыли под проясневшим голубым небом. На пути к фонтану Медичи Жозеф встретил двух девушек в фуляровых платьях. Одна из них — пригожая, тоненькая, в шляпке с алым маком — была похожа на Айрис! Жозеф обернулся и долго смотрел ей вслед. Сердце сжалось, он окончательно и бесповоротно признал свое поражение. С горькой улыбкой — именно так улыбались актеры в мелодрамах, он видел в театре — молодой человек опустился на скамейку и принялся следить за хороводами красных рыбок в резервуаре фонтана. Выбрав среди них одну, с фиолетовыми пятнышками на жабрах, он назначил ее своим молчаливым другом, с которым можно поделиться сокровенным.
— Решено, останусь холостяком, Аякс. — Для удобства Жозеф нарек друга Аяксом. — У меня будут любовницы, много любовниц, но ни одна не покорит мое сердце — пусть страдают! О, не смотри на меня с осуждением, Аякс, — ты тоже никогда не женишься, даже не думай! Что ты говоришь? Проявить великодушие и простить? Она этого так ждет? Ни за что! Ни за что не прощу, слышишь? Никогда я не присоединюсь к стаду рогоносцев! Если б ты интересовался литературой, знал бы, что «бывает женщина изменницей — безумец тот, кто ей доверится»!
[275] Я из-за всей этой истории забросил свой второй роман-фельетон, оставив Фриду фон Глокеншпиль в отчаянном положении…
[276] Нет, о том, чтобы покончить с писательством, не может быть и речи! Да здравствует жизнь, мы молоды и веселы, на земле нам отмерено меньше времени, чем под землей, — похоронным тоном закончил он, глядя, как друг Аякс, плеснув хвостом, уходит на глубину.
Вконец обескураженный Жозеф поднялся и за неимением слушателя возобновил разговор с самим собой в надежде заглушить отголоски амурных разочарований.
— Наврала мне та хиромантка: «На вас благословение Венеры!» Вздор! Впрочем, меня все устраивает — я слишком ценю свою независимость!
Кровь застучала в висках, на ресницах повисли слезы. Он яростно вытер глаза рукавом. Между ним и решением сохранить независимость стояла тень девушки с миндалевидными глазами, девушки, заставлявшей его трепетать от страсти.
Велосипедистка в костюме из шотландки ореховой гаммы — подвернутые почти до колен брючки обтягивали крепкие бедра, блузка подчеркивала пышную грудь — заложила крутой вираж, сворачивая с набережной Малакэ на улицу Сен-Пер, и затормозила у дома номер 18. Она уже собиралась соскочить с седла, но заметила выстроившиеся в ряд за стеклом витрины «Эльзевира» любопытные лица. Последовал момент всеобщего смущения, затем даму вместе с велосипедом быстро втащили в лавку.
— Какое неблагоразумие, фрейлейн Беккер! — воскликнул Виктор. — Разъезжать по городу в та…
— Неужто вы уподобились женоненавистникам, месье Легри? — пылко перебила его девушка. — Велосипедные прогулки открывают женщине путь к свободе, служат законным предлогом вырваться из-под опеки семьи! Разумеется, ей приходится одеваться соответствующим образом. Вот почему я в таком виде! А иные господа косо смотрят на женщин, «разъезжающих по городу», именно потому, что мы носим брюки! Отпустите мой велосипед!
— Ни в коем случае. И я вовсе не это имел в виду, фрейлейн Беккер. — Виктор твердой рукой отобрал у девушки велосипед и покатил его в подсобку.
— Месье Мори, я требую объяснений! — возмущенно обернулась Хельга Беккер к Кэндзи. Тот стоял у камина, положив ладонь на голову гипсовому Мольеру.
— Разъезжать по городу в такое время действительно неблагоразумно, мадемуазель, — пожал плечами японец. — Труп человека, убитого вчера во время уличных волнений в Латинском квартале, сегодня перевезли в морг больницы Шарите. Студенты уже сбежались туда на манифестацию.
— А я как раз была там и наткнулась на взвод муниципальных гвардейцев, они шли с улицы Иакова, — зачастила Эфросинья, — и я сказала себе: «Ой батюшки святы, уланы высаживаются, прямо как во времена прусской осады, сейчас все по новой начнется!» — Тут она наставила указующий перст на Кэндзи: — И надо же вам было именно сегодня отправить моего котеночка в город с каким-то поручением! Они мне его убьют!
— Мы не знаем наверняка, насколько серьезна сложившаяся ситуация, — пока говорят всего лишь о выступлении студентов. И не волнуйтесь, ваш Жозеф — парень не промах, выкрутится, — проворчал Кэндзи.
Эфросинью это отнюдь не успокоило:
— У вас каменное сердце, месье! — воскликнула она и повернулась к Хельге Беккер, которая сняла тирольскую шапочку и приводила в порядок свои кудряшки. — У ограды больницы толпились студенты, представляете, у каждого палка в кулаке! И тогда сержант махнул белой перчаткой — повел своих в наступление. Тут уж я зевать не стала, ноги в руки — и сюда, улепетывала так, что пятки сверкали!
— О да, воистину, мадам Пиньо, солдатня — первая угроза для женской чести. Кстати, месье Легри, вы довольны своей «бабочкой»?
— Не думаю, что сейчас подходящий момент обсуждать марки велосипе… — Виктор, не договорив, устремился к дверям встречать господина в цилиндре и, демонстрируя искреннее уважение, со всей любезностью провел его в лавку. — Прошу вас, месье Франс. Есть новости?
— Жандармерия Шестого округа согнала полторы сотни манифестантов с ограды больницы Шарите, а Четвертая бригада обратила их в бегство. Сейчас полицейские, похоже, расчищают улицы, слышите?
За витриной нарастал топот десятков пар ног.
— Я бы посоветовал запереть дверь, — добавил Анатоль Франс.
Через несколько минут волна беспорядочного бегства докатилась до дома 18. Люди жались к стенам или прорывались к набережной, за ними с саблями наголо мчались конные гвардейцы. Всадники в алых мундирах на вороных конях промяли в толпе красно-черную борозду. С неожиданной отстраненностью взирая на эту картину, Виктор пожалел, что ему еще не представился случай обзавестись хронофотографическим аппаратом,
[277] с помощью которого можно было бы ее запечатлеть.
Вскоре на улице Сен-Пер восстановилась тишина. Лишь трости, шляпы, башмаки, валявшиеся на мостовой, свидетельствовали о карательном рейде муниципальной гвардии.
— Нынешнее положение дел напоминает о том, что творилось в июле тысяча семьсот восемьдесят девятого, когда парижане узнали об отставке Неккера.
[278] Французская революция — превосходный сюжет для романа. Возможно, я его когда-нибудь напишу,
[279] — сказал Анатоль Франс. — Мой дорогой Кэндзи, а куда же сбежали ваши стулья?
— Революция! — всполошилась Эфросинья. — Батюшки святы! А мой котеночек там совсем один! Да его же изрубят саблями! Иисус-Мария-Иосиф, верните мне сыночка живым!
Как только Жозеф вышел на улицу Вожирар, снова стал слышен гомон толпы, бушующей на бульваре Сен-Жермен. Молодой человек вздохнул, глотнув свежего воздуха, и уловил легкий запах гари. Он огляделся, прищурил глаза — ленты нехорошего дыма реяли вдали, где-то над улицей Месье-ле-Пренс, завиваясь толстыми спиралями поверх крыш. И было ясно, что пожар, видимый с такого расстояния, — дело нешуточное. Жозеф стремглав одолел несколько кварталов, и вот уже в лицо пыхнуло жаром.
Потрепанное временем четырехэтажное здание нависло над двумя лавчонками, притулившимися под ним бок о бок, как коробки из-под обуви. Обе лавчонки горели, языки пламени лизали вывески, окрашивая их в ярко-оранжевый с металлическим отливом цвет. Жозеф встал как вкопанный. Мастерская Пьера Андрези обратилась в гудящий факел, та же участь вот-вот должна была постигнуть прижатый к ней стеной мебельный склад.
Чьи-то слабые пальцы сжались на руке Жозефа, и он вздрогнул, услышав дрожащий голос:
— Дрых я там, на досках, а ребята перекусить пошли в бистро вон, поблизости. А я дрых, значится, и вдруг вижу во сне, как оно все загорелось. И оттого проснулся. Этот сон мне жизнь спас, парень, во как бывает! — Человек неверным шагом побрел к жильцам четырехэтажного дома, высыпавшим на улицу. Сбившись в кучку на тротуаре противоположной стороны, притихшие, неподвижные, они стояли под серым снегом кружившего в воздухе пепла и смотрели на бедствие.
Жозеф подошел к старику в рабочей блузе:
— Как это случилось?
— Знать не ведаю. Я со своими работягами пошел подкрепиться в лавку молочника, у него там бистро, только сели — ка-ак шарахнет, и вспыхнуло все в один миг. Повезло еще, что нас там не было, — сказал старик, глядя на пылающий мебельный склад.
— А где месье Андрези? Вы его видели?
Старик покачал головой.
Жозеф напрасно искал переплетчика среди уцелевших — его нигде не было.
— Боже, какой кошмар! А если он остался в мастерской?!
Погорелец с мебельного склада бессильно развел руками.
Привалившись к стене, Жозеф с трудом подавил приступ дурноты, вытер платком лицо, вспотевшие ладони и простонал:
— Он погиб!
— Пожарные! Наконец-то! — закричала какая-то женщина.
Сложный машинно-мускульный организм из людей и выдвижной лестницы, с жилами-тросами и веной-шлангом, приготовился к контратаке. Один пожарный взялся за металлический наконечник, насаженный на шланг, капрал махнул рукой второму, приставленному к паровой помпе. Длинный мягкий рукав скользнул змеей на мостовую, свернулся кольцами. Спазмотическими рывками пошла вода и наконец ударила длинной струей.
Понадобилось два часа, чтобы победить пламя. От того, что было переплетной мастерской и жилищем Пьера Андрези, остался почерневший остов.
Воспользовавшись суматохой, Жозеф подобрался поближе и решился переступить порог обгоревшего домика. Книги превратились в пласты остывающей магмы. Молодой человек поднял отрез шагрени — она рассыпалась в руках. Он приметил три обуглившиеся трубочки — полые цилиндрики сантиметров двенадцати в длину, — бездумно поднял их, сунул в карман и вернулся к хозяину мебельного склада:
— Вы уверены, что слышали взрыв?
— Кто ж его знает, может, и взрыв. Проклятые студенты дел натворили… Ох, беда какая! Мы же все теперь без работы, что ж дальше будет, господи!
Курносая женщина рядом предположила:
— Вероятно, газ взорвался.
— А вы не видели Пьера Андрези? — спросил ее Жозеф.
— Бедняга, он не успел выскочить из мастерской, — покачала головой женщина. — У меня колбасная лавка напротив, через окно все видно. Когда огонь вспыхнул, месье Андрези как раз склонился над прессом… Ах, это ужасно, ужасно, там же столько книг было — загорелось все в секунду…
Книжная лавка «Эльзевир» уже не походила на укрепленный лагерь. Покупатели разошлись, Кэндзи отправился провожать Анатоля Франса. А фрейлейн Беккер заявила, что, пока всех до единого мятежников не арестуют, она на велосипед не сядет — скорее уж оседлает чертово колесо, о котором пишут в газетах,
[280] чем подвергнет опасности свою персону и драгоценный механизм, когда на улицах бесчинствуют шпана и силы порядка.
К великому неудовольствию Виктора, примчалась мадам Баллю, консьержка дома номер 18-бис, — ей не терпелось обменяться впечатлениями со своей товаркой Эфросиньей. В итоге все три дамы — точь-в-точь три Мойры — затрещали сороками, сбившись в стаю вокруг конторки. И все три в голос охнули при виде Жозефа в кепи набекрень, потного и раскрасневшегося. Ввалившись в лавку, молодой человек слова не успел сказать — мать кинулась к нему обниматься, благодаря всех святых за то, что вернули ей отпрыска целым и невредимым.
— Котеночек мой бедненький, ты так быстро бежал, за тобой гнались эти разбойники? Говорила я вам, месье Легри, сущие лиходеи! Да посмотрите же на него, он весь мокрый!
— Матушка!
— Не волнуйтесь, мадам Пиньо, он же не снежная баба, не растает, — улыбнулся Виктор, вызволяя своего управляющего из материнской хватки.
— Па… патрон, это… это чудовищно! Месье Андрези… переплетчик… погиб! Сгорел заживо!
— Ах, господи боже, звери! Просто звери — теперь они поджигают честных горожан! — раскудахталась мадам Баллю.
Виктор попытался увлечь Жозефа к подсобке — тщетно. Три дамы, истерично выражая свои чувства, не позволяли мужчинам и шагу ступить.
— Дайте же ему наконец сказать! — возопил Виктор.
— Одни говорят — студенты подожгли, другие кричат — анархисты, третьи считают, что это несчастный случай, пока ничего не известно, никто ничего не видел, не слышал, полная неразбериха, — прорвало Жозефа, — герметизм какой-то…
— Что такое «герметизм»? — вопросила Хельга Беккер.
— Дело темное, — буркнул Виктор.
— …а в итоге пожар, страшный пожар, и все сгорело, всё! — шепотом закончил юноша.
— Я иду туда, оставайтесь на хозяйстве, и ни слова месье Мори, — грозно приказал Виктор, накидывая сюртук и хватая шляпу с тростью.
— А если мадемуазель Айрис спросит? — поинтересовалась Эфросинья, не сводя глаз с Жозефа.
— Будьте тише лани, учуявшей охотника, — ответил Виктор, мысленно поблагодарив Альфонса де Ламартина за полезный афоризм.
Мадам Пиньо сравнение понравилось, она гордо поджала губы и не стала развивать тему. А Жозеф стоял столбом и смотрел на прекрасную евразийку в платье из муслина в белую и розовую полоску с пышным воротником, перехваченным на шейке черной лентой.
— О чем же таком я должна спросить, мадам Пиньо? — осведомилась Айрис, девушка с миндалевидными глазами, только что спустившаяся по винтовой лестнице.
Высматривая фиакр, Виктор почему-то вдруг вспомнил неземное создание, которое прошлой зимой произвело фурор на сцене «Фоли-Бержер». Танцовщица в полупрозрачных одеждах вилась блуждающим огоньком, порхала бабочкой в разноцветных лучах софитов, и эти трепетные пируэты были похожи на его, Виктора, жизнь. Плавная поступь его жизни тоже порой прерывалась змеиными извивами хореографии Лоя Фуллера.
[281] Он кружился, сжимая в объятиях тайну, бесновался перед лицом опасности и падал, опустошенный, сдаваясь во власть извечно преследовавшей его скуки. Одна лишь Таша умела развеять сплин и придать смысл его существованию.
Движение было плотным, но фиакров не наблюдалось. Пришлось отправиться пешком. Прорвавшись через громокипящий бульвар Сен-Жермен, Виктор вышел к улице Месье-ле-Пренс. Табличка «УЛИЦА ПЕРЕКРЫТА» его не остановила, и вскоре он уже подходил к тому месту, где стояла мастерская переплетчика. На почерневшей от гари стене здания, к первому этажу которого примыкали мастерская и мебельный склад, черной усмешкой зияла трещина. Страницы растерзанных огнем и водой книг усеивали мостовую. На тротуаре были сложены в кучу стулья, рядом притулился сундук.
— Много жертв? — спросил Виктор у дежурившего на пепелище жандарма.
— Работники мебельного склада как раз перекусывали в бистро «У Фюльбера», когда начался пожар. Повезло им.
— А переплетчик?
— Этому не повезло. Не смог выйти из мастерской.
— Он был моим другом.
— Пожарные говорят, от бедолаги мало что осталось.
Виктор поежился. Обжечь палец спичкой — уже больно, а тут огненная баня… Можно было лишь надеяться, что Пьер Андрези задохнулся раньше, чем до него добралось пламя.
— Известно, как это произошло?
— Пожарные предполагают, что ваш приятель решил выкурить трубку или сигарету рядом с газовой лампой, чиркнул спичкой — бабах! Комиссар с судмедэкспертом повезут тело в морг, но быстро не управятся из-за всей этой катавасии в квартале.
— Будет расследование?
— Ждем инспекторов.
Во время разговора Виктор как бы между делом перешагнул через веревку, натянутую вокруг мастерской, но страж порядка не зевал — ухватил его за рукав:
— Месье, сюда нельзя, попортите нам все улики.
— Простите, я так потрясен… просто хотел удостовериться, что…
— Оставьте мне визитную карточку. Если найдутся какие-то личные вещи, вас известят.
Виктор медленно побрел прочь. Смерть Пьера Андрези поставила его лицом к лицу с самим собой, столкнула в бездну собственного «я», куда он старался не заглядывать. Половина жизни прошла — ради чего? Погоня за редкими книги, бездарно потраченные за изучением библиографических каталогов часы, дурацкие торги с клиентами в лавке — все это вдруг показалось ему таким же бессмысленным, как прежние отношения с женщинами, которых он покорял одну за другой. Каждая победа была всего лишь прелюдией к амурным утехам, поскольку ничего больше не имело значения, и не удивительно, что он пресытился… На подступах к улице Сен-Пер Виктор пришел к выводу, что любовь к Таша — единственное оправдание его присутствию в этом мире, построенном на жестокости, чувстве вины и стремлении к красоте.
«Люди уверены, что для общения с Богом им необходим институт церкви и все его религиозные ритуалы. Но быть может, Бога легче разглядеть, наблюдая за полетом птицы, за тем, как тянется к небу травинка, или любуясь звездным небом, замирая от восторга перед произведением искусства, слушая песню ветра?..»
В лавке «Эльзевир» Виктор с досадой обнаружил, что трех Мойр и один велосипед на посту сменили две матроны. Бланш де Камбрези не заметила, как он вошел, и продолжала вещать, брызжа слюной в мордочку мальтийской болонки, которая съежилась на груди Рафаэль де Гувелин. Отчаянные жесты и ожесточенные кивки последней не возымели действия — Бланш пронзительно разорялась, сотрясаясь от гнева:
— Разумеется, подобные бесчинства недопустимы, и необходимо, дабы власти со всей решительностью обуздали зарвавшихся студентов. Тут я всецело разделяю мнение моего супруга: нашей католической молодежи заморочили голову все эти оккультные секты, исподволь разрушающие наше общество. А откуда они берутся? С Востока! И поток иммигрантишек все растет, шагу некуда ступить — наткнешься на какого-нибудь азиата, и каждый подпевает социалистам! Куда катится Франция!.. Что с вами, дорогуша? Вы застудили шею?
Рафаэль де Гувелин закашлялась, моська зашлась лаем, и хозяйка поспешила поставить ее на пол рядом со своей собакой породы шипперке, которая тотчас оскалилась и зарычала.
— Полно вам, дорогая Бланш, вы наслушались болтовни всяких пустозвонов, — попробовала все исправить Рафаэль. — Христианская добродетель требует быть терпимыми, не так ли, месье Легри? Где же вы пропадали? Нехорошо с вашей стороны заставлять нас ждать!
Заметив наконец Виктора, Бланш де Камбрези торопливо сменила тему, но ушла не слишком далеко:
— Известно ли зам, что в мире неуклонно растет число разводов? В Японии, к примеру, один развод приходится на три свадьбы. Приветствую вас, месье Легри, да-да, это опять я, ваша клиентка. Мне совершенно необходим «Синий ибис» Жана Экара.
Виктор снял шляпу и приложил все усилия, чтобы в голосе не прорвалась враждебность, — воинственные интонации, как и собственно разглагольствования Бланш де Камбрези действовали ему на нервы.
— Здравствуйте, дамы. Жозеф вами займется.
— С нетерпением жду встречи с вашим управляющим, однако он был настолько нелюбезен, что удалился в хранилище. Хорошенький прием у вас тут оказывают постоянным покупателям!
Виктор с трудом подавил раздражение:
— Прошу вас подождать еще пять минут, мне нужно срочно поговорить с месье Мори. — И без дальнейших объяснений помчался наверх по винтовой лестнице, перепрыгивая через две ступеньки.
Бланш де Камбрези яростно поправила пенсне.
— Что за манеры! Ничего удивительного, что он живет во грехе с этой русской эмигранткой, которая повергла в ужас достойных людей в галерее Буссо и Валадона. Порядочные девушки блюдут себя до свадьбы, а затем посвящают свою жизнь хлопотам у домашнего очага и воспитанию детей!
— Ну, не все, дорогая моя, не все, — усмехнулась Рафаэль де Гувелин. — К примеру, старейшая подданная Великобритании Полли Томсон, каковая намедни отпраздновала свой сто седьмой день рождения, никогда не была замужем, ибо полагает, что мужья заставляют жен работать как проклятых. Она рассудила, что предпочтительнее будет добывать пропитание только для самой себя.
— Надеюсь, у нее еще остались зубы, чтобы сгрызть добытую корочку хлеба, орошая ее солеными слезами одиночества, — фыркнула Бланш де Камбрези.
Кэндзи Мори любовался гравюрой Утамаро Китагавы, приобретенной в Лондоне. Он только что повесил ее над ларем эпохи Людовика XIII.
— Виктор, что вы скажете о «Красавице, набелившей шею»? Не находите ли вы, что она выглядит как живая? Здесь тонко передано… Да на вас лица нет! Что-то случилось?
— Трагедия. Пьер Андрези погиб. Сгорел вместе с мастерской.
Кэндзи побледнел, попытался вдохнуть — и не смог, грудь как будто пронзили шпагой.
— Кэндзи, вам плохо? Мне нужно спуститься в лавку, там клиенты, но если…
Японец вяло отмахнулся:
— Нет-нет, идите… — И, глядя в спину убегающему Виктору, прошептал: — Смерть выше гор, но она же и тоньше волоска…
Он рассеянно опустился на краешек стола, сдвинул очки на лоб и уставился в пространство.
— Есть промысел в каждом событии. Люди умирают, промысел воплощается…
Перед мысленным взором Кэндзи предстала его возлюбленная Дафнэ. Они снова шли вдвоем по аллее ботанического сада, окружившего хоспис в Челси, он снова слышал ее дыхание. Дафнэ покоится на Хайгейтском кладбище уже пятнадцать лет. Целых пятнадцать лет! Тогда, потеряв ее, он чувствовал себя во власти враждебных сил, которые хотели его поглотить и уничтожить. А потом понял, что смерть уносит только тело, душа же любого человека вечна.
«Мертвые вспоминают о нас, когда мы вспоминаем о них».
Горло перехватило, перед глазами встало другое лицо — Джины Херсон. Эту женщину, мать Таша, наделенную неоспоримой грацией, он встречал всего-то пару раз. Губы сердечком, роскошные золотисто-каштановые волосы… Она напомнила ему Астарту Сирийскую с картины Данте Габриеля Россетти, дышащей эротизмом. Джина выглядела зрелой и уверенной в себе, и это странное сочетание женственности и какой-то почти мужской силы духа безудержно влекло, пугало, обезоруживало его. Кэндзи Мори по натуре был победителем, он всегда добивался желаемого. И одиночество нашептывало ему: «Попытай судьбу!» Но не было и малейшей надежды, что Джина Херсон когда-нибудь станет значить для него больше, чем Дафнэ.
…Таша отставила тарелку кабачков, тушенных в сметане, — есть в такую жару совсем не хотелось. Уж лучше еще немного потрудиться над полотном, оно уже закончено, но можно кое-что подправить. После возвращения из Берлина, откуда она привезла мать, Таша дважды в неделю давала уроки акварели и большую часть свободных дней тратила на иллюстрирование Гомера. Времени на живопись при этом почти не оставалось — она писала картины урывками, как сегодня, вместо обеда, но была счастлива, что помогает матери. Теперь, когда Джина была с ней, не хватало еще двух близких людей — сестры Рахили, которая поселилась в Кракове с мужем, чешским врачом Милошем Табором, и отца, Пинхаса. Отец часто писал ей из Нью-Йорка, и в этих посланиях, исполненных энтузиазма по поводу жизни в Америке, то и дело прорывалось чувство неприкаянности.
Недолгое пребывание в Берлине заставило Таша в полной мере осознать, насколько ей дорог Виктор, и хотя замужество не входило в ее ближайшие планы, девушка уступила уговорам переехать к нему. Их общее жилище состояло из спальни, кухни, туалетной комнаты и фотолаборатории. Помещение во дворе, занятое под живописную мастерскую, при необходимости превращалось в гостиную-столовую.
Узы, соединившие ее с избранником, стали еще прочнее, когда Таша решила писать картины с проявленных Виктором фотографий, — теперь у них появилось общее дело.
Расследование, касавшееся эксплуатации детского труда, привело Виктора к мысли сделать серию снимков на выступлении труппы юных акробатов. Именно тогда его увлекла тема ярмарочных праздников — он открыл для себя новую вселенную. Гуттаперчевые люди, борцы, укротители, шпагоглотатели, пожиратели огня, клоуны, жонглеры и чревовещатели олицетворяли собой некую непостижимую реальность, и Виктор с азартом естествоиспытателя исследовал ее, тем более что Таша была не меньше, чем он сам, зачарована балаганной феерией. Ее вдохновили фотографии карусели с деревянными лошадками. На первом снимке гарцевала компания из двух солдат-новобранцев и их подружек — пышные девицы хохотали, опьяненные вращением; их юбки развевались по ветру. На втором малыш обнимал своего скакуна за шею с таким гордым видом, будто собирался по меньшей мере выиграть дерби в Шантийи. Таша написала две картины, поместив их героев в странные декорации вне времени и пространства — ей захотелось применить на практике советы Одилона Редона.
[282] Беспечная поза одной из «кавалеристок», откинувшейся назад, чтобы поцеловать солдатика, по мнению самой Таша, ей особенно удалась. Воздушная фактура напоминала манеру Берты Моризо,
[283] зато весьма оригинальной была прорисовка контура.
Виктор относился к их общему делу со всей серьезностью и называл его «наше детище». Дети… Джина настраивала дочь на замужество, внушала, что пора создать семью, ведь ей скоро двадцать шесть. А Таша лишь улыбалась при мысли, что придется предстать на церемонии бракосочетания перед чиновниками в Ратуше и выслушать наставления о женском долге. Она не представляла себя с ребенком на руках. Может быть, через много лет, а пока ей нужна свобода для того, чтобы воплотить в жизнь все, что она задумала. Виктор, со своей стороны, вопроса о браке больше не поднимал. Хочет ли он стать отцом?.. Таша сладко потянулась. Мадам Виктор Легри! Он с ума сойдет от счастья, если она согласится взять его фамилию — это навеки свяжет ее с его фотографиями. И ведь он так старается обуздать ревность. Хотя, конечно, ему случается оступиться, как, например, в тот четверг в марте…
В тот день они были на выставке художника Антонио де ла Гандары в галерее Дюран-Рюэль.
[284] Таша внимательно изучала пастели и наброски, долго стояла перед портретами графа Монтегю и князя Волконского. Картина маслом под названием «Дама в зеленом» совершенно околдовала ее мастерством исполнения и переливами цвета, она поспешила выразить свое восхищение художнику, а горячий идальго, поблагодарив ее за комплимент, не преминул окинуть фигурку поклонницы одобрительным взглядом и пригласил попозировать. Тут Виктор с наигранной веселостью сообщил, что его спутница предпочитает рисовать других, а не позировать, и минут десять притворялся, что поглощен созерцанием летучей мыши на карандашном рисунке, однако, судя по тому, как он то и дело косил глазом в сторону Гайдары, можно было не сомневаться в его эмоциональном состоянии…
— Слава богу, ты здесь! Я так беспокоился! — Виктор вбежал в комнату и обнял Таша. Она прижалась к его груди.
— Что случилось?
— Волнения в Латинском квартале и… — Он коротко рассказал о смерти переплетчика.
— Это чудовищно! — Таша похолодела, несмотря на жаркие объятия, — слишком живы были воспоминания о
погромах… Улица Воронова залита кровью, повсюду отблески пламени, человек лежит на пороге своего дома, пролетают всадники с шашками
наголо… — Это был несчастный случай?
— Очевидно… Пока неизвестно… — Виктору вдруг представилась картина: чья-то рука бросает подожженный лист бумаги в окошко мастерской Пьера Андрези. Усилием воли он прогнал видение.
Таша, как будто что-то почувствовав, отстранилась. Эта трагедия может побудить его к новому расследованию… Ей захотелось закричать, запретить, но она сдержалась и поцеловала Виктора в щеку.
— Я люблю тебя, — шепнула Таша. — И мне страшно, потому что я не смогу без тебя жить.
— Не волнуйся, я буду стоически терпеть твой дурной характер сколько потребуется, милая. — С этими словами он начал расстегивать ее блузку, а Таша уже тянула рубашку у него из-под пояса.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Пятница 7 июля
— Воистину, мсье Даглан, вы превзошли самого себя! Как выведены буквы «н» в «свиных ножках а-ля святая Менегульда»! Так бы и съела их на бумаге! А уж в вопросе орфографии я всецело полагаюсь на вас. — Тучная женщина, покачивая двойным подбородком, восхищенно разглядывала меню, переписанное набело с ее черновика. Она хотела вознаградить каллиграфа монетой, но тот с улыбкой отказался:
— Оставьте, мадам Милан, кружки пива будет достаточно. И продолжайте записывать для меня результаты ваших тайных наблюдений — очень на вас рассчитываю.
— Само собой, мсье Даглан. Чем больше смотрю на ваши гласные-согласные, на эти палочки-крючочки, тем больше убеждаюсь, что ваше место в министерстве. Сама-то я пишу как курица лапой, прям стыдобища!
— Зато, мадам, вы королева кулинаров. Каллиграфия — пустяки. Хорошая кухня — вот что нужно для счастья! — Фредерик Даглан допил пиво и собрал письменные принадлежности в ящик.
В этот утренний час обеденный зал заведения «Милан» заполняли ломовые извозчики и кучеры со станции фиакров по соседству. Но спустя некоторое время помещение в глубине, за тонкой шторкой, откуда потайная дверь выходит прямиком на двор полицейского участка Шапели, будет отдано во власть помощнику комиссара Раулю Перо, его коллегам и журналистам.
Фредерик Даглан вытер пивную пену с губ тыльной стороной ладони и попрощался с хозяйкой. Когда он ушел, толстуха с мечтательным видом облокотилась на прилавок:
— До чего ж красив! А обаятельный-то, а элегантный, эх! Кабы сбросила я двадцать лет да килограммов тридцать!..
Солнце нерешительно золотило фасады облезлых домишек, небо было заляпано накипью облаков до самой равнины Сен-Дени. «Похоже на крем для бритья», — подумал Фредерик Даглан.
Он любил раннее утро, время, предшествующее открытию мастерских и торговых лавок, принадлежащее безраздельно разносчикам и голодранцам. В этой безмятежной тишине ему казалось, что он вырвался навсегда из повседневной городской суеты, где каждый кому-то должен, из лихорадочной пляски посредственности. Сам Даглан был вольной птицей, и даже тюремные решетки никогда не вставали между ним и его свободой. Бунтарская натура, не признающая ничьей власти, спасала его от плена обыденности.
— Не родился еще тот, кто подрежет мне крылья, — пробормотал он, направляясь к чахлому скверику, кишащему малышней.
Усевшись на скамейку, Фредерик Даглан пробежал взглядом утреннюю газету. Искомое обнаружилось на второй полосе: «УБИЙСТВО ЭМАЛЬЕРА». В заметке говорилось, что расследование зашло в тупик. Нападение случилось настолько быстро, что единственный свидетель не может описать убийцу. Зато на месте преступления найдена визитная карточка без имени, на которой написана от руки какая-то белиберда — что-то про запах амбры и ладана и еще про шкуру леопарда.
Фредерику Даглану сделалось дурно.
— Негодяйское негодяйство!
К скамейке подскакал мяч. Фредерик поднялся, изо всех сил пнул его ногой и зашагал восвояси. Газета осыпалась у него за спиной холмиком опавших листьев.
На улице Шапель его взгляд рассеянно скользнул по рекламным афишам, облепившим слепые стены домов, прошелся от гигантского горшка с горчицей до великанских размеров Мефистофеля, пышущего огнем и серным гейзером из слов:
Дезинсекционный порошок
ВИКАТ
Это чудо зазывального искусства не отвлекло от мрачных мыслей. Мерзавец! Гнусный мерзавец! Как он осмелился?! Ну ничего, Фредерик Даглан с ним разберется…
Жозеф поразмыслил, прикинул так и этак, затем взял «Пышку», водрузил ее между «Жизнью» и «На воде», вышел на тротуар и придирчиво оценил результат. Да, месье Легри будет доволен: экспозиция в витрине, посвященная Ги де Мопассану, который умер на днях, и превозносящая его писательский талант, удалась.
Книжная лавка пуста, заказы доставлены, теперь с чистой совестью можно передохнуть. Любимым времяпрепровождением Жозефа на досуге было пополнение коллекции занятных статеек из разных газет. Молодой человек облокотился на конторку напротив пачки еще не изученных выпусков и погрузился в чтение, прерываясь лишь для того, чтобы откусить от яблока.
Начал он с «Пасс-парту», недочитанного в день мятежных выступлений против Беранже, и вскоре уже взялся за ножницы.
СМЕРТЬ ЭМАЛЬЕРА
Убийство Леопольда Гранжана, художника по эмали, заколотого кинжалом 21 июня на улице Шеврель, до сих пор остается загадкой. Единственный свидетель оказался не в состоянии описать убийцу, поскольку видел его только со спины. Полиция нашла на теле жертвы визитную карточку без имени с таинственной надписью, каковую мы предоставляем на суд наших многомудрых читателей: «Слияньем ладана, и амбры, и бензоя май дарит нам тропу уединенья. Дано ли эфиопу изменить цвет кожи, леопарду — избавиться от пятен на шкуре?»
Наш репортер Исидор Гувье полагает, что это цитаты из нескольких произведений, возможно стихотворных. Полиция…
Шаги на лестнице… У Жозефа дрогнуло сердце. Хотя Айрис со дня их разрыва ни разу не показалась в лавке, он вдруг страстно пожелал, чтобы эти шаги стали предвестниками ее появления, и тотчас испугался встречи с ней. Но уже в следующую секунду молодой человек узнал тяжелую поступь месье Мори. Блокнот с газетными вырезками мгновенно исчез в ящике конторки.
— Мельница, лишенная зерна, напрасно подставляет крылья ветру, — высказался Кэндзи в пространство, сделав вид, будто и не заметил своего управляющего, к которому в последнее время обращался только в случае крайней необходимости. Сев за стол, японец принялся изучать какие-то записи.
— При чем тут мельница? Где я, а где мельница-то? — забормотал себе под нос Жозеф. — Это что, аллюзия на «Мельник, ты спишь»?
[285] Ага! Значит, патрон изволил мне пригрозить — дескать, не спи, вкалывай давай, не то уволю… Ох уж мне эти его метафоры, да пусть он ими подави…
— Опять ворчите? — шепнул на ухо молодому человеку Виктор, появившись из хранилища.
— Вы предательски подкрались, патрон, так нечестно!
Кэндзи поднял голову. Если он что и услышал, то не подал виду.
— Виктор, идите сюда, взгляните-ка. Я восстановил описание персидского манускрипта, доверенного Пьеру Андрези, и намерен передать его полицейским, занятым расследованием пожара в мастерской. Если есть хоть один шанс, что часть книг уцелела… — И он протянул Виктору листок:
«Тути-наме, или Собрание пятидесяти двух сказок попугая, записанных Зия Эддином Нахсэхехи». In-8°, 298 листов, 229 миниатюр. Манускрипт хранился в библиотеке Мохаммеда Хассана шах Джихана, затем в библиотеке Омара Итимад-хана. Заказан переплет красного бархата с золоченым букетом цветов на верхней крышке.
— Думаю, не стоит так уж по нему убиваться, — пожал плечами Виктор, прочитав описание.
— Увы, я не могу так легко смириться с потерей, — сухо сказал Кэндзи. — Вещица редкая, к тому же я почти продал ее полковнику де Реовилю за тысячу шестьсот франков и не испытываю желания возвращать ему задаток.
Жозеф, уткнувшийся в список заказов, скорчил гримасу и снова забормотал:
— Во-во, он такой, патрон. Пока мельник дрыхнет, булочник чахнет над своими плюшками и зеленеет от злости, если кто-то норовит умыкнуть у него горстку муки.
— Жозеф, перестаньте злопыхать или запишитесь уже в партию хулителей под предводительством мадам де Камбрези, — посоветовал Виктор.
Кэндзи с невозмутимым видом перетасовывал карточки для нового каталога.
Зазвонил колокольчик на входной двери, и в лавку вошел человек в темном рединготе. Внимательно оглядев троих мужчин, он сказал:
— Книжная лавка Мори и Легри? Я инспектор Лефранк. Мне вменено в обязанность препроводить господ Мори и Легри в префектуру полиции для идентификации личных вещей, найденных при покойном, опознанном как Пьер Андрези, переплетчик.
Виктор и Кэндзи подчинились без лишних слов. Прихватив головные уборы, оба покинули лавку вслед за инспектором.
Жозеф остался один.
— То есть я тут вообще не пришей кобыле хвост? Пустое место, да? А мы с месье Андрези, между прочим, частенько болтали обо всем на свете. Хороший он был человек, без предрассудков, мы друг другу такое рассказывали, что больше никому не доверишь. И вообще он мне нравился. Но я же всего лишь мельник какой-то, мне за зерном присматривать надо, пока другие ходят гоголем! Ну, берегитесь, господа патроны! Дон Жозеф еще сразит парочку ветряных мельниц!
…Кабинет инспектора Аристида Лекашера был лишен декоративных изысков, лишь по бежевым обоям уходили в бесконечность цепочки коричневых прямоугольников, да и от них Лекашер с удовольствием избавился бы, если б то было в его власти. Единственным украшением служил портрет аббата Прево, висевший рядом со старым, покрытым пятнами зеркалом.
Виктор и Кэндзи заняли два плетеных стула перед столом инспектора. Несмотря на жару, хозяин кабинета, рослый, массивный человек, был в застегнутом на все пуговицы фланелевом жилете.
— Похоже, мне от вас не отделаться, месье Легри, — проворчал он. — Решительно, вы как та проклятая рука, которой меня стращала в детстве нянька. Не слыхали? Нянька говорила: если найдешь на дороге отрубленную руку и столкнешь ее в канаву, ночью рука непременно вылезет и оторвет тебе ноги.
— Такова уж ваша судьба, — сочувственно покивал Кэндзи.
— Общением с вами, месье Мори, я тоже сыт по горло. Ладно, к черту мои душевные терзания! Я готов испить эту чашу если не до дна, так до осадка!
— Надеюсь, эта ваша бессодержательная риторика — всего лишь преамбула?
— Я оправдаю ваши надежды, месье Легри. Приступим к процедуре. — Инспектор сердито ткнул пальцем в сторону разложенных на столе обгоревших тряпок и причудливо оплавленных предметов.
Кэндзи осмотрел их с каменным лицом, он совсем не казался взволнованным, но Виктор заметил, как подрагивало его левое веко.
Инспектор Лекашер не спускал с японца глаз.
— Ну?
— Я не могу ничего опознать, — пожал плечами Кэндзи.
— А вы, месье Легри?
— Признаться, я тоже в замешательстве. Мне случалось бывать в переплетной мастерской Андрези, но на его одежду я как-то не обращал внимания…
— Где находится тело? — спросил Кэндзи инспектора.
— В морге.
— Кто-нибудь позаботится о похоронах?
— Полагаю, родственники. Мы уже дали объявление в газетах.
— Если никто не откликнется, я сам этим займусь. Мне выдадут тело?
— После того как закончится расследование.
— Расследование? — нахмурился Виктор.
— Нам нужно выяснить причину возгорания. Думаю, дня за два-три управимся.
— В мастерской были книги. Что-нибудь уцелело? — поинтересовался японец.
— Пожарные приехали слишком поздно из-за этих чертовых студентов. — Инспектор Лекашер поморщился. — У сопляков хватило наглости штурмовать префектуру полиции!
— Ходят слухи, что у нас скоро будет новый префект, — рассеянно проговорил Виктор, вертя в пальцах оплавившиеся карманные часы, которые он взял со стола инспектора.
— Да уж! И месье Лепин
[286] сумеет навести порядок! — Лекашер уже несколько минут сверлил Виктора таким нехорошим взглядом, что Кэндзи с трудом удержался от комментария: «Бойся кобры — ее взгляд пронзает насквозь…» — Чашу — до дна, — мрачно повторил инспектор. — Всякий раз, когда в Париже происходит убийство или серьезный несчастный случай, кто сует свой любопытный нос поперек меня в пекло? Вы, месье Легри. Это начинает надоедать. И вызывает подозрения. Откуда, скажите мне, в вашем близком окружении столько бедолаг, обреченных на безвременную кончину? Вы что, притягиваете несчастья? Или у вас дар предвидения?
— Возможно, мною владеют какие-то силы, природа которых мне не известна, — холодно произнес Виктор.
Инспектор Лекашер, с трудом сдерживая раздражение, подался к нему, упершись ладонями в стол:
— Очень содержательный ответ! Извольте объясниться, месье Легри! Хватит увиливать!
— Пьер Андрези был моим другом, — спокойно вмешался Кэндзи. — месье Легри поддерживал с ним сугубо деловые отношения. Пути этих людей пересеклись волей случая.
— То вы о судьбе толкуете, то о случае! И как-то так получается, что случай только и делает, что работает на месье Легри! — Лекашер выдернул из стола ящик, шумно порылся в нем и извлек сигару с коробком спичек. Закурив и жадно затянувшись, выпустил облако голубоватого дыма. — Ладно, признаю: немного погорячился, — хмуро проговорил инспектор после второй затяжки, обращаясь исключительно к японцу. — Однако и вы поймите: ежели накипело, надобно пар выпустить, не то взорвусь. Особенно когда приходится иметь дело с такими гражданами, — он мотнул головой в сторону Виктора. — Тоже мне книготорговец, даже не смог найти нумерованное издание «Манон Леско»! Ладно… Использовал ли ваш друг в своем ремесле горючие вещества?
— На моей памяти — нет, — покачал головой Кэндзи.
— В мастерской было газовое освещение или керосиновые лампы?
— По-моему, я видел у него керосинки.
Инспектор открыл папку с делом и принялся перелистывать бумаги.
— У Пьера Андрези были враги? — спросил он, не поднимая головы.
— О боги, нет конечно! Его все уважали… Неужели вы считаете, что это был поджог?
— Я ничего не считаю, я расследую, — отрезал Лекашер. — И надеюсь, что вы двое ни в коем случае не последуете моему примеру. Посвятите себя без остатка торговле книгами. Всё, можете быть свободны. Я достаточно ясно изложил свою позицию, месье Легри?
— Предельно ясно, — сухо отозвался Виктор. — Кстати, инспектор, а где же ваши леденцы? Опять променяли их на сигары?
— Узнав имена друзей покойного, я предпочел вред от табака разлитию желчи, — процедил сквозь зубы Лекашер.
Кэндзи, сгорбившись, медленно брел по Новому мосту, и Виктор, преисполненный сострадания, подстроился под его шаг:
— Вы ведь были очень дружны с Пьером Андрези?
— Да. Сколь ничтожна и возвышенна… — тихо проговорил японец, останавливаясь.
— Простите?..
— Жизнь людская ничтожна и возвышенна. Прах — вот все, что остается от человека, его стремлений и упований.
Виктору захотелось взять приемного отца за руку, но оба чурались подобных проявлений нежности, и он облокотился на парапет, провожая взглядом пароход, увозивший пассажиров по Сене из Шаратона к Пуэн-дю-Жур. Недомолвки инспектора Лекашера раздразнили его любопытство. Что, если пожар в мастерской действительно не был несчастным случаем? Затеять новое расследование? Задача не из легких… Виктор подумал о Таша. Из любви к ней он отказался от своей страсти раскрывать преступления и порой об этом жалел. Он прикурил сигарету и задумчиво повертел в пальцах зажигалку, пощелкал, открывая и закрывая крышку. Огонек выметнулся, исчез, выметнулся… Нет! Никаких расследований! Он же дал слово…
— Инспектор Лекашер спросил, не было ли у Пьера врагов. Что за нелепость! — покачал головой Кэндзи. — Это не мог быть намеренный поджог. Пьера любили и ценили…
— Издержки профессии — инспектор обязан проверить все версии. Что же касается месье Андрези, вы правы, нелепо предполагать, что кому-то понадобилось свести с ним счеты. У него остались родственники?
— Какой-то кузен в провинции, седьмая вода на киселе.
— Кэндзи, может быть, примете сердечные капли?
— Нет-нет… Виктор, меня очень беспокоит Айрис. Каждый вечер уходит, не говорит куда. Питается кое-как. Кончится тем, что она заболеет. А ведь я ее предупреждал: из такого безалаберного жениха не выйдет достойного мужа. И вот пожалуйста, свадьба отложена на неопределенный срок. Я чувствую себя ужасным отцом, но что я могу поделать? Она ничего не желает слушать. Не могли бы вы…
— Я уже говорил с Жозефом, он непреклонен. Чувствует себя оскорбленной невинностью, поэтому ни за что не сделает первый шаг к примирению. Вот если бы на это согласилась Айрис…
Воскресенье 9 июля
— Цып-цып-цып, мои хохлушечки, пора подкрепиться! Лопайте от пуза, толстейте-жирейте, тогда и у меня будет пир! — Разбросав зерно, мамаша Мокрица повысила голос, перекрывая гомон птичьего двора: — Мсье Фредерик! Я ухожу, а вас ждет горячий кофе!
Фредерик Даглан рывком сел на кровати и потер глаза, прогоняя остатки сна. На мгновение ему показалось, что он у себя дома, в Батиньоле, в доме номер 108 по улице Дам, где снимал комнату с кухней. Но светлая визитка на «плечиках», прицепленных крючком к планке на дощатой стене, напомнила ему о месте пребывания. Фредерик встал, заправил одеяло, натянул брюки, рубашку, сунул ноги в башмаки и вышел из пристройки. В беседке на грубо сколоченном столике обнаружились кофейник, чашка, масленка и краюха хлеба. Сполоснув лицо над рукомойником во дворе, он пристроился на табуретке и сделал себе бутерброд. Пожалуй, хватит отсиживаться — настала пора действовать. Сначала наведаться к Анкизе и забрать у него коммивояжерский чемоданчик с образцами спиртных напитков. А затем уже начать выслеживать того свидетеля…
«Да уж, вляпался я, как слепая курица. Ну ничего, битва проиграна, зато война еще не кончена».
По воскресеньям те, у кого была возможность покинуть шумные улицы столицы, поднимались на укрепления. С земляных валов открывался вид на луга и леса в утренней дымке. Вдали петляла лента реки, парусные шлюпки скользили по ней на север, к морю. На валах было вдоволь закусочных и кабачков, где можно отведать устриц и кислого молодого вина. Для детей старались разносчики сладостей, повсюду вертелись карусели. Весной в зеленой траве прятались маргаритки. Работницы, урвав пару часов свободного времени, забывали здесь об усталости. В городе они с утра до ночи хлопотали на кухне в чаду, на заднем дворе или в лавке, мечтая об одном: выйти замуж за помощника мясника или за приказчика из бакалеи, вырваться от ненавистных хозяев, пожить в свое удовольствие наконец.
Фредерику Даглану нравилось бродить по насыпи в праздной толпе среди представителей социальных низов — тех, кого он считал своими братьями и сестрами. Девчушка в колпаке, сооруженном из газеты, погоняла десяток коз, в сторонке на солнышке грелся горбатый ослик: на шкуре протерлись светлые дорожки от упряжи. Какой-то мужчина, посадив маленького сына на закорки, карабкался по склону, мальчуган заливисто хохотал. Внизу, во рвах, громоздились горы мусора, гнили отбросы, исторгнутые Парижем.
Припекало. Фредерик снял пиджак. Выхватывая взглядом лица и фигуры, залитые ярким утренним светом, он не мог отделаться от ощущения, что они столь же причудливы и нелепы, как образы ускользающего сна. Впрочем, когда спишь, самые бессвязные видения кажутся совершенно естественными.
Перекинув пиджак через плечо, он спустился на внешнее кольцо Бульваров. Город привычно настраивал утренний оркестр: копыта першеронов, впряженных в мусоровозки, тяжело бухали по мостовой, громыхали телеги, дребезжали тачки, перекрывая грубые голоса бродячих торговцев. Баба в отрепьях и засаленном колпаке выползла из нагромождения листов жести, видимо служивших ей жильем, и опорожнила в канаву ночной горшок. Крышка горшка звякнула, эхом раскатился хриплый крик петуха.
— Эй, добрый господин, кинь медяк, мимо не проходи. Мне б штаны купить, чтобы зад прикрыть, а то, вишь ли, средства повышли. Год работаю рук не покладая, а все одно недоедаю.
Фредерик Даглан протянул монету даровитому босяку с красным носом пропойцы, перепрыгнул пару неприятного вида луж застоявшейся черной воды и направился к заставе Клиньянкур. По грязным улочкам ветер гонял пыль. Фредерика внезапно охватила смутная тревога. Что он будет делать, когда найдет того свидетеля?..
Над стойкой красовалась надпись:
Пьешь, не пьешь — все одно помрешь.
Фредерик Даглан прочитал ее с порога заведения «У Кики» на пересечении улиц Фобур-Сент-Антуан и Шеврель. Тротуар у входа заполонили столики, окруженные живой изгородью из бересклетов, внутреннее помещение включало два зала — малый отделен от большого застекленной перегородкой. В центре большого зала водружена печка, в глубине — стойка. В трудовые будни, по вечерам, «У Кики» отбоя не было от посетителей, большой зал заполоняли окрестные лавочники, занимали столики, банкетки, стулья и ревниво пасли свободные места для своих запаздывающих компаньонов. Случайным посетителям отводился малый зал. В кафе приходили выпить рюмочку полиньяка, выкурить сигару, сыграть партию в триктрак или в домино. Завсегдатаи спешили сюда день изо дня, как чиновники на службу в министерство, и жизнь в заведении шла по неписаным, но строгим правилам: левая половина большого зала принадлежит игрокам, правая — тем, кто расположен побеседовать за чашечкой кофе или почитать газету. Банкеточники никогда не занимают стулья, приверженцы стульев не претендуют на чужие банкетки. Это очень облегчало работу половым, успевшим изучить пристрастия большинства клиентов, а клиенты свои пристрастия не меняли.
Хозяйка, внушительных пропорций блондинка лет тридцати пяти в пышном шиньоне с челкой, вязала, восседая за прилавком. В этот час в кафе было пусто, только в углу за столиком примостился молодой солдатик и, высунув язык от усердия, кропал письмо.
— Вы хозяюшка будете?
Белокурая кариатида оторвалась от рукоделия, молча окинула Фредерика Даглана взглядом с головы до ног, нашла, что он хорош собой, и, улыбнувшись, тряхнула челкой:
— Она самая. Мадам Матиас. Чего изволите?
Фредерик заулыбался в ответ. Мадам Матиас показалась ему приветливой и добродушной, а это был хороший знак. По крайней мере, Фредерик представлял, как действовать дальше. Он умел менять повадку в общении с людьми — демонстрировал рафинированные манеры, если того ждал собеседник, давал этакого аристократа или держался попросту, пуская в ход свое обаяние.
— Остроумный у вас девиз, — указал он на плакат над стойкой.
— О, его еще мой дед повесил. Он воевал в Крыму и привез оттуда эту русскую поговорку.
— А в моих краях говорят: «Алкоголь медленно убивает? Вот и славно, мы ж никуда не торопимся!»
— Как-как? — засмеялась мадам Матиас. — «Мы ж никуда не торопимся?» Вот умора, никогда не слыхала! Вы, наверное, не местный?
— Да, хожу-брожу по свету, предлагаю образцы… спиртных напитков наивысшего качества по самым низким ценам!
— А у меня уже есть все что нужно.
— Жалость какая! Должно быть, я под несчастливой звездой родился. Куда ни приду — у всех всё есть, и приходится убираться восвояси несолоно хлебавши.
— Ну, может быть, вам все-таки повезет. Покажите-ка, что там у вас.
Фредерик Даглан с готовностью откинул крышку чемоданчика, на дне которого были закреплены крошечные бутылочки.
— Только самое лучшее, мадам!
— Я вам верю, — вздохнула кариатида, так что пышная грудь ее всколыхнулась, — да вот завсегдатаи мои все как один с лужеными глотками — к кислятине всякой привычны и к домашним настойкам. Боюсь, ваши коньяки с арманьяками, сударь, они не оценят. Вам бы пройтись по ресторанам на Больших бульварах.
— Что ж, спасибо за совет, непременно воспользуюсь. А чашечкой кофе угостите? Черный, пожалуйста.
— А что же, вы наугад ходите? — полюбопытствовала мадам Матиас, наливая в чашку дымящийся кофе. И стыдливо расправила на груди потревоженную недавним вздохом блузку. — Без уговору?
— Да, пытаю судьбу. Вот уже все питейные заведения в предместье Сент-Антуан обежал и повсюду получил от ворот поворот… Кстати, возможно, я ошибаюсь… странно, но название вашего кафе — «У Кики» — кажется мне знакомым…
— Ну конечно, вы наверняка читали в газетах о том деле.
— О каком деле? — вскинул бровь Фредерик.
— Об убийстве месье Гранжана, эмальера с улицы Буле. Его закололи кинжалом тут неподалеку. Такой славный был господин! Каждое утро заходил сюда. Подойдет, бывало, к стойке и давай дразнить Фернана — это наш гарсон. «Фернан, — говорит, — мне кофе с пенкой, но не вздумай туда плюнуть!»
— Боже мой, ничего не слышал об этом убийстве! А вы видели место преступления?
Мадам Матиас похрустела пальцами и решительно наполнила два бокала белым вином.
— А как же, сударь, одной из первых прибежала. Крови-то сколько было!.. Потом, конечно, тротуар отмыли. Ох, мамочки, до сих пор как вспомню, так в дрожь бросает, вот послушайте, как сердце колотится. — Она схватила Фредерика за руку и прижала его ладонь к своей груди.
— Прям выскочит сейчас, — подтвердил Фредерик. Необъятная грудь ходила под его ладонью ходуном, как море в ненастье.
Мадам Матиас повторила недавний успешный вздох, и Фредерик поспешил высвободить руку.
— Ах сударь мой, как же вы меня растревожили, — выдохнула кариатида, — такое напомнили…
— Вы несравненны, мадам, — промурлыкал Фредерик, подавшись ближе, — как рассказчица. Продолжайте же.
— Ну да. Самое ужасное — его глаза. Они были широко открыты! Я как заглянула ему в лицо — закричала громче, чем Жозетта Фату. А она-то убийство видела. Я на ее крик и выскочила, принялась успокаивать бедняжку — с ней случилась истерика, и сами понимаете, было отчего. Потом я сказала Фернану: «Беги за фликами!» Ох боже-боже, вот так и не знаешь, где тебя смерть подкараулит, стало быть, надо получать от жизни удовольствие, пока можно. Вы согласны со мной, сударь?
— Вы сказали — Жозетта Фату? Кто она?
— Цветочница-мулаточка, живет на улице Буле.
— Неужели она видела убийцу?
— Кто ж его разберет! Бедняжка божится, что нет, но она ведь напугана, и ее можно понять — только представьте, ведь убийца может вернуться, чтобы заставить ее замолчать. Не желаете еще кофе? За счет заведения.
— Благодарю, мадам, но мне пора. — Фредерик с утомленным видом закрыл чемоданчик.
— Куда же вы? Оставайтесь, позавтракайте, в этот час не бывает клиентов, я вам приготовлю омлет с картошкой — нигде такого больше не отведаете! — Заметив, что он колеблется, мадам Матиас поспешно добавила: — В этом заведении — лучшая кухня в городе, сударь, пальчики оближете! И потом, кто знает, быть может, я передумаю насчет этого. — Она кокетливо провела пальцем по чемоданчику с образцами и потупила взор. — Признаться, я вдова. Ах, это долгая и печальная история… А в моем возрасте оставаться одной так трудно…
Среда 12 июля
Мишлин Баллю натянула хлопчатобумажные чулки, одернула подол платья и уселась в кресло у окна.
— Уж ливанет так ливанет, — пробормотала она себе под нос. — Мозоли у меня ноют — это верный признак, что разверзнутся хляби небесные.
За окном разгорался рассвет.
— Да уж хорошо бы ливануло — не придется тогда двор мыть. Уборка в такую жару — сущая каторга! Определенно дождь пойдет — на Четырнадцатое июля всегда льет через раз, а о прошлом годе вроде сухо было.
Сперва надо выбросить мусор, затем дождаться почтальона, а там уж она сделает себе чашечку кофе с молоком и дочитает роман-фельетон. С тех пор как ее бедный Онезим отошел в мир иной, годы помчались вскачь, ревматизм покоя не дает, и что же будет, когда ей не под силу станет выполнять обязанности по хозяйству? Домовладелец уже намекает, что оказал великую милость, доверив заботу о своем многоквартирном здании стареющей женщине. А у нее ведь никого на свете не осталось — один только кузен Альфонс, военный, всё в разъездах, гарцует по горам, по долам. Что с ней станется, когда хозяин выставит ее за порог? По счастью, есть месье Легри — вежливый такой мужчина, обходительный. Пообещал ей бесплатно предоставить в пользование комнатку для прислуги под крышей. Вот там она и поселится на склоне лет, и можно будет не покидать любимый квартал.
Мадам Баллю сунула ноги в старые башмаки со стоптанными задниками и тяжело поднялась с кресла. После смерти бедного Онезима она располнела, щеки отвисли, хорошенькое личико превратилось в бульдожью морду. Самую малость утешало лишь то, что ее приятельница Эфросинья Пиньо тоже набрала вес — это сдружило их еще больше, придав отношениям почти родственную близость. Они делились сокровенным, вздорили, мирились и жаловались друг другу на жизнь.
— Ничего не поделаешь, — вздохнула Мишлин Баллю, — жизнь — сплошное безобразие. Сама не заметишь, как превратишься в трухлявый пень, а в душе-то тебе по-прежнему останется пятнадцать…
Обиталище матери и сына Пиньо находилось на самом узком участке русла улицы Висконти, каковая брала исток в улице Сены и впадала в улицу Бонапарта. Арка вела в старинный внутренний дворик, застроенный конюшнями, со временем превращенными в каретные сараи, а потом и вовсе заброшенными. В одном из таких сарайчиков под боком дворянского особняка XVII века Жозеф и обустроил себе прибежище. Это была его башня из слоновой кости, его эрмитаж, набитый книгами, журналами, газетами и реликвиями времен Франко-прусской войны, на которой сражался его отец. Отсюда можно было попасть в собственно жилое помещение — Жозеф и его мать Эфросинья, бывшая зеленщица, а ныне домработница у хозяев сына, господ Легри и Мори, занимали две комнаты и кухню в первом этаже.
Посреди дворика возвышалась каменная уборная, лишенная слива и не подсоединенная к канализации, что, однако, не мешало ей служить гордостью Эфросиньи, которая называла это наследие века Просвещения своим Замком Естественных Нужд. Гордиться было чем — в уборной высился трон, истинное произведение столярного искусства с рельефом из листьев аканта, под ним приютилась выщербленная кювета из розового мрамора — роскошь буржуйских апартаментов. Разумеется, тут были запах и насекомые, особенно мухи — в дождливую погоду они целыми семействами искали пристанища в жилых комнатах. Эфросинья временно изничтожала эти напасти ведрами аммиака, после чего у посетителей уборной щипало в носу и першило в горле. Несмотря ни на что, Жозефа это укромное местечко, куда сами короли пешком ходят, часто выручало: здесь он мог спрятаться от бдительного ока мамаши и, забаррикадировавшись, вволю предаться размышлениям над интригой своего очередного романа-фельетона.
— Ну-ка брысь отсюда, котеночек, мне нужно привести в порядок музей твоего папочки, пока прохладно. Кто рано встает, тому Бог подает!
— Мог бы подать и тому, кто поздно ложится, — проворчал Жозеф, продирая глаза.
В следующую секунду воинственный вид Эфросиньи, вооруженной тряпкой, метлой и совком, обратил его в паническое бегство из каретного сарая, где он заснул, зачитавшись допоздна.
— Иисус-Мария-Иосиф, крестным знамением себя осеняю во славу вашу! Не дайте пропасть паршивой овце во стаде невинных агнцев. — Эфросинья отыскала взглядом распятие, стиснутое с двух сторон стопками газет, помассировала поясницу и благочестиво преклонила колени. — Господи-боженьки, пресвятая Троица и Дух Святой, милости вашей прошу, ибо согрешила. Ведаю, что раскаяние уже заслуживает снисхождения, но как же мне признаться моему котеночку, что мы с его папочкой не венчаны? Ежели он узнает, что по закону-то я все еще мадемуазель Курлак, бедняжечка умом тронется, он ведь у меня такой ранимый! — Добрая женщина кряхтя поднялась, смахнула рассеянно пыль с сундука и в отчаянии снова обратила взор к распятию: — Господи, мне много-то и не нужно, просто дай моему сыночку чуточку твоего всепрощения, чтоб он не был так суров с мадемуазель Айрис. Пусть они поженятся и народят мне внуков. Так хочется понянчить крошечек, даже если это будут узкоглазые мандаринчики! Аминь.
Воспрянув духом, Эфросинья просвистела первые такты «Кирасиров из Рейхсгофена»
[287] и взялась за уборку в темпе allegro vivace.
[288]
Примостившись на краешке трона, Жозеф предавался размышлениям. Превратности его собственной амурной жизни ввергли души персонажей «Кубка Туле» в чистилище, где они и застряли, похоже, навечно, ибо автор сколько ни бился, никак не мог придумать продолжение романа-фельетона.
— Так, сосредоточимся, — бормотал он. — Фрида фон Глокеншпиль в пещере. Ее мастиф Элевтерий лихорадочно роет землю и выкапывает человеческую берцовую кость. Откуда взялась эта берцовая кость в пещере?..
Его взгляд упал на листы газеты, порезанные квадратами и наколотые на гвоздь справа от трона. Жозеф задумчиво сорвал один и прочитал вполголоса:
Никто и не догадывался, что здесь, по торговым рядам улицы Риволи, в праздной толпе шагает писатель, чье имя некогда гремело на всю страну. Воистину, мимолетна слава мирская. Увы! Наши лучшие произведения писаны на опавших листьях, гонимых ветром.[289]
Продолжение в следующем номере.[290]
— Ну уж нет, со мной такого безобразия не случится. Мой «Кубок Туле» напечатают, и не на каких-то там опавших листьях! О нем еще в середине двадцатого века говорить будут!
Жозеф сдернул другой квадратик. Среди рекламных объявлений затесалось уведомление в черной рамке:
Кузен Леопардус
просит друзей и клиентов г-на Пьера Андрези,
переплетчика с улицы Месье-ле-Пренс в Париже,
присутствовать на похоронах,
каковые состоятся на кладбище в Шапели 25 мая.
«Ибо май весь в цвету на луга нас зовет».
Молодой человек, разинув рот, перечитал текст. Не может быть! Мастерская сгорела в прошлую среду, 5 июля! Он поспешно осмотрел вырезку в поисках номера газеты и даты, перевернул, ничего не нашел и, сорвав с гвоздя остальные, выскочил из уборной. На бегу распихав бумажки по карманам, бросился к каретному сараю.
Эфросинья как раз закончила последний штурм, одержав неоспоримую победу над пылью. Букетики анемонов оживляли полки, на которых среди рядов книг и стопок журналов сверкали начищенные остроконечные каски и артиллерийские гильзы — хоть сейчас на парад. Свежевыстиранная кретоновая занавеска берегла помещение от набирающей силу за окном жары.
Жозеф с порога оценил ущерб: опять придется восстанавливать привычный творческий беспорядок.
— Надеюсь, ты не мои газеты на туалетную бумагу извела?! — выпалил он.
— Я?! Твои газетки, котеночек? Да провалиться мне на этом месте, коли я осмелилась твои вещи тронуть! Да и на что они мне — мадам Баллю вон поделилась старыми «Фигаро», она читает только романы-фельетоны, так-то ей всякий хлам без надобности, это ты над своими бумажками чахнешь, а у меня разве ж рука поднимется таких-то сокровищ тебя лишить, и не смотри на меня букой, на месте твоя макулатура, вон лежит, пыль собирает. Иди-ка лучше завтракать, кушать подано, сиятельный господин.
— А на этих «Фигаро» какие даты были?
— Нешто я знаю, какие даты? Мне без разницы, какими датами подтираться! Иди вон у мадам Баллю спроси.
— Ну почему я не сирота?! — не сдержавшись, воскликнул Жозеф.
Тут уж Эфросинья, и без того раскрасневшаяся, побагровела:
— А ты погоди чуток — сиротой и будешь! Я работаю как проклятая, с утра до ночи надрываюсь, из сил выбиваюсь, портки ему стираю, разносолы готовлю, вкалываю, как рабыня, и все ради чего? Чтоб остаться при черепках!
— При каких черепках? — опешил Жозеф.
— При таких! От свадьбы твоей, разбитой вдребезги! Одно утешение — помру с чистой совестью, всё я для него сделала, в лепешку расплющилась, чтоб вырастить этакого дылду, собой жертвовала, от радостей жизни отказывалась — и что получила взамен? Этот господин лишает меня удовольствия стать бабушкой! — Эфросинья Пиньо стукнула себя кулаком в обширную грудь. — Мечтала я понянчиться с карапузами, пусть и с теми, что у вас только и могут получиться — наполовину добрыми шарантонцами, наполовину япончиками, — ан нет, прахом мечты пошли! — Не переставая ворчать, толстуха побрела восвояси. — Вот она, сыновняя неблагодарность! Все для него делаешь, а он тебе прямо в душу плюет! Ох, горе мое горькое!
Жозеф с тяжелым вздохом разложил на столе квадратные кусочки газет и принялся наклеивать извещение о похоронах Пьера Андрези в свой блокнот с вырезками.
— Ох уж эти студенты, скажу я вам, мадам Примолен! Правительство всего-то и порешило закрыть Дом профсоюзов, а они какую бучу устроили! — Мадам Баллю неодобрительно поцокала языком.
— Муж у меня очень уж переживает, — сообщила ей пожилая дама, остановившаяся перевести дух перед восхождением на пятый этаж. — Думаю, придется нам уехать к родственникам в Виль-д’Аврэ.
— Вот-вот, спасайся кто может… да не так же быстро! — Мадам Баллю, отягощенная помойным ведром, едва удержалась на ногах — на нее налетел мчавшийся на всех парах Жозеф, и она вовремя успела выставить ведро перед собой. — Разуйте глаза, юноша!
— Извиняюсь. Я вас как раз искал — насчет тех «Фигаро», которые вы отдали моей матушке. Вы не помните даты выпусков?
— Так на них же написано.
— Нет, они все изрезаны, ни начала ни конца не сыскать.
— Да уж, ценят мои подарки… Было дело, отдала я Эфросинье целую стопку. Мне эти «Фигаро» приносит жилец с четвертого этажа, а я читаю там только романы с продолжением. Сейчас до того жалостливый печатают! Про старого писателя, который… А как подвигается ваше сочинение, Жожо?
— Уже заканчиваю. Так насчет дат, неужто не помните?
— Вероятно, начало месяца.
— Какого?
— Июля, какого ж еще?
Жозеф, забыв попрощаться, побежал открывать книжную лавку, а Мишлин Баллю поделилась с помойным ведром и мадам Примолен соображением о том, что вежливость как явление природы уходит в прошлое.
Добрый гений управляющих исправно хранил Жожо: месье Мори куда-то отлучился, а месье Легри как раз буксовал на велосипеде между «Эльзевиром» и лавкой фабрикантов Дебова и Гале, производивших «гигиенические товары высшего качества». Так что Жожо встретил хозяина уже за конторкой и немедленно вручил ему блокнот с вырезанным из газеты извещением о похоронах:
— Патрон, у меня для вас потрясающая загадка!
Виктор, пробежав взглядом текст в траурной рамке, пожал плечами:
— Наборщик зазевался, обычное дело… Вот это да, Жозеф, Саломея де Флавиньоль сменила гнев на милость и теперь, когда Ги де Мопассан умер, возжелала прочитать его полное собрание сочинений — глядите, Кэндзи приготовил связку книг для утренней доставки.
— «Наборщик зазевался» — это все, что вы можете сказать, патрон?! — вознегодовал Жозеф. Еще бы — Виктор Легри, прославленный сыщик, не придал никакого значения его открытию!
— Это же какая-то бессмыслица, Жозеф! — отмахнулся Виктор. — Пьер Андрези умер пятого июля, и я не думаю, что кому-то взбредет в голову законсервировать его останки, чтобы предать их земле будущей весной. И вообще, я вам уже не раз говорил: не стоит верить всему, что пишут в газетах.
Жозеф угрюмо нахлобучил кепи и подхватил связку книг.
— Раз так, прощайте, патрон. В этих стенах нечем дышать вольной птице!
Молодой человек вихрем вылетел из лавки, а Виктор облокотился на конторку, подперев подбородок кулаками. Перед ним снова, маня за собой, заплясала знакомая тень. Нет! На сей раз он не уступит демону, он обещал Таша: никаких больше расследований!
— «Оставь надежду, всяк сюда входящий», — процитировал Жожо слова Данте.
Он избавился от груза книг у мадам де Флавиньоль и поддался искушению — не пожалел денег на фиакр до ворот Шапель. После четверти часа блужданий по кварталу в поисках мистического кладбища, упомянутого «кузеном Леопардусом», ничего не оставалось, как спросить дорогу у бродяжки, жевавшего сырные обрезки на пару с собакой.
— А, знаю, перев
алите через крепостную стену, пройдете по улице Шапель, свернете на проезд Пуасонье, а там увидите. Ваш приют жмуров в Сент-Уане, мсье!
Продвигаясь к линии укреплений, Жозеф заблудился в лабиринте железнодорожных путей среди куч лимонита и угля, выбрался на улицу Пре-Моди, огляделся и побрел обратно. Вернувшись к начальной точке, он взял направление вдоль ветхих домишек со стенами, исписанными непристойностями, мимо подозрительных гостиниц, больше похожих на притоны, и заросших овсюгом пустырей, где тренировались в поднятии тяжестей ярмарочные силачи. За железнодорожной станцией мрачной тенью выросла потерна.
[291] Внутри галереи навстречу Жозефу попадались пугающие силуэты, он различал в полумраке каких-то оборванок, бандитского вида оболтусов, бесшумно скользивших в туфлях на веревочной подошве, бродяг, сбившихся в тесные группки, и наконец вырвался на белый свет, к подножию фортификаций.
Здесь, за Великой Китайской стеной, ему открылись райские кущи. Если бы не копья фабричных дымов, терзавшие небо то тут, то там, Жозеф подумал бы, что попал в сельскую местность, — до того густо цвели здесь сады и зеленели огороды, бабочки порхали над капустным полем, даже несколько бурёнок щипали травку на лугу. Но увы, в этом промышленном предместье, как черные и белые квадраты на шахматной доске, перемежались заводы и хозяйства зеленщиков.
Кладбище в итоге нашлось — бродяжка не соврал. По аллее трясся катафалк, черная обивка посерела от пыли. Гроб сняли, семейство попрощалось с покойным, могильщики споро засыпали яму.
Вместо того чтобы разыскивать по всей территории гипотетическую могилу, Жозеф решил сразу обратиться к смотрителю. Тот сверился с реестром — Пьер Андрези среди похороненных не значился.
— Однако, версия опечатки в дате не очень-то подтвердилась, — задумчиво бормотал Жозеф, возвращаясь к линии укреплений. — Если только наборщик не зазевался настолько, что перепутал еще и кладбище. Странное это дело, очень странное. Наведаюсь-ка я в редакцию «Фигаро», да хотя бы ради того, чтоб досадить патрону!
Занятый размышлениями, он прошел мимо питьевого фонтанчика, к которому приник стройный господин, одетый слишком элегантно для здешних мест; рядом своей очереди дожидались мальчишки с кувшинами, отряженные мамками за водой.
Фредерик Даглан выпрямился, промокнул платком усы и направился к террасе бистро. Там, усевшись за столик и заказав кофе, он достал из кармана три газеты и внимательно изучил первую. А развернув вторую, чуть не опрокинул чашку: между заметками о квартирной драке и выловленном утопленнике сообщалось об исчезновении печатника по имени Поль Тэней; его бухгалтер среди деловой переписки нашел любопытное послание, в котором фигурировал леопард…
Разомлевшая от жары собака свесила башку в канаву и принялась лакать проточную воду. Как раз настал час аперитива.
Виктор запустил плоский камешек по озерной глади, и тот запрыгал, распугав уток, не преминувших гнусаво выразить свое фи. Не удостоив их внимания и даже не полюбовавшись копией храма Сивиллы в Тиволи, возведенной на вершине искусственного утеса, он направился к выходу из парка Бют-Шомон. Жозеф имел наглость заявиться в лавку лишь к концу рабочего дня, да еще с иронической усмешкой — и ни извинений, ни объяснений! Сущее наказанье, а не мальчишка. Перспектива заполучить это недоразумение в зятья приводила Виктора в ужас. Не менее пугала его мысль о том, что свадьба Айрис может и вовсе не состояться. Разрываясь между двумя желаниями — положить конец отношениям Айрис с Жозефом и увидеть сводную сестру счастливой, — он вышел на улицу Дюн.
Мастерская и жилые комнаты, которые Виктор помог снять Джине Херсон, находились во втором этаже добротного дома. Дверь открыла сама Джина — из соображений экономии она так и не наняла прислугу. Мать Таша не считала зазорным самостоятельно вести хозяйство и делать уборку, тем более что в виду тесноты двухкомнатной квартирки это не занимало много времени. Ее мастерская, в которой не было ничего, кроме стульев и мольбертов, располагалась напротив.
Виктор, ожидавший встретить у Джины только Таша, немало удивился, застав в гостиной еще и Айрис с Кэндзи — все трое сидели за столом у самовара. Джина в присборенной сзади юбке и расшитой русским орнаментом блузке выглядела не намного старше своей дочери. Японец держался, как всегда, невозмутимо, с отстраненной вежливостью, но хорошо знавший его Виктор не мог не догадаться по определенным признакам, что в присутствии хозяйки он нервничает. Джина, со своей стороны, не обращала на Кэндзи внимания. Она налила Виктору стакан чая:
— У меня только черный. — И возобновила прерванную беседу с Айрис и Таша: — Я так рада, что он опять при деле. Бедняга теряет вкус к жизни, когда чувствует себя бесполезным. — У нее был негромкий глубокий голос с едва уловимым акцентом.
— О ком вы говорите? — поинтересовался Виктор.
— О Пинхасе, — ответила Таша. — Он написал, что скоро вернет тебе долг.
— Мне совсем не к спеху…
— Для него это вопрос чести, — сказала Джина. Она взяла письмо и перевела вслух для Виктора: — «По сути жизнь в Америке ничем не отличается от того, что было в Вильно: бедняки подыхают в нищете, богатые жиреют. Но я не жалуюсь. Снимаю двухкомнатную квартирку в Нижнем Ист-Сайде. Раньше по четырнадцать часов в сутки через день строчил на машинке в Бронксе, но теперь с этим покончено, я уволился…»
— Папа вошел в долю с одним ирландцем, который держит игорный зал, представляешь?! — воскликнула Таша.
— Он что, будет принимать ставки? — осведомился Кэндзи, покосившись на Джину.
— Нет, так низко он еще не пал, — холодно отозвалась та.
— Они с ирландцем собираются заняться продажей уникального аппарата, который был представлен на Всемирной выставке в Чикаго, — пояснила Таша. — С его помощью можно передать эффект движения, проецируя на экран двадцать четыре быстро сменяющихся фотографических кадра!
Джина пробежала взглядом письмо Пинхаса и нашла нужное место:
— Вот, это называется «электрический та… хис… коп». Что такое тахископ,
[292] месье Легри?
— Должно быть, усовершенствованный праксиноскоп,
[293] — предположил Виктор.
Джина продолжила чтение:
— «Мы собираемся предложить публике разные модели механизмов, и все они настолько уникальны и удивительны, что я уверен — деньги потекут рекой…» Ох, надо же! Твой отец заделался торгашом! А ведь когда-то он ратовал за революцию!
— Ты несправедлива к нему, мама. Что плохого в том, что человек зарабатывает себе на хлеб? Он же не отрекся от своих идеалов — никого не эксплуатирует.
— Мне бы хотелось увидеть эти движущиеся картинки, — сказала вдруг Айрис.
Виктор, обрадовавшись тому, что сестра наконец-то выразила хоть какое-то желание, тотчас пообещал:
— Непременно свожу вас в театр «Робер-Уден». Кстати, не желаете ли вы возобновить занятия акварелью?
— Мы уже назначили день, — ответила за Айрис Джина. — Идемте, девочки, покажу вам краски, которые я заказала, — их доставили сегодня утром.
Когда дамы ушли, Кэндзи перенес свой стул поближе к Виктору.
— На прошлой неделе на торги был выставлен некий восточный манускрипт. Его приобрела Национальная библиотека — я узнал об этом от одного приятеля из Ассоциации книготорговцев. Разумеется, нет ни малейшего шанса, что речь идет о нашем…
— Кэндзи, вы подозреваете, что Пьер Андрези перед смертью продал «Тути-наме»?!
— Помилуйте! Мне и в голову такое не приходило!
— А какого числа означенный манускрипт попал на аукцион?
— Вот это я и намерен выяснить.
«Да что с ними со всеми творится? Жозеф намерен выяснить, откуда в газете взялось объявление о похоронах, теперь Кэндзи со своим „Тути-наме“… Какое-то заразное поветрие!» — хмуро подумал Виктор, но в этот момент вернулись дамы. При виде Таша он вспомнил о клятве, которую ей дал, и внезапно разозлился. Он, конечно, привык держать слово, однако сейчас почувствовал себя птицей, которую сунули в клетку и заперли дверцу. Почему Таша не понимает, что ему необходима свобода? И как об этом сказать, если сам он по отношению к ней ведет себя точно так же, с той лишь разницей, что его опасения вызваны ревностью, а Таша действительно боится за его жизнь?..
Виктор поднял голову. Нет, на сей раз он не мог ошибиться: Кэндзи совершенно околдован Джиной. «Не хватает еще, чтобы мой отчим влюбился в мать Таша — семейный портрет будет полностью укомплектован…»
ГЛАВА ПЯТАЯ
Четверг 13 июля
Ночь пологом укрыла металлический остов, сотни зыбких огней зияли прорехами в плотной ткани мрака — в этот предрассветный час торговый павильон справа от церкви Святого Евстахия кипел жизнью: цветочная ярмарка была в разгаре. Жозетта Фату поздоровалась у входа с рябой Маринеттой — местной силачкой, достопримечательностью с фруктового рынка. Маринетта, дочь канатоходки, в свое время поколесила по стране в труппе бродячего цирка, выступала с акробатическими номерами и веселила народ в обличье бородатой женщины. Сейчас, разменяв седьмой десяток, она все еще играючи закидывала на плечи неподъемную корзину с яблоками.
— Эй, хрюшечка, пошустрей копытцами перебирай, торг уже идет полным ходом! — подмигнула Маринетта цветочнице. — А чего рыльце у тебя невеселое — беда какая?
— Нет-нет, у меня все хорошо, — выдавила Жозетта, изобразив жалкую улыбку, и заторопилась в павильон.
— Что-то не похоже, — проворчала циркачка, глядя вслед девушке, пробирающейся между охапками белых лилий и холмами фиалок.
— Солнце в букете! Лазурный берег в Париже! Дамочки, налетайте!
Цветочный рынок делился на «Ниццу» и «Париж», сюда привозили бережно упакованные плоды своего труда садоводы с юга, из Менильмонтана, Монтрёя, Вожирара, Ванва и Шаронны.
Жозетта немного расслабилась, страх отпустил — здесь-то она, по крайней мере, на знакомой территории, среди своих. До вчерашнего вечера девушка как-то держалась, но накопившаяся усталость в один миг обрушилась тяжким грузом, будто некая темная сила враз лишила ее способности сопротивляться. Однако не помирать же с голоду, надо работать. С тех пор как она стала арендовать за пять франков в неделю тележку для своего благоуханного товара и доплачивать в городскую казну четыре су за разрешение на «проезд», в кошельке почти ничего не оставалось. Каждый день Жозетта отправлялась подыскивать счастливое местечко и благоприятный час для торговли. На площади Мадлен покупатели нос воротят от простых цветов, им подавай изысканные букеты, а на площади Насьон рабочий люд, обремененный заботами о пропитании, разбегается по мастерским и потом угрюмо спешит домой — у них, у ремесленников, нет ни денег, ни времени на всякие пустяки…
Лучше всего дела шли у поставщиков «Парижа». Здесь в мгновение ока сбывали розы, камелии, гардении, белоснежные шары калины садовой. Южный говорок мешался с воровским жаргоном столичных окраин, бурная жестикуляция помогала в торгах за целые снопы мимозы и жасмина, нарциссов и гвоздик. Но Жозетта Фату этого не видела и не слышала, она покупала цветы механически, словно во сне, не думая о том, что делает. Убийство, произошедшее у нее на глазах ровно двадцать три дня назад, не желало исчезать из памяти. Перед мысленным взором цветочницы снова падал Леопольд Гранжан и маячила спина убийцы…
Пепельный рассвет уже готовился расцвести над городом всеми красками. Тощие бедняцкие жены рылись в гниющих возле рынка отбросах, надеясь найти помятые овощи, которые сгодятся на похлебку. Грузчик с красным поясом, прислонившись к фургону, хлестал вино из горлышка бутылки. В подворотне, как всегда, разбила походную кухню мамаша Бидош и уже раздавала миски рагу из говядины с фасолью собравшимся вокруг нее оборванцам:
— На вот, лопай, начини потроха горяченьким, не могу видеть, как кто-то голодает…
Жозетта вернулась к своей тележке. Переступив через носильщика, прикорнувшего на мешке у колеса, привычно разложила букеты. Рыночная суета и бодрый гул голосов в павильоне не смогли заглушить ее страх — Жозетте и сейчас казалось, что ее преследует тот самый мужчина, который вчера шел за ней по пятам. То есть вчера, заметив его на улице, она и не подумала сразу, что за ней следят, — просто утренний прохожий в надвинутой на лоб фетровой шляпе на миг привлек ее внимание, и всё.
А что, если он там, в рыночной толпе? Наблюдает за ней оттуда?..
Жозетта, поминутно оглядываясь, покатила тележку прочь от павильона. Сгорбившись, она торопливо шагала по ухабистым мостовым, напрягая руки, чтобы уберечь арендованное имущество от вмятин и царапин. Шагала, не останавливаясь передохнуть, — маленький неизвестный солдатик странствующего войска цветочников, в рядах которого были и такие, кто мог позволить себе потратить сразу франков восемьдесят, а то и сто на закупку цветов, но для большинства ежедневные траты в пять, десять, двадцать франков являли собой огромную сумму.
На площади Бастилии цветочница краем уха поймала обрывок разговора двух горемык:
— Ел нынче?
— Да уж накормили сухим горохом в приюте. Такой, знаешь ли, горох да в револьверы бы заряжать — человека убить можно.
Слова «человека убить» гулко отдались у Жозетты в голове. От ужаса перехватило дыхание. Панически заметалась мысль: «Убийца месье Гранжана! Он вернется! Он не оставит меня в живых!»
На улице Фобур-Сент-Антуан, сидя на мостовой, ревел в три ручья над разбитой бутылкой мальчишка. Жозетте невольно вспомнилось собственное детство, вернее, мать и ее бесчисленные кавалеры. Мужчины постоянно приходили в дом, и мать каждый раз выгоняла маленькую Жозетту на лестничную площадку, где та, съежившись на грязной ступеньке, вздрагивая от каждого шороха и зажмуриваясь, чтобы не видеть таящихся по углам чудовищ, сидела часами в тишине и темноте и дожидалась, пока уйдет очередной гость. Соседские мальчишки дразнили Жозетту, доводя до слез, языкастые кумушки звали Бамбулой, и девочка злилась за все эти унижения на родную мать…
Цветочница ускорила шаг, стараясь прогнать неприятные воспоминания.
Мать, больная, истощенная, всеми покинутая, перед смертью раскрыла ей тайну своего прошлого: она работала в Гваделупе на плантации сахарного тростника, хозяин каждую ночь поднимался к ней в мансарду. Вскоре негритянка забеременела, и ее отправили с глаз долой да постарались спровадить подальше: посадили на корабль, отплывавший во Францию, и на прощание кинули жалкую горсть медяков, будто кость собаке, — живи как знаешь. Здесь, во Франции, родилась Жозетта, и мечта вернуться когда-нибудь на родной солнечный остров истаяла в хмурых парижских сумерках…
Цветочница тряхнула головой — хватит! Кого она ненавидит больше? Мать, неизвестного отца, себя — мулатку, или всех до единого мужчин? Не вопрос. Мужчин. Конечно, мужчин.
Пятница 14 июля[294]
Виктор и Таша прогуливались по набережной Сены. На западе небесная синева над горизонтом уже сгустилась до фиолетового оттенка, легкий ветерок немного остудил раскаленный летним солнцем город. По реке прошла баржа, и о берег заплескали потревоженные волны. Виктор вдруг хлопнул себя по лбу, старательно изобразив забывчивость:
— Ах черт! Совсем запамятовал! — И протянул Таша сверток.
Девушка разорвала оберточную бумагу — у нее в руках оказались блокнот в потертой обложке и маленькая коробочка. С подозрением взглянув на Виктора, Таша первым делом открыла коробочку — и уставилась на него уже во все глаза:
— Какая красота! Спасибо, милый! — Она залюбовалась золотым колечком с лазурным камнем.
— Это аквамарин. Тебе нравится? — Виктор смотрел на Таша с серьезным видом, заложив руки за спину. Сейчас он казался послушным мальчиком, которому очень хочется правильно вести себя на семейном обеде.
— Да, очень! А в честь чего такой подарок?
— Допустим, я решил, хоть и с некоторым опозданием, отметить годовщину нашего знакомства. Мы встретились двадцать второго июня в англо-американском баре на Эйфелевой башне четыре года назад, у тебя была прическа с шиньоном и маленькая шляпка с маргаритками, ты сидела в компании Исидора Гувье, Фифи Ба-Рен и… И я влюбился.
— Фифи Ба-Рен тогда звали Эдокси Аллар, она еще не сдалась в плен демону канкана. И кстати, ты забыл упомянуть Антонена Клюзеля.
— Я видел только тебя!
— Ты угостил меня ванильным мороженым и придумал дурацкий предлог, чтобы поехать со мной в экипаже на улицу Нотр-Дам-де-Лоретт.
— А потом мы попали в затор и ты от меня сбежала.
— Но ты тайком пошел за мной.
— Ты это заметила?!
— И желала всем сердцем, чтобы ты не потерял меня в толпе.
— А я думал: она предназначена мне судьбой, она так не похожа на женщин, которых я знаю…
— И что же во мне такого особенного?
— Сложно выразить словами… Ты независимая, порой недосягаемая, будто добровольно отгораживаешься от мира, который, как мне кажется временами, отталкивает меня… — Голос Виктора стал тише, слабее. — Я ни к кому и никогда не испытывал таких чувств. В том, что ты делаешь, говоришь, в тебе самой есть что-то волшебное… и при этом ты взбалмошна, своенравна, рядом с тобой я словно иду по канату над пропастью. Но вероятно, и в этом тоже выражается моя склонность ко всему непредсказуемому и… опасному… А если я спрошу тебя, что отличает меня от других мужчин, ты сможешь ответить?
— Да, — нежно проговорила Таша, — думаю, что смогу…
Они возобновили прогулку, неспешно направились к мосту Сольферино.
— Стало быть, ты сохранил мой старый блокнот! — вспомнила Таша о втором подарке. — А я-то его повсюду искала!
— Это драгоценная реликвия, — торжественно заявил Виктор, — я возвращаю ее тебе в память о первом дне нашей совместной жизни.
Таша пролистала страницы и надолго задержала взгляд на одном эскизе: четыре года назад она набросала портрет женщины, возлежащей на кушетке.
— Эжени Патино, — прошептала девушка. — Твое первое расследование… Виктор, пообещай мне, что ты никогда бо…
— Вот, смотри! — перебил он, указав на другой эскиз. — Это доказательство того, что я тоже сразу тебе приглянулся — ты нарисовала мое лицо! Таша…
Она почувствовала, что сейчас с его губ сорвется предложение руки и сердца, и невольно отпрянула:
— Мы же и так вместе!
— Да, конечно, — смутился Виктор от того, что девушка прочитала его мысли. — Не беспокойся, я не буду задавать тебе… судьбоносных вопросов.
— Ты расстроился, Виктор?
— Нет, но мы к этому еще вернемся. Если захочешь, я в присутствии нотариуса подпишу официальную клятву никогда не препятствовать твоей карьере.
— После такого заявления, милый, ответ на вопрос, почему я выбрала тебя, очевиден. Я нашла в тебе родственную душу, которая делится со мной своим теплом, энергией, энтузиазмом. Ты всегда ждешь от жизни чего-то важного и необъятного — это придает мне сил и вдохновения.
Страстное объятие скрепило безмолвно заключенный только что договор не возвращаться больше — хотя бы в ближайшее время — ни к теме расследований, ни к теме свадьбы.
— Я приглашаю тебя в ресторан, — поклонился Виктор. — Давай поднимемся на Эйфелеву башню?
— Ну еще чего, милый, ты же терпеть ее не можешь! — засмеялась Таша.
— В таком случае, мы еще успеем на площадь Конкорд — там как раз начинается карнавал.
— По-моему, нам и здесь неплохо. Ой, смотри!
У перил моста собрались зеваки, наблюдавшие за работой собачьего парикмахера — тот вместе с помощником принимал клиентов под открытым небом на набережной Тюильри возле пришвартованной лодчонки с деревянной рубкой. Подмастерье держал на коленях черного пуделя, парикмахер ловко орудовал ножницами: выстриг «браслеты» на каждой лапке, «бретельки» на лопатках и «штанишки». Когда пациент обрел вид опереточного льва, с него сняли шнурок, заменявший намордник, и опустили страдальца на землю. Вместо того чтобы выразить благодарность, новоявленный лев тотчас разразился возмущенным лаем. Слуга, который привел хозяйского пуделя на экзекуцию, потащил его на поводке домой, зеваки, посмеиваясь, тоже начали расходиться, а парикмахер, завершив трудовой день, понес инструменты на лодку.
— Тратят, понимаешь, по десять монет на цирюльника для своих шавок, а иным некоторым мышь из буфета дулю кажет, — злобно прошамкала беззубая старуха, проковыляв по мосту мимо Виктора и Таша.
Словно в ответ на эту сентенцию, помощник парикмахера развел огонь в переносной жаровне и пристроил над ним сковородку с сосисками. Когда ветер разнес над мостом соблазнительно пахнущий дымок, Таша потянула носом.
— Как думаешь, Виктор, они согласятся продать нам парочку?
— Это ведь их ужин…
— Да там на четверых хватит! Иди же, попроси у них!
Виктор не без колебаний повиновался. Занимавшийся стряпней парень выслушал его просьбу и, взвесив все «за» и «против», заорал:
— Жан-Мари! Тут двое голодных зарятся на нашу жратву!
Из рубки показался собачий парикмахер, по-хозяйски вступил в переговоры и в итоге согласился пожертвовать две сосиски, полбагета и кувшинчик вина. В придачу Виктор получил два стакана.
Отведав угощение, Таша заявила, что этот стихийный пикник в десять раз лучше шикарного ужина за столиком на Эйфелевой башне. Они уплетали сосиски с хлебом, стоя на берегу Сены, как вдруг накатил глухой шум, и вскоре праздничная толпа затопила набережную Тюильри. Гуляки, осыпаемые отборной бранью из уст Жан-Мари, весело обстреляли лодку петардами. Виктор вздрогнул — взрывы всколыхнули в нем давние страхи перед терактами анархистов. Обернувшись к Таша, он не увидел ее — и испугался, что навсегда потерял. Заметался, встал на цыпочки, пытаясь разглядеть девушку поверх голов и, уже холодея от ужаса, почувствовал, как его тянут за рукав. Сверкали бенгальские огни. Взрывы петард гремели не переставая. Он хотел заткнуть уши, поднял руки, но в правой был стакан с красным вином, и Таша воспользовалась моментом, чтобы чокнуться с ним:
— За нас!
Волна гуляющих наконец схлынула, путь к берегу был свободен. Виктор, вернув кувшинчик и стаканы собачьему парикмахеру, нагнал Таша на опустевшей набережной. Девушка скакала на одной ноге, пиная сиротливо валявшуюся на брусчатке картонную трубочку — все, что осталось от бурной феерии бенгальских огней.
— Решила поиграть в классики? — улыбнулся Виктор.
Но Таша подобрала трубочку, развернула ее и нарисовала на картонке вот что: две брови домиком, пышные усы и вместо шляпы раскрытая книга, а рядом — кисточка в ботах и длинной юбке. Под рисунком она написала:
В и Т вместе навсегда!
— То есть это я? — сделал брови домиком Виктор. — Ну и усищи ты мне придумала — такими любой галл гордился бы!
— Пришлось слегка преувеличить, чтобы ты понял, как я не одобряю этот ваш указ, предписывающий мужчинам скрывать губы.
— Цель этого несуществующего указа — подчеркнуть нашу мужественность на фоне вашей нежности и красоты.
— Ах, как оригинально! — фыркнула Таша и спрятала картонку в сумочку. — Виктор, давай вернемся?
— Ты не хочешь посмотреть фейерверк?
— Я выбираю роскошный десерт, который ты преподнесешь мне дома. Идем!
Сумерки потушили солнце, которое весь день исправно выдавало 30 °C в тени. Париж пах разгоряченной праздничным весельем толпой, к дымку жареных яств примешивался аромат леденцовой карамели. На улицах, украшенных гирляндами фонариков в цветах национального флага, отплясывали под звуки аккордеонов лавочники, приказчики, работяги; гремели духовые оркестры. В кафе «У Кики» отбоя не было от посетителей, а мадам Матиас не сводила влюбленного взгляда с нового гарсона, взятого в помощь Фернану.
Фредерик Даглан перегнулся через стойку:
— Три кружки пива, два бокала вина! — и, залихватски подмигнув хозяйке, умчался, ловко удерживая поднос снизу на кончиках пальцев одной руки. По пути он толкнул в спину какую-то девушку с кожей цвета кофе с молоком, отпрыгнул, сделал пируэт, заглянув ей в лицо, и поскакал дальше, не уронив подноса.
Жозетта Фату похолодела — это был тот самый мужчина, который преследовал ее два дня подряд. В следующий миг цветочницу бросило в жар, над верхней губой выступили капельки пота — вот оно, снова омерзительное ощущение опасности. Что нужно от нее этому человеку? Кто он такой? Раньше она никогда не видела его «У Кики». Что же делать?!..
Сдерживая дрожь, девушка на ослабевших ногах приблизилась к стойке.
— Боже мой, Жозетта, милочка, вам нездоровится? — забеспокоилась мадам Матиас.
— Нет-нет, просто так шумно, все веселятся…
— Это же замечательно! Глядите, как торговля идет — дым коромыслом! Вот, выпейте лимонаду, милочка, он вас взбодрит.
— Вы наняли нового гарсона? — спросила Жозетта и тут же испугалась — не выдала ли она своей паники, не говорила ли слишком быстро, не переиграла ли, изображая удивление?
— Представьте себе, это мой очень близкий друг, — шепотом сообщила мадам Матиас с многозначительной улыбкой. — Ох, вы совсем бледненькая, идите-ка на террасу, там еще есть свободное местечко под деревьями, в прохладе.
Суббота 15 июля, утро
Улочку Висконти, и без того узкую, загромоздили ломовые дроги, просевшие под тяжестью каменных блоков, которые предназначались для реставрации фасадов. Рабочие разгружали повозку у дома номер 24, где когда-то жили Жан Расин и мадемуазель Клерон. Шум стоял невообразимый. Жозеф, протолкавшись среди стройматериалов, транспортных средств и мастеровых, в сердцах вопросил:
— И надолго этот тарарам?!
— Сам-то чего надрываешься? Они ж ни бельмеса не смыслят — им главное начать, а там как пойдет, — проворчал папаша Гюше, содержатель меблированных комнат, который наблюдал за суетой, потягивая в тенечке пенистое белое вино по десять сантимов за стакан.
Жозеф, вконец измученный, зашел на кухню за кусочком хлеба и вернулся в каретный сарай, соорудив по пути из размятого мякиша затычки для ушей. Оценив эффект шумоизоляции, он мысленно возблагодарил мать, не поленившуюся сбегать в булочную перед тем как отправиться на улицу Сен-Пер готовить обед для хозяев. Самого Жозефа сегодня в книжной лавке ждали не раньше, чем к полудню. Покусывая кончик перьевой ручки — подарка Айрис, которым он очень дорожил, — молодой человек сидел за столом, проклиная судьбу, ополчившуюся на его литературный шедевр, и пытался привести мысли в порядок.
— «Фрида фон Глокеншпиль услышала скрежет и резко обернулась, выставив перед собой кондитерскую трубочку как оружие. Со стороны башни донеслись шаги. Мастиф Элевтерий оскалился. Кто же там приближается?..» — перечитал он вслух последние строчки. — Во-во, кто же там приближается — that is the question.
[295] — И обескураженно замолчал.
Отбросив тетрадку с названием «Кубок Туле» на обложке, горе-сочинитель взялся за блокнот со всякой всячиной, обычно служившей ему источником вдохновения. Уголки двух последних газетных вырезок отклеились, и он пригладил их пальцем.
— Дело об убийстве Леопольда Гранжана… заколотого кинжалом двадцать первого июня… до сих пор остается загадкой… «Слияньем ладана, и амбры, и бензоя май дарит нам тропу уединенья. Дано ли эфиопу изменить цвет кожи, леопарду — избавиться от пятен на шкуре?» — прочитал Жозеф вполголоса. И перевел взгляд на вторую заметку. — «Кузен Леопардус просит друзей и клиентов месье Пьера Андрези, переплетчика с улицы Месье-ле-Пренс в Париже, присутствовать на похоронах… на кладбище в Шапели двадцать пятого мая. „Ибо май весь в цвету на луга нас зовет“». — И озадаченно забормотал: — Кузен Леопардус… леопард с пятнами на шкуре… Откуда этот звериный мотив в обоих текстах, которые никак не соотносятся друг с другом? А еще май два раза упоминается… Леопард в мае… Может, есть какая-то связь с зодиаком? Май — это Телец и Близнецы… Майский леопард. Мартовский заяц… Ничего не понимаю. Но непременно выясню!
…Редакция «Фигаро» находилась в районе Больших бульваров, на пересечении улиц Друо и Прованс, в здании из серого камня с табличкой «26». В нише над входом севильский цирюльник подставлял голубям бронзовые плечи и голову, и, судя по всему, окрестные птицы часто дарили его своим вниманием. Жозеф снял перед Фигаро шляпу, для храбрости представил себя сыщиком высокого класса и решительно направился в отдел приема телеграмм и объявлений, где томились от скуки секретари. Несмотря на небольшой горб, молодой человек был не лишен обаяния и, как правило, с первого взгляда внушал противоположному полу желание взять его под крыло. Понадеявшись на этот свой дар, он изобразил на лице глубокую скорбь и подошел к девушке за конторкой.
— Горе у меня, мадемуазель, такое горе, если б вы знали… На улице песни да пляски, народ веселится, а я… Дядюшка был мне как отец родной, и вот, представьте, умер. Но это, знаете ли, еще полбеды! Какой-то сумасшедший не нашел ничего остроумнее, как сообщить вам ложные сведения! — Жозеф выложил на конторку извещение о похоронах Пьера Андрези.
Девушка подняла голову, окинула посетителя взглядом, отметив белокурые волосы, в беспорядке падающие на лоб, бархатные глаза, в которых таилась мольба о помощи, и немедленно водрузила на свои буйные локоны форменную шляпку с атласными крылышками.
— Я записываю то, что мне диктуют, считаю слова и отправляю желающих разместить объявление в кассу. После того как они совершают оплату из расчета полтора франка за строку из тридцати четырех букв и приносят мне чек, я пересылаю их объявления в типографию. В мои обязанности не входит проверка сведений, милостивый государь.
— И все же, мадемуазель, обратите внимание: пренелепейший некролог. Друзей и клиентов покойного приглашают на похороны двадцать пятого мая, тогда как означенное в некрологе лицо скончалось пятого июля!
— О, люди еще и не такие нелепости печатают. Вот к примеру: «Щедрое вознаграждение тому, кто вернет мне Иерихонскую Трубу, курицу брахмапутрианской породы, намедни заблудившуюся в окрестностях горы Святой Женевьевы». По сравнению с вашим некрологом это…
— Это, однако, весьма любопытный некролог.
— Мне платят не за то, чтобы я тешила свое любопытство, гражданин. Все, что от меня требуется, — подсчитывать слова в объявлениях. А сумасшедшие у нас тут в редакции табунами ходят — не представляете, сколько я всяких чудиков перевидала!
— Сочувствую, мадемуазель, и завидую вашему терпению. Однако если бы вы согласились уточнить дату публикации этого нелепого извещения о похоронах, я был бы вам страшно благодарен.
Девушка пожала плечиками и повернулась к каталожному шкафу.
— С чего начинается текст?
— «Кузен Леопардус просит…»
— Значит, на «эл»… Так, нашла. Зарегистрировано четвертого июля. Кем оплачено, не записано. Вы удовлетворены?
— А вы совсем-совсем не помните, кто принес этот текст?
Девушка облизнула губки и принялась разглядывать собственные ногти.
— Вот так, навскидку, я вам, конечно, не отвечу. Но порой бывает достаточно сущего пустячка, какого-нибудь там стаканчика шербета или аперитива, чтобы прошлое предстало в ярком свете. Я обедаю в час дня, и если сердце вам подскажет… — Она вдруг зарделась и, не осмелившись продолжить флирт с неприступным, но очень симпатичным белокурым юношей, схватила стопку формуляров и начала ожесточенно ставить на них штемпели.
Жозеф малодушно ретировался.
«Бедняжка, похоже, в меня влюбилась. А что, она, пожалуй, хорошенькая… Но я не такой ветреник, как некоторые особы из моего окружения! Никогда я не опущусь до того, чтобы оплачивать услуги натурой… Итак, объявление опубликовано четвертого июля — накануне пожара! Разобраться бы во всем этом… Прав месье Анатоль Франс: „Нам не дает покоя то, чего мы не понимаем“. Придется все-таки обсудить задачку с месье Легри. У него в голове шестеренки раскручиваются медленно, но уж если раскрутятся — творят чудеса! Да уж, когда он в форме…»
Занятый этими размышлениями, Жозеф не заметил, как вышел на улицу Нотр-Дам-де-Лоретт. Оглядевшись, он с грустью вспомнил о прогулке в здешних краях с одной знакомой, погибшей при трагических обстоятельствах.
«Дениза Ле Луарн…
[296] Валентина… Нет смысла отрицать, я нравлюсь женщинам. Сама мадемуазель Таша не устояла бы перед моими чарами, кабы не месье Легри. Кстати, она ведь живет поблизости. Час-то ранний, так что у меня есть шанс застать голубков в гнездышке!»
Но не успел молодой человек выйти на улицу Фонтен, как прямо над головой грянул раскат грома и на город обрушился ливень. Шмыгнув под навес крытого рынка, Жожо, переминаясь с ноги на ногу от нетерпения, принялся ждать, когда поток хоть немного утихнет. Мимо прогрохотал фиакр, окатив его грязной водой. Прохожие спешили по улице в поисках убежища, оскальзываясь на мокрой мостовой, сталкиваясь зонтами.
Вдруг сквозь шум дождя Жозеф различил мяуканье и опустил глаза: к его штиблете жался чумазый меховой комочек.
— Эй, домик для блох, ну-ка брысь отсюда!
В ответ домик для блох — бежевая мордочка и желтые глаза-виноградины — послал ему всем своим видом такой отчаянный призыв о помощи, что молодой человек не смог на него не откликнуться. Он поднял котенка и прижал к груди, чувствуя сквозь ткань редингота, как бьется крошечное сердце. В благодарность за ласку котенок тихо замурлыкал, и шершавый язычок лизнул палец спасителя.
— Откуда ты взялся, пушистый зверь? — Жозеф посмотрел на топтавшуюся рядом под навесом девочку: — Он твой?
Девочка состроила ему гнусную рожицу и заголосила, отбивая ритм кулачком по резному косяку:
Обед приготовив, устанешь не слишком:
Девчонкам — конфеты, горчицу — мальчишкам.
Распевая, она все заглядывала внутрь рынка, где ее мамаша-торговка за лотком у входа обслуживала покупателя.
— Где ты там шляешься, дурное семя? А ну живо иди сюда, не то промокнешь, заболеешь и умрешь! — рявкнула мамаша.
— Да, наверняка так и будет, — мрачно пообещал девочке Жозеф и уставился на котенка: — Ну что же мне с тобой делать, хитрая скотинка? Вот ведь приставучий…
Котенок свернулся клубком у него в руках и громко урчал от удовольствия. Нос и «носочки» на лапах были белые, а на самом кончике хвоста торчал реденький пучок шерстинок.
— Эта киса ко всем липнет, как банный лист, вот и ты попался, простофиля! — мерзко хихикнула девочка и поскакала к матери.
Таша только успела накинуть пеньюар из тонкого батиста — они всю ночь до утра отмечали в постели День взятия Бастилии, и Виктор лишь несколько минут назад укатил на велосипеде в лавку, — как в дверь постучали.
— Жозеф! Вы насквозь промокли!
— До костей! Месье Легри дома?
— Вы с ним разминулись… Ой, какой хорошенький!
— Я подобрал его на вашей улице. Наверное, он голодный. — Жозеф опустил добычу на пол, и котенок, выгнув хребет, шмыгнул под подол пеньюара Таша, не переставая тарахтеть, как паровая турбина.
— Вы заметили, какой у него хвост? — улыбнулся Жозеф. — Похож на половинку кисточки.
— И правда, полукисточка! Очень живописный кот. Круглая головка, тигровая шерстка, белые «перчатки»… Надо налить ему молока.
Пока Таша хозяйничала на кухне, Жозеф в сопровождении своего протеже слонялся по прихожей, загроможденной багетными рамами и книгами. На геридоне среди безделушек он краем глаза заметил картонную трубочку с опаленными краями, хотел рассмотреть ее поближе, но в этот момент появилась Таша с блюдцем молока, и «полукисточка» жадно принялся за еду.
— Он забавный. Пожалуй, я его оставлю.
— Уф, мадемуазель Таша, вы меня просто спасли! Если б я притащил его домой, матушка заставила бы меня выучить «Марсельезу» на бретонском… А месье Легри не будет возражать?
— Ну что вы, чего хочет женщина, того… — Таша усмехнулась.
Успокоенный Жозеф взял картонную трубочку с геридона и хмыкнул, увидев рисунки.
— Бенгальские огни всю ночь сверкали… — Таша подавила зевок. — При таком количестве света можно было бы целый месяц обходиться без фонарей. Ну, полукисточка, набил брюшко? Ты согласишься остаться в этом скромном жилище?
Котенок, отобедав, приводил себя в порядок, но, услышав вопрос, прервался и ответил пронзительным «мя-а-ау!».
— Жозеф, он сказал «да»! — захлопала в ладоши художница.
— Вот погодите, он еще овладеет английским, русским и японским — тогда вы точно не соскучитесь в компании этого балагура!
Таша, присев, почесала котенку пузо и наклонилась поближе, рассматривая шерсть.
— О, да он не один, тут целая толпа наездников… И кстати, он девочка.
— Как вы узнали? — брякнул Жозеф.
— Ну, по отсутствию… как это называется по-французски?
— Э-э-э…
— Мужских признаков, в общем. Полукисточка, я назову тебя Кошка!
— Что ж, мадемуазель Таша, мадемуазель Кошка, позвольте откланяться. Матушка заглянет к вам с обедом и с арсеналом щеток-метелок…
«А я, если поспешу, еще успею чуток передохнуть дома в тишине и спокойствии, перед тем как отправиться на галеры „Эльзевира“», — подумал Жозеф, выходя на улицу Фонтен.
Всю дорогу в омнибусе Жозефа не покидала мысль о том, что он упустил что-то важное. Но как болезненный зуд, который не пройдет, чешись не чешись, смутная уверенность в собственном ротозействе никак не могла переродиться в нечто конкретное. И только дома, в каретном сарае, усевшись за стол, сооруженный из ящиков, он понял, что ему напомнила та картонная трубка с двумя карикатурами на внутренней стороне. В точности такие же три обгоревших цилиндрика он подобрал в мастерской Пьера Андрези — вот они лежат, между перьевой ручкой и тетрадкой с незаконченным «Кубком Туле».
Это открытие полыхнуло в голове Жозефа электрическим разрядом.
— Бенгальские огни или «римские свечи»! В переплетной мастерской, черт побери! Ну, что ты об этом думаешь, папочка? — спросил он, глядя на фотографию, с которой улыбался букинист, прислонившийся к парапету набережной Вольтера. — Ты думаешь, что пожар случился из-за пиротехнической ошибки? Не знаешь, да?
Окружающий мир вдруг подернулся волной, Жозефу показалось, что он смотрит на события и факты сквозь толщу воды и не может различить очертаний.
— Чушь какая-то! Кому понадобилось пускать фейерверки за десять дней до Четырнадцатого июля? Разве что… Ох проклятье! У меня в руках настоящие улики! Надо срочно доложить патрону!
…Виктор, пьянея от скорости, крутил педали, и никелированный велосипед с каучуковыми шинами без фонаря и клаксона вихрем летел по бульвару Сен-Жермен. Вне себя от гордости, плавно покачиваясь на оснащенном рессорами седле, ездок лавировал между экипажами, то и дело создававшими заторы — но только не для него! Прощайте, битком набитые омнибусы и утомительные пешие прогулки!
Мостовая уносилась назад из-под колес, вот уже на углу улицы Иакова замаячила вывеска «Эльзевира» — Виктору предстояло заступить на вахту, чтобы Айрис и Кэндзи могли провести вместе вторую половину дня. Он позволил себе напоследок крутой разворот с боковым скольжением, заскочил двумя колесами на тротуар, и «бабочка» встала как вкопанная перед домом номер 18.
Разумеется, Жозеф где-то пропадал. В последнее время этот юноша демонстративно манкировал своими обязанностями и вообще вел себя вызывающе — Виктор был крайне им недоволен. «Надо будет завинтить гайки, парнишка совсем от рук отбился», — решил он и, закатив свой драгоценный велосипед в подсобку, взбежал по винтовой лестнице на кухню, где подкрепился еще теплым рататуем с белым вином. А едва услышав звон колокольчика на входной двери и знакомый голос «Эй, есть кто-нибудь?», ссыпался по ступенькам — ему не терпелось задать перцу нерадивому управляющему.
Однако Жозеф, не дав патрону и слова молвить, разразился пламенной речью, в которой фигурировали извещение о похоронах в «Фигаро», леопард, месяц май и картонные трубочки, начиненные порохом. Это словоизвержение было прервано лишь приходом клиента. Когда пижонистый молодой господин, нежно прижав к сердцу книгу «О дендизме и Джордже Браммеле»,
[297] расплатился и, счастливый, покинул помещение, Виктор с саркастической усмешкой повернулся к Жозефу:
— Должен сообщить, что вы опоздали на полчаса.
— Знаю, патрон, виноват! — отмахнулся управляющий. — Но вы подумайте: такое огромное количество совпадений просто не может не иметь логической связи! Дата в извещении кузена Леопардуса — это не ошибка, не результат невнимания приемщицы и не следствие зевательного недуга наборщика. Я проверил: извещение поступило в редакцию «Фигаро» четвертого июля, накануне пожара. Правда, имя автора мне, увы, узнать не удалось.
— Верно ли я понял? Вышеизложенная вами галиматья призвана свидетельствовать о том, что смерть Пьера Андрези — это убийство, замаскированное под несчастный случай? Поправьте меня, не стесняйтесь, Жозеф, если я говорю глупости.
— Помимо этой галиматьи, есть еще кое-что, патрон. Двадцать первого июня отбросил коньки некий эмальер, и это было самое настоящее, ничем не замаскированное убийство — его закололи кинжалом. Полиция нашла на трупе визитную карточку, и, бьюсь об заклад, вы нипочем не догадаетесь, что там написано!
Виктор, положив ладонь на голову гипсовому Мольеру, молил силы небесные ниспослать ему терпения. Жозеф между тем полистал свой блокнот и прочел вслух:
— «Слияньем ладана, и амбры, и бензоя май дарит нам тропу уединенья. Дано ли эфиопу изменить цвет кожи, леопарду — избавиться от пятен на шкуре?» А, патрон? Я залез в «Словарь французского языка» Поля-Эмиля Литтре и что же там обнаружил? Первая часть первого предложения — строка из Бодлера,
[298] вторая часть — из Андре Шенье.
[299] Про эфиопа и леопарда — цитата из пророка Иеремии. А последняя фраза в извещении о похоронах Пьера Андрези — «Ибо май весь в цвету на луга нас зовет» — принадлежит Виктору Гюго!
[300]
Тишина оглушила Виктора. Такое же страшное, грозящее раздавить безмолвие навалилось на него в тот день, когда он, шестилетний мальчишка, тонул в озере Серпантин в лондонском Гайд-парке. Необъятное воздушное пространство превратилось в обволакивающую, рвущуюся в легкие магму, он оглох, и эта глухота напугала его тогда больше, чем мысль о смерти.
— Патрон? Ау, патрон!
— Да, Жозеф, я вас слушаю.
— Помните начало извещения? «Кузен Леопардус…»
Виктор присел на край стола Кэндзи и принялся рассеянно выводить пальцем спирали на бюваре. А что, если в то воскресенье 1866 года он действительно утонул? Так и остался там, на дне озера Серпантин? И годы, которые он якобы прожил с тех пор, — всего лишь иллюзия? Перед глазами встало лицо Таша — нежное, одухотворенное… и он понял, что жив.
— Жозеф, может, хватит выдумывать?
— Картонные трубки я не выдумал! Я все ломал голову, что же это такое, а потом увидел такую штуку у мадемуазель Таша, с карикатурами…
— Как, черт возьми, вы узнали, что Таша упражнялась в рисовании на картонке от бенгальского огня?
— Я был сегодня утром на улице Фонтен, вас искал, но вы уже уехали. Мадемуазель Таша впустила меня, потому что я весь вымок под дождем и еще принес ей… э-э… я принес вам обоим скромный подарок. — Жозеф предпочел не уточнять, что именно, вернее, кто именно был подарком, из опасения, что патрон не очень-то обрадуется встрече с пушистым зверем.
— Так что насчет этих ваших трубок?
— Я понял, что полые цилиндры, подобранные мною в мастерской Пьера Андрези после пожара, — это шашки фейерверков, и что, возможно, именно они спровоцировали возгорание. Я уже говорил вам об этом, но вы меня не слушали!
— Давайте с начала, Жозеф. В переплетной мастерской были бенгальские огни. Допустим, они загорелись. И вы полагаете, что от этого вспыхнул керосин в лампе?
— Нет, патрон, это были не бенгальские огни, а «римские свечи» — трубки, начиненные смесью пушечного пороха, селитры, серы, каменного угля или еще какой-то горючей гадостью. Я подобрал в мастерской три — возможно, их было больше. Связка из десятка таких штуковин может наделать дел.
— Инспектор Лекашер намекал на вероятность намеренного поджога…
— Так и было, патрон! Вы же не станете отрицать, что…
— Дайте мне подумать, — перебил Виктор. Он сердито нахмурился — как всегда, если
приходилось концентрироваться на решении сложной логической задачи, — и заговорил вполголоса, размышляя вслух: — В извещении о похоронах Пьера Андрези, назначенных на май, хотя он умер в июле, повторяются слова, написанные на карточке, которая найдена на месте убийства незнакомого нам эмальера, в обоих случаях цитируются стихи… Два убийства, один убийца? В этом действительно нужно разобраться… Да, но я ведь поклялся Таша… — Он замолчал.
— Начинаем расследование, патрон? — Глаза Жозефа под растрепанной челкой лихорадочно блестели, он весь дрожал от нетерпения, как собака при виде лакомства: «Дашь сахарок или не дашь? Да плевать мне на твои угрызения совести! Сахарок давай!»
— Начинаем, Жозеф, только тихо, — решился Виктор.
— Да, да, да, патрон!!! Никто ничегошеньки не услышит, особенно мадемуазель Таша!
— У нас есть два следа: Пьер Андрези и эмальер… как его звали?
Жозеф заглянул в блокнот:
— Леопольд Гранжан.
— Адрес?
— Его убили утром на улице Шеврель — наверняка он жил где-то поблизости. В любом случае, найти эмальерную мастерскую будет нетрудно.
— Завтра воскресенье, вы свободны?
Жозеф хотел сказать «да», но вспомнил, что пообещал матери сводить ее в «Фоли-Драматик» — комиссионерка с Центрального рынка раздобыла им две контрамарки на утреннее представление водевиля «Трещотка»
[301] в трех актах, а перед тем они условились позавтракать там же, на Центральном рынке, у Жежены. Эфросинья так ждала этого дня, что сын чувствовал себя не вправе лишить ее удовольствия.
— К сожалению, нет, — вздохнул он.
— Ничего, займемся эмальером, когда будет время, — кивнул Виктор. Сам-то он не сомневался, что сумеет улизнуть от Таша на пару часов, чтобы осмотреть пепелище на улице Месье-ле-Пренс. — Да, Жозеф, и месье Мори совершенно незачем об этом знать. Ни слова ему!
— Можете на меня рассчитывать, — заверил молодой человек, возликовавший от того, что станет единственным помощником гениального Виктора Легри.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Понедельник 17 июля
Внешность и повадки Адольфа Белкинша всецело соответствовали его фамилии. Выдающиеся верхние резцы, умная мордочка лесного грызуна, обрамленная рыжей шерстью бакенбардов, и остроконечные уши — он действительно напоминал гуманоидную белку, облаченную в сюртук и безнары.
[302] Месье Белкинш полагал свою книжную лавку на улице Сурдьер неким преддверием Азии, и потому ничуть не удивился, завидев переступившего ее порог японца.
— Милостивый государь, я ваш коллега, — поклонился Кэндзи и вручил хозяину визитную карточку. — Мне стало известно, что Национальная библиотека имела счастье приобрести в начале этого месяца на аукционе Друо лот из нескольких восточных манускриптов, принадлежавших ранее вам. Могу ли я осведомиться об их происхождении?
Белка подергала верхней губой и развела лапки в стороны, что могло означать примерно такой уклончивый ответ: «Черт его знает, откуда они взялись!» или «Одному Господу ведомо оное происхождение!»
— Прошу простить за настойчивость, но мне совершенно необходимо удостовериться, что ни один из означенных манускриптов не имел в качестве французского заголовка следующий: «Тути-наме, или Собрание пятидесяти двух сказок попугая». Я получил от оценщика, работавшего на тех торгах, полный список, и одним из пунктов значится некий «памятник персидской письменности без титульного листа, богато украшенный миниатюрами».
Беличье серое вещество задымилось от усердия. Оно конечно, у посетителя раскосые глаза и визитная карточка провозглашает его почтенным книготорговцем, однако ничто не мешает этому господину, успевшему наведаться в контору на улице Друо, оказаться полицейским осведомителем. И Адольф Белкинш встал на защиту своих гроссбухов:
— Вероятно, коллега, вам знакомо положение дел в книжной торговле: бывает, годами копишь тонны макулатуры, не представляя ее истинной ценности, а в один прекрасный день избавляешься от нее единым махом.
— Именно потому, что мне знакомо положение дел в книжной торговле, коллега, я понимаю ваше нежелание раскрывать свои источники. Скажите мне только, действительно ли вы приобрели персидский манускрипт без титульного листа и у кого.
Адольф Белкинш быстро посоветовался с Адольфом Белкиншем и принял решение пойти на компромисс. В конце концов, этот самурай в шапокляке ведет себя вежливо и миролюбиво, он достоин некоторого вознаграждения.
— Сделка состоялась в конце июня, в кафе при Опера. И у меня есть основания считать, что продавец — человек честный.
— Как он выглядел?
— Довольно упитанный, румяный, за пятьдесят, волосы — соль с перцем.
— Что-нибудь еще?
— Когда он поднялся со стула, достал мне макушкой ровно до плеча, а у меня рост метр шестьдесят восемь. — Адольф Белкинш похмурился и поморгал — видимо, это означало, что разговор окончен.
— Благодарю вас, — приподнял цилиндр Кэндзи. Поскольку беседа оказалась не слишком плодотворной, ему ничего не оставалось, как отправиться на поиски «Тути-наме» в лабиринты Национальной библиотеки.
В лабиринты Кэндзи проник через монументальный вход на улице Ришелье напротив площади Лувуа. Вестибюль вывел его во двор, откуда, преодолев несколько ступенек крыльца, он попал в коридоры отдела восточных рукописей. Оставив в гардеробе трость и цилиндр, Кэндзи, давний обладатель читательского билета, беспрепятственно направился прямиком в рабочий зал — просторное квадратное помещение с полукруглой нишей, служившей прибежищем библиотекаря. Литые колонны в мавританском стиле поддерживали высокий свод, толстые ковры приглушали редкий шепоток исследователей, которые трепетно перелистывали страницы старинных книг, отрываясь от чтения только для того, чтобы обменяться мнением с собратьями или обмакнуть перо в чернильницу и сделать выписку. Все это создавало покойную атмосферу храма знаний, пребывание в коем всегда доставляло Кэндзи истинное наслаждение. Он перебрал карточки в нескольких каталожных ящиках, однако быстро оценив масштаб поставленной перед собой задачи, предпочел обратиться к служителю библиотеки.
— Манускрипт попал к нам недавно? — шепотом уточнил щуплый сгорбленный человечек со скошенным лбом. — В таком случае советую вам справиться о нем в отделе новых поступлений.
Кэндзи вернулся к гардеробу, забрал трость и цилиндр, снова вышел во двор. По дороге к отделу новых поступлений в другом подъезде он миновал анфиладу комнат с высокими потолками и стенами, увешанными тысячами картин. В искомом кабинете один-единственный служитель прилежно разрезал длинным ножом страницы толстенного словаря, и похоже, это монотонное занятие так его истомило, что, завидев посетителя, он страшно обрадовался.
— Могу ли я быть вам чем-нибудь полезен, почтенный читатель? — прозвучал пронзительный контратенор, и Кэндзи удивленно воззрился на странное существо, выжидательно уставившее на него пару круглых, блестящих, чернильно-черных глаз, которые казались огромными за толстыми линзами очков.
Библиотекарь пару секунд рассматривал японца агатовыми глазищами, подергивая себя за мочку левого уха. Он не собирался упустить счастливую возможность отвлечься от постылой рутины и решительно поднялся из-за стола.
— Вообразите себе, о почтенный читатель, что сейчас вы стоите на берегу необъятного океана бумаги, уровень коего день за днем прибывает, ибо воды его не испаряются, — пропищало существо, выбираясь из логова и подкрадываясь к Кэндзи.
Японец попятился:
— Э-э, да-да… Видите ли, я ищу манускрипт, в котором не хватает титульного листа…
— Две реки, не смешивая течения, неустанно пополняют своими водами сей океан. С одной стороны в него впадают потоки экземпляров из новых тиражей, с другой — издания и памятники письменности, приобретенные на аукционах. Новинки и раритеты, раритеты и новинки — всё здесь, всё учтено!
— Не сомневаюсь. Я, видите ли…
— Только представьте, сколь благородна миссия, выпавшая на нашу долю! Мы призваны собирать всю печатную и рукописную продукцию, сортировать ее, разрезать страницы, переплетать, штемпелевать, нумеровать. Задумывались ли вы об этом когда-нибудь?
— Каждый вечер на сон грядущий, — отрезал Кэндзи. — Однако я хотел бы…
— Тома, поступившие в библиотеку, распределяют по шкафам. А при нынешних масштабах выпуска печатной продукции в них уже трудненько ориентироваться, знаете ли! Но это еще полбеды, почтенный читатель, — количество книг не идет ни в какое сравнение с потоком периодики, хлынувшим в библиотеку сейчас, в конце нашего века. Три тысячи, почтенный читатель, три тысячи в год — это только журналы, и то ли еще будет! А уж про ежедневные газеты, французские и зарубежные, и говорить нечего. Не стану перечислять вам крупнотиражные, но со всеми этими «Марнскими пчелами», «Лотскими курьерами», «Шаролескими вестниками» и «Корезскими герольдами» что вы будете делать, а?
— Ничего я с ними не буду делать, — буркнул Кэндзи. — Я ухожу.
Библиотекарь, охваченный паникой, вцепился ему в рукав — шанс побездельничать до окончания рабочего дня ускользал из-под носа.
— О, не гневайтесь, почтенный читатель. Раз уж Господь наделил нас способностью усваивать знания, надобно пользоваться ею при любом случае. Так чем же я могу вам помочь?
— Вы можете дать мне справку о персидском манускрипте без титульного листа, недавно поступившем сюда, в Национальную библиотеку, — процедил сквозь зубы Кэндзи.
— В таком случае, нет никакой необходимости вести вас в хранилище драгоценных рукописей, каковых у нас насчитывается восемьдесят тысяч, и это совершенно феноменально! Однако когда вы узнаете, что общее число книг, составляющих фонды Национальной библиотеки, достигает двух миллионов…
— Да наплевать мне! — рявкнул Кэндзи.
— Вы сказали «манускрипт» и «недавно»? Отсюда следует логический вывод, что ваш текст в данный момент находится у переплетчика. На переплетные работы выделяется из бюджета тридцать тысяч франков, что вынуждает нас сокращать расходы на приобретения, ибо…
Кэндзи пошатнулся. Прервать поток красноречия этого существа, вцепившегося ему в рукав, не представлялось возможным.
Библиотекарь, видимо, воспринял движение посетителя как очередную попытку к бегству и торопливо спросил:
— Стало быть, ваш манускрипт находится у переплетчика?
— Да вы сами мне об этом только что сказали! — возопил Кэндзи.
— Конечно-конечно, но еще вы, кажется, упомянули, что манускрипт персидский? Дело в том, любезный читатель, что все сочинения на фарси, появляющиеся в нашей библиотеке, неизбежно привлекают внимание Акопа Яникяна — сей господин набрасывается на них, как медведь на мед!
Японец уж было подумал, что у существа ум за разум зашел от собственной болтовни, и оно заговаривается, но агатовые глаза заметили его недоумение.
— Акоп Яникян — мой коллега армянского происхождения, в чьи обязанности входит отбор и передача переплетчику манускриптов из новых поступлений. А когда месье Яникяну попадает в руки текст на фарси, он придерживает его тайком от начальства, чтобы дать своему кузену время переписать интересующие того пассажи.
— Позвольте, я ничего не понимаю…
— Всё чрезвычайно просто, милостивый государь. Если вы соблаговолите зайти в читальный зал отдела восточных рукописей, там, за большим столом справа от бюро библиотекаря, непременно увидите вышеозначенного кузена, коего зовут Арам Казангян. Он уже пятнадцать лет корпит над составлением словаря фарси. Можно сказать, наш постоянный клиент. Так вот, я ничуть не удивлюсь, если искомый вами манускрипт окажется перед ним на столе.
Совершенно оглоушенный Кэндзи покинул лабиринты, рассеянно поблагодарив библиотекаря, который бросил торжествующий взгляд на часы — ура, до конца рабочего дня осталось пять минут!
Жара стояла удушающая. Японец утолил жажду у фонтана, воспользовавшись алюминиевым ковшиком, цепочкой прикованным к бортику, и без сил рухнул на скамейку на площади Лувуа. Было шесть часов вечера.
— Бестолочь бездарная! Да как ты смеешь играть так дурно?! Ты должен вжиться в образ, влезть в шкуру персонажа — и ты у меня влезешь, иначе я тебя туда пинками затолкаю, ничтожество, чтоб тебя раскорячило! Если ты так будешь играть на премьере, нас забросают гнилыми помидорами, дубина! — Распекая партнера по сцене, Эдмон Леглантье яростно размахивал шляпой, и белое перо мело подмостки театра «Эшикье».
Сконфуженный Равальяк забился в кусты и снова приготовился к нападению на Беарнца.
— Господин помреж, что вы там копытами молотите?! Что вы мне лицом шевелите?!
— Мсье Леглантье, прячьтесь! Мсье Ванье идет! — донесся из-за кулисы громкий шепот помощника режиссера, и Эдмон Леглантье, услышав имя своего главного заимодавца, метнулся к суфлерской будке.
Ссыпавшись по лесенке, он в мгновение ока очутился под сценой. Топот над головой свидетельствовал о том, что его труппа тоже предприняла стремительное и беспорядочное отступление. Эдмон направился по узкому, тускло освещенному коридору, но у каморки реквизитора наткнулся на склонившуюся фигуру — кто-то, подставив ему тылы, рылся в коробе с посудой и фруктами из папье-маше.
— Темно хоть глаз коли! Кто здесь? — спросил актер, шустро определив на ощупь, что перед ним молодое пышненькое существо женского пола.
— Я, Андреа, — пискнула девушка, поворачиваясь к нему.
— Ишь ты, а у тебя аппетитные окорочка, цыпа моя! Одеть тебя в трико да выпустить к публике — в клочья порвешь галерку, в клочья, а пингвины из оркестровой ямы будут тебе бисировать, не дожидаясь сигнала клакеров! — Говоря это, Эдмон Леглантье продолжил тактильные опыты, отчего Андреа попятилась, еще попятилась и в конце концов прижалась спиной к стене. — Да ладно, не ломайся, красотуля моя, партер я обследовал, дай-ка заглянуть на балкон… Опа! Негусто, зато вроде ничего не подложено, а? Нет, все-таки недурственно, весьма недурственно… — бормотал он, лапая девицу.
Звонко прозвучала оплеуха, Андреа расплакалась, а Эдмон Леглантье потер щеку.
— Однако, потенциал есть, цыпа моя! Если перестанешь реветь по каждому поводу — точно порвешь галерку!
«Надо бы занять ее в античной комедии — в полупрозрачной накидке и пеплуме она будет хороша, — мысленно продолжил он, — только выбрать роль, где поменьше текста, — малышка у нас талантом не блещет. А вот какую-нибудь сладострастную пантомиму, да под дудку Пана, очень даже сбацает…»
— А знаешь, ты могла бы сыграть Валькирию, — добавил Эдмон вслух.
— Кто такая Валькирия? — всхлипнула Андреа.
— Этакая амазонка с голубиными крылышками на затылке. Еще она дочь бога Вотана, если тебе это о чем-то говорит.
— Путь свободен! — громогласно известил помреж.
— Подбери сопли, глупышка, я удаляюсь, но вернусь, — шепнул Эдмон Леглантье девушке.
На подмостках, перед задником, изображавшим фасад гостиницы с вывеской «Под коронованным сердцем, пронзенным стрелой», стояла открытая королевская карета, которой перекрыли путь телега с бочками и воз сена. Пока комедианты натягивали парики, Эдмон Леглантье с удовлетворением думал о том, что больше ему не придется дергать дьявола за хвост, ибо афера с акциями «Амбрекса» удалась. Он поправил свое финансовое положение, но не спешил объявлять об этом миру — иначе на него враз набросится толпа голодранцев, жадных до чужих денежек, и в первых рядах будет его любовница, эта Аделаида Пайе, которой он уже пресытился. «Заменю-ка я ее мясистенькой Андреа…»
— Выглядишь как пугало огородное, — сообщил Эдмон Леглантье актеру, представлявшему герцога д’Эпернона. — Ну-ка сделай умное лицо и прочитай мне громким голосом эту писульку от графа де Суассона.
— Вам пишет сам граф де Суассон?! — поразился тот.
— Не мне, дурень, а Генриху Четвертому! Его величество забыл дома очки, потому и просит тебя прочитать ему чертово послание, понял?
— А прочитать должен обязательно Эпернон? — с надеждой спросил Равальяк.
— Захлопни пасть, бездарь, и учи свою роль! На сей раз ты должен наброситься на меня с криком «Как в стог сена!» — не вздумай переврать слова!
Генрих IV и герцог д’Эпернон сели в карету. Равальяк, притаившись за бочкой, принялся нервно грызть ногти — он все никак не мог запомнить свою единственную реплику. Герцог д’Эпернон начал читать:
— «Ваше величество, с превеликим опозданием поспешаю ответить на высочайшую эпистолу. Разнеслись слухи, что враги королевства подстерегают вас повсеместно, и посему вы подвергаетесь престрашной опасности, появляясь среди своих подданных, ибо оные…»
Эдмон Леглантье вырвал бумажку у него из рук:
— Что за белиберда! «С опозданием поспешаю»! Одни бездари вокруг! Чертов Филибер Дюмон… — Бумажка выскользнула у него из пальцев, Эдмон наклонился за ней, и в этот миг на колесо кареты прыгнул Равальяк с воплем:
— Как в бок сена! — Он нанес два удара кинжалом, угодив в герцога д’Эпернона, а тот повалился на сиденье, вереща:
— Караул! Этот болван мне пузо продырявил! Ой, как больно-то!
Эдмон Леглантье навис над герцогом, готовый задать притворщику взбучку, но с ужасом увидел на боку комедианта расплывающееся алое пятно. И перевел недоверчивый взгляд на Равальяка:
— Ты что, спятил?
А Равальяк, отвесив челюсть, смотрел на лезвие кинжала, покрытое каплями крови. Рыжий парик сбился, явив взорам плешивый череп.
— Я не нарочно… — всхлипнул он.
— Дубина! Еще немного — и ты бы проткнул меня! — заорал Эдмон Леглантье.
— Он меня убил! — простонала жертва.
— Тут колпачок должен быть на острие, и нет его, — растерянно промямлил Равальяк, — это реквизитор виноват, это…
— Что вы языками болтаете? Бегите за доктором! — крикнула Мария Медичи.
Помреж со всех ног бросился выполнять приказание. Эдмон Леглантье между тем осторожно расстегнул пурпуэн
[303] страдальца — на вид рана была не смертельная.
— Ну-ну, старина, жить будешь, поболит и пройдет, — заверил он герцога д’Эпернона, сорвал с себя колет, рубашку и, скомкав ее, приложил к царапине.
Выпрямившись, Эдмон поймал восхищенный взгляд Андреа — девушка вовсю таращилась на его обнаженный торс. Подкрутив усы, директор театра «Эшикье» расправил плечи и возопил:
— Мои аплодисменты, дамы и господа! Все сыграли превосходно, неподражаемо, божественно! Диалоги восхитительны, умны и изящны! Вы участвуете в создании шедевра! Браво! Бис! Остолопы бездарные, мало того что вы угробили мою мизансцену, так еще убить меня задумали? Ну ничего, я вам устрою! Во-первых, — он одарил плотоядной ухмылкой Равальяка, который невольно втянул голову в плечи, — немедленно уволить этого ротозея реквизитора, гоните его в шею. Во-вторых, разберитесь с врачом — Эпернон должен быть на ногах через час. Всё! Я устал, мне нужен отдых. — И Эдмон Леглантье с достоинством покинул зал, выпятив голую грудь.
— Тоже мне Мельпомена в штанах, отец трагедии, — фыркнула Мария Медичи. — Устроит он нам! Сейчас нарочно будет время тянуть — жди его тут.
— И верно, чего раскричался? — подал слабый голос герцог д’Эпернон. — Убили-то меня, а не его!
— Вчера у меня был совсем другой кинжал, покороче и потолще, славный такой кинжальчик, зачем его заменили? — пробормотал Равальяк. И не услышал ответа.
Эдмон Леглантье развалился в кресле, пытаясь дышать ровно. Труппа подобралась безобразная, к концу месяца спектакль точно не обкатать… Но постепенно он успокоился. К чему суетиться? Лучше расслабиться, подумать о прекрасном — воображение тотчас нарисовало обнаженную Андреа, покорно выполняющую все его прихоти в очаровательном домике, который он снимет для нее где-нибудь в Пасси или в Гренель… Эти грезы разлетелись вдребезги под звук оглушительных ударов в дверь.
— Открывайте, мерзавец! Слышите, вы, негодяй?! Я вызываю вас на дуэль!
В дверь ломились так яростно, что она трещала и ходуном ходила в петлях.
Первым порывом Эдмона Леглантье было схватиться за дверную ручку, которую остервенело дергали с другой стороны; заодно он мысленно поздравил себя с тем, что догадался запереть замок. Однако тут до актера дошло, что скандал на весь театр подорвет его авторитет и надо срочно это прекратить. Как был, с голым торсом, Эдмон подскочил к двери, повернул ключ и рванул на себя створку так резко, что долговязый тощий господин, лысый как коленка, ввалился внутрь и промчался аж до середины комнаты.
— Герцог де Фриуль! Ваше сиятельство! Польщен оказанной мне честью…
— Вы смеете говорить о чести?! — взревел долговязый, восстановив равновесие и развернувшись к Эдмону. — Вот моя визитка, секунданты наготове, выбор оружия за вами!
Эдмон Леглантье гулко сглотнул:
— Что с вами, дорогой друг? Мне чудится враждебность в вашем тоне. Неужто я чем-то вас обидел? Но я не понимаю…
— Ах, вы не понимаете?! Презренный шакал, обирающий достойных людей! — Потрясая пачкой акций «Амбрекса», герцог де Фриуль наступал на актера, и тот пятился до тех пор, пока не уперся в спинку кресла.
— Ваше сиятельство, прошу вас соблюдать приличия! Никакой я не презренный, вовсе я не шакал и требую…
— Вы имеете наглость что-то требовать?! Вашими стараниями я лишился целого состояния — в обмен на что? На пачку бумаги, годной лишь для отхожего места! Это не акции, это фикции! Ноль без палки, дырка от бублика, уразумели? Да я вас наизнанку выверну, но получу назад свои деньги! — прошипел герцог; его глаза от бешенства превратились в две узкие щелки.
— Что?! Фикции?! О боже, какой позор! Ах, я задыхаюсь… — И Эдмон Леглантье, сделав два неверных шага, упал в обморок в точности напротив стула. При этом он позаботился не промахнуться мимо сиденья.
Герцог в некотором замешательстве потряс его за плечи:
— Я разгадал ваш маневр — вы собираетесь меня разжалобить и будете настаивать на том, что ничего не знали, мошенник.
— О, клянусь вам, я вложил в эти бумаги все свои средства, — простонал Эдмон, открывая глаза. — У меня больше ничего, ничего нет… Мне остается лишь одно — наложить на себя руки! — с дрожью в голосе вскричал он. — Во… воды!.. Нет, не может быть, это какая-то чудовищная ошибка!
— Я был бы вне себя от счастья, кабы это оказалось ошибкой, — проворчал герцог де Фриуль, протягивая ему стакан. — Но с фактами не поспоришь.
— Стало быть, акции поддельные?
— На вид они безупречны. Загвоздка в том, что никакого вещества, призванного произвести революцию в ювелирном деле, не существует.
— Как это?..
— Вот портсигар, который вы предъявили мне в качестве образца. По-вашему, он сделан из некой искусственной субстанции, имитирующей балтийский янтарь? Ничего подобного! Он из настоящего янтаря! У меня возникли сомнения, и я попытался проткнуть портсигар раскаленной иглой. И что же? Острие иглы не проникло внутрь — оно лишь оставило ничтожную царапину на поверхности, что неопровержимо доказывает естественное происхождение вещества. Это самая натуральная застывшая древесная смола, черт побери! Вы одурачили меня и благородных людей из моего окружения и будете отвечать в суде!
— Вы забываете, что меня самого обвели вокруг пальца!
— Но это
вы продавали бумажки, вы выступали гарантом изобретателя!
— Я ему шею сверну!
Герцог де Фриуль расхохотался:
— Ваш изобретатель в данный момент уже раскуривает гаванскую сигару где-нибудь на Лазурном берегу и хихикает при мысли о том, как ловко он нас надул.
— А если… — робко начал Эдмон. — Если не было никакого обмана? Может быть, это вещество имеет все свойства янтаря, потому и…
— Ну как мне еще сказать, чтоб до вас наконец дошло?! — взвился герцог де Фриуль и, багровый от гнева, сопровождая каждое слово ударом по клавиатуре пишущей машинки на столе, проорал: — Нет! Никакого! Амбрекса! Есть! Янтарь! — Взяв себя в руки, он холодно добавил: — Я пытался разыскать этого нотариуса, мэтра Пиара, ходил в коллегию, мне ответили: в списках не значится. Что до печатника, суд его, вероятно, оправдает, но вас…
— О горе мне! Я разорен!
— Вздор! У вас еще есть этот театр.
— Он в закладе и ремонтируется в кредит! Я по уши в долгах! О нет, это невыносимо! — И тут Эдмон Леглантье сделал то, чего ни герцог де Фриуль, ни сам он не ожидали. Эдмон Леглантье разрыдался. Он и не думал скрывать стыд — слезы катились по щекам, актер всхлипывал, выдувал носом пузыри, подвывал и всем своим видом являл воплощенное отчаяние. Растерявшийся герцог де Фриуль неуверенно похлопал его по спине — не помогло. Причитания стали громче, лицо быстро опухло и сделалось похоже на морду земноводного.
Побежденный герцог поспешил ретироваться, отказавшись от мысли о дуэли, — он просто не мог добить раздавленного обстоятельствами бедолагу.
Когда дверь за герцогом тихо закрылась, Эдмон Леглантье выждал еще несколько минут, а затем вытер лицо фланелевым жилетом и в него же высморкался.
— Тьма тьмущая, чтоб меня расплющило! Какой спектакль я разыграл, а публики не было, один этот сиятельный олух! Вот жалость, на сцене я бы произвел фурор. Конец первого акта. Начало второго: моя двоюродная бабуля Августина только что отдала Богу душу в Конде-сюр-Нуаро, и с минуты на минуту меня известят, что я стал единственным наследником ее несметного состояния. — Эдмон подошел к зеркалу и, положив руку на сердце, продекламировал: — Сегодня — драма, завтра — комедия! Это очень по-французски, — заключил он и принялся наносить на лицо кольдкрем.
Розоватый свет заката четко обрисовывал контуры каминных труб на макушках домов. Казимир Мион, весь день проторчавший в тесном закутке консьержа, стоял на дне двора-колодца и рассматривал, запрокинув голову, прямоугольник неба, стиснутый фасадами пятиэтажек. Теперь, когда немного распогодилось, можно было выкурить трубочку на свежем воздухе и предаться метеорологическим размышлениям. «С утра ливмя поливало, только что прояснело, если не считать этих легких облачков. Стало быть, завтра будет вёдро… А облачка-то что твоя рисовая каша… или нет, тапиока». Желудок откликнулся на эту ассоциацию урчанием — пришла пора поужинать. Наполнив кувшин водой из колонки во дворе, Казимир Мион вернулся в свою каморку у служебного входа в театр «Эшикье».
Когда вода, булькая, полилась в кастрюлю, черный кот, свернувшийся клубком на подоконнике единственного окна, потянулся и мяукнул.
— Потерпи, Мока, у меня же не десять рук. Пока вода закипает, надо почистить овощи… Ладно, вот тебе закуска. — Казимир неспешно порезал кубиками на газете говяжье легкое и, пока Мока подкреплялся, уселся за стол и начал чистить картошку и морковь, которые собирался заправить свиным салом.
В коридоре, ведущем к оркестровой яме, стучали молотки — театр прихорашивался, готовясь к открытию сезона. Из закутка консьержа обитая дверь вела в холл и к кассам — Казимир Мион забаррикадировал ее креслом, чтобы оградить себя от вторжений актеров и реквизиторов. У этой публики здравого смысла ни на грош, а уж про совесть и поминать нечего — то за сигаретами им сбегай, то любовную писульку отнеси. А то, бывает, посреди ночи ломятся — впусти их, дескать, платочек на сцене обронили…
«У меня тут, конечно, не хоромы, но это таки моя территория, здесь мои пенаты, как сказали бы древние римляне, так что брысь отсюда, шантрапа», — любил говаривать консьерж.
Потому, когда в дверь заколотили из холла, он лишь испустил тяжелый вздох и возвел очи гор
е. Но в следующую секунду женский крик заставил его выронить нож:
— Мсье Мион! На помощь, мсье Мион! В театре пахнет газом!
Кресло незамедлительно было отодвинуто, и в каморку вбежала актриса, исполнявшая в новом спектакле роль Марии Медичи.
— Спокойствие, мамзель Эжени, где вы учуяли газ?
— На лестнице в фойе. Меня предупредил столяр, который шел от мсье Леглантье.
— Значит, мсье Леглантье в курсе?
— Не знаю, он заперся в кабинете. Должен был спуститься на примерку костюмов, мы его уже час ждем. Меня послали к нему, и по дороге я встретила столяра, который отправил меня обратно из-за того что наверху пахнет газом.
Казимир Мион подбежал к ступеням и удостоверился, что дышать действительно нечем.
— Так, главное, чтобы никто не зажег спичку, пока не проветрится. Я открою окна.
Прижав к носу платок, Казимир преодолел один лестничный пролет, на тускло освещенной площадке распахнул окно и заодно проверил состояние газовых труб — оно не вызвало никаких подозрений. У него за спиной непрерывно кашляла Мария Медичи.
— Утечка пролетом выше, у мсье Леглантье. Возможно, он вышел и забыл перекрыть кран, — предположил консьерж.
Они поднялись на этаж, и Казимир Мион растянулся под дверью гримерки Эдмона Леглантье. Из щели в нос ударила такая вонь, что он чуть не потерял сознание. Схватившись за дверную ручку, с трудом поднялся.
— Мсье Леглантье, вы здесь?!
Ответа не последовало.
— Где дежурный пожарный? — обернулся консьерж к Эжени.
— Альфред Трюшон? На своем посту в зрительном зале.
— Быстро бегите за ним, и пусть кто-нибудь протелефонирует в полицию. Скорее! С минуты на минуту все взлетит на воздух!
Путаясь в юбках, Мария Медичи кинулась на нижний этаж, а когда вернулась с пожарным, застала у гримерки целую толпу аркебузиров, дворян в коротких панталонах и придворных дам в фижмах. Все они наседали на консьержа, забрасывая его советами.
Пожарный просунул ножницы между косяком и створкой, с усилием нажал, выломав замок. Толкнул дверь, но она не открылась — что-то мешало изнутри. Когда все вместе навалились на створку и та наконец поддалась, выяснилось, что препятствием служило тело директора театра «Эшикье». Он лежал на полу, раскинув руки и ноги, будто пьяный.
Андреа икнула от ужаса. Первые ряды ряженой толпы попятились — из комнаты выплеснулась концентрированная волна газа. Преодолевая головокружение, Казимир Мион с трудом открыл оконную раму, пожарный опустился на колени рядом с Эдмоном Леглантье.
— Он не дышит… Врача! — крикнул Альфред Трюшон в любопытные лица.
Консьерж схватился за спинку стула — головокружение усилилось. В глазах на миг помутилось, а когда зрение вернулось, он увидел лист бумаги, заправленный в каретку печатной машинки. И его первейшим долгом было прочитать, что там написано.
— Он… он… умер? — промямлила Андреа, икая и цепляясь за плечо Марии Медичи, которая молча смотрела на труп.
На сей раз Генриха IV прикончил не Равальяк. Его прикончила городская система газоснабжения.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Вторник 18 июля
Виктор пребывал в отвратительном настроении. Он злился на Таша и Жозефа, которые вероломно подселили к нему котенка, да еще блохастого. В два часа ночи Кошка разбудила его пронзительным мяуканьем. Этого ей показалось мало, и она яростно заскреблась в дверь.
— Впусти ее, — сонно посоветовала Таша.
— А можно, я ее запру в мастерской?
— Чтобы она разодрала в клочья мои картины?
Пришлось встать и впустить.
Кошка немедленно устроилась между ними на подушках, выразив свой восторг громким тарахтением. В итоге Виктору удалось заснуть только к рассвету — до этого он ворочался с боку на бок и тщетно закрывал голову подушкой, недоумевая, как такая маленькая тварь может производить столько шума.
Теперь он, невыспавшийся, с покрасневшими глазами, гнал велосипед по улице Месье-ле-Пренс. Ни вчера, ни позавчера ничего любопытного здесь обнаружить не удалось. Но на третий раз ему повезло. Из дома с изразцами, когда он проезжал мимо, выскочила простоволосая женщина и накинулась на мальчугана, который самозабвенно копался в куче конского навоза посреди мостовой. Выслушав крики, звук подзатыльников и опять крики, Виктор получил возможность задать дежурный вопрос:
— Простите, что беспокою, вы случайно не слышали взрыва перед тем, как загорелась мастерская месье Андрези, переплетчика?
Женщина замерла, вцепившись в мальчугана, который яростно отбивался.
— Догадались, значит? Ну да, так громыхнуло, что я с перепугу кастрюлю молока из рук выпустила — хорошо хоть, оно остыть успело. Бедный мсье Андрези, такой милый, услужливый мужчина, всегда соглашался присмотреть за моим сорванцом. — Она вдруг осознала, какой опасности избежал ее отпрыск, и прижала его к себе.
— У переплетчика было много друзей?
— Что вы, он был не очень-то общительный. Но в последнее время к нему часто заглядывал такой толстенький улыбчивый господин. Они вместе обедали в кафе «У Фюльбера», там, на углу улицы.
В этот момент мальчуган извернулся, и ему удалось вырваться. Мамаша бросилась вдогонку, поймала беглеца и, забыв о своем недавнем порыве нежности, посулила ему хорошую трепку, если не прекратит безобразничать.
Перед входом в кафе «У Фюльбера» на доске, водруженной на козлы, были расставлены стаканы и кувшины с розоватой жидкостью. Грифельная табличка извещала:
Десять сантимов за порцию гренадина!
Сонная девочка-подросток, присматривавшая вполглаза за хозяйством, увидев Виктора, вяло предложила:
— Это, не угодно освежиться? Колотый лед есть.
— Эй, Мари-Луиза, такой продукт надо от души втюхивать, а то все думают, ты снотворное продаешь! — раздался молодой голос из зала кафе. Другие посетители засмеялись.
Виктор подошел к стойке, у которой рядком расположились завсегдатаи.
— Твоя егоза, может, и небольшого ума деваха, зато смазливая, без мужа не останется, — подмигнул хозяину заведения парень в тужурке дорожной службы.
— Ты, это, Арсен, не зарывайся, не то мой сапог познакомится с твоим задом, — буркнул бочкообразный хозяин и поставил перед одним из посетителей кружку пива, сердито смахнув с нее пену. — А вы чего изволите? — неприветливо обратился он к Виктору.
— Вермут с ликером из черной смородины, пожалуйста, — сказал Виктор. — Я разыскиваю знакомых Пьера Андрези. Мне сказали, он иногда обедал у вас в компании с другом.
— Верно вам сказали. Каждое первое воскресенье месяца заказывали столик, вон тот, у витрины. Они были знакомы уйму времени, оба сражались на той грязной войне…
[304] Да, такая трагедия…
Посетитель, читавший газету неподалеку, поднял голову, прислушиваясь к разговору.
— А имя этого друга вы не знаете? — спросил Виктор.
— Мсье Андрези называл его Гюставом. Он живет где-то в районе Шапель, на улице… э-э… Вам официанта моего спросить надо, только он в отпуске до двадцать второго, свадьба у него. В прошлом году он доставлял мсье Гюставу ящик красного вина в подарок от мсье Пьера. Отличное вино, знаете ли, прямо с виноградника, без дураков! У меня брательник — виноградарь в Жиронде, от него получаю. Да вот, попробуйте, всяко получше вашего вермута будет! — Хозяин до краев наполнил бокал рубиновой жидкостью.
Заслышав мелодичное бульканье, завсегдатаи навострили уши. Читатель даже сложил газету, чтобы понаблюдать за дегустацией — результатом невиданной щедрости месье Фюльбера.
Виктор сделал глоток и поцокал языком.
— Терпкое, с фруктовым ароматом, насыщенный букет… Мои комплименты вашему брату.
— Представьте себе, он с женой гостил в городе две недели назад, я послал к ним Мари-Луизу отнести касуле,
[305] а она, раззява, упала по дороге, и горшок разбился…
— Во-во, его дочурка еще и под ноги не смотрит.
— Арсен! Последнее предупреждение: заткнись или я тебя выставлю вон! Поговорить с человеком спокойно не дадут… О чем бишь я?.. А, да. Когда люди часто сюда заходят, к ним привыкаешь, знаете ли. И если с кем случается такое вот, как с мсье Андрези, сразу понимаешь, что жизнь-то уже под уклон свернула, самому, это, недолго небо коптить.
— Ну ты философ, Фюльбер, — одобрительно покивал человек с газетой.
— Да уж, станешь тут… Они оба были холостяками. А у холостяков какие радости? Пропустить стаканчик с другом — и все дела. Да что это я о мсье Гюставе в прошедшем-то времени? Он ведь жив-живехонек.
— Вы его видели после пожара? — спросил Виктор.
— О, он был потрясен. Пришел сюда узнать подробности и с горя употребил три стопаря бормотухи, — покачал головой Фюльбер, вытирая стойку.
Виктор поблагодарил за рассказ и вышел из кафе. За ним последовал человек, читавший газету:
— Милостивый государь, вы, часом, не из клиентов месье Андрези будете?
— Да, я книготорговец, регулярно отдавал ему в переплет манускрипты.
— Я так и думал! У вас еще есть компаньон — если не ошибаюсь, китаец?
— Японец.
— Да-да, а вашего управляющего зовут Жозеф Пиньо, он печатал в «Пасс-парту» роман с продолжением. Я залпом прочитал все выпуски — очень жизненно, очень. И еще я наслышан о ваших подвигах — ну, об участии в расследовании того криминального дела. Столько шума было! Вы тогда даже чуть не погибли…
— Вы прекрасно осведомлены.
— Мы с месье Андрези внимательно следили за расследованием. Так волнительно — встретить человека, который раскрыл преступление под носом у полиции! Вообще-то я пошел за вами, потому что мне нужен совет. У месье Андрези не было семьи, и теперь я не знаю, что делать с его часами. Я часовщик — починка, продажа. Месье Андрези просил привести в порядок его карманные часы, они зимой остановились, и всё — ни туда ни сюда, а он ими чрезвычайно дорожил. Так что же мне с ними делать? Оставить у себя или отдать фликам, как думаете? — Он посмотрел на небо. — Глядите-ка, опять дождь собирается, давайте зайдем ко мне в лавку, это в двух шагах.
Плохо освещенный магазинчик на излете улицы был населен причудливыми тварями, которые, разбежавшись по стенам, стрекотали, будто глодали дерево, каждая в своем ритме. В полумраке Виктор различал бесчисленные маятники, круглые циферблаты, кукушкины домики, напольные часы — ими было занято все пространство. От сарабанды, исполняемой множеством стрелок, закружилась голова.
— Слышите, какой оркестр? — тихо сказал часовщик. — Время неустанно шепчет мне в уши, что секунды бегут, жизнь убывает. Как говаривал папаша Ламартин: «О время, не лети! Куда, куда стремится часов твоих побег?».
[306] Так, куда я их задевал?.. А, вот они. На крышке есть надпись, подойдите к окну, там посветлее.
Виктор поднес луковку часов к свету и прочитал полустертую гравировку:
САКРОВИР
ДА ЗДРАВСТВУЕТ К…
— «Да здравствует» — что?
— «Корпус», «казарма» — не знаю, — пожал плечами часовщик. — Так как же? Если я отнесу их в комиссариат, придется заполнить уйму бланков — подумать страшно.
— Давайте, я оставлю вам расписку и сам улажу это дело. Уверен, месье Андрези был бы доволен, узнав, что его часы попали к тому, кого он считал своим другом, — к месье Мори.
— Ах, милостивый государь, вы меня очень выручили! Я счастлив, что все будет именно так.
Прежде чем оседлать велосипед, который дожидался его, пристегнутый цепочкой к фонарному столбу, Виктор записал в блокноте: «Приятель переплетчика: имя Гюстав, живет в районе Шапель. Зайти 22-го к Фюльберу, поговорить с гарсоном — точный адрес Гюстава».
Он поехал в сторону Люксембургского сада. Припекало так, что рубашка вымокла от пота. Вдруг вспомнились оплавленные карманные часы, виденные им в кабинете инспектора Лекашера среди вещей из переплетной мастерской. На фоне стилизованной маргаритки на крышке была выгравирована дарственная надпись, не оставляющая сомнений в принадлежности тех часов:
П… от его …ы
«„П“ — несомненно первая буква имени „Пьер“. А вот „…ы“? Кажется, Пьер Андрези не был женат…»
Озадаченный Виктор свернул на улицу Медичи, идущую под уклон, и, не крутя педали, насладился скоростным спуском и бьющим в лицо ветром, который его немного освежил. За садовой оградой на скамейках спали клошары.
«Двое часов? В общем-то, ничего странного — пока часовщик чинил первые, переплетчик носил с собой вторые».
Он притормозил и вырулил на улицу Суфло. На тротуаре валялась собака, чуть живая от жары. Виктор, примерно в таком же состоянии, ухватился за вертикальный поручень на краю платформы омнибуса Курсель — Пантеон. Отсюда было видно тройку тащивших омнибус лошадей — взмыленные, в хлопьях белой пены, они тянули морды вперед, словно это могло приблизить их к концу крестного пути. Подковы скользили по мокрой, только что политой дворниками мостовой. Виктор устыдился — он ведь стал для бедных животных лишним грузом — и отпустил поручень. Обогнав першеронов, которые, выбиваясь из сил, совершали последний рывок в надежде освободиться поскорее от хомутов и получить воду и овес, он утешил себя мыслью, что им стало немного легче.
«Что такое „Сакровир“? Имя? Название?»
Виктор ударил по тормозам точно перед книжной лавкой «Эльзевир», и велосипед встал как вкопанный, чуть не опрокинув импозантную даму, вооруженную гигантским зонтом от солнца. Зонт был в цветочек, а дама нацелила на Виктора лорнет, как дуло двустволки. Она уже собиралась высказаться об адской машине и сумасшедшем ездоке, но тут из лавки выскочил Жозеф:
— Я отведу вашего мустанга в стойло, патрон! О, день добрый, госпожа графиня. Погоды нынче стоят — спасайся кто может, вы не находите? А лучше сиди дома и не высовывайся — такие вот погоды. Сейчас ливанет — мало не покажется.
Графиня де Салиньяк, поджав губы, проворно отстранила его с дороги и на всех парусах устремилась в лавку, где Кэндзи разговаривал по телефону.
— Что нового? — шепнул Жозеф Виктору.
— Идите в хранилище и найдите мне в словарях, что такое или кто такой Сакровир.
— А как же доставки книг клиентам? Месье Мори разгневаются… Сакро… что?
— Сакровир. Название или имя, вероятно латинское: «vir» означает «муж», как в слове «triumvir».
— Ага! A «os sacrum» — это по-латыни «крестец». Я понял, патрон, речь идет о мужчине, страдающем люмбаго! И зачем нам эта бледная немочь, скрюченная ревматизмом? Или нет, знаете, «сакро» — это от «сокровище»…
— К черту ваши гипотезы, Жозеф! Это не шарада. Сначала проверьте в словарях, потом будете истолковывать, — прошипел Виктор и, изобразив приветливую улыбку, направился к графине де Салиньяк, которая нервно обмахивалась веером, стоически ожидая, когда Кэндзи соизволит уделить ей время.
— Не желаете ли присесть,
дорогая мадам? — любезно осведомился Виктор.
— Я пока еще способна держаться на ногах и не намерена садиться — если, разумеется, меня выслушают до наступления темноты.
— Могу я вам помочь?
— Нет. Мне необходимо побеседовать с вашим компаньоном. — Графиня отвернулась, приняв позу, каковую она считала исполненной достоинства, и опять изо всех сил замахала веером.
Виктор отступил к своему столу, но его взгляд то и дело возвращался к томику ин-кварто в лимонно-желтом сафьяне, прижатому к сердцу матроны. Эта книга была ему знакома…
Жозеф наткнулся в темноте на препятствие и с шипением потер коленку. Ругаясь сквозь зубы, он в конце концов нашарил на стене выключатель. С тех пор как месье Легри переехал на улицу Фонтен, сюда, в это темное полуподвальное помещение, служившее ему некогда для проявки фотографий, провели электричество и обустроили здесь читальный зал хранилища. На полках теснились библиографические справочники, каталоги, словари и энциклопедии, в центре стоял стол.
— Ну и кирпичи, — бормотал Жозеф, перетаскивая на него книги. — Вот сейчас надорвусь, скрючит меня, и тогда я с полным правом смогу называться Сакровиром.
Он рассеянно пролистал несколько томов. Какая жалость — его вчерашнее рандеву с хорошенькой приемщицей объявлений из «Фигаро» закончилось фиаско!
Вчера, терзаемый угрызениями совести из-за того что отверг авансы девушки в шляпке с атласными крылышками, Жозеф расторопно доставил заказы клиентам и, выиграв время, решил не возвращаться в лавку. Подкараулив приемщицу у выхода из редакции, он галантно препроводил ее в «Неаполитанское кафе» выпить стаканчик и побеседовать. Еще он втайне надеялся встретить там Жоржа Куртелина и Катулла Мендеса
[307] — хоть посмотреть на них одним глазком.
Раскрасневшись от мадеры, девушка из «Фигаро» велела звать ее Франсиной, но по лицу Жозефа поняла, что он ждет от нее других откровений.
— Да, по поводу вашего извещения о похоронах… Я тут напряглась и вспомнила: его принес буржуа средних лет, такой полноватый.
— Полноватый — это как? Толстый, что ли?
— Ну, не то чтобы толстый. Я бы сказала — упитанный. И он был косой на один глаз. Нет, на оба. — С этими словами Франсина легонько наступила под столом Жозефу на ногу; лицо ее при том осталось невозмутимым. Она допила вино, облизнула губы и продолжила: — А еще у него был шрам на подбородке. И он говорил с эльзасским акцентом.
Жозеф благоразумно задвинул ноги под стул. Ворох подробностей вкупе с атакой на его штиблету возбудили подозрения: девица, похоже, плетет небылицы. Поэтому, к великому разочарованию Франсины, молодой человек внезапно вспомнил, что у него запланирован визит вежливости к дальней родственнице, которую на днях разбил паралич. Заплатив по счету неприлично большую, на его взгляд, сумму, Жозеф стремительно сбежал из кафе.
«Упитанный косоглазый эльзасец со шрамом на подбородке? Она считает меня идиотом! Решительно, все женщины подобны сфинксам: сегодня „да“, завтра „нет“, за аперитивом ногу отдавят, а на десерт вообще жди беды… Жаль, конечно, — малышка Франсина на мордочку очень даже ничего…»
В этот момент стоявшее перед его мысленным взором лицо девушки из «Фигаро» стало приобретать черты Айрис.
— Тревога! Отставить! — скомандовал сам себе Жозеф и, водя пальцем по строчкам «Галльской истории», углубился в чтение. — Черт побери! — воскликнул он через некоторое время. — Сакровир, ты попался!
Графиня де Салиньяк молча буравила Кэндзи неодобрительным взглядом. Она уже устала размахивать веером — и теперь ее щеки сделались похожи на два красных сладких перца. Не было сомнений, что терпение вельможной посетительницы вот-вот лопнет. Наконец японец повесил телефонные рожк
и на рычаг. Пребывание на севере не остудило пылкую натуру Эдокси Аллар, в бытность танцовщицей канкана в «Мулен-Руж» известной также как Фифи Ба-Рен. Видимо, русский князёк ей наскучил, и она вернулась к родным пенатам с твердым намерением возобновить старые знакомства. И судя по всему, Кэндзи Мори был первым, кому она позвонила.
Кэндзи согнал с лица мечтательное выражение, придававшее ему сходство с игривым Крысодавом,
[308] и куртуазно осведомился у графини, чем обязан приятностью визита.
— Приятностью? Ах, месье Мори, я пришла сюда не ради удовольствия, меня привела постыднейшая необходимость. Не соблаговолите ли вы вернуть мне деньги за эту книгу Монтеня? Ее приобрел у вас дядюшка месье де Пон-Жубера.
Пока японец с непроницаемым видом разглядывал том в сафьяновом переплете, Виктор уже без колебаний мог сказать, что речь идет об «Эссе Мишеля, сеньора де Монтеня», пятом издании, датированном 1588 годом, — этот раритет он лично отхватил на аукционе два года назад.
— Тысяча девятьсот франков, — произнес Кэндзи.
Губы графини сложились в негодующее «О», на щеках снова вспыхнули пятна.
— Как! — вскричала она. — Вы шутите? Герцог де Фриуль заплатил за книгу шесть тысяч франков! Это был подарок на свадьбу моей племяннице Валентине!
Это женское имя неприятно отрезонировало в ушах Жозефа, который как раз вскарабкался по лестнице из полуподвала.
— Ошибаетесь, дорогая мадам, герцогу де Фриулю Монтень обошелся всего в пять тысяч двести франков. И вам еще повезло — обычно мы перекупаем книги за треть цены. Я сделал исключение только ради вас.
Тут уж губы графини скривились в горькой усмешке:
— Месье Мори, но я ваша постоянная покупательница… Мне кажется, такие клиенты, как я, достойны особого отношения…
— Увы, госпожа графиня, книжный рынок столь же нестабилен, как рынок антиквариата: цены то растут, то падают. А что же, месье де Пон-Жубер пребывает в стесненных обстоятельствах?
Графиня пошмыгала носом и засунула веер в ридикюль.
— Его постигли страшные неудачи, состояние трагически уменьшилось, теперь ему даже приходится во многом себя ограничивать. И все из-за герцога де Фриуля — он совсем сбил с толку наивного Пон-Жубера. В какое ужасное время мы живем! Родственники больше не дают поводов гордиться ими!..
Притаившись за стопками книг у выхода из подсобки, Жозеф ловил каждое слово и внутренне ликовал: «Есть на свете справедливость, есть!»
— …И вот какие унижения я вынуждена терпеть ради сохранения репутации семьи, месье Мори. Этот Фриуль не только разбазаривает собственное состояние за игрой в баккара, он еще додумался накупить фальшивых акций и подбил на ту же глупость Пон-Жубера! Подумать только, и это родной дядя мужа моей племянницы Валентины! А знаете, что он имел наглость подарить близнецам на их первый день рождения? Янтарные портсигары, один Гектору, второй Ахиллу! Старый скряга! О, это был настоящий скандал!
Виктор отвернулся, давясь от смеха. На невозмутимом лице Кэндзи, напротив, не отражалось ничего, кроме внимания и участия.
«Боже, какой актер! — с завистью подумал Виктор, кусая губы. — Как ему удается сохранять серьезность?»
Графиня де Салиньяк порылась в ридикюле, извлекла оттуда скомканную бумажку и сунула ее Кэндзи под нос:
— Извольте, месье Мори, ознакомиться с доказательством!
Виктор, подавив приступ хохота, поспешил на помощь компаньону.
— Поведайте нам эту печальную историю в подробностях, — сочувственно предложил он графине, пододвигая ей стул.
Мадам обрушилась на сиденье и дрожащим голосом рассказала, как герцога де Фриуля облапошил какой-то фигляр, актеришка, именующий себя директором театра «Эшикье», некто Эдмон Леглантье.
— Герцог возжелал снять со счета часть денег по акциям, дабы обеспечить себе несколько партий в баккара, явился в «Лионский кредит», и что же ему там сказали? «Никакого общества „Амбрекс“ не существует, это фальшивки!» Естественно, он без промедления связался с полковником де Реовилем, который тоже стал жертвой означенного Леглантье. Полковник бросился в свой банк — и услышал то же самое! Боже мой, ну кто знает про этот театр «Эшикье»?! — Она, кряхтя, поднялась со стула и вручила акцию Виктору. — Вот, возьмите, повесьте у себя над конторкой! У меня такого добра хватит, чтобы оклеить будуар. Так что же будем делать с Монтенем, месье Мори?
Виктор, машинально сунув акцию в карман сюртука, предпочел удалиться, тем более Жозеф уже несколько минут делал ему отчаянные знаки из подсобки.
— Однако, патрон, наш месье Мори не слишком-то милосерден.
— Кто бы говорил, Жозеф, вы тоже всепрощением не отличаетесь. Что вам удалось выяснить?
— Откопал я вашего Сакровира, сделал выписку, сейчас вам вкратце доложу и помчусь книги доставлять. Короче, это галльский вождь. В начале первого века от Рождества Христова он завоевал Отен,
[309] а затем потерпел поражение от римских легионов, пришедших из Верхней Германии, — резня была жуткая, город предан огню. Потрясающий сюжет для романа! А почему вас интересует этот Сакровир? Хотите написать трактат по галльской истории?
— Нет, это имя связано с Пьером Андрези. Могу я зайти к вам домой сегодня вечером? Введу вас в курс дела.
— О, как раз сегодня вечером матушки не будет дома — у них с мадам Баллю назначена партия в «желтого карлика».
[310] До скорого, патрон!
Виктор вернулся в торговый зал в тот самый момент, когда графиня де Салиньяк его покидала. Перед тем как закрыть за собой дверь, она смерила обоих компаньонов взглядом убийцы.
Кэндзи с благоговением оглаживал переплет Монтеня.
— Сколько? — усмехнулся Виктор.
— Две с половиной тысячи франков. Битва была кровавая. Кстати, я провел расследование по поводу «Сказок попугая». Расспросил Белкинша, книготорговца, выставившего на аукционе Друо лот из нескольких восточных манускриптов, в числе которых был один без титульного листа. Белкинш описал мне того, кто этот манускрипт ему продал: низкорослый, полный, седоватый, старше пятидесяти.
— Что-нибудь еще?
— Я наведался на улицу Ришелье, но пока не смог установить, был ли наш манускрипт среди недавних поступлений в фонд Национальной библиотеки. Однако есть зацепка, и я намерен выяснить все до конца.
— Не сомневаюсь.
— Я должен вас покинуть, Виктор, и возможно, вернусь поздно. Предупредите Айрис.
Оставшись в одиночестве, Виктор задумчиво провел ладонью по лимонно-желтому сафьяну. Раз уж все его бросили в лавке, можно заняться кое-какими важными делами.
Было за полдень. Солнце поумерило пыл, ветер стих, на акварельно-голубом небе — ни облачка. В водосточных желобах, весело чирикая, плескались воробьи. Плетельщик стульев зазывал клиентов оперными руладами. На омытых дождем набережных Сены дремали рыбаки.
Чисто выбритый, благоухающий лавандой Кэндзи обогнул «Театр-Франсе». Ему нравилось срез
ать путь через сад Пале-Рояль — здесь на аллеях прогуливались тени Ретифа де ла Бретона, Андре Шенье, Мюссе, Стендаля, Калиостро. Вот уж кто-кто, а граф сумел бы разгадать загадку и ответить на вопрос, что за манускрипт без титульного листа скрывается в недрах Национальной библиотеки… Люсьен де Рюбампре
[311] нашептывал отринуть иллюзии и жить сегодняшним днем.
Японец замедлил шаг под вязами у фонтана. Листья дрейфовали на поверхности воды, их плавное движение действовало умиротворяюще, на душе стало легко. Что сказала Эдокси по телефону? «Возраст лишь добавляет вам шарма, дорогой друг, седина вам к лицу». Забавно, раньше наедине она всегда обращалась к нему на «ты», а он никак не мог на это отважиться.
Кэндзи вышел к торговым рядам и у лотка торговца гравюрами взглянул на себя в зеркало. Если Эдокси хотела его утешить, то он в этом не нуждался. Когда в смоляной шевелюре появились первые белые волоски, Кэндзи и не подумал о том, что их можно закрасить, — многие женщины считают весьма привлекательными посеребренные сединой виски. Японец улыбнулся своему отражению и поправил большой бант галстука. Целых полгода его нога не ступала на улицу Альжер!
Уже поднимаясь по лестнице, он вдруг представил себе силуэт женщины — не такая молодая и стройная, как Эдокси, иронический взгляд, недовольная морщинка… Кэндзи изгнал из мыслей образ Джины Херсон и позвонил в дверь.
Открыла Эдокси. При виде гостя ее лицо просияло, качнулись длинные ресницы. Хрупкая изящная фигурка в кружевном дезабилье телесного цвета пробудила в нем физическое желание, которое он подавлял чертову уйму времени…
— Мой дорогой микадо, это ты, — тихо проговорила девушка. — Входи же.
Он молча позволил увлечь себя в гостиную, так же, не в силах вымолвить ни слова, сел на софу — спина идеально прямая, ладони сложены на набалдашнике трости. С притворным равнодушием обвел взглядом комнату, чьи стены хранили память об их любовных утехах, и увидел на геридоне толстую книгу в переплете — русское сочинение, название написано непонятной кириллицей.
— Это подарок тебе, — сказала Эдокси, проследив его взгляд. — Я подумала, что такое роскошное издание должно тебя порадовать.
— Что это?
— «Анна Каренина».
— Толстой?! Вот это да!
— Удивлен? — улыбнулась она. — Не такая уж я невежда. Конечно, мои познания в русском довольно скудны, но я прочла этот роман во французском переводе. Очень печальная история. Во мне все протестует, когда я узнаю о том, что растоптана чья-то страсть…
— Когда вы вернулись?
— Сегодня утром. Я попросила кучера сделать круг по городу и проехать по улице Сен-Пер. Видела тебя через витрину, но не решилась потревожить — предпочла протелефонировать, раз уж ты взял на себя труд провести мне сюда линию связи.
— Вы… одна?
— Федор остался в Санкт-Петербурге. Я сказала, что заболела обычным для всех путешественников недугом — тоской по родине — и врач прописал мне курс лечения парижским воздухом. Я так по тебе скучала! Мой Федор очень славный человек — добрый, внимательный, богатый, верный, вот только в амурных делах он… как бы это сказать… не на высоте.
Кэндзи почувствовал, как знакомые дьявольские чары лишают его воли. Начинается. Вот она, сладострастная дрожь. В горле пересохло, в солнечном сплетении пустота. Рассудок кричал ему: «Очнись! Уходи! Эта женщина — всего лишь перелетная птица, бабочка-однодневка», но другой голос уговаривал: «Останься! Ты был один целую вечность!»
— Каждый раз в постели с ним, — продолжала Эдокси, — я закрывала глаза, и представляла тебя, и молилась, чтобы это и правда был ты. Но ведь нельзя жить с закрытыми глазами…
— Позволю себе усомниться в действенности молитвы, вознесенной при таких скабрезных обстоятельствах, — спокойно проговорил Кэндзи. — Вам всего лишь нужно было остаться в Париже.
— Смейся, злюка! Эта молитва рвалась из самых глубин моего существа, и я знаю, что она была услышана — ведь я здесь.
— Надолго ли?
— Это будет зависеть от некоего месье Мори, книготорговца с улицы Сен-Пер. — Говоря это, Эдокси придвигалась все ближе.
Японец поднялся, не коснувшись ее.
— Что ж, попробую замолвить за вас словечко этому месье Мори. Намерены ли вы вернуться в кордебалет?
— Федор сделал мне предложение. Я могла бы стать княгиней Максимовой — весьма соблазнительная перспектива… С другой стороны, зимы в Санкт-Петербурге лютые, а я так люблю тепло…
Кэндзи вздохнул:
— Сегодня вечером я свободен.
— Я тоже! Приходи сюда к шести часам. Ты увидишь — я буду нежна, очень нежна…
Четверть часа спустя Кэндзи Мори шагал по улице Риволи, напевая:
— «Наслажденье пройдет, но вмиг, сей же час его место займет экстаз!»
Ему хотелось прыгать от счастья и дарить воздушные поцелуи газетчицам, скучавшим на площади Лувра. Фифи Ба-Рен ждет его! Быстро забежать домой, приодеться, кое-что купить и вернуться на улицу Альжер к условленному часу… Сначала он решил, что поведет ее в ресторан «Друан», но отмел эту идею — они поужинают в квартире Эдокси, тет-а-тет. Изысканные блюда и хорошее вино. Нет, шампанское! И не забыть про цветы. Пусть почувствует разницу между этим своим неотесанным русским барином и настоящим джентльменом!
Жозеф с удовольствием перечитывал последние строки «Хроники страстей на улице Висконти» собственного сочинения, когда в дверь каретного сарая постучали. Распахнув ее, он замер, потеряв дар речи, — перед ним стоял человек, смутно похожий на месье Легри, но в его внешности отсутствовало нечто важное.
— Жозеф, вы позволите мне войти?
— Патрон, это точно вы?
— Кто же еще? Царь Эфиопии?
— Но… А где ваши усы?
— Я их сбрил. Вы меня осуждаете?
— Простите, просто… вы похожи на лакея!
— А что вы имеете против челяди, Жозеф? Таша высказалась по поводу колючей растительности у меня на лице, и я избавил ее от мучений. Я вам в таком виде не нравлюсь?
— О, ну если это было пожелание мадемуазель Таша… Да уж, бессмысленно спорить, прилично ли дамам носить брюки, раз им ничего не стоит заставить мужчину избавиться от усов! Если хотите знать мое мнение, с усами вы выглядели как-то… представительнее, что ли. А как же наши клиенты? Только подумайте, что они скажут!
— Тем хуже для них… и для вас.
Виктор увидел свое отражение в треснувшем зеркальце, прислоненном к Гражданскому кодексу. Респектабельный буржуа почил в бозе, приконченный ножницами и бритвой. Не удивительно, что мужчина, привыкший воспринимать усы как неотъемлемую часть своей личности, без них чувствует себя голым и помолодевшим. «Тебе тридцать три года, — мысленно сказал он человеку в зеркале. — Но так ты выглядишь гораздо моложе, несмотря на эти морщинки в уголках глаз».
— И не нервируйте меня, Жозеф, я и так зол как собака… когда вспоминаю о кошке, которую обрел вопреки своей воле вашими стараниями.
— Чур, я в домике, патрон! Давайте лучше поговорим о Сакровире. Как вы напали на его след?
— Я побывал на улице Месье-ле-Пренс и встретил там часовщика, который отдал мне карманные часы Пьера Андрези. — Виктор протянул «луковку» с гравировкой мгновенно помрачневшему Жозефу.
— Так-так, а вы мне между прочим обещали, что мы будем вести расследование вместе, — проворчал юноша, и не подумав, однако, упомянуть о своей встрече с Франсиной в «Неополитанском кафе».
— Именно этим мы сейчас и занимаемся, если вы не заметили. Так какой же вывод сделает Шерлок Пиньо?
— Что у месье Андрези была странная кличка и что, вероятно, он получил ее в армии, поскольку «К» — определенно первая буква слова «казарма». «Да здравствует казарма!» Или «корпус».
— Или «книга», «кабак», «капитал», «комедия». Это может быть что угодно. И принадлежать часы, соответственно, могли кому угодно — военному, книготорговцу, печатнику, предпринимателю, актеру, а от владельца они уже попали к Пьеру Андрези.
— А если это буква «К» как она есть, во всей своей красе и краткости? Вы знаете, что такое эллиптический стиль, патрон?
— Не понял, к чему это вы?
Жозеф послюнявил палец и перелистал страницы тетрадки.
— В моем фельетоне «Кубок Туле» я использовал прием месье Дюма-отца. Сейчас зачитаю вам отрывок из «Графини де Монсоро»:
— Есть у меня еще одна мысль, — сказал Сен-Люк.
— Какая же?
— Что, если…
— Что — если?
— Ничего.
— Ничего?
— Ну да. Хотя…
— Говорите же!
— Что, если это был герцог Анжуйский?
— Очень увлекательно, Жозеф, но я по-прежнему не понимаю, какое отношение это имеет к надписи на часах.
— Что, если это был романист-фельетонист? «Да здравствует К!» — и всего делов. Зачем надрываться, выдумывая длинные предложения, когда платят построчно? Вот послушайте, я тоже применил методу великого писателя на практике:
Мастиф обнюхал каменный Андреевский крест.
— Элевтерий! Фу, нечестивец!
— Гав, гав!
— Эта башня хранит сокровища тамплиеров…
Мастиф задрал лапу и оросил окрестности.
— Грр, грр, грр!
— Элевтерий, ты чуешь гнилостный запах? О боже, это же… проклятая амбра!
Мастиф повалился на бок, язык свесился из пасти, глаза закатились.
— Ах! Все кончено! — простонала Фрида фон Глокеншпиль.
Прежде чем потерять сознание, она успела написать пальцем на песке: «ВОЕВОДА».
— Жозеф, что за бред? — помотал головой Виктор. — Ваши умозаключения уводят нас в сторону. Я пришел сюда не для того, чтобы считать количество строк в ваших романах-фельетонах.
— Вам не понравился мой текст, признайтесь, — надулся молодой человек.
— В нем слишком много «гав» и «грр».
— Это создает драматическое напряжение. Вам лишь бы покритиковать! Отвечайте, понравился или нет? Я несколько месяцев над ним бился!
— Понравился, понравился, браво, вы далеко пойдете, потому что в литературе как в кулинарном искусстве — чем проще блюдо, тем быстрее усваивается… А зачем вам понадобилось это слово?
— «Воевода»? Я хотел создать готическую атмосферу.
— Нет, не «воевода», я имел в виду «амбру». Редкое слово, странно, что вы его употребили.
— Это из-за кражи в ювелирном магазине Бридуара.
[312] Вы забыли, патрон? Я же читал вам статью, а вы, значит, меня не слушали. Ну конечно, чего меня слушать, я у вас в лавке всего лишь предмет мебели!
Виктор, проигнорировав ворчание управляющего, достал из кармана акцию «Амбрекса», оставленную графиней де Салиньяк, и задумчиво ее прочитал.
— А, бумажка Фриуля? — фыркнул Жозеф. — Эта лысая башка и его малахольный племянничек получили по заслугам. Сразу вспоминаются система Лоу и Ост-Индская компания. А еще в «Горбуне»
[313] уродец с улицы Кенкампуа предлагал биржевым игрокам за плату погладить его горб — тогда, мол, их сделка будет удачной. Надо было герцогу де Фриулю погладить мой горб — не остался бы на бобах! — Он выхватил у Виктора акцию и внимательно ее изучил. Нечто любопытное привлекло его взгляд. — А это что? Леопольд Гранжан… Черт возьми, патрон! Глядите, вот тут, слева, подпись управляющего: Леопольд Гранжан! Патрон, у меня не было времени разыскать эмальерную мастерскую, но вы же помните… Погодите минутку… — Молодой человек в крайнем возбуждении схватил свой блокнот со всякой всячиной. — Леопольд Гранжан, эмальер, заколотый кинжалом на улице Шеврель! Улавливаете, патрон?! Этот тип был управляющим анонимного общества «Амбрекс»!
Виктор пробежал взглядом газетную вырезку, наклеенную в блокнот, и пробормотал:
— «Слияньем ладана, и амбры, и бензоя…» Амбра — «Амбрекс». Леопардус — леопард. — Он был так занят мыслями о переплетчике, что и забыл о деле эмальера. — Все это как-то связано со смертью Пьера Андрези…
— А второго управляющего зовут Фредерик Даглан, вот, справа подпись. Кто это, патрон?
— Жозеф, перестаньте тараторить хоть на минутку, дайте подумать… У кого Фриуль приобрел эти акции? Какой-то актеришка… Театр «Монпансье»?
— «Эшикье», патрон. Надо немедленно взять этого Даглана за жабры, пока его не постигла участь Леопольда Гранжана. И буду благодарен, если вы отпустите меня побродить по театру «Эшикье». Бьюсь об заклад, собака зарыта аккурат под сценой!
Виктор кивнул. Сам он собирался прочесать район Шапель на предмет знакомства с Гюставом, приятелем Пьера Андрези, пусть даже о нем пока ничего не известно, кроме имени.
Уставшая от блужданий по городу Жозетта Фату различила впереди колонны площади Насьон и перевела дух — словно два маяка воссияли для нее среди деревьев, два предвестника возвращения в тихую бухту. Опьянев от влажных испарений Венсенского леса, она свернула наконец на улицу Буле. Нужно еще закатить тележку в закуток на первом этаже дома, провонявшего супом и мочой, — и тогда уже можно будет расслабить натруженные мышцы рук, подняться в свою комнату. Хорошо хоть дождь, поливавший с утра, иссяк, вечер выдался ясный, небо не запятнали тучи. Однако Жозетта, хотя еще было довольно светло, нервничала и по дороге то и дело оглядывалась — она постоянно ощущала чье-то присутствие, ей чудилось смутное движение даже в траве на пустырях. Все мужчины вокруг казались подозрительными — как угадать того, кто ее преследует? Она дважды видела светловолосого человека, но уже не была уверена, что за ней охотится именно он. Вдруг это кто-то другой?
Злодейский голос нашептывал в уши: «Вы не узнаете меня в лицо, но я-то в курсе, кто вы такая. Я за вами слежу, от меня не ускользнуть. Всякий раз, продавая цветы незнакомцу, вы будете спрашивать себя: „Не он ли это?“ — и не сумеете ответить на вопрос. С людьми, которые оказываются не в то время не в том месте, всегда происходят ужасные вещи…»
Вдоль стены по ступенькам промчалась крыса — ее вспугнула толстопузая тетка в галошах, навьюченная корзинами. Жозетта терпеть не могла эту соседку с третьего этажа, которая с утра до ночи пилила мужа, мастера, шившего плюшевые игрушки. Но сейчас цветочница обрадовалась ей как родной и с облегчением побежала следом по лестнице, обогнала, почти весело отозвавшись на свирепое бормотание, вероятно означавшее «Добрый вечер».
На лестничных площадках сгущался мрак. Жозетта взлетела на свой четвертый этаж, ворвалась в комнатку и заперла дверь. Прислонившись спиной к стене, перевела дух и на цыпочках приблизилась к окну. Темнота неспешно заполняла улицу, по которой фланировали редкие парочки, улизнувшие из душных мансард. Скоро пройдет фонарщик, и повсюду будет свет.
Немного успокоившись, Жозетта зажгла керосинку — слабый огонек, надо экономить. Сил приготовить ужин не осталось — удовольствовалась бутербродом с салом, яблоком и стаканом воды. Снова, не выдержав, подошла к окну, за которым гасли оранжевые отсветы заката. Из-под кустов сирени выползла длинная тень — там стоял мужчина и курил сигарету. Это он, он шел за ней по пятам!
Жозетта отшатнулась от окна.
Обуздать страх, иначе страх ее задушит!
Уняв нервную дрожь, цветочница опять отодвинула занавеску. Двор был пуст.
«Померещилось. Конечно, померещилось. Я так умом тронусь».
Сейчас она спокойно разденется, умоется, накинет ночную рубашку, ляжет и сразу заснет. Да-да, непременно. Крепкий здоровый сон — именно то, что ей нужно.
В дверь постучали, когда девушка расстегивала блузку. В горле застрял крик, сердце заколотилось как бешеное.
— Мадемуазель Фату! Это ваша соседка, мадам Картье. Мой бесенок Кристоф опрокинул туесок с мукой и все рассыпал, я хотела попросить у вас горсточку… Мадемуазель Фату, вы дома?
Жозетта открыла дверь трясущейся рукой. Маленькая круглолицая женщина в безрукавке, нижней юбке и стоптанных башмаках поспешила войти:
— Простите, что побеспокоила. С мальчонкой моим никакого сладу, такой постреленок, ох уж я ему в один прекрасный день устрою! А муку я вам верну на той неделе, как только Жюстен жалованье получит. Извиняюсь, что я в таком виде, — у нас прямо-таки дышать нечем. Ох, раз уж я зашла, может, одолжите еще яйцо и немного сахара?
У Жозетты от этой болтовни голова пошла кругом, и страх отпустил. Она помогла мадам Картье отнести продукты на кухню и с сожалением покинула чужую квартиру. По дороге к себе, перегнувшись через перила, осмотрела в тусклом свете пустые лестничные пролеты. Огромный медный шар, украшавший перила внизу, у основания ступенек, вдруг превратился в страшную призрачную маску. Жозетта вздрогнула от испуга, метнулась в свою комнату, захлопнула дверь, повернула ключ на два оборота…
Он стоял у окна.
И улыбался.
Жозетте показалось, что сердце перестало биться. Мир вокруг подернулся красной пеленой. Она потеряла сознание.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Среда 19 июля
На бульваре Шапель зной иссушил каштаны.
— Простите, вы не знаете человека по имени Гюстав? — спросил Виктор женщину, подметавшую тротуар.
Она окинула его насмешливым взглядом:
— Этих Гюставов тут как собак нерезаных.
Очередную неудачу Виктор потерпел, обратившись с тем же вопросом к мальчишкам, игравшим в чехарду. Один из них еще долго бежал за велосипедом, трубя в свернутую дудкой афишу.
Торговец соленой рыбой поскреб в затылке:
— Был тут один Гюстав, лимонад продавал на улице Пажоль. Но он дуба врезал на прошлой неделе.
Виктор, потеряв всякую надежду, повернул назад. Он прочесал район вдоль и поперек, от товарной станции Северной железной дороги до мрачного газгольдера на улице Эванжиль, обследовал ремонтные мастерские Восточной железной дороги и депо на улице Филиппа де Жирара, пообщался с тремя десятками Гюставов… Увы, никто не знал переплетчика из Латинского квартала, с улицы Месье-ле-Пренс. Ветхие домишки, толкающиеся боками в грязных переулках, и их умученные жизнью обитатели навевали тоску, захотелось вырваться на простор. Если ему нужен тот самый Гюстав, придется дождаться 22 июля, когда вернется на работу гарсон из кафе «У Фюльбера».
На площади Шапель Виктор сделал последнюю попытку — свернув в подворотню, объехал двор большого здания о двух крыльях и вдруг услышал свое имя:
— Месье Легри! Вот это сюрприз! Здравствуйте, неужели вы меня не узнаёте? А в вас что-то изменилось…
Виктор уставился на человека, который, улыбаясь, смотрел на него из окна первого этажа с таким низким подоконником, что его можно было перешагнуть. Конечно, он сразу узнал инспектора Перо
[314] и его роскошные усищи, которым позавидовал бы сам Верцингеториг.
[315]
— Месье Перо! Вы здесь живете?
— Я здесь работаю. Добро пожаловать в комиссариат Шапели!
Виктор устремился в вестибюль, оставил там свой велосипед и вскоре уже пожимал руку Раулю Перо, который пригласил его в свой кабинет. Обстановка здесь была убогая: выщербленный плиточный пол, облупившаяся коричневая краска на стенах; если бы не застекленный книжный шкаф, набитый разномастными томами, все в точности напоминало бы приемный покой больницы.
— Все еще увлекаетесь верлибрами, месье Перо?
— Я трепетно храню ваш драгоценный подарок — сборник Жюля Лафорга, и верно служу своей музе. Мне даже посчастливилось опубликовать несколько поэм в «Плюм» под псевдонимом Исида. Мы подружились с Леоном Дешаном.
[316] Разумеется, это лишь скромный дебют, но я не оставляю надежды, что мои стихи примут к изданию в «Жиль Блаз». Но каким же добрым ветром вас сюда занесло, друг мой?
— Если честно, я заблудился… Искал библиотеку, где берут раритетные издания на экспертизу.
— Ах да, книги, книги!
— А как ваша служба, инспектор? Довольны?
— Не инспектор, а помощник комиссара, меня повысили! Пошел, так сказать, по стопам Оскара Метенье и Эрнеста Рейно,
[317] двух одаренных литераторов, занимавших этот пост до меня. Комиссар, правда, в гневе от того, что ему в третий раз подряд подсунули в помощники заядлого крючкотвора. Счастье еще, что он не знает о моих публикациях. Если вам доведется с ним встретиться — уж не выдавайте!
— А ваша черепаха? Нанетта, кажется?
— Я так и не нашел для нее пристанища, так что пришлось удочерить. Люсьен, наш мальчишка на побегушках, души в ней не чает. Еще он вечно возится с бродячими собаками, которых подбирает комиссар — добрая все-таки душа, хоть и ненавидит людей искусства. Заходите к нам посмотреть, как Люсьен выводит своих питомцев на парад — каждый в кепи и пелеринке!
Под окном зашумели — похоже, там собралась целая толпа.
— Не полицейский участок, а проходной двор, — вздохнул Рауль Перо. — Все потому, что на воротах нет часового, и сержантов тут днем с огнем не сыщешь — только инспекторы, да и тех всего двое…
Его жалобы прервало появление забавной троицы: белобородый старик и веселый парнишка втащили в кабинет мужика, который двумя руками придерживал спадающие штаны.
— Драка на улице Департеман, — доложил старик. — Этот сводник делал отбивную из своего собрата и уже достал перышко — почикать его на порции, тут-то мы буяна и прихватили. Пришлось действовать быстро, пока их ватаги не сбежались. А поскольку наручников при мне не было, мы срезали ему пуговицы на портках, чтоб не утек.
— Спасибо, инспектор Гастон, и вам спасибо, Люсьен. Нет-нет, не уходите, месье Легри, мы с гражданином сутенером сейчас быстро разберемся. Сесть! — велел Рауль Перо арестованному. — Люсьен, будьте любезны, разгоните публику во дворе. Как зовут?
Мужик, поддернув штаны, плюхнулся на стул.
— Роже, но все кличут меня Лишаём. Я ни при чем, господин инспектор, тот урод во всем виноват.
— Какой урод? Что он тебе сделал?
— Влез на мой участок, сам-то он из Ла Виллетт. Зацените: пока я в Сантешке
[318] парился, этот урод жарил мою Леони. Откинулся я, значит, глядь — а у нее пузо как два арбуза. Много она теперь наработает с пассажиром в трюме? А жрать чего? Леони мне не кто-нибудь, а законная половина, девка что надо была, нарасхват. Но теперь — всё, ни на что не годная! — Пока Лишай говорил, его глаза наливались кровью, на губах выступила пена. Он вдруг вскочил, шарахнул кулаком по стене и завопил: — Господин инспектор! Ничего не могу с собой поделать! Прям крышу сносит, когда взаперти оказываюсь! Чуть с катух в тюряге не слетел!
Штаны сползли, оголив тощие ляжки. Окно распахнулось, и в кабинет со двора всунулась взлохмаченная голова, какой-то заспанный тип оперся на подоконник:
— Заткните ему пасть, или я за себя не ручаюсь! Вот дерьмище, всю ночь вкалываешь — утром поспать не дают! Что у вас тут за гвалт?
Лишай, путаясь в штанах, рванулся к нему:
— А тебе какое дело, козел?!
— Мне? А я что, я ничего… — заробел разбуженный работяга и благоразумно убрался восвояси.
В этот момент дверь открылась, в кабинет вкатился пузатый человечек средних лет в клетчатой мелоне, одетый, как мелкий буржуа. Не удостоив и взглядом Рауля Перо, он подступил к Лишаю, который при виде его уставился в потолок.
— Слышь, ты, перед судьей разоряться будешь, а здесь хлебало подбери, тебя за километр слыхать, — прошипел в кадык Лишаю человечек в мелоне и так же стремительно, как появился, выкатился в коридор, чуть не сбив с ног вернувшегося Люсьена.
Рауль Перо наклонился к Виктору:
— Это Корколь, второй инспектор. Суровый дядька, не дипломат… Ну, Роже, надень штаны и садись на стул. Мы поняли, что у тебя была предъява к сопернику. Ты хотел его завалить?
— Это смотря что вы имеете в виду под словом «завалить», господин инспектор, — вздохнул притихший Лишай. — Я-то хотел ему по рылу съездить, чтоб неповадно было. Никакой он мне не соперник, потому что Леони и так уже все поняла — некуда ей податься с депутатом в урне. Я ж просто порядок восстановил, а так-то я смирный.
— Смирный, ага. Мухи не обидишь. Когда трезвый.
Словно в поддержку Лишаю со двора донеслось хорошо поставленное сопрано:
— Да здравствуют кабак, любовь и табак!
Виктор, сдерживая смех, покосился на Рауля Перо. Тот хмыкнул:
— Оперетта потешается над законом и порядком, месье Легри. У нас тут по соседству есть заведение, которое облюбовали для репетиций театральные труппы. С тех пор мы отправляем правосудие под музыку. Невольно вспомнишь вопрос Верлена: «Такая ли уж важная и серьезная штука жизнь?» Роже, — обратился он к Лишаю, — вести с тобой душеспасительные беседы бесполезно, я ограничусь тем, что конфискую у тебя нож и дам дружеский совет: не бузи, понял?
— А мои пуговицы? — спохватился Лишай. — Они у меня с портков все пуговицы потырили!
— Это послужит тебе уроком. Люсьен, проводите нашего санкюлота на улицу Департеман.
— Вы его не арестуете? — удивился Виктор.
— Зачем? Еще одна неделя в кутузке не превратит его в мальчика из церковного хора. А нашей энергии найдется более достойное применение, ведь жизнь коротка, надо многое успеть.
— Странный вы полицейский, — улыбнулся Виктор.
— Несомненно, сказывается влияние литературы, месье Легри. Позвольте пригласить вас отобедать. Велосипед можете оставить здесь под присмотром инспектора Гастона — он покидает эти стены только на ночь.
Они вдвоем пересекли двор и через потайную дверцу попали в заведение «Милан», где помощника комиссара как постоянного клиента всегда ждал столик за шторкой.
Зал был полон, посетители болтали и смеялись в клубах сигарного дыма. Виктор изучил написанное изящным почерком меню и заказал фрикандо.
[319]
— Отличный выбор, месье Легри, — одобрил Рауль Перо. — Весьма питательное и экономичное блюдо. Мне то же самое, мадам Милан, и кувшин вина.
За спиной Виктора в одиночестве сидел за столиком инспектор Корколь и читал газету.
— Не оборачивайтесь, месье Легри, — шепнул Перо. — Там мой давешний коллега, мы с ним на ножах.
— Отчего же?
— На службе новичков не любят, особенно когда сильна старая гвардия. Он метил на мое место. Сейчас у нас вооруженное перемирие… Месье Легри, а где находится та библиотека, в которой проводят экспертизу?
— На улице… Вот незадача, запамятовал. Наверное, вино виновато.
— Я слышал про вашего друга.
— Простите?
— Про переплетчика с улицы Месье-ле-Пренс. Шаваньяк и Жербекур, мои бывшие подчиненные из Шестого округа, были на пепелище.
— Да-да, бедный Пьер Андрези, это ужасно. Вы не в курсе, чем закончилось расследование? Инспектор Лекашер дал понять, что мог иметь место намеренный поджог.
— Неужели? Об этом я не знал. А как поживает ваш управляющий?
За спиной Виктора скрипнул стул. Инспектор Корколь поднялся и направился к стойке.
— Жозеф? Прекрасно. Заканчивает очередной роман-фельетон. — Виктор поднял голову, собираясь сделать глоток вина, и перехватил взгляд Корколя. Тот попрощался с хозяйкой и, напяливая мелону, неприветливо посмотрел на собеседника Рауля Перо. Его уход был похож на бегство.
Мадам Милан ликовала. Она не упустила ни слова из разговора помощника комиссара и безусого незнакомца. «Как его там назвал месье Перо? Леблан? Нет-нет, Легри. Красивый мужчина, почти как месье Даглан. Интересно, кто он такой?.. В любом случае месье Даглан может мною гордиться — сейчас я ему запишу… как он там выразился, месье Даглан? Ах да, „результаты моих тайных наблюдений“!»
На улице Люн Жозеф вдохнул восхитительный аромат сдобных булочек и поддался гастрономическому искушению — уплел пару за милую душу. В конце концов, как говорит месье Мори, «желудку — радость, мозгам — польза».
Большие бульвары встретили его гомонящей суетливой толпой, пришлось выписывать зигзаги с тротуара на мостовую, где то сбивались в кучу, то разъезжались бесчисленные экипажи: переполненные омнибусы, наемные кареты, двуколки, кабриолеты с откинутым навощенным верхом, шустрые фиакры. Жозеф обожал неистовую, бурлящую жизнью атмосферу столицы, ее кафе, кабаре, театры. Он шел и представлял себе прекрасное будущее: однажды по его роману-фельетону напишут пьесу и поставят ее на сцене, публика вмиг расхватает билеты, а литератор Пиньо присоединится к созвездию знаменитостей.
«„Кубок Туле“ с Сарой Бернар или Режан
[320] в роли Фриды фон Глокеншпиль… С кандидатом на роль мастифа Элевтерия будет потруднее, но тоже что-нибудь придумаем. В театре Гимназии — why not?
[321] О спектакле раструбят на всех углах, аншлаг последует за аншлагом, счастливые абоненты телефонной сети будут слушать избранные отрывки по театрофону,
[322] а клиентам дорогих отелей и особых клубов достаточно будет бросить монетку в волшебный ящик, чтобы насладиться лучшими репликами».
Жозеф вообразил себе месье Мори, ярого поборника технических новшеств конца века, с двумя телефонными рожками, прижатыми к ушам. Вот он одобрительно покачивает головой, слушая, как Элевтерий — а вдруг получится уговорить самого месье Коклена-младшего
[323] загримироваться собакой? — произносит поставленным голосом «гав» и «гррр»…
Насытившись булочками и собственными мечтами, Жозеф добрался до театра «Эшикье».
«На вид как-то не очень, — решил он, окинув взглядом фасад. — Пожалуй, не отдам сюда свою пьесу, разве что посулят золотые горы…»
Он пересек холл и постучал во внушительную дверь с табличкой «КОНСЬЕРЖ».
Из-за двери прозвучал неприветливый хриплый голос:
— Что там еще?
— Я принес текст и должен передать его из рук в руки.
Раздался скрежет, как будто по полу двигали что-то тяжелое, створка приоткрылась, и в щелке показался острый нос.
— Вам назначено?
— Разумеется. Я Жозеф Пиньо, автор «Кубка Туле», сенсационного романа-фельетона, который будет напечатан в «Пасс-парту», там же, где уже опубликовано «Странное дело о водосборах», произведение, примечательное во всех отношениях.
— С кем у вас встреча?
— С директором.
— Ничего не выйдет. Месье Леглантье с понедельника мертвее мертвого.
Нос убрался, дверь захлопнулась.
Озадаченный Жозеф подытожил беседу яростным «Хам!». Однако сведения удалось получить прелюбопытные. Фигляр и актеришка, упомянутый графиней де Салиньяк, уже не ответит за аферу с акциями «Амбрекса». Но вот естественной ли смертью он умер?..
В фойе появилась прелестная девушка. Она шмыгнула под портик, Жозеф пошел за ней и оказался на пороге зрительного зала в итальянском стиле. Здесь царил полумрак, только на сцене горели масляные лампы. Там, на подмостках, сбились в кучку особы обоих полов и что-то ожесточенно обсуждали на фоне декораций в духе века плаща и шпаги. В надежде остаться незамеченным Жозеф с непринужденным видом затесался в толпу. Но фокус не удался.
— Вы не из нашей труппы, — констатировал какой-то мужчина, ткнув в него пальцем.
— Я журналист, — не растерялся Жозеф. — Меня заинтересовала смерть вашего директора.
— Бедняга Леглантье впервые вызвал интерес у кого-то, кроме своих кредиторов, — буркнул помощник режиссера.
— И все-таки он был очень славный, — заявила миловидная молодая особа, которая и привела Жозефа в зал.
— А не могли бы вы, — подскочил он к ней, вооружившись блокнотом и карандашом, — поведать об этом поподробнее, мадемуазель?
— Меня зовут Андреа. Месье Леглантье предсказал, что я стану звездой!
— Несомненно, падающей, — фыркнула пышнотелая дама, — то есть падшей.
— Он говорил мне об амазонках и голубях! — гордо парировала Андреа.
— Имея в виду, что тебе прямая дорога в цирк Фернандо!
— Эжени, это тебе туда дорога,
старая кляча!
— А ты девка подзаборная!
— Дамы, соблюдайте приличия! Почтите память месье Леглантье, все ж таки самоубийство требует большого мужества, хоть и вызвано глубочайшим отчаянием.
— Да уж, Эпернон, кому, как не тебе, рассуждать о мужестве!
— Так это было самоубийство? — вмешался Жозеф.
Тут все заговорили разом, бурно жестикулируя. Воспользовавшись суматохой, Жозеф увлек герцога д’Эпернона за кулису.
— Месье Леглантье и вправду покончил с собой?
Польщенный тем, что представитель прессы выбрал его главным источником информации, д’Эпернон зашептал:
— Между нами, Эдмон был по уши в долгах, но я никогда в жизни не поверил бы, что он способен наложить на себя руки. Он отдавал себя этому театру без остатка и, скажу вам по секрету, очень рассчитывал на мой успех на сцене.
— В долгах, вы сказали?
— Говорят, деньги на ремонт «Эшикье» были взяты под залог самого театра. Возможно, поэтому предсмертная записка Эдмона начинается строчкой из Лафонтена: «Раз с Обезьяной Леопард на ярмарке деньжонки добывали».
[324]
— Леопард? — сделал стойку Жозеф.
— Да-да, я тайком переписал его послание живым, там есть продолжение:
«Разоренный, отчаявшийся, я покидаю эту клоаку. До скорой встречи, простофили. Э. Леглантье, непризнанный гений». Эх, все беды от денег, вернее, от их отсутствия. Кстати, был один престранный эпизод… Жак Ботелье чуть не заколол меня кинжалом, но на самом деле его удар предназначался Генриху Четвертому, то есть Леглантье. Хотите, покажу вам рану?
— Погодите, кто такой Ботелье?
— Равальяк. Его допрашивает полиция. Как, вы уже уходите? Эй, месье! Запишите мое имя: Жермен Миле, фамилия как у художника, только с одной «л»!
Когда Жозеф проходил мимо двери консьержа, его окликнули женским голоском:
— Господин журналист!
Андреа, раскрасневшаяся, запыхавшаяся, с колышащейся грудью, показалась ему чертовски привлекательной.
— Сударь, не знаю, что вам там наболтал Жермен… Он говорил про лысого дядьку, который ворвался к месье Леглантье незадолго до того, как тот умер? Я слышала, как они ссорились, так ора… кричали очень громко. Я уверена, что с этим плешивым дело нечисто. Если хотите знать мое мнение, наверняка это он виноват в смерти месье Леглантье. Равальяк, то есть Жак — безобидное создание, падает в обморок при виде паучка. Живет вдвоем с престарелой матерью. Если он не будет зарабатывать, что с ней станется? Нужно обязательно написать об этом в вашей газете!
— Вы в него влюблены?
— В кого? — растерялась Андреа.
— В Жака Ботелье.
— Вы шутите?! Просто нельзя же позволить полиции совершить беззаконие, Жак ни в чем не виноват! А я даже с директором не воспользовалась своим шансом. Нравилась ему очень-очень, но не ответила взаимностью, и месье Леглантье от этого ужасно страдал, ужасно… Эжени-то своего не упустила и рассказывала, что у него были и другие любовницы, одна постоянная — некая Аделаида Пайе, старуха лет тридцати пяти, у нее магазин модных товаров на площади Клиши.
— Спасибо, милая мадемуазель. Из вас получится прекрасная амазонка! — поклонился Жозеф, про себя добавив: «В обтягивающей тунике… Боже, какая сцена!»
— Леопард и акции «Амбрекса» — все завязано на эти два элемента, согласны, патрон?
Укрывшись в хранилище, подальше от Кэндзи, Виктор слушал отчет Жозефа о его визите в театр «Эшикье».
— Тот актер… э-э…
— Герцог д’Эпернон, патрон.
— Да-да, он сказал вам, что Леглантье не из тех, кто способен покончить с собой. Однако же господин директор до смерти надышался газом.
— Он был на мели и боялся скандала. Герцог де Фриуль, а нет никаких сомнений, что «лысый дядька» — это он, с актеришкой не церемонился. Мне так и сказали: Леглантье пригрозили арестом, судом и дуэлью… Вы думаете, это было убийство? Впрочем, почему нет? Господа из высшего света для того и носят белые перчатки, чтобы не видно было грязных рук. Убийство, замаскированное под самоубийство! И главное действующее лицо — герцог де Фриуль!
— Это преждевременный вывод.
— Но ведь все сходится, патрон! Леглантье принимает Фриуля, они ссорятся, Фриуль открывает газовый кран, печатает на машинке письмо и оставляет его в каретке, затем выходит и запирает дверь на ключ — всего делов! Леопардус — это он!
— И что же побудило его выбрать представителя семейства кошачьих в качестве творческого псевдонима?
— Наверное, кто-нибудь из его предков был фаворитом английского короля
[325] — Столетняя война и все такое… А, знаю! У него поместье на юго-западе.
[326] Бьюсь об заклад, на гербе Фриуля стая шествующих леопардов или леопардовых львов — я видел таких в геральдическом справочнике.
— Ваша аргументация несколько замысловата, Жозеф… Вы полагаете, что после того как Фриуль открыл кран, Леглантье преспокойно улегся ждать наступления удушья?
— Успокоить и уложить его мог хороший удар по кумполу, патрон.
— Не исключено. Ваша версия могла бы стать основой сюжета увлекательного романа-фельетона, но к сожалению, герцог де Фриуль не обладает ни интеллектом, ни смелостью, необходимыми преступнику. То есть к счастью.
— Вы недооцениваете этих аристократишек, которые кичатся частицами при фамилиях, патрон.
— Скажем откровенно, у фей, собравшихся на совет над колыбелью Фриуля, мало что осталось для него в мешке с подарками: пресловутая частица к фамилии и немного деньжат, вот, собственно, и всё. Нет, Жозеф, наш кузен Леопардус — личность выдающаяся.
— Ладно, изменим сюжет. Леглантье затеял мошенничество с фальшивыми акциями, убрал одного из сообщников — Леопольда Гранжана, эмальера, а затем покончил с собой, потому что его махинацию разоблачили.
— А как в вашу историю вписывается намеренный поджог мастерской Пьера Андрези? И кто теперь леопард? Нет, и эта версия никуда не годится.
— Перестаньте меня критиковать, патрон! — возмутился Жозеф. — А сами-то вы что-нибудь можете добавить к тому, что нам уже известно?
— Черт, опаздываю, — спохватился Виктор. — Я сегодня веду Таша на концерт. Завтра утром мы с вами вместе наведаемся к Аделаиде Пайе — надеюсь, удастся что-нибудь выведать у нее про бывшего любовника. Идите вперед, я за вами.
— Ну ясно, это ж вы капитан корабля, — проворчал Жозеф, не скрывая удовлетворения от того, что сумел уесть патрона.
«В субботу схожу на улицу Месье-ле-Пренс — гарсон Фюльбера вернется на работу и наверняка сможет назвать мне адрес, по которому он доставлял вино для Гюстава», — утешил себя Виктор.
Жозеф выбрался из подвала первым и нос к носу столкнулся с Кэндзи.
— Если ваше тайное моление в катакомбах закончено, позвольте передать вам дежурство в лавке, — сухо сказал японец. — Вы ужинаете здесь.
— Как это здесь, патрон?
— Вы что, забыли? Вам надлежит вычистить переплеты томов Бальзака и Дидро и выставить их в витрине. Об этом было условлено еще две недели назад. Ваша матушка сейчас жарит помидоры в сметане со шпинатом, она покормит вас за конторкой. Всего хорошего.
— Но я не люблю шпинат! Шпинат — гадость! — в отчаянии воскликнул Жозеф.
— Ты не прав, котеночек, — строго заявила Эфросинья с верхней ступеньки винтовой лестницы. — Шпинат улучшает пищеварение!
Четверг 20 июля
Кэндзи, сидя в фиакре, катившем к Национальной библиотеке, мысленно поздравил себя с тем, что обет воздержания наконец-то нарушен. Ночь, проведенная с Эдокси, восстановила правильную циркуляцию его жизненной энергии, а целое блюдо даров моря и бокал хорошего белого вина в «Прюнье» на улице Дюфо подкрепили силы. Прикрыв глаза, японец сосредоточился на ощущениях, позволив мыслям бежать своим чередом. Он выполнял это упражнение всякий раз, когда внешние обстоятельства не требовали внимания.
Фиакр остановился на улице Ришелье, и Кэндзи вернулся к действительности.
Справа от ниши библиотекаря в читальном зале отдела восточных рукописей, на том самом месте, которое описало ему визгливое существо с агатовыми глазами, обнаружился еще один примечательный персонаж. Армянин в рубахе без воротника с широкими рукавами, в турецких шароварах и зеленой скуфейке мирно спал, обложившись десятком фолиантов. При этом он нежно обнимал толстенный том, на котором покоилась его щека. И были основания полагать, что означенный том может оказаться искомым манускриптом. По счастливой случайности, соседний стул оказался свободным. Впрочем, в душном зале было мало народу — большинство парижан предпочитали спасаться от жары где-нибудь на природе. Кэндзи поспешно выдернул наугад каталожный ящик, выбрал первую попавшуюся карточку, заполнил бланк заказа, вписав название книги и номер стула, который намерен занять, вручил бланк библиотекарю и расположился рядом с Арамом Казангяном.
Армянин медленно поднял голову, обратив к Кэндзи меланхолическую физиономию с импозантными черными усами и роскошной бородой, окинул японца подозрительным взглядом и передвинул крепостной вал из книг так, чтобы невозможно было рассмотреть том, служивший ему подушкой. Заслонив рукой тетрадку, он принялся делать выписки, настороженно кося глазом в сторону соседа.
Кэндзи, зная, что за ним наблюдают, снял очки и прилежно протер стекла. Он как раз раздумывал о том, как бы завязать диалог с армянином, когда тот шепнул ему:
— Милостивый государь, вы подвергаете себя преужасной опасности.
Кэндзи с тревогой уставился на предсказателя, решив, что сейчас услышит страшную тайну, касающуюся персидского манускрипта.
— Неужели?
— Если в ближайшее время вы не откажетесь от гибельной привычки, вас одолеет смертельный недуг. Сжатие кровеносных сосудов может повлечь за собой окклюзию артерии, сердце, лишенное живительных соков, замедлит биение и вскоре остановится.
— Не понял, о какой привычке вы говорите…
— О привычке носить галстук.
Кэндзи улучил было момент, чтобы взглянуть на манускрипт, но армянин, оторвавшийся на мгновение от своего сокровища, опять сжал объятия, так что увидеть ничего не удалось.
«Еще один псих, везет же мне», — подумал японец. В этот момент библиотекарь выложил перед ним заказанную книгу ин-октаво.
— Увлекаетесь Африкой? — все так же шепотом осведомился Казангян.
— Не слишком.
— В таком случае зачем вам сочинение Стэнли
[327]«Through the Dark Continent»?
[328]
— Я исследую истоки Нила. А каков предмет ваших интересов?
Арам Казангян некоторое время молча взирал на него, покусывая кончик пера, и наконец зловеще произнес:
— Если кто-нибудь спросит вас о предмете моих интересов — ни в чем не признавайтесь.
Кэндзи со вздохом поднялся и направился к нише библиотекаря, сделав по пути еще одну попытку разглядеть через плечо армянина, что тот читает. Но Арам Казангян навалился на книгу всей грудью.
— Вы не могли бы сказать мне название манускрипта — а у меня есть основания полагать, что это именно манускрипт, — заказанного вон тем блаженным господином? — спросил японец у библиотекаря.
— Тише!
Несколько голов вскинулись над столом, взгляды устремились на Кэндзи — он говорил слишком громко.
— Прошу прощения, это приватная информация, — развел руками служитель. — Месье Казангян посещает наши залы уже двадцать пять лет. Для нас большая честь, что столь авторитетный филолог трудится над созданием фарси-французского словаря в этих стенах, и хранители в стремлении помочь ему полагают своим долгом по мере сил обогащать фонды арабскими и персидскими рукописями. К сожалению, пока нам еще далеко до библиотек Мекки и Константинополя!
— Но вы хотя бы позволите мне взглянуть одним глазком на этот драгоценный раритет, когда месье Казангян вернет его вам в конце дня? Я сам специалист по суфизму.
— И по Африке?
— Одно не исключает другого.
— Месье Казангян всегда покидает зал в момент закрытия библиотеки и резервирует на завтра те сочинения, с которыми работает сегодня.
— Но это же, в конце концов, не его собственность! — не сдержался Кэндзи.
— Тише, милостивый государь! Пожалуйста, постарайтесь не повышать голос.
Кэндзи временно сдался и отступил к своему месту за столом. Весь следующий час он посвятил измышлению и претворению в жизнь военных хитростей, призванных открыть ему доступ к манускрипту. Он ронял карандаш под стул армянина, просил одолжить ему ластик, садился под хитрым углом, заставляя авторитетного филолога перестраивать крепостные сооружения из фолиантов на подступах к сокровищу. Всё тщетно. Сосед мужественно и ловко держал осаду.
Окончательно капитулировав, Кэндзи изучил маршрут путешественника Стэнли, исходившего африканский континент по стопам доктора Ливингстона,
[329] потом помечтал о новой встрече с прелестной Эдокси. Между тем стрелка на больших настенных часах исправно отмеряла минуты. Когда сровнялось шесть, японец вскочил с целью завладеть манускриптом или хотя бы взглянуть на него под предлогом помощи, однако Арам Казангян с ловкостью фокусника засунул предмет посягательств между томами энциклопедии и, отринув дружескую руку, отдуваясь и пошатываясь, с триумфальным видом поволок гору книг сдавать библиотекарю.
Кэндзи проводил его взглядом и, нехорошо прищурившись, мысленно послал в согбенную спину вызов. «Еще посмотрим, кто кого», — сказал он себе.
— Терпеть не могу здоровенные статуи с задранными руками, — поделился мнением Жозеф, указав на монумент, прославляющий героизм генерала Монсе.
[330]
Виктор, шагая со своим управляющим по площади Клиши, рассматривал гигантскую афишу: на ней господин в костюме колониста, отвесив челюсть от восторга, пялился на восточный ковер, который демонстрировал ему араб, стоя рядом с верблюдом. Тот же дом был украшен вывеской, вдохновленной работами Шере,
[331] — на ней дама в кружевах попирала ножкой могильную плиту с огненно-красной надписью:
НА МОГИЛЕ ЗАВИСТНИКОВ
Лавочка самых модных товаров
Магазин Аделаиды Пайе, скромно именующий себя «лавочкой», мог, однако, похвастаться холлом, куда свет проникал через витражный купол, и двумя этажами. На первом, отведенном нижнему белью, тканям и товарам парижского производства, хозяйка командовала двумя продавщицами. На второй вела угловая лестница — там приветливый управляющий принимал покупательниц, желавших украсить наряды бархатными цветами, перьями и — что считалось наивысшим шиком — лисьими хвостами или пелеринами из меха куницы.
Приторная коммерческая улыбка, с которой мадам Пайе встретила двух посетителей, мгновенно сменилась ледяной миной, как только Виктор изложил цель визита:
— Мы репортеры из «Пасс-парту», нам поручено составить литературный портрет покончившего с собой директора театра «Эшикье». Он был вашим близким другом?
— Какая бестактность! — Аделаида Пайе смерила его неприязненным взглядом каре-зеленых глаз. — Похоже, уважение к чужой личной жизни окончательно вышло из моды. Имейте совесть, господа, избавьте меня от подобных разговоров в присутствии клиенток.
Клиентки, увлеченно ощупывавшие ткани и разглядывавшие фасоны, сделали вид, что ничего не слышали. Одна продавщица отмеряла отрез шелка по медной линейке, подвешенной к потолку, и была всецело поглощена этим занятием, вторая охнула:
— Месье Эдмон покончил с собой?! Мадам, но это невозможно!
— Возможно, Камилла. Более того, это установленный факт. Вчера вечером мне протелефонировал месье Мион и все рассказал.
— Ах, мадам, представляю, как вам сейчас тяжело! Мои соболезнования.
— Спасибо, Камилла. Идите же помогите бедной Лизе. Знаю я этих занудных дамочек — заставят вас отмерить двадцать метров парчи, а потом купят тридцать сантиметров люстрина.
— Вы прекрасно держитесь, мадам, — заметил Виктор, — очень достойно переносите горе…
Аделаида Пайе воззрилась на него с подозрением, но, не увидев признаков иронии, заключила, что ремарка была искренней, и, промокнув платочком глаза, скорбно поправила шиньон.
— Какой смысл биться в истерике, ведь это не вернет Эдмона. С тех пор как месье Пайе задавила грудная жаба, я присоединилась к армии вдов и вынуждена сражаться за место под солнцем. Эдмон меня морально поддерживал — увы, это всё, на что он был способен. Этот скупердяй искал моего общества только ради забавы. Знаете, что он имел наглость подарить мне два месяца назад? Контрамарку на место в десятом ряду «Фоли-Бержер»! Вообразите себе, как я там себя чувствовала среди всяких подозрительных типов, любителей полуголых танцовщиц! И подумать только — недавно он изыскал средства на реставрацию театра «Эшикье», вот-вот должен был зажить на широкую ногу. Я рассчитывала получить всё, что он задолжал мне перед нашим окончательным разрывом, но теперь можно поставить на этих деньгах крест!
— Месье Леглантье когда-нибудь упоминал при вас Леопольда Гранжана и Пьера Андрези? — спросил Виктор.
— Думаете, он со мной откровенничал? — горько усмехнулась Аделаида Пайе. — По воскресеньям Эдмон водил меня в ресторан поесть устриц, затем мы поднимались к нему в квартиру, и всё, с чем я оттуда уходила, — это ломота в костях от жесткой постели. Я к его делишкам не имею никакого отношения. И вообще мы расстались прошлым месяцем. Сегодня у нас двадцатое число? Ну вот, почти круглая дата. Да здравствует свобода! Господа, дорогу к выходу найдете сами. — С тем мадам и покинула «репортеров», устремившись к потенциальной покупательнице, которая в экстазе замерла перед композицией из нежно-голубого платья, шарфа, художественно завязанного на спинке стула, и нескольких зонтиков. — Это курортный зонтик, мадам. Только представьте себя на берегу моря с этой роскошью — вишневый атлас, по краю незабудки и бахрома, просто шик!
— Да уж, всех чаек распугать можно, — буркнул Жозеф.
— Идемте, не будем терять здесь время, — поторопил его Виктор.
На пути к выходу их толкнула женщина, тащившая за собой рыдающего ребенка, и стремительно покинула магазин. Жозеф при этом заметил торчавший у мальчика из-под курточки мех и сказал об этом продавщице Камилле. Та заполошно бросилась на улицу. Вернулась она через пару минут, раскрасневшаяся, гордо потрясая меховой муфтой:
— Ну надо же, сибирскую белку украсть хотели! Мадам, благодаря этому господину я поймала воровку, которая вынесла мех с помощью мальчишки, — пояснила она хозяйке. — Воровка с отродьем сбежала, но я спасла товар.
Клиентки и продавщицы наперебой закудахтали.
— Как не стыдно использовать ребенка в таком гнусном деле! Мамаша прячет добычу под одежду малыша, щиплет его нещадно — он в слезы, и оба наутек! — покачала головой Камилла.
— А вспомни про парочки, которые глаза отводят! — поддержала ее Лиза. — Одна требует показать ей какой-нибудь товар с самой верхней полки, и пока ты лезешь за ним на стремянку, вторая обчищает лавку!
— А фокусницы в хитрых башмаках? Роняют дорогое кружево, наступают на него и уносят на подошве! — подхватила Камилла.
— И это никогда не кончится, — вздохнула Аделаида Пайе. — Все нас обкрадывают — государство, посредники, частные лица. А вероломные конкуренты и вовсе по миру норовят пустить. Ну как, скажите на милость, нам выстоять против «Дворца труженика»,
[332] если там на шести тысячах квадратных метров торговой площади продается всё — модные товары, мебель в кредит, даже молоко по шестьдесят сантимов за литр! Господа, премногим вам обязана.
Она провела Виктора и Жозефа на второй этаж, где немедленно устроила разнос управляющему за нерадивость, после чего уединилась с гостями в примерочном салоне.
— В своем рассказе об Эдмоне я утаила некоторые детали. Вы оказали мне услугу — долг платежом красен. Только пообещайте, что не будете ссылаться на меня как на источник сведений, мне лишние неприятности ни к чему.
— Даю слово, — наклонил голову Виктор.
— Раз в две недели по воскресеньям я принимала Эдмона у себя. Месяц назад, восемнадцатого июня, когда он пришел, я заявила, что порву с ним, если не вернет мне десять тысяч франков. Эдмон поклялся собственной жизнью — кстати, это не принесло ему удачи, — что полностью возместит долг в четверг. Прекрасный был артист, да… Поэтому я сказала себе: «Тут дело нечисто!» — и решила за ним проследить. Далеко он не ушел — на улице Фобур-Монмартр завернул в пивную «Мюллер». Через стекло витрины я видела, как он подсел за столик к какому-то типу и тот передал ему большую коробку из-под печенья. Коробку Эдмон открывать не стал, а тип сразу же удалился. «Опять эти его махинации», — сказала я себе. Однако в четверг он мне вернул пусть и не весь долг, но половину суммы банкнотами, а вторую предложил взять акциями. Само собой, я отказалась. Вот, господа, теперь всё.
— А что это были за акции? — спросил Виктор.
— Анонимного общества «Амбрекс».
— Вы не могли бы описать человека, с которым месье Леглантье встречался в пивной «Мюллер»?
— Крайне непривлекательный мужчина лет пятидесяти с небольшим, безвкусно одетый, в какой-то ужасной клетчатой мелоне. Рост ниже среднего, брюшко. В общем, таких пошлых типов на улице пруд пруди.
— Вы очень наблюдательны, дорогая мадам.
— Это у меня профессиональное.
Когда они спустились на первый этаж, потенциальная покупательница уже мертвой хваткой вцепилась в вишневый зонтик и жадно ощупывала купальную шапочку с кисточками.
На авеню Клиши Виктор и Жозеф в задумчивости прошли мимо ресторана «Папаша Латюиль». Виктор шагал, опустив голову, глядя себе под ноги, будто хотел отыскать там ответы на вопросы. Вдруг он резко остановился — вспомнил услышанное от Кэндзи описание человека, который продал книготорговцу Белкиншу восточный манускрипт без титульного листа. Низенький, полный, старше пятидесяти… Уж не тот ли это пошлый тип из пивной «Мюллер»? Если так, вот оно, звено между Пьером Андрези и Эдмоном Леглантье!
Он поделился своим открытием с Жозефом, и тот почему-то сразу надулся:
— Странное дело, патрон. Есть подозрение, что вы мне не доверяете. Как-то все время держите меня в стороне от расследования. Не знаете, отчего мне так кажется?
— Не выдумывайте, Жозеф.
Они пошли обратно и свернули налево.
— Ага, тогда почему вы и слова мне не сказали об изысканиях месье Мори? Я тут у вас не пришей кобыле хвост, пятое колесо в телеге, жалкий управляющий, чего уж там — презренный илот!
[333] А если вы не станете делиться со мной сведениями, как мы будем вести расследование, а?
— Ну забыл я вам сказать, из головы вылетело.
— С каких это пор вы страдаете провалами в памяти?
— Но сейчас-то вы в курсе всех дел, верно? Изыскания месье Мори пока ни к чему не привели. Можно только предположить, что либо наш манускрипт чудесным образом уцелел в пламени пожара, либо… кто-то устроил пожар ради того, чтобы им завладеть.
— Да этот манускрипт стоит всего-то полторы тысячи франков!
— Знание человеческой природы подсказывает нам, что преступления совершают и ради меньшего.
— Все равно не сходится… Минутку, к чему вы клоните, патрон? Пьер Андрези никогда бы… Нет, патрон, вы заблуждаетесь! — Жозеф подобрал камешек и в сердцах кинул его за металлическую ограду кладбища Монмартр. «Однако месье Легри, похоже, не так уж далек от истины, — подумал он. — Сначала Айрис упала с пьедестала, а теперь вот месье Андрези…»
— Еще рано, — сменил тему Виктор, которому тоже не нравилась мысль о том, что переплетчик мог продать доверенный ему манускрипт. — Наведаюсь-ка я в редакцию «Пасс-парту». Уверен, что при определенной настойчивости мне удастся раздобыть у них сведения об убийстве эмальера.
— Ну, они не так уж много знают.
— У них должно быть имя и описание человека, видевшего убийцу.
— А как же я? Опять меня бросаете? Полагаю, мне придется до ночи прозябать на улице Сен-Пер? — Жозеф мрачно уставился на унылые аллеи некрополя, где покоились останки его любимых писателей — Стендаля и Мюрже. «Жизнь — мышеловка, любовь — мираж, клятвы патрона — сущий обман», — сказал он себе.
— Так уж и прозябать, Жозеф? Куда подевался ваш хваленый оптимизм? И вовсе я вас не бросаю. Просто нам с моим давним приятелем Антоненом Клюзелем сподручней будет побеседовать наедине. И потом, месье Мори прогневается, если кто-нибудь из нас с вами не останется на хозяйстве.
— Стало быть, принести себя в жертву богу гнева придется мне. Так уж и быть, патрон, только не забудьте, что я стоял у истоков этого расследования!
— Вот о чем я забыл, так это прихватить велосипед, Жозеф. Какая досада… — Виктор выгреб из кармана горсть мелочи. — Давайте-ка разделим по-братски, тут нам обоим хватит на фиакр.
…На проезде Жуфруа движение то и дело стопорилось из-за сновавших с тротуара на тротуар прохожих. Когда Виктор добрался наконец до здания редакции «Пасс-парту» на улице Гранж-Бательер, он задыхался в равной степени от жары и нетерпения. В лихорадочной суете, царившей в редакции, никто не обратил на него внимания, и он беспрепятственно проследовал к кабинету директора. Даже стучать не пришлось — Виктор пристроился в след печатнику, который принес гранки на утверждение, и проник внутрь. Антонен Клюзель, сидя на краю стола, обвел карандашом несколько свежеотпечатанных строчек, что-то вычеркнул и вписал. В углу фигуристая секретарша колотила по клавиатуре пишущей машинки. Когда печатник удалился, Антонен Клюзель заметил наконец Виктора:
— Друг мой, какая удача, вы очень кстати! Если не ошибаюсь, вы заядлый велосипедист? Элали, козочка моя, оторвись уже от машинки, обернись газелью и умчись за горизонт — нам с месье Легри надо посекретничать.
Секретарша с недовольным видом вышла, хлопнув за собой дверью.
— Очаровательная крошка, — сообщил Виктору Антонен Клюзель, кивнув на дверь. — Я даже подумывал на ней жениться, но, как говаривал Альфред Капю,
[334]«ничто так не разъединяет влюбленных, как брачные узы»! Впрочем, перейдем к делу. Умоляю помочь мне: я провожу опрос. Вам ведь уже известно, что двадцать восьмого апреля введен новый велосипедный налог? — Он схватил лист бумаги и прочитал вслух: — «Десять франков с велосипеда плюс пять сантимов с франка. Взнос, включающий в себя означенные пять сантимов, увеличивается на три сантима с франка». Заметьте, это касается большинства наших читателей, ежегодный валовый сбор составит один миллион девятьсот сорок пять тысяч семьсот франков со ста восьмидесяти тысяч велосипедов. Что вы, истинный спортсмен, об этом думаете?
— Что пора ввести налог на ноги. Только представьте себе, какой денежный поток затопит Министерство финансов, если взимать по одному су с каждой пятки.
Антонен Клюзель потер подбородок:
— Какая жалость, что вы не приняли мое предложение о сотрудничестве! У меня страшная недостача в остроумцах. Нанял тут двух новых репортеров — так их статьи полнейшая безвкусица, пресны и скучны. Знаете, я собираюсь переориентировать газету — поменьше полемических материалов, побольше отчетов о расследованиях и интервью. Подумываю даже возобновить доброе начинание моего предшественника, который привлекал читателей рубрикой «Неделя с…» во времена Всемирной выставки восемьдесят девятого года.
— Не могу одобрить эту идею, — поморщился Виктор. — Меня не прельщает возможность внимать наставлениям неизвестно кого неизвестно в чем. Кто только ни проповедует — министры, убийцы, комедианты, священники, военные. И что самое прискорбное — их заставляют высказываться на темы, в которых они ничего не смыслят. Священники критикуют театр, актеры разносят армию, убийцы учат милосердию, а министры рассуждают про условия труда рабочих. Разнообразие предметов немыслимое: опера, преступления, рыбалка, вакцинация, бессмертие души, война, корсеты — всё годится на то, чтобы заполнить газетные колонки!
— Какое красноречие, какая страсть! Вы заслужили стаканчик Кюрасао. А я, с вашего позволения, побалую себя еще и сигарой. — Антонен Клюзель налил ликер в две рюмки и закурил. — Вы поразительно точно подметили уловки современной прессы. Однако происходят события, складываются определенные ситуации, и общественность должна на них как-то реагировать, по крайней мере задаваться вопросами. Если же она остается пассивной, наша задача — вывести ее из летаргического сна. Потому для разжигания интереса мы выбираем людей не по степени компетентности, а по уровню их известности широкой публике. И прославленные мадам и месье Имярек уже давно не выставляют за дверь настырных журналистов, норовящих задать им заковыристые или нескромные вопросы, — наоборот, журналистов принимают как дорогих гостей и всячески поощряют их стремление описать в подробностях не только образ мыслей хозяев, но и обстановку в доме: занавески, столы, бронзовые статуи и прочие приятности декора. Как видите, друг мой, нынешние нравы благоприятствуют срыванию покровов — во всех смыслах этой фразы. Кто не мечтает увидеть свое имя на газетной полосе?
— Например, свидетель убийства Леопольда Гранжана. Я тщетно искал его имя в «Пасс-парту».
— О, кажется, кто-то затеял расследование? Берегитесь — инспектор Лекашер не замедлит выпустить когти… А что имени свидетеля не нашли — вполне объяснимо. Предать это имя гласности — значит подвергнуть смертельному риску жизнь его владельца. К тому же я лично писал репортаж о том деле, а что вездесущий Вирус, сиречь ваш покорный слуга, терпеть не может, так это нарушать слово. Столь низко он еще не пал. Впрочем, могу сообщить вам по секрету одну подробность: свидетель — женщина.
— А адрес месье Гранжана вам известен?
— Ваше любопытство не имеет границ, друг мой! В какую передрягу вы опять намерены влезть? Не должен я вам этого говорить, однако ничего не могу с собой поделать: двадцать девять бис, улица Буле.
Виктор залпом выпил Кюрасао и собирался откланяться, но вспомнил еще об одном деле:
— Есть новости по поводу самоубийства Эдмона Леглантье? Возможно, он оставил предсмертную записку с объяснением?
— Об этом не слышал. Однако, друг мой, поле ваших интересов неохватно. А упомянутое самоубийство, если хотите знать, чрезвычайно напоминает убийство. Вашего Леглантье аккуратно приложили чем-то тяжелым, перед тем как пустить газ. Полиция задержала актера из его труппы, некоего Жака Ботелье, но у него есть алиби: в момент смерти директора театра он в костюме Равальяка дожидался явления Генриха Четвертого в компании своих ряженых собратьев по цеху. Зато герцог де Фриуль — не к ночи будет помянут — влип по самое некуда. От ареста его спасло только благородное происхождение. Сам он категорически отрицает, что оглушил и запер месье Леглантье наедине с газом, и надеюсь, вас не удивит, если Вирус, ваш покорный слуга, не позволит себе усомниться в честности одного из главных акционеров газеты…
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Пятница 21 июля
Виктор мчался на велосипеде по столице, и этим утром ничто не могло омрачить затопившей его душу головокружительной радости, даже угрызения совести от того, что пришлось солгать двум близким людям. Это был самый длинный маршрут из тех, что ему доводилось преодолевать, и он чувствовал себя непобедимым. Препятствия, встававшие на пути, огибал, облетал, обтекал в мгновение ока, как добрый крылатый дух из сказки, для которого нет преград. Впрочем, экипажей на дороге было мало, и лишь однажды ломовые дроги замедлили полет «бабочки» на подступах к улице Фобур-Сент-Антуан. Теплая ночь умерила влажность последних дождливых дней, и дышалось легко, как весной. Виктор насвистывал, стараясь не думать о том, что пришлось наплести небылицы Таша и Кэндзи. Одной он сказал, что спешит на встречу с фотографом, который интересуется ярмарочными праздниками, другому — что нужно навестить библиофила в восточном предместье.
— «Цель оправдывает средства, мы — студенты, прощай, детство!» — напевал Виктор, а по стеклам витрин ковровой и скобяной лавок скользило отражение молодого мужчины в однобортном пиджаке и брюках, подобранных прищепками на лодыжках, лихого всадника на железном, быстром как вихрь коне.
Дома извергали из темного чрева подъездов толпы работяг с торбами на плече. Хозяюшки вывешивали сушиться белье, малышня бежала в школу. На улице Буле пахло дублеными кожами. Виктор непрестанно отвлекался от дороги, глядя на номера домов, велосипед потряхивало на здоровенных, заросших мхом булыжниках мостовой, он опасно вилял и однажды чуть не потерял равновесие. Восстановив контроль над «бабочкой», Виктор улыбнулся девчушке, которая прилаживала поводок к шее щенка. В этот момент переднее колесо угодило в выбоину на ухабистом тротуаре, руль выворотило из рук, ноги оторвались от педалей, зад — от седла, и Виктор нырнул в канаву. Ударом о дно выбило воздух из легких. Впрочем, легко отделался — пара ссадин на руках и лице. Он присел на корточки рядом с велосипедом, пытаясь оценить ущерб. Цепь на месте, руль вроде бы не пострадал…
— Ну и дикий у вас зверь, — посочувствовали ему мужским голосом. — Бешеный, что ли?
— Ничего, он уже утихомирился, — отозвался Виктор. — Молодой просто, норовистый.
— У вас кровь, — сказал мужчина в серой блузе, подойдя ближе. — Надо бы лед приложить, заходите в мастерскую.
— Со мной все в порядке, — прогундосил Виктор, прижимая к носу платок.
Мужчина, покачав головой, все-таки увел его в помещение, крикнув с порога:
— Фюльжанс! Позаботься о велосипеде этого господина.
Парню, сидевшему за каким-то механизмом с зубчатыми колесами, на котором крутился рулон цветной бумаги, не понадобилось повторять дважды — его как ветром сдуло.
— Стопочка водки приведет вас в порядок, — пообещал Виктору хозяин мастерской. — Да и у меня что-то в горле пересохло.
— Прошу прощения за беспокойство.
— О, наоборот, хоть отвлекусь ненадолго, а то с утра до ночи как на каторге… Я папаша Фортен.
— Очень приятно. Я тут бывал, на вашей улице, оставлял заказы месье Гранжану, когда его еще не…
Услышав имя эмальера, папаша Фортен вытер обмоченные в водке усы и завел обстоятельный рассказ:
— С Гранжаном мы сталкивались на улице что ни день — а куда деваться, когда живешь и работаешь в одном квартале? У него мастерская на проезде Гонне, это в двух шагах от улицы Буле. А сыновья его, Полит и Констан, одному тринадцать, другому четырнадцать, — приятели моего Эвариста. Без отца вот остались, эх. Ума не приложу, кому понадобилось убивать Леопольда. Мужик был дельный, его тут все любили — видели бы вы, какая толпа на похоронах собралась… А похоронили его на Пер-Лашез, мы, соседи, скинулись на венки, негритянка-блондиночка букеты принесла… — Он наклонился поближе к Виктору и доверительно сообщил: — Это она труп нашла. И убийцу видела, да только издали, толком не разглядела. А жаль — поймать бы мерзавца да укоротить на голову. Но пока она боится, что это он ее поймает — вернется и… Бедняжка извелась уже от страха, ее-то выследить — раз плюнуть.
— Почему?
— Она цветы продает, ходит по городу, а дома отсидеться, пока все не уляжется, нет возможности — не рантье, чай, зарабатывать надо на пропитание. Хорошо хоть, газетчики по-людски себя повели: ни имени ее не напечатали, ни адреса, а она почти напротив меня живет, я в доме двенадцать, она в двадцать девять бис.
— А она правда негритянка… и блондинка?
— Нет, конечно, — усмехнулся папаша Фортен. — Это у нас в квартале ее так называют. А вообще она мулатка — ну, знаете, кофе с молоком, и волосы у нее не то чтобы светлые, но и не смоляные. Красивая девушка, только чуток диковатая — потрепала ее жизнь, чего уж там говорить.
Виктор, поблагодарив за всё, отправился дальше пешком, велосипед покатил рядом.
Дом номер 29-бис был похож на казарму. Массивная решетка отгораживала заросший сорняками двор, по которому бродили куры; мрачная стена взирала на него крошечными окнами без ставней. Навстречу Виктору из парадного вывалилась, размахивая плетеной корзинкой, толстая женщина с двойным подбородком, толкнула калитку в решетчатой ограде, полоснув его колючим взглядом. Виктор приподнял шляпу:
— Простите, мадам, здесь живет цветочница, которую все называют негритянкой-блондиночкой?
Кумушка, видимо расположенная поболтать, смягчила взгляд и поставила корзинку на землю.
— А то где же? Жозетка-то прямо над нами и живет. В последнее время нос дерет, пигалица этакая, — ей, вишь ты, свезло о покойника споткнуться и оттого на нее журналисты слетелись, как мухи на непотребство, всё языками чешут про это дело, успокоиться не могут. По правде-то им, мужикам, одно подавай — как увидят ее, так слюни и пускают. Вон мой-то Марсель, на что уж рохля, так когда на Жозетку пялится, у него зенки что твои блюдца. А она и довольна, тьфу пропасть, черномазая. — Излив ведро желчи, тетка подхватила корзинку.
— А где она продает цветы? — спросил Виктор.
— Я почем знаю? На рынках или на перекрестках, где таких, как она, встретить можно. Натуральная побродяжка!
На обратном пути пропали и легкость, и упоение скоростью. Виктор вяло крутил педали, в голове вертелись грязные слова толстухи. То ли жара подействовала, то ли алкоголь, но ему казалось, что хозяева бутиков, скучающие на порогах своих заведений, — антиквары, торгующие раритетными английскими стульями, комодами эпохи Людовика XV, сундуками и ларцами в стиле Ренессанса, — дружно провожают его неприязненными взглядами.
«Не дай бог в один отнюдь не прекрасный день какой-нибудь благонамеренный идиот вот так выскажется в лицо Кэндзи, Айрис или Таша», — грустно думал он, сворачивая на площадь Бастилии.
Пренеприятнейшее совпадение: в лавке «Эльзевир» Виктора ждала встреча с еще одной ксенофобкой. Первое, что он там увидел, была извечная козья мина Бланш де Камбрези, всегда готовой обрушиться с нападками на иноземцев. В этот раз у нее, по счастью, нашлись другие заботы — она увлеченно злословила о своей подружке Олимпии де Салиньяк, и единственным ее слушателем был Кэндзи.
— Подумайте, какое малодушие! Узнав, что дядя мужа Валентины замешан в деле об убийстве, она ретировалась на улицу Барбе-де-Жуи и не выходит из дома этой разнесчастной Адальберты де Реовиль, чье здоровье и без того оставляет желать лучшего, а тут по иронии судьбы оказалось, что ее дражайший супруг, дурак дураком, ничем не лучше герцога де Фриуля! Представьте себе, этот простофиля де Реовиль, хоть и полковник в отставке, потратил изрядные средства на акции «Амбрекса»! Адальберта рвет и мечет. Что до меня, я в жизни не стала бы вкладывать деньги в столь сомнительные предприятия. Часть моего состояния инвестирована в российские кредиты — вот это надежно, можно не сомневаться!
Виктор, воспользовавшись ситуацией, увлек Жозефа в подсобку и выложил ему все, что удалось узнать на улице Буле. Сверившись по справочнику издательства «Ашет», они быстро установили местонахождение цветочных рынков в Париже. Два работали на острове Сите и на площади Республики по средам и субботам, третий — на площади Мадлен по вторникам и пятницам.
— Отправляйтесь на площадь Мадлен, как только позавтракаете, — велел Виктор и поспешил на помощь своему компаньону.
До площади Мадлен Жозеф добрался быстро. На тротуарах вокруг церкви под брезентовыми тентами обретались цветочницы, у которых отоваривались респектабельные господа или их слуги. Чайные розы и белоснежные гардении, разновеликие гвоздики и пламенеющие гладиолусы соседствовали здесь со скромными маргаритками и душистым горошком в горшочках. Буйство красок вокруг наполняло душу блаженством, а обоняние ласкали букеты ароматов, в которых у каждого прилавка сплетались разные, но неизменно восхитительные запахи. Дочь садовника, милая девушка в длинном, обшитом сутажом платье, любезно объяснила Жозефу, как найти негритянку-блондиночку, и долго смотрела ему в след — удержать пригожего молодого человека, которого ничуть не портил небольшой горб, не удалось, даже на элегантный букетик для бутоньерки он не соблазнился.
При виде белокурого юноши, решительной походкой направляющегося к ней, Жозетта Фату вздрогнула от нехорошего предчувствия. И оно тотчас оправдалось, потому что юноша подошел и приподнял котелок:
— Мадемуазель, ваш покорный слуга Жозеф Пиньо, романист и книготорговец. Мне сказали, что вы можете помочь в составлении портрета преступника, поскольку были свидетельницей…
Договорить он не успел — цветочница завизжала, призывая на помощь прохожих. К ним тотчас подскочила дородная дама в мантилье и принялась науськивать на Жозефа моську, жавшуюся к ее ногам:
— Ату его, Султан, ату!
Султан ограничился тем, что грозно припал к тротуару, будто перед прыжком, и немилосердно обтявкал молодого человека.
— Что там с тобой случилось, Жозетта? — крикнула соседка-цветочница.
— Этот господин сделал мне неприличное предложение! — выпалила девушка.
— Вот безобразие! Стыдитесь, охальник! — пролаяла вслед за своей моськой дородная дама.
Жозеф стерпел клевету с достоинством героев Дюма: подбоченился, смирившийся, но гордый, и с видом жертвы, бросающей вызов палачу, отчеканил:
— Уймите вашего людоеда, мадам, я ухожу! — Он заметил приближающегося полицейского и рассудил, что действительно стоит временно отступить.
Оставшись одна, Жозетта справилась с внутренней дрожью, но руки продолжали трястись. В памяти отпечаталось лицо мужчины. Другого мужчины. Несколько дней назад, когда она очнулась от обморока в своей комнатушке, вместе с сознанием вернулся страх. Она лежала в кровати, на лбу — смоченное холодной водой полотенце. Привиделось ли ей в обморочном кошмаре или кто-то касался ее груди, пока она была без чувств?.. Так или иначе, верхние пуговицы блузки оказались расстегнутыми. Незнакомец извинился, сказал, что не хотел ее напугать и не должен был входить в комнату без разрешения, но все же осмелился ее побеспокоить лишь потому, что мадемуазель Жозетта — единственный человек, способный ему помочь, и он будет бесконечно благодарен, если она опишет ему убийцу, заколовшего кинжалом месье Гранжана. Жозетта, слушая, млела от ужаса, она думала, что незнакомец издевается, что,
вдоволь насладившись паникой жертвы, он ударит ее, изнасилует и убьет. Но он просто сидел рядом, смотрел участливо, протянул ей второе полотенце. Тогда она прошептала, что почти ничего не разглядела и про убийцу может сказать лишь то, что у него седые волосы и он любит музыку, поскольку, стоя над телом умирающего Леопольда Гранжана, он пел… «Мадемуазель, вы сообщили мне нечто очень важное. Спасибо. До скорой встречи!»
Вдруг за спиной раздался шепот, и Жозетта, вздрогнув, обернулась.
— Мадемуазель, только, пожалуйста, не кричите, это опять я, Жозеф Пиньо. — Белокурый юноша просунул нос между досками штакетника, из которого был сколочен задник цветочного ларька. — Я не сделаю вам ничего плохого! И никакой я не романист и не книготорговец, это я вам наврал. Я начинающий журналист, мне в редакции дали такое задание, понимаете? Ну, написать про то убийство. Умоляю, не прогоняйте меня, от вас зависит мое профессиональное будущее! Все, что мне нужно, — парочка подробностей, которые вы еще не сообщили прессе.
— Какой прок от того, что я в очередной раз расскажу эту историю?
— Вы спасете меня от головомойки, которую патрон непременно устроит, если я вернусь ни с чем!
Жозетта невольно улыбнулась, глядя на смущенно мнущегося за штакетником парня в котелке набекрень.
— Ну хорошо, — вздохнула она. — Я возвращалась с Центрального рынка, было, наверное, около семи утра. По дороге встретила месье Гранжана, мы поздоровались. Он был очень милый человек, внимательно относился к супруге, часто покупал у меня для нее гвоздики…
— Вы видели того, кто на него напал?
— Только со спины. Даже не знаю, откуда он взялся. Я почему-то обернулась — месье Гранжан прикуривал от зажигалки какого-то прохожего… На прохожем была фетровая шляпа. И широкий плащ-крылатка. Думаю, он старик — я заметила седую прядь, выбившуюся из-под шляпы… Месье Гранжан схватился за живот и упал. Он так долго падал, целую вечность, как в дурном сне. На самом деле все произошло очень быстро, конечно. У меня ноги отнялись, стояла и не могла пошевелиться. Убийца наклонился и что-то вложил ему в руку. А потом запел.
— Запел? Что?
Цветочница поколебалась. Тому, другому, она сказала, но журналисту… Да не все ли равно?
— «Время вишен», любимую песню моей мамы. Это было страшно и завораживающе: человек в крылатке стоял над телом и пел, словно убаюкивал ребенка. Я забилась под портик и молилась: только бы он меня не заметил. А когда он ушел, я бросилась к месье Гранжану, который лежал, поджав колени к подбородку. На секунду мне почудилось, что он дышит — у него между пальцами подрагивал прямоугольник бумаги. А потом я увидела кровь и закричала. Сбежались люди, кого-то послали за фликами, прибыл комиссар… Вот и всё. Только, пожалуйста, не упоминайте в заметке мое имя — я боюсь, что убийца найдет меня и тоже зарежет!
— Клянусь здоровьем моей матушки, мадемуазель! Какого он был роста?
— Примерно вашего. Да, где-то метр семьдесят. А вот худой или толстый, не могу сказать — крылатка скрывала фигуру.
— Мадемуазель, вы моя спасительница! Можно, я куплю у вас гардению? Она украсит мою бутоньерку.
«Дружище, это было виртуозно, ты становишься настоящим Ромео! — поздравил себя с успехом Жозеф. — Однако, урожай неслабый: седая прядь, „Время вишен“, рост метр семьдесят! Я молодец!»
Айрис спустилась в вестибюль Школы восточных языков на пересечении улиц Лиль и Сен-Пер, хотя лекция, посвященная «Гэндзи-моногатари»,
[335] не закончилась. Поскольку среди слушателей, занимавших ряды амфитеатра, она оказалась одной из немногих женщин, к тому же самой молодой и очаровательной, взгляды мужской части аудитории не покидали ее ни на миг. Еще несколько месяцев назад это весьма польстило бы самолюбию Айрис, но после известных событий такой успех у мужчин ее скорее угнетал и даже вызывал протест. Пропади пропадом эта красота, которая лишила ее счастья! Будь она обычной, неприметной девушкой, пусть даже дурнушкой, не привлекла бы внимание этого болтуна Мориса Ломье и не потеряла бы того, кого любила всем сердцем. Вот и вывод: лучше было солгать или умолчать о некоторых фактах, чем правдой навлечь на себя беду! Есть от чего из наивного создания, безоружного перед ловушками судьбы, превратиться в циничную грымзу.
На лестнице зазвучали голоса — слушатели начали расходиться. Айрис забрала в гардеробе свой зонтик и вышла на пустынную улицу. За спиной послышались мужские шаги. Она пошла быстрее, но преследователь не отставал. Девушка, раздраженная такой навязчивостью, резко развернулась, собираясь обрушиться на него с гневной отповедью — и не смогла произнести ни звука. Перед ней стоял тот, кого она столь старательно избегала в последнее волосы, тот, кто при случайной встрече окатывал ее ледяным презрением. Разрумянившийся, в съехавшем набок котелке, из-под которого выбивались спутанные светлые волосы, Жозеф, чья тайная слежка была внезапно обнаружена, тоже лишился дара речи. И в этот момент какой-то добрый дух надоумил Айрис сказать то, что положило конец затянувшейся драме. Слова сами сорвались с языка:
— От любви до дружбы один шаг, но это шаг назад!
Эта фраза разнесла вдребезги и враждебность, и горькие воспоминания, стоявшие между ними. Словно разбежались круги по воде от девушки и от молодого человека, а встретившись, взбаламутили гладь единой буйной волной — Жозеф и Айрис разразились хохотом.
— Где вы эту чушь вычитали? — сквозь смех выдавил Жозеф.
— В одном журнале, — с трудом выговорила Айрис и снова прыснула.
Отсмеявшись, они долго молча смотрели друг на друга, и это молчание не было в тягость, а мир вокруг пропал — влюбленные остались вдвоем. Незримая стена рухнула, весенняя трагедия, вызвавшая столько эмоций, теперь обернулась ничтожным эпизодом. Жозеф подавил желание обнять Айрис, хотя знал, что она не отстранится наперекор всем условностям, и просто протянул ей руку.
Они пошли в «Утраченные иллюзии», кафе, куда Жозеф иногда заглядывал с Виктором Легри в процессе расследований. Сев за столик у витрины, жених и невеста некоторое время смотрели на набережную Малакэ, где букинисты в тени деревьев подстерегали истомленных жарой прохожих.
— Я мечтаю только об одном, — сказал наконец Жозеф, — сделать шаг вперед.
— Вы все еще любите меня?
— Я никогда не переставал вас боготворить!
И жизнь снова сделалась прекрасной. Страсть, которая, казалось бы, выгорела и осыпалась пеплом, полыхнула вдруг многоцветьем букетов с площади Мадлен. «Ой! Надо же рассказать патрону о том, что я разузнал у прелестной мулатки! — вспомнил Жозеф. — А потом придумать какой-нибудь предлог, чтобы не возвращаться в „Эльзевир“ и до вечера остаться с Айрис…»
— Я позвоню вашему брату, предупрежу, что мы вернемся поздно.
— А куда же мы пойдем?
— Куда пожелаете. Выберите себе напиток, я быстро!
«Разорюсь — и черт с ним!» — шалея от счастья, думал молодой человек, направляясь к телефонному аппарату за стойкой.
Сбежать вдвоем с Жозефом куда-нибудь подальше от глаз Виктора и Кэндзи — это было одновременно романтично и дьявольски прогрессивно. Айрис, лопаясь от гордости — она чувствовала себя идеальной девушкой конца века, эмансипированной донельзя, — сама заказала гарсону две порции хинной настойки и принялась обдумывать маршрут предстоящей прогулки.
Вернувшись, Жозеф плюхнулся на стул и схватился за щеку:
— По официальной версии у меня чудовищный приступ зубной боли — судя по всему, из-за жары. Мы случайно столкнулись на улице, и вы предложили проводить меня к врачу. Хозяев, конечно, на мякине не проведешь — ваш брат, выслушав меня, издал серию звуков, которые я определил бы как хихиканье, а ваш батюшка поблизости от него разворчался, что я вечно где-то пропадаю, манкируя своими обязанностями в лавке. Так что пришлось прилежно постонать в телефонный рожок некоторое время.
— Бедненький! Вы, наверное, ужасно страдаете, — поддержала игру Айрис.
— Сейчас мне гораздо лучше, но я провел кошмарные четверть часа.
Девушка помолчала немного, вдруг покраснела и тихо проговорила:
— Однажды я наблюдала за полетом стрекозы на площади перед Пантеоном. Ослепленная солнечными зайчиками на стеклах, она заметалась среди экипажей и прохожих. Казалось, ее вот-вот раздавят, но подул свежий ветерок, она очнулась от морока и взмыла выше, к небу, на простор… Простите ли вы меня когда-нибудь?
— Война окончена, с этой минуты начинается эпоха мира, — улыбнулся Жозеф и отметил про себя: «Надо будет обязательно включить эту фразу в роман-фельетон» — Так куда мы направимся? Хотите посетить какое-то особенное место? — спросил он, мечтая о том, чтобы уединиться с Айрис в первой же подворотне.
— Месье Пинхас написал Таша из Америки о праксиноскопе. Я бы с удовольствием побывала в оптическом театре Эмиля Рейно в музее Гревен, там дают сеансы до шести вечера.
— Почему бы нет? Всё лучше, чем к дантисту! — философски заметил Жозеф. Тайком от Айрис пересчитав в кармане монетки — итоговая сумма его совсем не обнадежила, — он обнаружил, что гардения куда-то пропала.
Из трех удивительных пантомим Айрис больше всего понравился «Бедный Пьеро», но и «Клоун с собачками» и «Добрая кружка пива» тоже доставили ей огромное удовольствие. Она радовалась, как девчонка, смеялась и хлопала в ладоши, что позволяло Жозефу время от времени прижимать колено к ее бедру — дескать, неприлично так громко смеяться, вы нарушаете общественное спокойствие, мадемуазель. Через сорок минут они с сожалением покинули «Фантастический кабинет». Айрис вполголоса прочитала афишу Жюля Шере с программой представления:
БЕДНЫЙ ПЬЕРО
пантомима
Действующие лица:
Пьеро, Арлекин, Коломбина
«Арлекин — это Ломье, Коломбина — я, а Пьеро…»
Вероятно, Жозеф подумал о том же самом, потому что вдруг заторопился увести ее из оптического театра.
— Никогда еще не видела такого волшебства, — поделилась впечатлениями Айрис.
— Волшебство тут ни при чем, мадемуазель. Или мадам? — сказал выходивший вслед за ними стройный блондин в светлой визитке.
— Мадемуазель скоро станет мадам, — холодно произнес Жозеф.
Айрис, охваченная любопытством, не обратила на его слова внимания, устремив сияющий взор на незнакомца.
— Правда? Вы знаете, как это работает? О, объясните мне, пожалуйста! — взмолилась она, к неудовольствию Жозефа.
— Месье Эмиль Рейно усовершенствовал зоотроп американца Хорнера, — улыбнулся незнакомец. — А дело вот в чем: несколько рисунков, изображающие разные фазы движения, помещаются на внутренней стороне цилиндра, в центре которого закреплена зеркальная призма. Вы заглядываете в окошко, прорезанное в кожухе, и вращаете цилиндр — создается иллюзия движения, которое длится до бесконечности.
— Детская игрушка, — фыркнул Жозеф.
— Конечно, одна и та же постоянно повторяющаяся короткая сценка, хоть и движущаяся, быстро наскучивает, — проигнорировал насмешку стройный блондин. — И месье Рейно пришла в голову гениальная идея использовать перфорированную целлулоидную пленку с целой серией рисунков. Эта пленка перематывается с катушки на катушку, зеркала улавливают отражения тщательно прорисованных и раскрашенных от руки композиций и с помощью фонаря, то есть пучка света, проецируют их на экран.
— Вы здесь работаете? — спросил Жозеф, которому неприятно было, что Айрис внимательно слушает рассказ незнакомца. «Неужели я заделаюсь таким же ревнивцем, как месье Легри?» — с ужасом подумал он.
— Вовсе нет, я журналист из «Тан».
— Ах, как чудесно! — обрадовалась Айрис. — Мой жених тоже пишет для газеты, только для «Пасс-парту». Он автор знаменитого романа-фельетона!
При этих словах Жозеф почувствовал, как у него вырастают крылья, — Айрис назвала его женихом и упомянула роман-фельетон! Тем самым она полностью загладила свою вину и даже примирила его с присутствием самоуверенного репортеришки.
— Неужели? Может быть, обсудим это в каком-нибудь ресторанчике на Бульварах? Позвольте пригласить вас отобедать за мой счет, — поклонился блондин.
Жозеф принял предложение с благодарностью — его бумажник был почти пуст.
«А голубк
и легко попались, кто бы мог подумать! — мысленно усмехался Фредерик Даглан, изучая меню, написанное чьим-то безобразным почерком. — Малой толики технических познаний, почерпнутых из газет, где чего только не печатают, и умеренной дозы красноречия вполне хватило».
— Местечко, как видите, простое, как раз по моим гонорарам, зато уютно и кухня недурна. Рекомендую окорок — он здесь отменный.
— Вы читали «Странное дело о водосборах»? — не утерпела Айрис.
— Увы, мадемуазель, я веду финансовую рубрику, цифирь застит мне достижения литературы. А что же странного в этом деле о водосборах?
Тут фельетонист разразился очень длинной и запутанной речью, нить которой Фредерик Даглан очень быстро утратил, предавшись своим мыслям. Сегодня утром на площади Мадлен, в окружении роз, нежных, хоть и с шипами, Жозетта Фату была обворожительна. Он, Фредерик, как раз собирался к ней подойти, когда откуда ни возьмись, как черт из табакерки, выскочил этот олух и скандализировал публику, а потом все-таки добился беседы с мулаткой и, судя по заговорщицким лицам обоих, выспрашивал ее об убийстве Гранжана. Потом парень сел в омнибус, и Фредерик успел запрыгнуть следом, надвинув шляпу на глаза. На набережной Малакэ он скрипя зубами слушал воркование парочки на тротуаре и в кафе, дальше они поехали в фиакре на бульвар Монмартр, и он вместе с ними томился в оптическом театре, наблюдая движущиеся картинки. И все эти страдания ради того, чтобы слушать, как сомнительный литератор несет полную чушь?!
— …И тогда доктор Рамбюто приказал сиделке выкупать несчастного Феликса Шарантона,
[336] — заключил Жозеф.
— Браво! — поаплодировал Фредерик Даглан. — Блестящий сюжет, мастерски изложенный. И кто же автор этого захватывающего произведения?
— Жозеф Пиньо, ваш покорный слуга. Но вы преувеличиваете — это всего лишь проба пера…
— Не слушайте его, — вскинулась Айрис, — месье…
— Ренар, Седрик Ренар.
— Месье Ренар, Жозеф вечно скромничает. Он не только писатель, но еще и книготорговец.
— Прекрасное сочетание, месье Пиньо. И где же находит применение ваш второй талант?
— В книжной лавке «Эльзевир», дом восемнадцать по улице Сен-Пер. Возможно, вам знакомо имя одного из владельцев — Виктор Легри. Он раскрыл множество преступлений, и я его правая рука!
У Фредерика Даглана екнуло сердце. Легри… Легри… Мелькнула мысль о мадам Милан — трактирщица ему недавно зачитала свои записи о разговоре Рауля Перо с каким-то безусым субъектом… Легри? Именно так. Он обедал с помощником комиссара в заведении «Милан»… вроде бы девятнадцатого числа.
— Месье Легри чертовски умен, — разглагольствовал паренек, — но без меня он ни за что бы тогда не справился. Сейчас вот мы тоже… — Он осекся.
— Сейчас тоже? — повторил Фредерик Даглан, перемешивая пюре, и собственный голос показался ему чужим. «Давай, птенчик, хвастай, чего замолчал? Если б я мог тебе ответить начистоту, сказал бы: не думай, что вы с месье Легри такие уж ловкие сыщики, будут вам еще и плач, и скрежет зубовный».
— Прошу прощения, месье Ренар, рот на замок, ключ за спину, время пока не пришло. Но погодите — это будет бомба!
— Бомба? — перепугалась Айрис. — Жозеф, вы же не собираетесь…
Проходивший мимо официант замедлил шаг и с ужасом уставился на них.
— Месье Ренар, — шепнула Айрис, — скажите ему, что все в порядке, мой жених шутит.
Фредерик Даглан ей мило улыбнулся. Да, знакомство оказалось удачным, пока все складывается очень даже неплохо.
— Речь идет о десерте, — подмигнул он официанту, — мы обсуждаем достоинства шоколадных бомбочек. Так что же мы закажем, мадемуазель? — И погрузился в изучение меню. «Да-да, Легри, Виктор Легри, припоминаю: книготорговец, который мнит себя великим сыщиком. А ты-то, Даглан, думал, что действуешь в одиночку! Берегись — у тебя на хвосте целая свора. Что ж, удвоим бдительность». — Гарсон! Три ореховых пирожных и счет.
…В одной руке развалившегося в кресле Виктора был бисквит, от которого он с удовольствием откусывал, в другой — карманные часы Пьера Андрези, поглощавшие все его внимание, потому Таша он слушал вполуха. Художница склонилась над геридоном, расставляя баночки с гуашью и раскладывая угольные карандаши.
— Это очень красивая история о любви зрелого мужчины и девушки с душой не по годам серьезного ребенка, — рассказывала она с кисточкой в зубах. Эта привычка осталась у нее с детства — когда-то маленькая Таша вот так рассеянно покусывала кончик перьевой ручки, пока гувернантка-француженка тщилась внушить ей основы своего языка. Кисточка присоединилась к соплеменницам в стаканчике рядом с палитрой, и Таша продолжила: — Особенно мне понравился момент, когда она ему отдается: «Возьми меня, ибо это мой дар!». И дальше Золя пишет: «Это не было падение — напротив, всепобеждающая жизнь вознесла их на вершину, к сферам чистой радости». Какой щелчок по носу морали, а?.. Виктор, ты меня слушаешь?
— Конечно, дорогая, — закивал он, поспешно сжав часы в кулаке. И услышал щелчок, а ладонью почувствовал, что «луковка» открылась — вернее, что у часов отошло дно.
— О чем я говорила?
— Право слово, как на уроке литературы — ты строгий ментор, я ученик! Ты говорила о… о романе Золя. — Ему уже не терпелось разжать пальцы и осмотреть часы.
— Точно, но о каком?.. Ага, засыпался! Если бы ты проявил хоть толику интереса к тому, что я говорила, знал бы, что речь идет о «Докторе Паскале»! Вот все вы, мужчины, одинаковые — мысль о том, что женщина способна на глубокие самостоятельные суждения, подрывает основы вашего устоявшегося миропорядка! — Оскорбленная Таша не замедлила выместить гнев на кисточках — так тряхнула стакан, что они долго еще покачивались и жалобно постукивали.
— Мы с тобой выше любых обобщений о мужчинах и женщинах, дорогая. — Виктор поднялся с кресла. — Прости мое невнимание — это погода виновата. В моих глазах ты ничуть не уступаешь в способности к глубоким самостоятельным суждениям самому Эмилю Золя. Но ты лучше, потому что ты — богиня. И я приношу тебе жертвы. Вот уже усы принес, Кошку… — С этими словами он обнял девушку за талию, но Кошка, услышав свое имя, запрыгнула с сундука на плечо Таша, и та осторожно, чтобы не уронить незваную гостью, пошла к спальне.
Виктор, воспользовавшись передышкой, немедленно изучил часы. Донце действительно откинулось, на нем крошечными буквами было нацарапано: «Ул. Гизард, д. 4». Таша вернулась, избавившись от Кошки, которая теперь скакала по кровати, пытаясь поймать собственный хвост-полукисточку, и Виктор быстро сунул часы в карман пиджака, висевшего на спинке кресла.
— Должно быть, у меня острый приступ интуиции, свойственной всем женщинам, уж прости за очередное обобщение, но сдается мне, что тебя опять заворожил демон расследования — какой-то ты рассеянный и нервный…
— Меня заворожила ты, дорогая.
— Виктор, за четыре года я неплохо тебя изучила. В последнее время ты даже свой фотоаппарат забросил… И потом… — Таша поколебалась, но все же договорила: — Я встретила Антонена Клюзеля. Мы поболтали, и выяснилось, что ты расспрашивал его об одном убийстве. Значит, опять?..
— Не выдумывай, милая. Антонен так привык распространять слухи через свою газету, что уже не может остановиться. Я же тебе обещал.
— Обещания — ловушки для дураков.
— Вот оно — благотворное влияние Кэндзи! — засмеялся Виктор. — Ты тоже начала говорить афоризмами.
Но Таша даже не улыбнулась:
— Кстати, а что с тем погибшим переплетчиком? Его уже похоронили?
— Дело закрыто, Кэндзи выдали останки в полицейском морге. Он взял на себя все заботы по кремации и сохранил урну с пеплом на случай, если дальний родственник Пьера Андрези все-таки объявится.
— Это хорошо. Ведь вы с Кэндзи были его друзьями?
— Я всего лишь твой дружок, но в иерархии отношений это более почетное место, чем просто чей-то друг, правда? Дружок, который с ума сходит при мысли о том, что под этим пеньюаром ты голая…
Таша позволила себя раздеть, увлечь в спальню… К реальности ее вернул лишь собственный стон наслаждения.
— Я обессилен! — выдохнул Виктор.
— Мой бедный Самсон! Тебя лишила сил моя любовь или сила была в усах?
— Усы я возложил на алтарь твоей любви, так что без разницы… Но если все дело в усах, отпущу их до земли!
— Они будут цепляться за спицы твоего велосипеда, милый. — Таша погладила Кошку, которая во время их любовной баталии с интересом бродила вокруг.
— Ты любишь эту скотинку больше, чем меня, — недовольно поморщился Виктор.
— Конечно, она ведь такая пушистая, а у тебя даже усов нет!
— Злодейка, у меня все ж таки кое-где остались волосы, — похлопал он себя по груди.
Таша нежно обняла его и прошептала:
— «Он принял высочайший дар ее тела как бесценное сокровище, отвоеванное силой его любви».
— Опять Золя!
— Знаешь, как он называет первую ночь своих героев? Брачная, хотя у них не было свадьбы… Я тут подумала и решила, что у нас еще все впереди.
— То есть ты… согласна? — Виктор даже сел на кровати от неожиданности и с надеждой воззрился на Таша.
— Да. Осенью, при условии, что никакой публичной шумихи вокруг этого грандиозного события не будет. Тихо, скромно, два свидетеля, семейное торжество.
— Дорогая, принимаются любые условия!
— Тогда еще два: ты опять отрастишь усы, а то Жозеф и Кэндзи по ним очень убиваются и вообще требуют соблюдения приличий. И ты навсегда забудешь о Пьере Андрези.
— Да, конечно! — радостно выпалил Виктор, незаметно скрестив пальцы.
«Улица Гизард, дом четыре — это где-то рядом с площадью Сен-Сюльпис», — успел он подумать, прежде чем снова набросился на Таша.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Суббота 22 июля
Виктор и Жозеф вышли из желтого омнибуса на перекрестке Одеон и свернули на улицу Сен-Сюльпис, отведенную без остатка продавцам предметов религиозного культа. Делая вид, что поглощен созерцанием риз, распятий, свечей, гасильников в витринах многочисленных лавочек, Жозеф лихорадочно размышлял, как бы поэлегантнее поделиться с месье Легри новостью о примирении с Айрис.
Терпение Виктора кончилось у свечной лавки.
— Что вы там разглядываете, Жозеф? Хотите устроить в «Эльзевире» полную иллюминацию?
— Да вот думаю, понравится ли вашей сестре эта лампадка, потому что…
— Потому что ваша страсть снова вспыхнула неугасимым пламенем?
— О, патрон, как вы изящно выразились, надо будет непременно…
— Непременно использовать это в вашем романе-фельетоне, полагаю? Дарю, мне не жалко. Храните свои любовные тайны, а я приберегу свои, но что-то мне подсказывает, что в ближайшее время судьба будет благосклонна к нам обоим. Идемте же, а то мы никогда не доберемся до цели.
На тротуаре у церкви Сен-Сюльпис калека продавал благочестивые картинки с наставлениями, расхваливая товар скрежещущим голосом под вялый вальсок шарманки. Вокруг фонтана с расположенными одна над другой чашами гуляли малыши под присмотром нянек, которые краем глаза сторожко следили за маневрами экипажей и омнибусов — огромных коричневых из Ла-Виллетт и маленьких зеленых с остановки перед Пантеоном. Фиакры поджидали пассажиров возле общественного сортира за пять сантимов.
Толпа семинаристов высыпала с улицы Канет, Жозеф с Виктором оказались в этом шествии замыкающими, но вскоре свернули на улицу Гизард. Здесь они протиснулись между двумя перегородившими узкую мостовую тележками, оставленными под охраной флегматичного спаниеля. Дом номер четыре оказался приземистым жилым зданием с растрескавшимися стенами, к нему притулилась лавчонка с бочками сидра и грушовки.
— Как будем действовать, патрон? — спросил Жозеф, у которого внезапно пересохло в горле.
— Не вижу иного пути, как пройтись по квартирам и расспросить жильцов про нашего галльского вождя.
— Вот уж наслушаемся! — проворчал Жозеф. — Как бы с лестницы не спустили.
— Страх — безумная птица, каковую надлежит держать в клетке, сказал бы вам Кэндзи. Вперед, друг мой! — подбодрил Виктор.
— Хорошо хоть, здесь всего три этажа, — вздохнул молодой человек.
В каждом этаже было по две квартиры. Постные лица, с опаской выглядывавшие из-за дверей, мрачнели еще сильнее, оттого что их зря потревожили, и исчезали, двери захлопывались. Никто здесь не знал Сакровира. Остались только две квартиры на третьем этаже, когда ниже на лестнице зазвучали шаги — кто-то поднимался по ступенькам, прихрамывая. Вскоре показалась женщина лет тридцати с угловатым, но симпатичным лицом, она тащила огромный тюк, обхватив его двумя руками. Виктор поспешил на помощь.
— Уф, спасибо вам, месье, — перевела дух жиличка, освобожденная от ноши, — эта лестница меня когда-нибудь прикончит. Надо признать, не лучшая идея — забиться под самую крышу, когда у тебя одна нога короче другой.
— Ку… куда это положить? — прохрипел на третьем этаже Виктор, у которого от напряжения уже дрожали колени.
— Минутку, сейчас дверь отопру… Входите, вот сюда, на стол.
Виктор скорее выронил, чем положил неподъемный тюк, как будто набитый свинцовыми ядрами.
— А так и не скажешь, что белье, даже сухое, может столько весить, правда? — вздохнула женщина. — Но мокрое и того хуже. Когда я прачкой работала, бывало спину потом разогнуть не могла. А три года назад меня угораздило свалиться в моечную машину, охромела, потом муж мой, каменщик, с лесов упал, разбился насмерть, и я стала гладильщицей на дому. Еще шью, перешиваю. Для вас уж точно расстараюсь, никто пока на мою работу не жаловался.
Виктор и Жозеф смущенно переглянулись.
— Мадам, вообще-то мы пришли, потому что ищем одного человека…
Из спальни, зевая, выбрел полуголый мальчуган с перемазанным вареньем подбородком.
— Почему ты не умылся, грязнуля? — нахмурилась женщина. — Ты хорошо себя вел?
Малыш кивнул, засунул палец в нос и уставился на Жозефа.
— Это мой Жанно. Жанно, скажи дядям «Здравствуйте»… Ну что же ты, детка? Он у меня стеснительный. Стало быть, вы ищете…
— Сакровира, — сказал Жозеф, делая вид, что не замечает, как старательно маленький паршивец показывает ему язык.
— Сакровира? Да-да, я помню его, красивый был парень и всегда веселый. Он жил на втором этаже, приехал в Париж из Отена. Но Сакровир — это, конечно, не настоящее имя, а кличка, хотя все его только так и звали.
— А какое настоящее? — спросил Виктор.
— Сам сначала скажи, как тебя зовут, — потребовал Жанно.
— Виктор Легри, книготорговец, — церемонно поклонился он. — А это мой управляющий Жозеф Пиньо.
— Очень приятно, господа, — заулыбалась женщина, — присаживайтесь, такая жара нынче. Жанно, пойди запри дверь. А я Мариетта Тренке. Хотите воды? У меня есть остывшая в миске.
— С удовольствием, — обрадовался Жозеф.
Виктор, которому не терпелось услышать про Сакровира, сердито покосился на него, но женщина уже наполняла стаканы.
— Так вы были близко знакомы с Сакровиром? — уточнил Виктор.
— Что вы, мне тогда было всего лет одиннадцать-двенадцать, а ему уж двадцать сровнялось. Но его лицо до сих пор стоит перед глазами. Высокий, ладный, глаза с поволокой, черные кудри… По правде сказать, я была в него влюблена, по-детски, конечно. Всякий раз, как видела его, так сердечко и замирало, а он надо мной подтрунивал всегда: «Опять, Мариетка, объелась конфетками?» Какие уж там конфетки? Жили-то мы бедно, я помогала матери, она тоже была прачкой и вдовой, вот так судьба повторяется…
— А Сакровир где-нибудь работал?
— Да, в типографии. Пальцы у него вечно были в краске. В день моего первого причастия в церкви Сен-Сюльпис он подарил мне кулек драже и напугал до смерти, когда сказал, что сейчас схватит за платье и испачкает его. А потом объяснил, что это он назло Господу хотел сделать, потому что Господь допускает всяческие несправедливости. Уж я краснела, его слушая!
— Пино — это вино такое, — заявил мальчуган, не сводивший пристального взгляда с Жозефа.
— Где ты таких слов набрался?! — переполошилась мать.
— Где сидр продают, — степенно ответил мальчик.
— Моя фамилия Пиньо, а не Пино, — насупился Жозеф.
— Жанно, иди поиграй в уголке, — велела Мариетта, — ты нам мешаешь.
— А что сталось с Сакровиром? — продолжил расспросы Виктор.
— После нашего поражения
[337] он вернулся с войны, а пока был там, я ходила в церковь за него молиться. Потом пруссаки осадили Париж, тяжелое настало время. Через несколько месяцев временное правительство сдало Бельфор и — я точно помню число, это было первого марта семьдесят первого года, в мой день рождения — подписало капитуляцию. И все из-за этой сволочи Тьера!
[338]
— Мама, это плохое слово, тебя оштрафуют! — возликовал Жанно.
— Заткни ушки, детка. Ведь вправду же сволочь была редкостная, этот Тьер, — до того боялся собственного народа, что отказался раздать оружие и вместо того, чтобы повести нас к победе, сговорился с врагом. О том, что было дальше, и так всем известно.
— Ну, это давняя история, — покивал Виктор, которого не занимало никакое прошлое, кроме своего собственного.
— Когда вы родились, месье? — ласково спросила Мариетта.
— В тысяча восемьсот шестидесятом.
— А я в пятьдесят девятом. Один год в детстве — большой срок. Возможно, именно поэтому я помню то время лучше, чем вы. В двенадцать лет уже хорошо понимаешь тех, кто отказывается задирать лапки перед врагом. Когда части регулярной армии и Национальной гвардии восстали, Тьер позеленел от злости и бросил правительственные войска на Монмартрский холм, где у парижских гвардейцев была артиллерия. Но штурм не удался, войска отступили без боя, а двух генералов Тьера расстреляли восставшие, которые не могли смириться с тем, что Париж сдадут пруссакам. Потом была смута, правительство сбежало в Версаль, Тьер увел верные ему полки Национальной гвардии, Париж объявил себя свободной коммуной.
— Мам, что такое «кумуна»? — спросил Жанно, вертевший на полу волчок.
— Свобода продолжалась ровно семьдесят два дня, — не обратила на него внимания Мариетта. — А потом начались репрессии.
— Коммунары тоже святостью не отличались, — заметил Виктор.
Жозеф не мог не вмешаться:
— Коммунары мечтали о лучшем мире, в котором богатые будут не такими богатыми, а бедные — не такими бедными!
— Все утопические мечты приводят к тому, что богатые и бедные просто меняются местами, Жожо. Нет ничего нового под солнцем.
— Ваш друг прав, месье Легри, — покачала головой Мариетта. — Коммунары хотели справедливости. Но справедливость не получишь за одно «пожалуйста» — ее надо отвоевывать. Коммунары сражение проиграли. А победители — Тьер, Мак-Магон, Галифе — не знали пощады. Тысячи людей были расстреляны без суда и следствия, ни за что, за пустяк. К стенке — и «пли!», вот вам и весь приговор с исполнением. В конце концов даже самые остервенелые версальцы сами потребовали прекратить эту бойню — столько трупов было повсюду, ступить некуда. Трупы на мостовых, в Сене, в канавах, в фонтанах, тучи мух над ними, и вонь… Добропорядочные буржуа убоялись холеры.
— Мама, мы тоже умрем? — расхныкался Жанно.
Мариетта прижала сына к себе. Виктор напомнил о том, что его заботило:
— А что же Сакровир?
— Исчез. Я видела его весной — он был коммунаром, печатал листовки для Центрального комитета. Может, уцелел, а может, его казнили. Безумное было время. Нас тоже тогда чуть не расстреляли. Одна стерва со второго этажа, жена полицейского сержанта, приревновала своего благоверного к моей матери. Она у меня была раскрасавица, мужчины за ней всегда увивались. Так вот стерва написала донос, наврала, что мы были связаны с коммунарами. Когда пронесся слух, что к нам идут жандармы с обыском, мы спрятались в погребе дядюшки Дерава. Он держал бистро на улице Канет, смелый был человек… Отсиживались мы там почти две недели и через подвальное оконце слышали выстрелы, все время выстрелы и крики версальцев: «В очередь!»
— В очередь? — переспросил Жозеф.
— Да. Становитесь, мол, в очередь, не толкайтесь, каждый получит пулю, никто не уйдет живым. Под конец они уже расстреливали людей из митральезы.
— Патрон, вы слышите? Это чудовищно!
— Да, Жозеф, это чудовищно, — рассеянно повторил Виктор, гладя по голове Жанно, который теперь ревел в три ручья. — Вот, малыш, возьми, — шепнул он, сунув в детскую лапку монету, — купишь себе конфет.
— Патрон, неужели вас это не возмущает?! — воскликнул Жозеф.
— Возмущает, Жожо. Но я слишком рано узнал, что самые страшные хищники не сравнятся в жестокости с людьми. И меня ничто больше не удивляет.
— Вы еще скажите, что человек человеку волк, — буркнул юноша.
— Давайте оставим афористические изречения нашему другу Кэндзи и вернемся к Сакровиру. Прошу вас, мадам. У него была семья?
— Не знаю. В тот год я повзрослела. Нельзя оставаться ребенком, глядя на трупы. Вы когда-нибудь видели трупы? Раздутые тела, выпученные глаза, потому что некому было опустить веки… Я постоянно думала о Сакровире, с ума сходила при мысли о том, что его могли убить… Ох, я тебя напугала, Жанно? Вытри носик, детка, уже все хорошо… Ужаснее всего то, что большинство убийц до сих пор живут припеваючи, сохранили свои посты, и доносчики сухими из воды вышли. Среди них даже судьи есть. Надо же, они убили тысячи безвинных горожан, а сейчас представляют закон! Вот так и понимаешь, отчего люди идут в революционеры.
— А кто-нибудь, кроме вас, может нам рассказать о Сакровире?
— Попробуйте расспросить сына мясника, он работал в той же типографии. Цеховым мастером, кажется, или кем-то вроде того.
— Где его найти?
— Ох, не знаю, он давно покинул квартал.
— А как его звали?
— Забыла. Если он еще жив, ему, должно быть, под шестьдесят. Я последняя из прежних жильцов, все разъехались после войны. Та стерва со своим муженьком одна из первых сбежала — боялась мести… Ах, вспомнила, есть еще месье Фурастье, сапожник, он жил в первой квартире, а сейчас перебрался на улицу Байе, это рядом с Лувром… Спасибо вам за монетку, месье Легри… А что вам нужно от Сакровира, коли не секрет?
— Мне доверили одну вещь, принадлежавшую ему, — я хотел бы вернуть ее владельцу.
Мариетта Тренке проводила их на лестничную площадку.
— Если вам когда-нибудь доведется с ним встретиться, это будет чудо. Скажите ему… Нет, ничего ему не говорите.
…Кэндзи оделся со всем тщанием: полуоблегающий сюртук, белая сорочка, серые панталоны. Галстук он сменил на «бабочку», а тонкие замшевые перчатки были совсем новенькие. Когда он в таком виде предстал перед дочерью, Айрис решила пока не сообщать о своем примирении с Жожо, момент был неподходящий — папенька определенно собирается провести вечер с одной из своих подружек, зачем портить ему настроение. Лучше дождаться более торжественной обстановки и объявить новость в присутствии Виктора и Эфросиньи.
Фиакр остановился у церкви Святого Евстахия. Дальше, в лабиринте соседних с Центральным рынком улочек, на которых шла бойкая торговля овощами и фруктами, было такое столпотворение, что Кэндзи предпочел пройтись пешком. Он любил такие вот простонародные кварталы, где витрины лавок ломились от всякой снеди, снедь продавалась на лотках, заполонивших тротуары, и горами высилась на тележках бродящих торговцев и зеленщиков. Лимоны, сыры на любой вкус, сладости, свежие овощи расцвечивали яркими пятнами подступы к домам зажиточных горожан, а на фасадах сверкали позолотой вывески коммерсантов. Японец отскочил, пропуская двухколесную тележку с зеленью, которую лихо катил парень в полосатом свитере, и свернул на улицу Мандар, поразившую его тишиной и покоем, особенно приятными после суеты, гвалта и ругани за спиной.
Кэндзи ничуть не сожалел о том, что пришлось расстаться с синенькой купюрой, — он вручил ее Акопу Яникяну в обмен на очень важные сведения: адрес его кузена Арама Казангяна и информацию о том, что по субботам почтенный филолог сиднем сидит в своей комнате и лишь изредка дает на дому уроки арабского языка за два франка в час.
Как правило, консьержа не увидишь верхом на стуле и с воображаемой шашкой наголо ни в одном подъезде до наступления сумерек, но у дверей дома номер пятнадцать страж нес вахту, укрывшись от солнца под зонтом. Занят он был тем, что чистил топинамбуры и один за другим кидал клубни в миску. Не прервавшись ни на секунду и даже не взглянув на Кэндзи, консьерж сообщил, что месье Казангян проживает в шестом этаже, вход со двора.
Судя по спертому воздуху и вони, лестничную клетку не проветривали ни разу со времени постройки здания. Штукатурка — в тех местах, где она еще осталась, — растрескалась и отваливалась на глазах. Потолок на последнем этаже оказался таким низким, что Кэндзи вынужден был пригнуться. Ему пришлось довольно долго стучать, прежде чем дверь соизволили открыть и на пороге возник Арам Казангян все в той же рубахе без воротника. Армянин изобразил некоторый намек на поклон, поднес палец к губам, призывая незваного гостя сохранять молчание, окинул его взглядом с головы до ног и вынес вердикт:
— Мой ответ «нет», вопреки отсутствию у меня в данный момент учеников, ибо в высшей степени маловероятно, чтобы гражданин Японии, питающий живейший интерес к истокам Нила, мог испытывать малейшую потребность в изучении арабского литературного языка.
— Я внял вашему совету и отказался от галстуков. Кроме того, я не могу принять столь категоричное «нет», поскольку пока не задал вам ни одного вопроса.
Сбитый с толку армянин потеребил бороду, словно она могла подсказать ему линию поведения, затем все же сделал японцу знак войти в мансарду.
За исключением пуфа, обтянутого потрескавшейся кожей, каминной жаровни и нескольких стопок книг, вокруг не было ничего, кроме газет и журналов — они занимали все свободное пространство, кипами разной величины подпирали стены и высились прямо на полу посреди комнаты.
— Вас удивляет интерьер моего скромного жилища? Между тем он весьма практичен и удобен в уборке. Когда газеты и журналы обрастают пылью, только и нужно, что выкинуть их и обзавестись другими, а это проще простого: на улице Круасан нераспроданные вчерашние выпуски лопатой можно грести, их отдают почти даром. Газетная бумага, помимо дешевизны, обладает массой достоинств: зимой она держит тепло, летом защищает от жары, и из нее получается роскошная мягкая постель, состоящая из матраса, простыней, подушек и одеяла. Позвольте-ка, я не одет… — Арам Казангян нахлобучил на голову скуфейку, сунул ноги в туфли без задников и уселся на пуф. — Вот теперь внимательно вас слушаю.
— Я принес вам подарок.
— Располагайтесь, чувствуйте себя как дома.
Кэндзи огляделся, поколебался, но все же соорудил себе посадочное место из нескольких стопок периодики, устроился на них и протянул хозяину издание в шестнадцатую долю листа.
— «Персия» Нарцисса Перена, — прочитал тот на переплете. — Не хватает еще шести томов.
— В моем распоряжении только этот. В него входит эссе о персидской литературе, которое должно вас заинтересовать.
— Я уже читал его. Весьма поверхностное сочинение.
— Однако, переплет с кожаными вставками украсит любую библиотеку.
— У меня нет библиотеки. Оглядитесь: необходимые мне произведения занимают очень мало места. Зачем загромождать собственное жилище книгами, когда в моем распоряжении все фонды Национальной библиотеки? На бумагу изводят километры лесов, и я вовсе не желаю быть причастным к убийству деревьев. Деревья — наши друзья, наши братья. По достижении определенного возраста мы теряем волосы, как деревья теряют листья. Наша кровь подобна их сокам, в старости она замедляет бег, кожа грубеет и собирается складками, словно кора, мы обращаемся в никчемные бревна. И умираем.
Кэндзи, которого от этих слов мороз продрал — в основном в виду абсурдности ситуации, — предпринял еще одну попытку:
— Если это издание вам без надобности, можете его продать, я подарок обратно не возьму.
Армянин поддернул рубаху и поскреб бедро — видимо, это означало глубокую задумчивость.
— Я так полагаю, своим подарком вы намеревались усыпить мою бдительность. В любом случае, вам что-то нужно от меня взамен. Что?
— Название манускрипта, которое вам удавалось от меня так ловко скрывать в читальном зале.
Арам Казангян расплылся в слащавой улыбке:
— Ну, раз уж вы никак не можете обойтись без этих сведений, я могу запросить более подходящую цену, вместо того чтобы довольствоваться каким-то жалким томом из собрания сочинений Перена.
— Это было бы недостойно такого человека, как вы.
Армянин гордо вскинул голову:
— Вы задели чувствительную струну. Я честный человек и скажу то, что вам так не терпится услышать. — Он приподнялся с пуфа и, приблизив бородатое лицо к самому носу японца, прошептал название.
— Стало быть, действительно «Тути-наме», — задумчиво кивнул Кэндзи.
— …По-моему, это уже чересчур, патрон! — прокомментировал Жозеф, не уточнив, к кому из хозяев «Эльзевира» обращено его восклицание.
Лавку закрыли на обеденный перерыв, и трое мужчин только что подкрепились жареными баклажанами, приготовленными по заказу Айрис, которая уже убежала на урок рисования к Джине Херсон. Жожо и Виктор пили кофе, Кэндзи заваривал себе зеленый чай.
— Я вижу только два объяснения, — сказал Виктор. — Либо переплетчик продал манускрипт…
— Невозможно, — отрезал Кэндзи.
— …либо манускрипт украли из мастерской после пожара.
— Тоже невозможно — там все сгорело.
— Нет, возможно! — возразил Жозеф. — Тот, кто устроил поджог, мог завладеть манускриптом до того, как взорвались шашки фейерверков.
— Пьер Андрези этому воспрепятствовал бы, — покачал головой Виктор.
— Не вопрос — преступник оглушил его так же, как Эдмона Леглантье!
Тут оба замерли, внезапно заметив, что Кэндзи смотрит на них с недоумением.
— Что происходит? Почему вы так уверены, что Пьера Андрези убили? И кто такой Эдмон Леглантье?
— Патрон, настало время исповедаться, —
жалобно вздохнул Жозеф, покосившись на Виктора. И они, перебивая друг друга, поделились с Кэндзи результатами расследования.
— Причины ваших многочисленных отлучек теперь предстают в новом свете, — произнес японец, выслушав рассказ. — Браво, вы снова проявили себя как усердные ищейки, умеющие хранить язык за острыми зубами. Однако, я предпочел бы узнать обо всем пораньше, поскольку Пьер Андрези был моим другом.
— Но, патрон, мы же хотели вычислить и поймать его убийцу! — попытался оправдаться Жозеф.
— В дальнейшем на мою помощь не рассчитывайте. Ваше предыдущее расследование чуть было не обошлось всем нам слишком дорого. Я в ваши игры больше не играю. — Кэндзи принялся пить чай, старательно избегая взглядов сотрапезников. Однако, вопреки высказанному решению не участвовать в деле, он, уже когда мыл чашку, проговорил: — Вы пренебрегли третьим объяснением. Манускрипт могли украсть у Пьера Андрези при жизни, он, не желая огорчать меня прискорбным известием, затеял поиски вора и в результате нашел свою смерть.
Виктор хлопнул себя по лбу:
— Верно! Как мы об этом не подумали?
Кэндзи молча вышел из кухни.
— Жозеф, я отправляюсь к Фюльберу — надо во что бы то ни стало отыскать того, кто общался с переплетчиком последним.
— Пресловутого Гюстава? А меня, значит, опять бросаете?
— Простите, Жозеф, но тут лучше действовать в одиночку, чтобы избежать ошибки. Вечером я вам обо всем подробно расскажу.
— Вот стану ему зятем, тогда пусть попробует относиться ко мне как к несмышленышу, которому сказки на ночь рассказывают, — проворчал всеми покинутый Жозеф.
Через двор тянулась веревка, на которой старуха развешивала выстиранное белье. Виктор прислонил велосипед к стене и помог старухе в ее начинании, получив в награду тысячу благодарностей и сведения о том, что месье Гюстав с работы еще не вернулся, но вот-вот появится.
Официант из кафе «У Фюльбера» записал название улицы не полностью — «Ж.», и теперь уж не помнил его, а номер дома Гюстава и вовсе не отметил, зато сказал, что первый этаж в здании напротив занимает мастерская по набивке тюфяков. Виктор заново исколесил район Шапель и вырулил наконец на улицу Жан-Котен, где ему в глаза сразу бросилась чесальная машина, грохотавшая за распахнутыми дверями; там же были сложены горы тюфяков, готовые к продаже. «Моя жизнь трещит и рвется, как волокна шерсти», — подумал Виктор, охваченный внезапным сплином. Когда Таша согласилась стать его женой, он был вне себя от радости, но теперь перспектива семейной жизни его беспокоила. А что, если Таша была права, упорно отказываясь от замужества? Что, если официальный брак разрушит их любовь?..
Где-то вдалеке пыхтели паровозы. Навстречу шагал низенький пузатый субъект в клетчатой мелоне, и Виктор тотчас насторожился. Этот человечек очень подходил под описание, услышанное им от Аделаиды Пайе — она говорила о том типе, который передал Эдмону Леглантье коробку из-под печенья в пивнушке «Мюллер». Мало того, когда человечек свернул во двор дома в точности напротив тюфячной мастерской, Виктор вспомнил, что уже видел его в кабинете Рауля Перо, а потом, мельком, в ресторанчике, где они с Раулем обедали. Кроколь?.. Нет, Корколь, инспектор.
— Милостивый государь! — воскликнул Виктор, ухватив его под локоть, и человечек в мелоне развернулся к нему с кошачьей ловкостью.
Он тоже узнал Виктора: «Тот малый из заведения мадам Милан». Но оба предпочли держать свои открытия при себе.
— Вас зовут Гюстав? Вы были другом Пьера Андрези?
— И до сих пор им остаюсь.
— Однако он погиб во время пожара.
— Да, известие об этом меня весьма опечалило.
— Я был… и тоже остаюсь одним из его близких друзей. Он упоминал ваше имя.
— Неужели? — нахмурился Корколь.
— Да-да, частенько говаривал: «Дорогой мой Гюстав, верный друг!» Но должен извиниться за невежливость, я не представился: Виктор Легри, книготорговец. Я часто отдавал месье Андрези манускрипты в переплет. О вас мне рассказал Фюльбер, и я решил посоветоваться — кое-что не дает мне покоя в обстоятельствах смерти Пьера Андрези. Вы это читали? — Виктор протянул Корколю вырезанное из газеты извещение о похоронах переплетчика.
Инспектор пробежал глазами текст в черной рамке, и на его лице не отразилось никаких эмоций.
— Припоминаю, уже читал в газете. Меня оно тоже заинтриговало, я поразмыслил и пришел к выводу, что это извещение в память о его брате, который как раз и преставился двадцать пятого мая прошлого года. Пьер так по нему убивался…
— А о каком кладбище тут идет речь? Может быть, о Сент-Уанском?
— Вероятно, так, это где-то поблизости. Ах, судьба-злодейка…
— Удивительно то, что извещение появилось накануне пожара. Как будто месье Андрези что-то предчувствовал.
— Не исключено даже, что он дал какие-то распоряжения на случай своей смерти, — уверенно покивал инспектор. — У него, видите ли, было неладно со здоровьем, сердце пошаливало. Конечно, он никогда особенно не жаловался, об этом знали только самые близкие.
Виктору Легри последние слова не понравились — Корколь как будто намекал на то, что Пьер Андрези не считал его, Виктора, достойным доверия.
— Но как он мог предвидеть пожар и свою гибель в огне?
— Когда тебе переваливает за шестьдесят, смерть уже дышит в затылок, начинаешь ее печонкой чуять, уж поверьте.
— И все-таки в извещении говорится о его собственных похоронах, а не о встрече на могиле брата. Вы давно были знакомы с Пьером Андрези?
Во двор высыпала ребятня, устроив игру в прятки среди развешанного старухой белья; прошли кумушки, болтая о ценах на овощи; протрусила собака; работяги и ремесленники, завершив трудовой день, потянулись к подъезду. Шум и разноголосье перекрыли отчаянные вопли — разъяренная мамаша поймала и отшлепала своего отпрыска.
— Почти два года. Что за бедлам, — проворчал Корколь, — давайте отойдем в сторонку.
Виктор последовал за ним в закуток двора, заваленный мусором.
— Мы захаживали в одно бистро. Там, у стойки, и познакомились. Пьер тогда часто навещал своего брата в госпитале Ларибуазьер, тот, бедолага, на больничной койке и помер — ему еще в семьдесят первом легкое прострелили, страшная была рана, но прикончила его только через двадцать лет.
— Странно, Пьер никогда не говорил мне о том, что у него есть брат, — задумчиво пробормотал Виктор.
— Бедный Пьер, он был так привязан к своему братишке, — пригорюнился Корколь. — Я поддерживал его как мог — война, знаете ли, сплачивает навеки. Я сражался под Гравелотом, он был ранен в руку прусской пулей под Рейхсгофеном.
— А как звали его брата?
Корколь моргнул.
— Вот незадача — забыл, в моем возрасте память-то совсем никудышная. Когда брат умер, мы с Пьером какое-то время не встречались, потом я как-то зашел за ним в мастерскую, а после уже часто туда наведывался — мне нравилось смотреть, как он управляется со своими прессами. Мы условились вместе обедать раз в месяц… Такая ужасная смерть — сгореть живьем… А печальнее всего, что нет возможности даже сходить к нему на могилу. В морге мне сказали, от тела почти ничего не осталось…
— У Пьера был еще и кузен? Он упоминается в извещении о похоронах.
— Если у Пьера и были другие родственники, мне о них неизвестно — он все время говорил только о своем брате. Откуда взялся этот Леопардус, ума не приложу.
— Инспектор, а слово «Сакровир» вам не доводилось слышать?
— Нет, а что это? Новое ругательство? Рад был с вами познакомиться, месье Легри. Оставьте мне вашу визитную карточку на случай, если вспомню имя брата.
Виктор успел в последний момент спасти свой велосипед от ватаги сорванцов, собиравшихся развинтить его на детали, и поехал к улице Роз. Интересно, этот Гюстав Корколь — гениальный артист или действительно говорил правду? И как он ухитрился забыть имя брата, не сходившее, судя по всему, у Пьера Андрези с языка?
К тому моменту, когда Виктор добрался до артезианского колодца на площади Эбер, он окончательно пришел к выводу, что коротышка в мелоне ему лгал.
…Гюстав Корколь жадно хватал ртом пропитанный кухонной гарью воздух — восхождение на третий этаж лишило его сил, и он остановился у окна на лестничной клетке, пытаясь отдышаться. За окном простерся индустриальный пейзаж: железнодорожные пути, депо, ремонтные мастерские; где-то недалеко натужно трубил паровоз. Корколь раздраженно отошел от окна и отпер дверь своей холостяцкой двухкомнатной квартирки, которую он запустил до невозможности. Там воняло потом и объедками, повсюду валялась грязная посуда и сомнительной свежести одежда. Не то чтобы Корколя это устраивало, но нанять уборщицу он не решался — из страха, что та будет совать нос в его делишки.
— Черт побери, все шло как по маслу, а теперь этот пижонистый книготорговец выискался! — пожаловался Корколь своему отражению в пыльном зеркале.
Что успел разнюхать любопытный Легри? Он уже в курсе, какую роль Корколь сыграл в этой истории? Маловероятно. Скорее, их встреча — результат злополучного стечения обстоятельств. Чертов Фюльбер выдал ему адрес, трепло этакое!.. Нет, тут должно быть что-то еще, иначе этот хлыщ не крутился бы вокруг Рауля Перо, чтоб ему провалиться, выскочке, нашелся тоже помощник комиссара. Дело отчетливо пахнет керосином. Нужно немедленно что-то предпринять. Немедленно!
Корколь снял пиджак, вытер платком потное лицо. Достав из ящика и выложив на стол папку, перебрал в ней газетные вырезки — в каждой заметке содержались намеки на Даглана. Загадочный кузен Леопардус — это он. Он убил эмальера Леопольда Гранжана, изготовившего эскиз и клише для акций «Амбрекса». И к лжесамоубийству этого фигляра, чертова горлопана Эдмона Леглантье, тоже он руку приложил. И исчезновение печатника Поля Тэнея — его работа. А главное, он еще и подписался под каждым своим злодейством, украсив собственной кличкой дурацкую абракадабру, — думал, это смешно. Ха-ха! Чтоб ему пусто было!..
Хотя… оно не так уж и плохо — все убийства спишут на Леопарда из Батиньоля. Все до единого. И поэтому главная задача сейчас — устранить Даглана, пока флики до него не добрались.
Трусом инспектор Корколь не был. Недавно, во время беспорядков, он ввязался в драку с бандой хулиганов у газгольдера на улице Эванжиль — знал ведь, что может погибнуть, но не колебался ни секунды (от своих обязанностей инспектор не отлынивал, хотя авторитета у начальства ему это и не прибавляло). Однако сейчас, держа в руках газетные вырезки, пестрящие словом «леопард», он холодел от страха, и страх мешал ему сосредоточиться. Он предпочел бы кровавую стычку этому тупому оцепенению, вызванному совершенно абсурдными обстоятельствами.
Корколь яростно смял вырезки и бросил их в пепельницу. Спичку удалось зажечь с десятого раза — пальцы дрожали. Наблюдая, как корчится в пламени газетная бумага, он пытался себя успокоить: «Как только Даглан сдохнет, все ниточки, ведущие ко мне, оборвутся. А я буду там, где меня никто не достанет. Даже обидно как-то — если б остался в Париже, еще бы и личную благодарность огреб от господина префекта полиции за устранение этой сволочи! Глядишь, и медаль бы выдали. Да только вот через четыре дня я буду уже далеко…»
Гюстав Корколь закрыл глаза и представил себе, как обалдеют коллеги, обнаружив его исчезновение. Ничтожества, если б они только знали!..
Никогда они не узнают. А жаль. Но не узнают вовсе не потому, что скромному Корколю не хочется утереть им нос. Его триумф останется в тайне по другой причине. А сам он получит все, чего вожделел долгое время. Осталось только руку протянуть, и женщины, которые раньше потешались над его внешностью, именитые господа, брезговавшие его обществом, заносчивые чиновники — все будут в его распоряжении. Всё можно купить за деньги — уважение, честь, комфорт, удовольствия. А деньги у него уже есть, терпеливо ждут в брюссельском банке, славная сумма, двести с лишним тысяч франков — сто одиннадцать его годовых окладов, не больше и не меньше. «Четыре дня — и ты уже будешь там!»
Корколь отставил стул и надел пиджак. Перед порогом засеменил, примериваясь, чтобы переступить его с левой ноги, и сам посмеялся своему ребячеству. В кармане лежал адрес дома на окраине Батиньоля. Леопард будет загнан, пойман и убит.
Воскресенье 23 июля
Фредерик Даглан все утро провел на блошином рынке. Бродил от прилавка к прилавку, совсем упарился, но улов был что надо: засаленная фуражка, пара стоптанных годиллотов, шерстяные панталоны и — результат самых долгих и утомительных поисков — военная шинель.
Вернувшись в обиталище мамаши Мокрицы и запершись в пристройке, он устроил генеральную примерку. Через пять минут из зеркала на него смотрел кривоногий старый хрыч с боевым прошлым. Сильно потрепанная шинель была узковата в плечах, фуражка, наоборот, велика и съезжала на глаза — ну и черт с ним, скучающий взгляд прохожего, привычный к облику смотрителя сквера, не заметит разницы. Добрые полдня капрал Клеман продрыхнет в своей будке — Тео за этим проследит, а как только операция будет закончена, его дядюшка выпорхнет на волю.
Фредерик Даглан скинул обноски и с голым торсом, в одних кальсонах, приступил к последней и самой важной подготовительной стадии плана. Зажав сигарету в углу рта, он открыл книгу на странице, отмеченной закладкой, и пронумеровал строчки… Когда все закончится, он не вернется ни на улицу Дам, ни к Немецким воротам. Он спокойно переждет опасное время в квартире своей новой подружки. И никому, ни единому человеку не придет в голову его там искать.
Понедельник 24 июля
По своему обыкновению Жозеф отпирал и поднимал жалюзи, защищавшие в ночную пору лавку «Эльзевир», во всю глотку распевая бравурный марш. Сегодня утром это была «Песня прощания».
— «На юге, на севере трубы поют, в бой зовут!» — горланил Жозеф и вдруг чуть не поскользнулся на неизвестно откуда взявшемся под ногами конверте. Молодой человек нагнулся и поднял письмо. — Кто это тут корреспонденцией разбрасывается? Вот я бы сейчас приложился затылком…
— Утро начинается с ворчанья? И правильно, Жозеф, всё лучше ваших рифмованных воплей. Не дай бог, разбудите Кэндзи, он потом весь день будет в скверном расположении духа, — сказал Виктор, соскакивая с велосипеда.
— Ну наконец-то, патрон, явились! Я вас, между прочим, ждал еще позавчера вечером.
— Сил не было до вас добраться — я как будто бочки таскал весь день.
— Очень мило с вашей стороны сравнить мадемуазель Таша с бочкой, — фыркнул Жозеф, отпирая последний замок.
— В таком случае, господин остроумец, я не скажу вам больше ни слова.
Виктор покатил велосипед в подсобку, а обиженный Жозеф сунул подобранное письмо в карман. Вернувшись в торговый зал, Виктор рассеянно полистал роман Гюисманса, помедлил и, откашлявшись, исполнил куплет собственного сочинения:
— Меня увидав, дражайший Гюстав побледнел, покраснел и как птичка запел… — Он замолчал и насмешливо покосился на Жозефа.
— Да ладно, патрон, — буркнул тот, — вы умираете от желания выложить мне все, что узнали от этого субъекта.
— А вы подпрыгиваете от нетерпения это услышать. Так уж и быть, докладываю.
В конце рассказа Жозеф задумчиво почесал щеку кончиком перьевой ручки.
— Есть тут одна неувязочка, патрон. Пьер Андрези не мог получить ранение под Рейхсгофеном. Его вообще под Рейхсгофеном быть не могло. Он войну не одобрял — сам говорил мне об этом, как сейчас помню. Я брал у него почитать Эркмана-Шатриана — «Госпожу Терезу», «Историю новобранца 1813 года», «Ватерлоо», «Друг Фриц»… Когда возвращал книжки, попытался расспросить его про свару с пруссаками, и он мне вот что сказал: «Любая война — полнейшее свинство, и ничего больше. А я из тех, кто свинство не приемлет, все эти патриотические игры не для меня».
— Это ничего не доказывает.
— Минутку, я не закончил. Я рассказал месье Андрези про своего отца, он ведь служил в Национальной гвардии, два месяца провел на укреплениях…
— Мне вы про него тоже рассказывали, — перебил Виктор, — сейчас речь о Пьере Андрези.
— И я о нем же. Рассказав ему про отца, я спросил, участвовал ли месье Андрези в боях, и он ответил, что отказался тогда служить императору. «Даешь республику, долой Баденге!»
[339] — так он сказал. Короче, в начале войны с пруссаками месье Андрези сбежал в Англию и, вероятно, тайно вернулся во Францию только во время осады Парижа.
— Стало быть, я не ошибся — Корколь наплел мне с три короба, — покачал головой Виктор. — Надо же, еще и ранение Пьеру Андрези придумал!
— Война… — пробормотал Жозеф. — Осада Парижа… Коммуна… Черт возьми, патрон! Эврика! Вот что написано на часах: «Да здравствует Коммуна!»
Виктор восхищенно присвистнул. Жозеф скромно потупился, но мысленно сплясал триумфальную джигу.
— Выходит, Сакровир — это все-таки Пьер Андрези собственной персоной, — торжественно заключил он. — Что до меня, я сразу не поверил в эту байку про его брата, умирающего в госпитале Ларибуазьер. У переплетчика не было ни жены, ни детей, ни братьев. Только дальний родственник в провинции.
— Поздравляю вас с блестящей дедукцией, — кивнул Виктор. — Единственный вопрос: если вы были в курсе семейного положения Пьера Андрези, почему не сказали об этом раньше? Я и не подозревал, что вы так много о нем знаете.
— Просто я не сразу сложил два и два. Мы с месье Андрези частенько болтали, он был со мной откровенен, но разговоры о его семье мы не заводили. Он упоминал о том о сем, если приходилось к слову, и я, можно сказать, восстановил картину по фрагментам… Кстати, нам под дверь подбросили письмо. Полагаю, ночью.
Жозеф протянул хозяину конверт, и когда Виктор его вскрывал, на верхней ступеньке винтовой лестницы показался Кэндзи Мори в шлафроке. Шлафрок был пурпурный в белый горошек.
— Это книжная лавка или консерватория? — недовольно осведомился японец. — Почему здесь все поют? Что, почту принесли?
Виктор и поверх его плеча Жозеф уже не отрываясь читали письмо.
— Вот это да, патрон! Шифрованное послание!
Кэндзи, не мало не заботясь о том, что какой-нибудь случайный посетитель может застать его в домашнем, устремился к ним по ступенькам.
— Читайте вслух, — потребовал он.
Виктор прочистил горло.
Дорогой месье Легри, не хотите ли со мной поиграть?
Он вырос в предместье Сен-Жак. Его старшего брата звали Авель, второй брат сошел с ума. Грозный год. ЧЬЯ ВИНА?
Встречаемся в сквере Батиньоля. Буду ждать Вас во вторник, 25 июля, между 14-ю и 18-ю часами.
— А дальше — столбик цифр по четыре в ряду: 5415, 0505, 0310 и так далее. Их тут полно, — закончил Виктор.
Жозеф, стремительно завладев письмом, уволок его к себе на стремянку, чтобы помедитировать над арифметическим упражнением. Пожав плечами, Кэндзи направился обратно к лестнице.
— Надеюсь, вам хватит здравого смысла проигнорировать это приглашение, которое очень смахивает на западню. Но если вам в голову взбредет откликнуться на него, знайте: я умываю руки, — заявил он, поднимаясь по ступенькам.
На втором этаже хлопнула дверь. Виктор одним скачком оказался около стремянки, завороженный письмом, как лиса сыром в известной басне.
— Ну как, Жозеф, думаете, у вас получится в этом разобраться?
— А то! Я уже решал такие задачки, когда читал шпионский роман-фельетон из времен войны Севера и Юга. В Гражданской войне американские секретные службы играли очень важную роль, патрон, и разумеется, вовсю пользовались шифрами. Страшно интересная штука и очень даже простая, если знаешь, как к ней подступиться.
— Неужели? Так просветите же меня, раз вы в этом эксперт.
— Дайте мне слезть, и я все объясню. Прежде всего оговаривается книга и страница в ней — об этом должны знать обе стороны, обменивающиеся шифрованными посланиями. Далее каждая буква сообщения кодируется четырьмя цифрами. Первые две означают порядковый номер строки, в которой находится эта буква на странице условленной книги, а две последние — порядковый номер буквы в строке. Улавливаете, патрон?
— Да, то есть нет, продолжайте.
— Если номер строки или номер буквы в строке меньше десяти, перед цифрой добавляется ноль. — Жозеф поскреб в затылке. — Короче, все дело в книге, которой пользовались при зашифровке.
— Да уж, господин эксперт, ваши глубокие познания нам очень помогли. Осталось всего ничего — найти книгу, — усмехнулся Виктор.
— На нее нам с вами намекают в письме. Кто родился в предместье Сен-Жак? Или вот: что такое «грозный год»? Ясное дело, год войны с Пруссией, семидесятый — семьдесят первый! А почему «Чья вина?» написано прописными?
— Вероятно, потому, что это название… Жозеф, дайте мне книгу «Виктор Гюго и его время» Альфреда Барбу!
[340]
— По-моему, мы ее продали…
Зазвенел колокольчик на входной двери, и Жозеф, с неохотой отложив письмо, занялся профессором, пришедшим в поисках монографий по эпохе Возрождения. Виктор тем временем перерыл библиотеку вдоль и поперек. Он уже не сомневался, что стихотворение под названием «Чья вина?» должно входить в поэтический сборник Виктора Гюго «Грозный год».
[341] Нашлось первое издание, но, применив метод, изложенный управляющим, Виктор получил в результате полную ахинею, да и вообще непонятно было, как нумеровать строки, поскольку страницу украшали две гравюры с подписями. Удовлетворив наконец профессора-эрудита, Жозеф поспешил на помощь хозяину.
— А если взять сборник избранных произведений? У нас есть одно популярное издание, тираж довольно большой, оно могло оказаться и у шифровальщика… Ура, вот оно! Страница тридцать семь, «Чья вина?». Патрон, записывайте на чем-нибудь.
Виктор открыл тетрадь заказов на чистом листе и вооружился пером.
— В стихотворении пятьдесят девять строчек, патрон. Первая группа цифр у нас 5415. Значит, нам нужна пятьдесят четвертая строка: «Вот что ты потерял — увы! — своею волей!». Понимаете? — Жозеф наслаждался своей властью над Виктором: еще бы, месье Легри внимает ему как примерный ученик! — Какие там у нас последние две цифры? Пятнадцать? Так… Я считаю только буквы, пропуская пробелы и знаки препинания… Извольте записать: наша первая буква — «л». Дальше?
— Дальше 0505. По-моему, мы зря время теряем.
— Терпение, патрон! Пятая строка — «Злодейство совершил ты над самим собою!», пятая буква в ней — «е».
Через полчаса оба озадаченно смотрели на сложившуюся в тетради заказов фразу:
ЛЕОПАРД НЕ ВИНОВАТ
— Автор послания не случайно выбрал это стихотворение, — медленно проговорил Виктор.
— Верно, патрон. Виктор Легри, Виктор Гюго. Месье Гюго действительно вырос в предместье Сен-Жак, и у него были два брата, Авель и Эжен, второй умер в психиатрической лечебнице.
— Нет, Жозеф, тут дело в самом стихотворении. Мы с вами читали строки в том порядке, в котором их выстроил шифровальщик, а вы послушайте от начала до конца:
1 «Ведь это ты поджег Библиотеку?» —
2 «Да.
3 Я подложил огня». —
4 «Что думал ты тогда?
5 Злодейство совершил ты над самим собою!
6 Ты в собственной душе свет затоптал ногою!
7 Свой факел собственный безумно ты задул!
<…>
52 Ведь книга — спутник твой, твой врач, твой верный страж.
53 Она разит в тебе безумства, страхи, боли.
54 Вот что ты потерял — увы! — своею волей!
55 Она — сокровище, врученное тебе,
56 Ум, право, истина, оружие в борьбе.
57 Прогресс! Она — буссоль в твоем стремленье к раю!
58 И это сжег ты сам!» —
59 «Я грамоте не знаю».[342]
— Не улавливаю, к чему вы, патрон.
— Как умер Пьер Андрези?
— Сгорел заживо…
— Чего было вдосталь в его мастерской?
— Книг… О! Выходит, автор послания подтверждает наш вывод, патрон! Это был намеренный поджог!
— Именно. При том некий «леопард», фигурирующий в газетах и, судя по всему, ответственный за несколько преступлений, пытается убедить нас, что он тут ни при чем. А также приглашает встретиться.
— При условии, что это он автор послания.
— Единственный способ выяснить наверняка, Жозеф, — пойти завтра на встречу.
— Вместе, а, патрон?
Виктор вырвал из тетради заказов лист с надписью «ЛЕОПАРД НЕ ВИНОВАТ», сложил вчетверо и сунул в карман.
— Вместе, обещаю.
— Черт возьми, патрон! — вдруг спохватился Жозеф.
— Что еще?
— Не складывается. Помните, что сказала Мариетта Тренке? В год войны с Пруссией ей было одиннадцать-двенадцать лет. А Сакровиру исполнилось двадцать.
— К чему вы клоните?
— Математика, патрон! Какой у нас нынче год?
— Вы надо мной издеваетесь? Девяносто третий… О боже! Война с Пруссией была в семидесятом — семьдесят первом, прошло двадцать два года, Сакровиру сейчас должно быть сорок два или сорок три, а Пьеру Андрези было под шестьдесят! Значит, Сакровир…
— Если это не Пьер Андрези, то кто?..
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Вторник 25 июля
Фредерик Даглан до полуночи проторчал в пустом сарае под боком собственного дома, дожидаясь, когда наконец инспектор Корколь уберется восвояси. Мало того что ожидание — дело само по себе утомительное, страдания Фредерика усугублял тот факт, что он в целях конспирации вырядился женщиной и для пущего правдоподобия надел корсет. В этих доспехах не было возможности ни потянуться, ни вздохнуть, и Фредерик, претерпевая муку, которой ежедневно безропотно подвергают себя представительницы прекрасного пола, задавался вопросом, откуда у дамочек такая выносливость, если даже его грубая шкура не выдерживает. Впрочем, выглядел он шикарно: перед выходом сам залюбовался своим отражением в зеркале трюмо мамаши Мокрицы — оттуда на него смотрела изящная соблазнительница с пышной грудью и лицом, кокетливо полускрытым белым батистовым шарфом, под которым конечно же прятались усы. Когда Корколь ночью все-таки удалился, соблазнительный Фредерик дернул за шнурок звонка у подъезда дома номер 108 по улице Дам и с удовлетворением услышал ворчание вышедшего отпереть дверь консьержа со свечой в руке:
— К Даглану небось в такой-то час, красавица? А к кому ж еще-то, знамо дело, к этому распутнику!
Фредерик, перепрыгивая через две ступеньки, взбежал по боковой лестнице на второй этаж пристройки, ввалился в квартиру, повернул ключ в замке, торопливо содрал с себя одежду и, вдохнув наконец полной грудью, растянулся голышом на диване.
Через три часа он проснулся бодрым и отдохнувшим — давно привык спать урывками и умел быстро восстанавливать силы. Хотелось пить, но о том, чтобы глотнуть застоявшейся в кружке воды, не было и речи — он лишь сполоснул ею лицо, а потом, открыв бутылку бургундского, жадно припал к горлышку.
Комнатушка ломилась от книг, газет и журналов, почти все они были посвящены освободительным движениям. Труды Михаила Бакунина, Элизе Реклю и Жана Грава
[343] занимали тут почетное место. Кроме того, гордость Фредерика Даглана составлял девяносто один выпуск газеты «Андеор», за февраль 1891-го — май 1893-го, ибо ее директор и главный редактор Зо д’Акса,
[344] объявивший себя «анархистом вне анархии», вызывал у него уважение и восхищение. Внутреннее убранство жилища довершали два стула, геридон с керосиновой лампой и походная кухня.
Через полчаса согбенный годами и убеленный сединами смотритель сквера в засаленной фуражке выбрался из окна пристройки на крышу главного корпуса, прошел по ней до противоположного угла, по-кошачьи ловко спрыгнул на пустынный тротуар и неспешно зашагал прочь шаркающей стариковской походкой.
Рассвет уже выбелил фасады. Да, квартал сильно изменился. Прошли те времена, когда большинство парижских негоциантов мечтали, удалившись от дел, перебраться сюда и жить-поживать на ренту. Раньше таких бездельников здесь было вдоволь — с утра до ночи сидели в кафе, отращивая себе ряшки за чтением «Конститюсьонель» и «Патри» или партией в домино с такими же мордатыми буржуа, врагами прогресса, социализма и Виктора Гюго. Потом спекулянты, привлеченные низкой ценой на землю, скупили в квартале халупы с палисадами и мало-помалу обратили их в доходные дома. И совсем другие поселенцы нарушили привычный провинциальный ход вещей в этой тихой гавани, еще не разоренной городскими пошлинами. Париж раздуло и в эту сторону, столичные мельтешня, шум и гам затопили сонные улочки.
Фредерик Даглан бывало даже скучал по толстопузым рантье, которых прежде смешивал с грязью. Новый народец, заселивший Батиньоль, вызывал у него куда большее отвращение. Теперь, затемно собираясь в стадо, отсюда устремлялись к столице министерские служащие и прочие чиновники с распухшими от бумаг портфелями, продавщицы модных магазинов, приказчики и бухгалтеры, набиваясь по пути в булочные и молочные лавки. Фредерик Даглан, никогда не продававший собственное время никаким хозяевам, презирал этих адептов рабского труда. Но неприязнь свою, разумеется, не афишировал — старался блюсти репутацию добропорядочного гражданина.
Смотритель сквера, которым он обернулся сегодня утром, брел по тротуарам, старчески покачивая головой, приглядываясь к закипающим толпой улицам, прилагая усилия к тому, чтобы никому не помешать и никого не толкнуть. На улице Дарсе он галантно поприветствовал какую-то прачку, на бульваре помахал рукой портному, проветривавшему мастерскую. Повернувшись спиной к Монмартру и базилике, которая уже целую вечность стояла в строительных лесах, остановил омнибус и доехал по улице Батиньоль до сквера. С капралом Клеманом заранее было условлено, что тот до вечера здесь не появится, а Тео надлежало за ним приглядеть. В распоряжении Фредерика было целое утро на то, чтобы хорошенько выгулять своего персонажа, привыкнуть к шкуре смотрителя, и тогда уже можно будет встретиться с книготорговцем. В том, что Виктор Легри придет, сомнений не было. А вот поверит ли он Фредерику Даглану — уже вопрос.
— Ну до чего ж он уморительный, этот Альфонс Але!
[345] Бывает, такое отмочит — живот надорвешь да горб отрастишь от хохота, не в обиду вам будет сказано, месье Пиньо. А мы с ним, между прочим, коллеги, так что мне совершенно, совершенно необходим «Зонтик для бригадира», который только что вышел у Оллендорфа.
— Мы еще не получили ни одного экземпляра, — холодно произнес Жозеф. — Зайдите на следующей неделе.
Кэндзи, покосившись на своего управляющего, терзаемого месье Шодре, аптекарем с улицы Иакова, устремился к выходу из лавки, пробормотав по пути невнятное извинение.
«Ишь как патрон-то прифрантился. Похоже, опять шашни завел», — благодушно подумал Жозеф, сам пребывавший в состоянии любовной эйфории и потому снисходительно относившийся к окружающим. Однако он не оценил последствия этого стремительного бегства Кэндзи, а последствия не заставили себя ждать. Когда аптекарь наконец удалился, к Жозефу подошел Виктор и с притворно грустной миной сообщил, что теперь они не смогут вместе поехать в Батиньоль, потому что не на кого оставить лавку.
— Можете ничего больше не говорить, и так понятно, кому придется париться в лавке! — обиженно выпалил Жозеф.
— А давайте бросим монетку, — ласково предложил Виктор. — Орел — вы остаетесь, решка — я.
«Еще и за дурака меня держит, — мрачно отметил про себя молодой человек, — знаю я эти фокусы». Но монетка уже завертелась в воздухе, а в следующую секунду Виктор победоносно сунул ему под нос ладонь:
— Орел! К сожалению, вы остаетесь на хозяйстве.
— Я так и знал! Вы сжульничали!
Виктор и не подумал оправдываться — он уже был на улице.
— Да вчера все ясно было, когда он пообещал, что возьмет меня с собой, — сердито проворчал Жозеф. — Кто ж верит гасконцу, даже если он вскормлен ростбифами и английским чаем!
Молодой человек облокотился на конторку и хмуро уставился на тетрадку с «Кубком Туле». Взяться за работу над романом-фельетоном не было сил, к тому же он завяз на подступах к финалу, потому что не мог придумать развязку. Вернее, колебался между двумя вариантами. Что же делать? Толкнуть Фриду фон Глокеншпиль в объятия жестокого, но мужественного воеводы Отто фон Мунка, после того как они вместе найдут кубок Туле? Или открыть перед ней захватывающее будущее, куда она пойдет рука об руку с капитаном корабля Уилкинсоном — милым болваном, защитником вдов и сирот? В конце концов Жозеф с тяжким вздохом плюхнул на тетрадку стопку газет, руководствуясь изречением Кэндзи: «Счастлив крот, не видящий дальше собственного носа», что он трактовал как «С глаз долой — из сердца вон».
И в этот момент вокруг него, рядом с ним, совсем близко закружился вихрь из кремового органди с кружевами.
— Как вам моя блузка в стиле императрицы Евгении? А капор, узорчатый капор? В нынешнем году это ужас как модно!
— Вы обворожительны! — восхищенно выдохнул Жозеф, которому удалось поймать Айрис и на мгновение прижать к себе.
Она вырвалась и рассмеялась:
— Стало быть, вы больше не боитесь, что нас застанут вместе?
— Напротив, я очень горжусь вами и мечтаю о том, чтобы все мне завидовали. И чтобы вами все восхищались, например тетенька, то есть мадам де Флавиньоль, которая будет здесь с минуты на минуту в компании своих подружек мадам де Гувелин и мадам де Камбрези — вот, видите, для них связки книг приготовлены. Признаться, я так боюсь этих дамочек, что предпочел бы уклониться от встречи, а вы тут посплетничайте всласть, обменяйтесь адресами модных магазинов, и все такое…
— Думаете, меня так легко провести? — прищурилась Айрис. — Говорите честно, куда вы намылились? Искать улики на улице Месье-ле-Пренс?
— Ох… Если честно, мне нужно приглядеть за вашим братцем.
— Да уж, лихая ватага — Виктор, вы и мой папенька, от которого за десять метров несет лавандой! Ах, мужчины… Ладно уж, идите скорее, раз этого требует безопасность Виктора. По счастью, сегодня я совершенно свободна и готова присмотреть за лавкой.
Эти слова еще не успели отзвучать, а Жозеф уже мчался к бульвару Сен-Жермен, высматривая на бегу омнибус маршрута Одеон — Клиши — Батиньоль.
Проходя мимо небольшого крытого рынка в Батиньоле, Виктор думал о печальной судьбе Ипполита Байяра,
[346] который впервые сделал снимок этого строения более сорока лет назад. Он вспомнил автопортрет фотографа, который видел когда-то во Французском фотографическом обществе, — Ипполит Байяр запечатлел себя в образе обвисшего на стуле утопленника, а под автопортретом была такая надпись, оставленная в 1840 году:
Труп, явленный вашим взорам, когда-то был человеком и звался господином Байяром. Он изобрел ту самую методу, блестящие результаты применения каковой вы изволите наблюдать. Но правительство щедро одарило и возвеличило господина Дагера,[347] для господина Байяра же оно ничего не смогло сделать, потому несчастный утопился.
Виктор ускорил шаг. Жизнь изобилует несправедливостями. Знакомо ли сейчас кому-нибудь имя Ипполита Байяра, простого клерка из Министерства финансов, который первым получил позитивное изображение на бумаге, ведь вся слава досталась месье Дагеру?
От этих мыслей его отвлекла шумная толпа впереди. Виктор протолкался среди зевак, окруживших небольшой пятачок, на котором выступали силачи. Один из них как раз обращался к публике:
— Дамы и господа, шутки в сторону! Прямо сейчас, на этом самом месте вы увидите уникальное представление — поднятие тяжестей. Ваш покорный слуга, всемирно известный Парижский Угорь, будет жонглировать гирями, общий вес каковых составит двадцать пять килограммов!
Виктора позабавила доверчивость зрителей. У ног геркулеса были расставлены гири от трех до семи килограммов, по виду вполне одинаковые, только те, что полегче, лежали поближе к силачу, а те, что потяжелее, — поближе к публике. «Жонглер» подбросил над головой трехкилограммовую гирю, лихо отвел руку в сторону, затем поймал гирю, опустил на землю и предложил зевакам убедиться, что он не жульничает, — вот, мол, извольте сами поднять, — при этом указал на те, что потяжелее. А публика, помня про заявленные двадцать пять килограммов, об остальном позабыла, и монеты рекой хлынули на расстеленный ковер.
«Надувательство — вернейший путь к достатку и славе», — думал Виктор, шагая прочь от восхищенной толпы.
На город обрушился ливень, и он укрылся в церкви Святой Марии. Сел на скамью неподалеку от исповедальни, откуда доносилось глухое бормотание. Рядом женщина с вязанием в руках сосредоточенно считала петли, еще одна молилась. Виктор закрыл глаза и мысленно перенесся в Рим, где провел две недели летом 1887 года. Там, спасаясь от жары, он заходил во все попадавшиеся на пути церкви и долго рассматривал картины и фрески. С тех пор живопись прочно сплавилась в его сознании с летним зноем, ослепительным солнцем, торжественной атмосферой храма. В мысли незаметно проскользнула Таша, Виктор увидел ее, полуголую, перед мольбертом. Защелкали спицы, он очнулся и заторопился к выходу.
Ливень уже кончился, пахло влажной мостовой и мокрой зеленью. У входа в сквер Батиньоля тщедушный мальчишка размахивал колокольчиком и тянул на одной ноте:
— Мятные пастилки за два су! За два су!
Но матери семейств, а тем более их потомство, которому не терпелось прорваться в сквер, где можно будет всласть попрыгать через скакалку и покопаться в песочницах, не обращали на него внимания.
Виктор направился к искусственной скале, обогнул по узкой тропке водопад и вышел по засыпанной песком аллейке к крошечному озерцу. Там он огляделся. Что дальше? Леопард выпрыгнет внезапно? Или ему нужно, чтобы охотник его выследил?
Пользуясь хорошей погодой, все скамейки позанимали дамы. Бонны с пышными, украшенными лентами прическами степенно выгуливали детей, которые увлеченно играли в мяч на лужайках, катали обручи и радостно визжали. Их лепет смешивался с шепотком кумушек, делившихся свежими сплетнями о соседях по подъезду. И ни одной мужской фигуры в этом женско-детском царстве, кроме престарелого смотрителя, благодушно взирающего на свой мирок.
Виктор прогулялся вдоль озера, дав на некоторое время пищу для разговоров рядку старушек, пригревшихся на солнце. Одна из них даже нацепила очки, другая загнула уголок страницы и закрыла книжку. Флегматичный незнакомец очень оживил скучный пейзаж.
Виктор направился обратно к водопаду, остановился под деревом, прикуривая сигарету… и вздрогнул, услышав шепот:
— Не оборачивайтесь, месье Легри. Поднимитесь на пригорок за искусственной скалой, я последую за вами.
Виктор повиновался, не пытаясь увидеть человека, отдавшего эти распоряжения.
Место было выбрано удачно — от обитателей сквера пригорок скрывала искусственная скала, а впереди решетка отделяла сквер от железнодорожных путей, ведущих к вокзалу Сен-Лазар. У решетки, правда, какая-то горничная любезничала с солдатиком, приникшим к прутьям с другой стороны, но, завидев Виктора, парочка поспешила убраться восвояси. Как только случайные свидетели ушли, показался смотритель сквера, остановился перед Виктором и подкрутил седой ус.
— Вы весьма пунктуальны, благодарю вас, — сказал смотритель довольно молодым голосом.
Сбитый поначалу с толку, Виктор быстро пришел в себя:
— Я ожидал кого-нибудь в менее… броском наряде.
— А по-моему, с нарядом я угадал: никто не испугается представителя власти и не очень-то обратит на него внимание.
— Не соблаговолите ли объяснить, зачем вы написали мне столь заковыристое послание?
— Шифры — моя маленькая слабость, к тому же хотелось вас испытать. Вы разгадали комбинацию цифр?
— «Леопард не виноват». Теперь вам осталось мне это доказать.
— Браво! Вы проявили смекалку и чутье — необходимые сыщику качества. Но порой вы затеваете слишком опасные расследования, месье Легри.
— Я и сейчас в опасности?
— Ну, только не с таким защитником… который, правда, в данный момент больше интересуется водоплавающими.
Виктор проследил взгляд ряженого смотрителя сквера и с досадой увидел Жозефа — тот сосредоточенно кормил хлебными крошками уток на озерце, к удовольствию старушек, снова вышедших из блаженного оцепенения.
— Рекомендую вам подозвать его сюда, пока он там всем глаза не намозолил, — сказал смотритель.
Через несколько минут Жозеф наконец соизволил заметить, что ему издалека отчаянно машут рукой, призывая подняться на пригорок, и поспешил к хозяину, уже зная, что на теплый прием можно не рассчитывать.
— Блестящая демонстрация вашей верности долгу, — процедил сквозь зубы Виктор. — А кто остался в лавке, позвольте спросить?
— Мадемуазель Айрис, патрон, — ответил молодой человек, косясь на старичка смотрителя, озиравшего окрестности.
— Господа, мне нужна ваша помощь, — светским тоном сообщил старичок.
— О! — вырвалось у Жозефа. — Так это… вы?
— Право слово, юноша, мне ни разу еще не случалось усомниться в том, что я — это я. Если вы согласитесь мне помочь, месье Легри, я расскажу вам очень увлекательную и весьма запутанную историю. Вы ведь большой охотник до всяких головоломок, насколько мне известно из газет.
— Прежде расскажите о себе.
— История человека начинается с рождения, и запомнить свой жизненный путь досконально мало кому удается. Так что, если я тут начну лихо излагать вам свою биографию в мельчайших деталях, это будет выглядеть подозрительно. Потому ограничусь самыми важными пунктами, которые сделали меня тем, кто я есть. Я занимаюсь не вполне законными делами, поскольку это единственный способ поставить себя вне правил прогнившего общества. Весь мир — тюрьма, и пусть для кого-то она похожа на золотую клетку, все мы в любом случае сидим за решеткой. Я независимый гражданин Батиньоля, рожденный под небом Италии. Моего отца, гарибальдийца духом и телом, звали Энрико Леопарди.
— Леопарди? Как поэта?
[348]
— Да вы эрудит, месье Легри! Да, Леопарди, мы однофамильцы печального Джакомо.
— Значит, леопард — это вы! — выпалил Жозеф.
— Какая безупречная дедукция! Браво, юноша! Однако во Франции, на благословенной земле свободы и прав человека, лучше не щеголять заальпийскими фамилиями. Здесь меня
зовут Фредерик Даглан.
— Управляющий «Амбрекса»! Ваша подпись на акциях! — опять не сдержался Жозеф.
— И снова браво! Впрочем, для поклонника творчества Эмиля Рейно подобная наблюдательность неудивительна.
— Как… как вы догадались? — обалдел Жозеф. — Черт! Журналист! Седрик Ренар! Вот это да!
— Не всякий может похвастаться такой способностью сопоставлять факты и делать выводы, месье Пиньо, — шутливо поклонился смотритель.
— А почему вы выбрали стихотворение Виктора Гюго «Чья вина?», в котором говорится о сгоревших книгах? — спросил Жозеф.
Даглан ответил не раздумывая:
— Виктор Гюго всегда принимал сторону униженных и оскорбленных, нищих, угнетенных, бунтарей всех стран и народов. Это был человек великой души, я им восхищаюсь. «Чья вина?» — одно из моих любимых стихотворений. Как может бедняк, отвергнутый обществом, эксплуатируемый, лишенный возможности получить образование, как может он испытывать священный трепет перед книгой? Удовлетворены, месье Пиньо?
Фредерик Даглан немного рассказал о своей жизни, пожаловался, что профессия приносит ему слишком скудный заработок, который едва позволяет сводить концы с концами.
— Однако в амурных делах деньги не так уж нужны. Не знаю почему, но женщины всегда дарили меня вниманием, не требуя ничего взамен. По-моему, напрасно прекрасный пол называют продажным, — закончил он, подкрутив в очередной раз ус.
— То есть вы полагаете, что все вышеизложенное должно снять с вас подозрения? — с усмешкой поинтересовался Виктор, когда смотритель замолчал.
— Конечно нет. Я просто в общих чертах набросал вам автопортрет на фоне декораций, в которых происходит действие. Как человек, не чуждый искусству, вы должны это оценить. У вас ведь такая очаровательная подруга-художница…
— Вы следили за мной?
— Предпочитаю, знаете ли, располагать всеми данными о предмете своего интереса. Если я назову вам истинного виновника нескольких преступлений, смогу ли я в этом случае рассчитывать на вашу поддержку?
— Сначала скажите, что побудило вас ко мне обратиться.
— Я вынужден был пойти на этот риск. Организатор сложной интриги сидит слишком высоко, в одиночку мне до него не дотянуться. Но в сотрудничестве с вами я, возможно, смогу подвести его под суд. Итак, некоторое время назад со мной связался некий инспектор полиции. Мы встретились в предместье, в воскресенье, одиннадцатого июня, если быть точным. Он поручил мне украсть несколько десятков янтарных портсигаров. Мне стало любопытно, зачем ему это барахло, и я попросил своего напарника за ним проследить. Впрочем, соглашаясь обделать дельце, я всегда обеспечиваю себе надежные тылы и пути отступления.
— Как зовут этого инспектора?
— Гюстав Корколь.
— Патрон, это же тот самый тип, который… — начал было Жозеф, но Виктор призвал его к молчанию, и Даглан продолжил:
— Двенадцатого июня Корколь, как обычно, отправился на службу в полицейский участок. В обеденный перерыв сел в омнибус и доехал до улицы Буле. Мой кореш Тео видел, как он входил в эмальерную мастерскую, на вывеске значилось: «Леопольд Гранжан и сыновья». Через полчаса Корколь вышел и вернулся в участок. На следующий день Тео следовал за ним до театра на улице Эшикье. Корколь появился оттуда в компании директора, Эдмона Леглантье.
Жозефа уже распирало от желания высказаться, но, убоявшись гнева патрона, он в очередной раз сдержался.
— Они имели долгую беседу в кафе на углу, после чего разошлись в разные стороны, — говорил между тем Даглан. — Во вторник, четырнадцатого июня, Корколь еще раз наведался в мастерскую Гранжана в конце дня. Вышел он оттуда со скрученным в трубочку листом плотной бумаги для рисования и свертком, направился в квартал Пти-Монруж и там, на Фермопильском проезде, посетил типографию Поля Тэнея, каковую покинул уже с пустыми руками.
Тут у Жозефа возник вопрос, но достаточно было одного взгляда Виктора, чтобы острый приступ немоты завладел им с новой силой.
— Пятнадцатого числа Корколь весь день провел в полицейском участке, мой кореш пас его с утра до вечера. За это время я подготовил план ограбления, обзавелся двумя сейфами, двуколкой, мулом и сдал все это на хранение знакомой зеленщице. Вечером Корколь, помахивая коричневым портфелем, опять направился к владельцу типографии Тэнею. Долго он там не задержался, а затем прокатился на омнибусе до дома, причем портфель за время пребывания в типографии заметно округлился. У меня уже голова шла кругом от всех этих перемещений Корколя, и я решил прояснить расклад одним махом. Шестнадцатого числа, пока инспектор был на службе, я обшарил его берлогу. Это было проще простого: консьержа в подъезде нет, соседи нелюбопытны, а уважаемый инспектор проживает на последнем этаже. Собственно, меня интересовало содержимое коричневого портфеля, который отыскался под матрасом. Так вот, в портфеле была завернутая в рубашку толстая пачка акций. На акциях красовались тщательно прорисованные курительные принадлежности и название общества — «Амбрекс». Вот и ответ на вопрос, зачем этому негодяю понадобились янтарные портсигары. В общем-то, ничего удивительного, но вот увидев подписи управляющих на акции, я остолбенел. Одна из них была моей собственной, вторая принадлежала эмальеру Гранжану. Я все положил на место и убрался из квартиры. Что за аферу задумал Корколь, было не вполне понятно, но кое-что не вызывало сомнений: меня он подставил. В субботу, семнадцатого июня, я, как и было условлено, украл портсигары. Все прошло без сучка, без задоринки.
— Кража в ювелирном магазине Бридуара! Патрон, признайте, что я умею находить нужные факты! — не выдержал Жозеф.
— Признаю, — усмехнулся Виктор и похвалил Фредерика Даглана: — Ловко вы придумали этот трюк с сейфами.
— Азы ремесла. Восемнадцатого числа, в воскресенье, я сложил добычу в коробку из-под печенья и отправился на остров Шату. Корколь вручил мне обещанные две сотни франков, я незаметно пошел за ним и видел, как он в пивной «Мюллер» передал коробку с портсигарами директору театра «Эшикье».
Виктор и Жозеф переглянулись. Да, Аделаида Пайе не солгала.
— Я заключил, что Корколь свое дело сделал и дальше надо бы понаблюдать за Леглантье. Двадцать первого он подался в клуб на Больших бульварах. Я просочился туда за ним и имел удовольствие присутствовать на беспримерном представлении. Так ловко впаривают товар лишь профессиональные мошенники, уж я-то в этом разбираюсь! Короче, господин актер сорвал мои аплодисменты — акции разлетелись как горячие пирожки, а Леглантье за раз сколотил неплохой капиталец, который он, вероятно, чуть позже разделил с Корколем. Однако было предельно ясно, что, как только мошенничество раскроется, за задницу возьмут не их, а меня, поскольку на фальшивках стоит моя подпись. Я решил затаиться на время, залег на дно и каждый день внимательно читал газеты — никаких отголосков скандала вокруг фальшивых акций не было. Я уже вздохнул с облегчением, но спустя две недели наткнулся в каком-то старом выпуске на заметку об убийстве Леопольда Гранжана и крепко задумался. Если они убирают мнимых управляющих, значит, следующий у них на повестке — я. И что самое восхитительное, они ж еще решили на меня повесить убийство Гранжана — оставили на трупе карточку с какой-то галиматьей, в которой кроме прочего упоминался леопард с пятнами на шкуре. Гранжана зарезали неподалеку от его эмальерной мастерской накануне того дня, когда Леглантье распродал фальшивые акции. А потом исчез тот, кто эти акции напечатал, — владелец типографии Поль Тэней, причем его бухгалтер получил анонимное письмо и в нем тоже присутствовал леопард.
— Поль Тэней исчез?! — воскликнул Виктор.
— Ага, раз — и нет его, фьють, ищи-свищи.
— Как вы об этом узнали?
— Из заметки в «Пасс-парту», там же и текст письма был напечатан: «Помнишь ли, Поль? Леопард, желтый, как янтарь, сказал: „Чудесный месяц май, когда вернешься ты?“».
[349]
— Стало быть, хваленый острый нюх в тот день подвел Шерлока Пиньо, — хмыкнул Виктор.
— Ну не могу же я, в конце концов, читать газеты вдоль и поперек, патрон! — попытался оправдаться Жозеф, хотя мысленно сам ругал себя на чем свет стоит за то, что пропустил эту заметку.
— Далее, — снова заговорил Фредерик Даглан, — месье Леглантье с чего-то вдруг решил поиграть с городской системой газоснабжения и заигрался до смерти. Забавно, что в его гибели заподозрили какого-то осла из благородных — дескать, упокоил беднягу и обставил все как суицид. Между делом я, кстати, разыскал свидетельницу убийства Гранжана — цветочницу, у которой, однако, не удалось узнать ничего путного, кроме того что рост преступника был примерно метр семьдесят, а из-под шляпы выбивалась седая прядь. Я, конечно, решил присматривать за девицей на случай, если убийца пожелает заставить ее замолчать навсегда. Поэтому я был на цветочном рынке, что на площади Мадлен, в день, когда там появился один не в меру любопытный белобрысый молодой человек. Я так прикинул, что он либо флик, либо сообщник Корколя. Либо волокита — ведь сначала он обольстил Жозетту Фату, а потом я видел его с прелестной юной брюнеточкой, которую он повел на сеанс в оптический театр Эмиля Рейно.
Жозеф сделался красный как рак.
— Очень интересно, — взглянув на него, заметил Виктор. — Надеюсь, Айрис понравилось представление.
— Я познакомился с этой парочкой, — усмехнулся Фредерик Даглан, — и выяснил, что имею дело с управляющим книготорговца Виктора Легри. Это имя показалось мне знакомым. Я вспомнил, что в прошлом году читал о вас в газетах — вы чуть не погибли во время расследования, а до того успели распутать немало хитрых преступлений. Вот я и подумал, что нужно обратиться со своей бедой именно к вам — уж вы-то спасете меня из этой передряги. Я вор, нет смысла отрицать. Но не убийца, черт возьми!
— Две смерти, одно исчезновение, — покачал головой Виктор. — Дело слишком серьезное. Почему вы не обратились в полицию?
— Учитывая мое прошлое, это было бы неблагоразумно: флики тут же бросили бы меня в каменный мешок, заявив, что я морочу им голову, чтобы отвести от себя подозрения, а на самом деле сам сплел всю эту паутину. Флики — они все ж таки люди, а профессия обязывает их повсюду видеть дурной умысел. Так что не со зла меня в тюрягу упекут, а потому что искренне усомнятся в моей честности. К тому же вы забываете, что Корколь — один из них. За решеткой я, конечно, буду в относительной безопасности, но предпочитаю видеть горизонт на все четыре стороны света. И вы — моя последняя надежда, месье Легри.
— Чего же вы от меня ждете?
— Что вы всем откроете очевидные факты. В самом начале были четверо. Теперь остался один Корколь.
— Вы не посчитали себя. К тому же неизвестно, что случилось с Полем Тэнеем и где он сейчас. У вас есть что еще мне сказать?
Фредерик Даглан не ответил. Он вдруг попятился, глядя куда-то вниз, на подножие пригорка. Виктор обернулся и увидел там двоих полицейских, неспешно шагавших по скверу.
— Баста, месье Легри, разговор окончен, а то что-то жареным запахло. Я предоставил вам достаточно улик, чтобы прижать злодея, только не ошибитесь с целью, — посоветовал Фредерик Даглан и направился к водопаду.
Виктор и Жозеф медленно шли по металлическому мосту над железнодорожным полотном. Слева зияли три разверстые пасти туннелей. Пронзительные свистки и облачка пара через небольшие промежутки извещали об отправлении или прибытии составов из двух десятков вагонов. Справа оседлал рельсы вокзал Батиньоль. Внушительные паровозы из Нормандии им брезговали, так что здесь останавливались только пригородные поезда. Виктор и Жозеф встали у перил, глядя на черную толпу, заполнявшую перроны и лестницу, ведущую к залу ожидания.
— Патрон, вы заметили, что Даглан даже не пикнул про пожар в мастерской месье Андрези? По-вашему, он это нарочно или правда не знает о нем?
— Трудно сказать. Странный человек этот Даглан, внушает одновременно симпатию и подозрение. Собственно, одного его маскарада достаточно, чтобы понять, что он темнит, — нам ведь так и не удалось разглядеть его лицо под слоем грима. Хотя вы с Айрис вроде бы видели его настоящий облик… Опять же голос Даглана звучал вполне искренне… Однако я доверяю ему не больше, чем Корколю.
— Значит, у нас двое подозреваемых.
— Трое, Жозеф. Поль Тэней мог исчезнуть по собственной воле, и если он отступил в тень, стало быть, это и есть режиссер мрачного фарса. Предлагаю зайти к нему в гости.
— Мы же не знаем, где он живет…
— Жозеф, по-моему, вам пора в отпуск — что-то происходит с вашим вниманием. Даглан дал нам адрес: у Поля Тэнея типография на Фермопильском проезде. Завтра я занят, пойдем туда в четверг утром.
— Ага, пойдем, если вы в очередной раз не бросите меня в лавке!
— Вы же помирились с Айрис, вот и оставите ее на хозяйстве.
— А если месье Мори меня не отпустит?
— Скажете ему, что я поручил вам срочную доставку.
В этот момент обоих накрыло облаком пара от прошедшего внизу состава. А когда оно рассеялось, Жозеф сделал шаг и вдруг замер.
— Какие же мы с вами растяпы, патрон! Не только мне нужно в отпуск. Мы забыли спросить Даглана про Сакровира!
…Непроницаемо-вежливое выражение лица Кэндзи Мори порой производило на людей убийственное впечатление. Таким выражением лица можно было стену пробить, не то что сломить волю любого человека. Вот и Адольф Белкинш в конце концов не выдержал:
— Вы что, весь день собираетесь здесь проторчать? Так и будете стоять и молча на меня таращиться? Ну что еще вам от меня надо?! Я уже и так все сказал! — возопил он, и беличья мордочка смялась сердитыми морщинками.
— Всё, да не всё. Не хватает одной существенной детали — адреса человека, который продал вам манускрипт без титульного листа.
— Он не оставил мне адреса, на каком еще языке вам это повторить?!
— На латыни, на греческом, на яванском — пожалуйста, не ограничивайте себя ни в чем, у меня уйма времени. Займитесь пока клиентами, торговля — это святое, ничто не должно нарушать ход продаж, — невозмутимо проговорил Кэндзи, разглядывая собственные ногти.
Белкинш бросил панический взгляд на двух авторитетных китаистов, дожидавшихся, когда их обслужат, и яростно выпалил:
— Его зовут Фурастье, он держит сапожную мастерскую на улице Байе рядом с Лувром. Вы добились своего — довольны? А теперь прочь отсюда!
Кэндзи неспешно достал из кармана карту Парижа, сверился с ней и, удовлетворенно пробормотав:
— Это в двух шагах, пешком дойду, — покинул книжную лавку Белкинша, напевая старинную японскую песенку, выученную в далеком детстве:
Нива-но санхё-но ки
Нару судзу фукаки…
Спустя четверть часа он стоял у запертой двери сапожной мастерской. На дверной ручке висела картонка с надписью:
ВРЕМЕННО ЗАКРЫТО
— Вы не знаете, скоро ли вернется месье Фурастье? — спросил Кэндзи у хорошенькой продавщицы табачного киоска.
— Это будет зависеть от того, как поведет себя его седалищный нерв, — вдумчиво ответила девушка. — Когда случаются приступы, он собирает вещички и едет к дочери. Бедняга ведь не молод, а здесь некому за ним присмотреть.
— Где живет его дочь?
— Где-то на Марне.
— На Марне красиво, — сообщил Кэндзи со вздохом, который означал, что он не прочь прогуляться по берегу реки, да и по всему департаменту в приятной компании.
— Больше ничего вам не могу сказать про старика Фурастье, он мне не муж, — кокетливо улыбнулась продавщица. — Впрочем, я вообще не замужем…
Кэндзи ответил ей улыбкой опытного соблазнителя. Девушка была немного похожа на Эдокси… И где-то она в этот час, бывшая королева канкана? Быть может, у себя, на улице Альжер? А не нагрянуть ли к ней с визитом?..
Он из благодарности купил сигару и зашагал прочь.
На втором этаже дома, над сапожной мастерской, качнулась занавеска, и два косящих глаза — один смотрел на запад, другой на восток, — сфокусировавшись, проводили долгим взглядом азиата в цилиндре и с тростью, увенчанной набалдашником в виде лошадиной головы.
…Гюстав Корколь пошарил в темноте по тумбочке в поисках спичек, нашел, и вскоре огонек свечи, вставленной в горлышко бутылки, осветил неистребимый бардак его спальни, пятна плесени на стенах. Он встал с кровати, и в стекле открытого окна мелькнуло отражение толстого голого человечка.
— Это я, — сказал он вслух.
Корколь терпеть не мог свое тело, слишком жирное при низеньком росте. Сам себе он казался омерзительно раскормленным гномом. Сейчас ему вдруг почудилось, что он выпал из реальности. Какое сегодня число? Который час? Где-то во мраке тикали ходики, ритмично отмеряя влажное течение ночи. Корколь поднес свечу к циферблату на стене — половина третьего. Карательная экспедиция на улицу Дам провалилась — Фредерик Даглан не появлялся у себя дома несколько недель, не было его и вчера. Злая насмешка судьбы — и не первая, не вторая. Гюстав Корколь никогда не получал того, к чему стремился; обиды копились, наслаивались, превращаясь в гнойники и отравляя кровь, и мало-помалу он приучился ненавидеть всех, кто его окружал. Жизнь обернулась сплошным разочарованием. Поступив на службу в полицию, Корколь рассчитывал на быстрое продвижение, он мечтал стать комиссаром, а то и возглавить Сюрте
[350] — почему нет? Но прошло двадцать лет, а по вертикали он вскарабкался не высоко, почти и не сдвинулся с места, только перескакивал из одного полицейского участка в другой по прихоти вышестоящих жрецов административного спрута, простершего щупальца над судьбами всех и каждого.
Гюстав Корколь, единственный сын мелкого чиновника из Ратуши, в юности откупился от воинской повинности. Война с Пруссией, поражение, пленение Наполеона III, провозглашение Республики — все эти события оставили его равнодушным. Политикой он интересовался ровно настолько, чтобы точно знать, на чьей стороне держаться выгоднее. А держался Корколь всегда на стороне сильного — и во время Парижской коммуны не упустил свой шанс. Рвение, проявленное им при подавлении восстания, было замечено, и он тогда одолел одним махом сразу несколько ступенек карьерной лестницы. Полицейский агент в штатском с годовым жалованием тысяча двести франков стал помощником инспектора безопасности, а затем и инспектором с окладом тысяча восемьсот франков в год. Он живо научился держать нос по ветру — мгновенно вычислял слабые места вышестоящих и умел скрывать собственные недостатки от коллег и подчиненных. Но все его навыки и дарования вкупе с неуемной энергией не вознесли его до высот, о которых мечталось.
Недавнее назначение Рауля Перо, жалкого писаки, на пост помощника комиссара было для Корколя как удар под дых. Его обошел сопляк, которому и тридцати не исполнилось! Хуже того — он, Гюстав Корколь, должен теперь подчиняться этому сопляку!
Но больше всего Корколя удручал тот факт, что его не ценят по достоинству. А между тем никто среди коллег ему в подметки не годился. Он был настоящим фликом, компетентным и опытным. Стоило ему взглянуть на подозреваемого — и уже было ясно, что тот виновен, а на допросе с пристрастием вина неизменно подтверждалась. Коллеги ахали: «Как же ты догадался, Корколь? Воистину, хорошим людям всегда везет!» Идиоты! При чем тут везение? Правильный флик полагается на чутье.
Но в последнее время чутье стало ему изменять. Корколь устал, работа в полиции ему обрыдла. Большинство инспекторов вокруг только и делали, что выслуживались перед начальством, тупые бараны, повиновались любому властному жесту и взгляду в надежде на то, что таким образом удастся снискать благосклонность высших чинов. Остальные выполняли приказы только из страха. Корколь презирал и тех, и других. Особенно последних. Он уже нарушил все писаные и неписаные заповеди, и небо не рухнуло ему на голову. Чего еще бояться?
Волна негодования внезапно схлынула, оставив после себя затхлый душок пережитых за долгие годы унижений. Корколь прошелся по комнате и снова улегся в постель.
— Теперь все хорошо. Завтра я буду свободен как птица.
Месяц назад он обратился к специалисту по изготовлению фальшивых документов, естественно не назвав своего имени. И мастер постарался на совесть. Теперь этот «сезам» откроет Корколю беспрепятственный путь к Писающему Мальчику. Там, в Брюсселе, он станет почтенным господином Каппелем, выходцем из Гента, бездетным вдовцом и скромным рантье. В Брюсселе его ждет прекрасное, безоблачное будущее…
Корколь покосился на стул возле кровати — в слабом свете свечи смутно темнел повешенный на спинку элегантный костюм-тройка. «Завтра, завтра… Северный вокзал… Господин Каппель…» — вяло кружились в голове слова, пока его наконец не сморил сон.
Гюстав Корколь проснулся в холодном поту. Дремы как не бывало. Мышцы одеревенели, руки-ноги не слушались.
В комнате кто-то был.
Да нет, почудилось, почудилось — это всё оплывающая свечка, это умирающее пламя рисует страшные тени.
Бешено колотившееся сердце унялось, и Корколь почти убедил себя в том, что приступ паники — лишь следствие ночного кошмара. Почти.
Он приподнялся на локте:
— Кто здесь?
Глупость какая, откуда взялись эти детские страхи? Входная дверь заперта на два оборота, кто мог проникнуть в квартиру — призрак? Почему-то вспомнилась книга сказок, которая в детстве на несколько месяцев лишила его сна. Это был подарок дядюшки, толстый томище в красном переплете. Маленький Гюстав, млея от ужаса, каждый вечер открывал его, потому что таящийся между страницами мир, населенный чудовищами, великанами, драконами, притягивал неудержимо.
Он различил в темноте чернильно-черную на фоне ночи тень, медленно скользящую к кровати, и натянул одеяло до подбородка, словно мог от нее спрятаться.
— Кто здесь?! Ответьте мне!
И тогда тень запела:
Время вишен любил я и юный, и зрелый,
С той поры в моем сердце рану таю.
Богиня Фортуна любовь подарила,
Это она в сердце рану открыла,
И ей не дано утолить боль мою.
Время вишен любил я и юный, и зрелый,
Поныне о нем я память храню.
Стон Гюстава Корколя превратился в хрип и оборвался, когда клинок вошел в его сердце.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Четверг 27 июля
Под каштанами сквера Монруж массовик-затейник гнал стадо осликов к Люксембургскому саду. Дальше потянулись пустынные улочки с белыми оштукатуренными фасадами; лишь крики стекольщиков и точильщиков порой побуждали кого-нибудь из жильцов высунуться из окна, а так вокруг не было ни единой живой души — всех распугала жара.
На середине Фермопильского проезда Виктор и Жозеф ступили в вестибюль здания, приютившего типографию Поля Тэнея. Из коридора в глубине выметнулся рыжий кот, за ним — подмастерье лет двенадцати.
— Чё-то вы не торопитесь! — нагло заявил пацан, заступив им дорогу. — Принесли копии?
— Месье Тэней на месте? — спросил Жозеф.
— Хозяин-то? Да свинтил опять куда-то, ищи ветра в поле! — осклабился подмастерье. — Вам-то чё?
— А ну отойди, недомерок, чего встал на пути?
Мальчишка посторонился, одарив Жозефа недобрым взглядом, и ухватил за шкирку кота.
После сонного спокойствия, царившего в квартале, шум печатных машин показался оглушительным. Виктор и Жозеф направились к типографскому работнику — тот трудился у наборной кассы, установленной на подставке. Бросая время от времени взгляд на лежащую рядом рукопись, брал литеры из ячеек и помещал их в верстатку, которую держал в левой руке.
Между тем подмастерье, только что узнавший про себя, что он «недомерок», и затаивший злобу, незаметно прокрался с котом на вытянутой руке следом за обидчиками. По плану, вовремя отпущенный кот должен был броситься им под ноги и учинить неприятности вплоть до падения, но все получилось иначе. Рыжая животинка метнулась к наборной кассе, заскочила на нее, перемешав литеры, и оттуда перемахнула прямо на стойку, где метранпаж раскладывал готовые формы. Последовал взрыв всеобщего негодования, а подмастерье кинулся наутек с воплем:
— Это не я! Не я!
— Аженор, я тебе уши откручу, негодник! Эта тварь мне все листы перепортила!
— Она мне в краску влезла!
— В мешок ее и в сортир, рыжую скотину!
— Чертов Аженор, отродье цехового мастера, думает, что ему все позволено! — поделился возмущением наборщик. Виктор сочувственно покачал головой. — Недавно тут над папашей Фламаном поиздевался, это самый старый из наших корректоров. Короче, папаша Фламан дал этому хулиганью подзатыльник, и не просто, а за дело, так Аженор в отместку приколотил его уличные башмаки к полу гвоздями, папаша Фламан сунул в них ноги, хотел сделать шаг — и разлегся, что твой турок на диване.
— Простите, а где найти месье Тэнея? — спросил Виктор.
— Нам тут всем хотелось бы это знать. Он впервые запропал так надолго, уж ждем его, ждем…
— То есть он и раньше отлучался?
Наборщик весело переглянулся с другим типографским работником.
— Скажем, его время от времени одолевал полуденный демон. Ну, бес в ребро — и поминай как звали. Все были в курсе, и его жена в первую очередь. Но через пару-тройку дней он всегда исправно возвращался и на работу, и в супружескую спальню, так что мадам Марта прощала ему эти маленькие отлучки — сокровище, а не женщина. Но в этот раз уже три недели прошло, как он снялся с якоря. И главное, никому ничего не сказал. Только письмо прислал да такую чушь написал, рядом с которой вся эта заумная тарабарщина современных романистов — сказки для девочек.
— А кто получил письмо? Жена?
— Нет, что удивительно, наш бухгалтер мсье Лёз, вон тот верзила в очках и в кепке с козырьком, видите, в дальнем углу сидит.
— Скажите, а вы в последнее время акции не печатали?
— Не наша специализация, — помотал головой наборщик. — Мы тут только художественную литературу тискаем и исторические монографии…
Месье Лёз сдвинул очки на кончик носа и хмуро уставился на посетителей поверх стекол. Когда Виктор сказал, что они журналисты, бухгалтер неприветливо заявил, что представители прессы отняли у него уже достаточно времени и добавить ему нечего.
— Мы готовим большую статью на тему загадочных исчезновений и хотели бы процитировать текст письма, которое прислал вам месье Тэней, — не отступился Жозеф.
— Письмо отпечатано на машинке и не имеет подписи, нет никаких указаний на то, что его прислал именно месье Тэней, — проворчал Лёз, но все-таки протянул ему сложенный вчетверо лист бумаги.
Жозеф развернул письмо:
Помнишь ли, Поль? Леопард, желтый, как янтарь, сказал: «Чудесный месяц май, когда вернешься ты?»
— Действительно, зачем месье Тэнею писать напоминание самому себе и отправлять его вам? Поль — это ведь не ваше имя? — задумчиво спросил Виктор.
— Нет. Я обратил на сей факт внимание Марты, то есть мадам Тэней, когда она вызвала полицию через неделю после того, как ее муж исчез. Поначалу мы думали, что это очередная любовная эскапада, но видите, как все обернулось. — Бухгалтер тщательно сложил письмо. — Если бы месье Тэней хотел нас предупредить о своем длительном отсутствии, он не стал бы напоминать самому себе о смене времен года и о каких-то леопардах — это же чушь полнейшая.
— А что сказали полицейские?
— Что это либо дурацкий розыгрыш, либо бегство, либо похищение. И что они ничего не могут сделать, надо просто ждать.
— Упоминание леопарда их не смутило?
— Не более, чем присутствие драного котяры нашего подмастерья, — буркнул месье Лёз. — Простите, господа, вынужден с вами попрощаться. Время — деньги, а нынешняя ситуация ставит нас на грань банкротства, поскольку мадам Тэней не хватает опыта, чтобы заменить мужа на посту директора типографии. Хотя она старается изо всех сил.
— Где ее можно найти?
— Застекленное бюро на втором ярусе.
Дверь бюро Виктору и Жозефу открыла женщина с заострившимися чертами лица и темными кругами под глазами, какие бывают у людей, долгое время страдающих бессонницей. Неприбранные волосы и помятое платье выдавали ее отчаяние не в меньшей степени, чем срывающийся голос и неестественно строгая манера держаться. Чтобы встретить гостей, она внутренне собралась, но надолго ее не хватило — мадам Тэней бессильно опустилась на стул и прижала на миг ладони к лицу. Тяжело вздохнув, она извинилась.
— Я так потрясена тем, что случилось… Муж у меня не святой, но я терпела его выходки. Когда у него появлялась очередная любовница, он предупреждал меня, что несколько дней не будет ночевать дома, и улаживал дела в типографии так, чтобы без него там все шло без перебоев. А теперь… В последний раз я его видела четвертого июля вечером. Приготовила его любимое заячье рагу, Поль зашел ко мне в галантерейную лавку сказать, что у него назначена встреча с заказчиком афиш, и он вернется поздно…
— Я думал, здесь печатают только книги, — заметил Виктор.
— О, Поль время от времени оказывал услуги старым приятелям.
— Он не назвал фамилию того, с кем собирался встретиться?
— Нет. Переоделся, взял зонтик и ушел. Как раз дождь полил…
— Как он был одет?
— Коричневый пиджак, простые темные брюки… Я уже говорила об этом полиции.
— Он носил очки?
— Да, с половинками стекол. Он в них только читал, но надевал всегда… Что же будет? Я так за него боюсь… — Мадам Тэней указала на стол, заваленный бумагами. — Не справлюсь я без него со всем этим… У меня ведь еще галантерейная лавка в двух шагах отсюда. Я могла бы и вовсе не работать, потому что типография приносит хороший доход, но решила на всякий случай подстраховаться, чтобы не остаться нищей, если что… Поль, как вы понимаете, не такой уж надежный муж. И все же он меня любит, я уверена… И зачем только я вам все это рассказываю? Вы ведь из комиссариата?
— Нет, мы журналисты.
— О! Но вы же не станете все это печатать…
— Нет конечно, не беспокойтесь, — поспешил заверить Жозеф. — Мы тоже хотим найти вашего мужа. А он не получал каких-нибудь угроз перед своим исчезновением?
— Не получал. Я от него ни о чем подобном не слышала, а он непременно поделился бы со мной. Мы, знаете ли, из тех супружеских пар, которые со временем начинают жить и относиться друг к другу как брат и сестра. Он всегда был со мной откровенен. С течением лет физическое притяжение между нами исчезло, осталась только нежная привязанность. Поль называет меня старой боевой подругой… Да, я для него верная подруга, вот и всё. Еще он называет меня лапушкой. Но давно уже не зовет милой… И все-таки… — Мадам Тэней грустно улыбнулась. — И все-таки мы пережили настоящую страсть, из тех, о которых думаешь, что это навсегда. Поль осыпал меня подарками, я тоже дарила ему всякие безделицы. А теперь меня одной ему мало. Возможно, потому, что с годами я подурнела…
Виктор и Жозеф всмотрелись в худое лицо, обрамленное спутанными волосами, и оба подумали, что мадам Тэней, если хорошенько выспится и приведет себя в порядок, будет выглядеть весьма и весьма соблазнительно.
— Вы очень красивая, — искренне сказал Жозеф, и мадам Тэней снова грустно улыбнулась.
Виктор не удержался от вопроса:
— Неужели вы не ревнуете мужа к другим женщинам?
Она некоторое время молчала, опустив взгляд, а потом посмотрела ему прямо в глаза:
— Зачем? Он всегда ко мне возвращается. Эта сторона жизни Поля не имеет ко мне никакого отношения. Если за время своих отлучек он становится счастливее, мне остается только порадоваться за него. Стремление обольщать женщин у мужчин в крови, и когда их лишают такой возможности, они превращаются в неврастеников или бог знает во что. Вы слишком молоды, месье, но с вами это тоже когда-нибудь случится.
— О нет, только не со мной! — воскликнул Виктор. — Это совершенно аморально!
Жозеф внезапно закашлялся и, отдышавшись, сказал:
— Месье Лёз показал нам загадочное письмо. Упомянутый там леопард вам о чем-нибудь говорит?
— Нет. Возможно, это кличка кого-то из старых приятелей Поля. Или его любовницы, но он знается в основном с неграмотными кокотками. Я просмотрела все его бумаги, всю корреспонденцию, и кроме нежных записок, которыми мы забрасывали друг друга, когда наш роман только начинался, единственная любовная переписка, заслуживающая внимания, у него была с Эрнестиной Гранжан, сестрой друга юности. Поль ухаживал за ней до того, как встретил меня.
— Гранжан? — повторил Жозеф и яростно поскреб в затылке.
— Да, Леопольд Гранжан и Поль дружили, несмотря на разницу в возрасте. Поль относился к Леопольду как к младшему брату, которого у него никогда не было. Леопольд в ту пору был совсем мальчишкой — лет семнадцати-восемнадцати, а Эрнестине уже исполнилось двадцать, и судя по письмам, Поль был очарован. Эрнестине же его влюбленность льстила, но сама она не питала к нему никаких чувств.
Виктор уже давно пытался рассмотреть перевязанную голубой лентой стопку писем, которые мадам Тэней прикрывала руками на столе, но ему это никак не удавалось. Его взору были открыты лишь в изобилии разложенные на столе схематические изображения новейших механических прессов и печатных станков, бланки заказов и несколько личных писем со стилизованным цветком вместо подписи. Мадам Тэней заметила его старания и взмахнула стопкой конвертов:
— Вот, перечитываю наши любовные письма. Это было так давно, в семьдесят третьем… Полю тогда уже сорок стукнуло, но он выглядел лет на десять моложе, а я была восемнадцатилетней провинциальной девчонкой. На меня произвели сильное впечатление столичная жизнь и этот спокойный, уверенный в себе мужчина. Нас с Полем познакомил мой отец, они служили в одном полку. Мне понадобилось несколько лет, чтобы в этом тихом омуте найти чертей. Знать, что твой муж бабник, — приятного мало. Но я не хочу его потерять! — пылко закончила она.
— Не отчаивайтесь, мы почти напали на след! — заверил Жозеф, которого одолевали мрачные мысли, взбаламученные этим рассказом об изменах. Он постарался переключиться на расследование. — А вы не могли бы дать нам адрес Эрнестины Гранжан?
— Могу назвать вам лишь тот, на который ей давным-давно писал Поль: улица Вильдо, дом пять, со стороны сада Пале-Рояль. Это ателье по пошиву военной формы. Я сильно удивлюсь, если Эрнестина все еще работает там.
— A у вас нет фотографии мужа?
— Вот, пожалуйста, он снимался в прошлом году. Такую же я отдала полиции.
— Месье Тэней высокого роста? — задал очередной вопрос молодой человек.
— Выше вас на голову.
Виктор и Жозеф, поблагодарив мадам Тэней, поспешно откланялись — оба торопились обменяться впечатлениями. Закрыв за ними дверь, Марта Тэней подошла к застекленной стене бюро, и ее силуэт зыбкой китайской тенью качнулся над громокипящим печатным цехом. Она зябко обхватила себя за плечи и вздохнула.
Джина Херсон прислушалась к затихавшим в коридоре шагам дочери. Любовь пошла Таша на пользу, наполнила ее внутренним светом, который пробивался наружу здоровым румянцем, и Джина, боясь признаться в этом самой себе, завидовала ей. Она прошлась по мастерской, где ученики забыли кто платок, кто перчатку, собрала палитры и кисти, сложила их в рукомойник и заперлась на жилой половине, откуда редко куда выходила.
Несмотря на нежную заботу и внимание со стороны старшей дочери и ее возлюбленного — или жениха? — Джина страдала от одиночества. И скучала по Рахили — с младшей дочерью они были более близки. А Пинхас… Пусть в последние годы он стал для нее всего лишь случайным попутчиком, но все же то, что муж отказался от развода и теперь, будучи в Америке, вел с ней теплую переписку, очень поддерживало Джину, упорядочивало течение дней. Эмиграция, пребывание в Германии, болезнь… Потом Таша уговорила ее перебраться в Париж. Но город, издалека казавшийся сверкающей драгоценностью, обещавший счастье и ничего кроме счастья, встретил ее унылой рутиной повседневности. Пинхас находится за тысячи километров от нее, по другую сторону океана, Рахиль затерялась где-то в центральной Европе с мужем, не знакомым Джине человеком, который с загадочным видом взирал на тещу с фотографии в деревянной рамке на каминном колпаке. Конечно, здесь у нее есть Таша и Виктор, такие милые, она им стольким обязана, но…
Джина многому научилась за годы скитаний. И главное, что она узнала, — разлука с близкими и родиной дает возможность день за днем переосмыслить свое прошлое, оценить прожитое время, каждое его мгновение, начиная с младенчества. Такое самонаблюдение неизбежно и беспощадно открывает то, что раньше воспринималось только на подсознательном уровне, дает панораму побед и поражений. И вывод неутешительный — счастливые и печальные периоды жизни, борьба, разочарования и обретения кажутся такими ничтожными, если смотреть на них оттуда, куда они тебя привели, что в пору прийти в отчаяние.
Джина приблизилась к зеркалу. Сорок семь лет, несколько серебристых нитей в по-прежнему роскошной рыжей гриве. Морщинки, слегка увядшая кожа на шее. Но фигура все так же стройна. Способна ли она еще понравиться мужчине? Джина медленно расстегнула блузку, юбку, расплела шнуровку на корсете. Одежда скользнула на пол. Собственная нагота, отраженная в зеркале, показалась ей хрупкой, словно стебелек травы, схваченный первыми заморозками. Она распустила волосы, тряхнула головой, чтобы они разметались по плечам. Так лучше. Летний свет не пробивался сквозь тяжелые занавески, и в полутемной комнате скорбный труд времени был не столь заметен — из зеркала смотрела прежняя Джина с крепкой высокой грудью и крутыми бедрами, она просыпалась внутри другой, живой Джины, стоящей напротив, наполняла ее ностальгией и любовным томлением. Женщина провела рукой по животу. Коснутся ли его снова мужские ладони? Прошепчет ли мужской голос слова любви? Пинхас был ее единственным мужчиной. Сможет ли она, осмелится ли заняться любовью с кем-то еще?
Джина не помнила, когда в ее мыслях поселился Кэндзи Мори. Возможно, когда она стала замечать, что у нее учащается сердцебиение в его присутствии. Смешно! Какой-то японец…
Она собрала одежду, отложила корсет, накинула блузку. «Слишком поздно», — сказала себе, надевая юбку. А потом подумала, что в ее возрасте и положении вполне можно позволить себе помечтать, раз больше ничего не остается.
Джина застегнула юбку и выглянула в окно. Город, обступивший парк Бют-Шомон, казался таким близким. Он словно напирал со всех сторон, в нем чудилась какая-то смутная угроза…
В витрине точно на параде выстроились алые кюлоты, небесно-голубая, отороченная каракулем венгерка с брандебурами,
[351] каска с султаном и сапоги, начищенные так, что в них можно было смотреться как в зеркало.
— Вот удача, патрон, ателье по пошиву военной формы все еще работает! — констатировал Жозеф и потянул дверную ручку.
От тяжелого нафталинно-гуталинного духа перехватило горло. Они с трудом пробрались к прилавку, прокладывая путь среди мундиров, фуражек, киверов, эполет, сабельных ножен, темляков с кистями, генеральских седел малинового бархата и прочей амуниции. Женщина в белом шиньоне раскладывала на лакированной столешнице самую роскошную в мире коллекцию стремян — Виктор, по крайней мере, ничего роскошнее еще не видел. Их нежно и трепетно, как драгоценности, перебирал капитан с остроконечными усами, вполголоса делясь с продавщицей новостями об июльских повышениях и переводах по службе, и жаловался, что с присвоением ему очередного звания затягивают.
— Месье Нэрвен еще не вернулся из министерства, — шепнула ему женщина. — Если он услышит что-нибудь о назначениях, непременно даст вам телеграмму.
— Не сомневаюсь. Говорят, он разгадывает арканы табель-календаря почище любого астролога, — покивал в ответ капитан.
— Господа, могу я быть вам чем-нибудь полезен? — осведомился сутулый приказчик.
— О, у нас всего лишь пара вопросов, — отозвался Виктор, отходя от прилавка. — Здесь после войны работала некая Эрнестина Гранжан. Вы ее не помните?
— Я сам здесь служу с восемьдесят шестого, так что увы. Но думаю, мадам Руврэ сумеет вам помочь.
Капитан наконец обзавелся шпорами и покинул лавку. Женщина в белом шиньоне освободилась.
— Эрнестина Гранжан? — подняла она бровь. — Милостивый государь, она давным-давно уехала из города. Вышла замуж за клерка из нотариальной конторы, и он увез ее в Туркуэн. Эрнестина прислала нам оттуда открытку, в которой сообщила о рождении первенца, и с тех пор от нее ни слуху ни духу. Меня это немало удивило.
— Что именно? Что она перестала подавать весточки о себе?
— Нет, что вышла замуж за штатского. Попросту говоря, Эрнестина все больше за штаны с лампасами хваталась, из-за нее у нас тут целые полк
и маршировали. Впрочем, ничего не скажешь, девица была хоть куда.
— А не припомните ли вы среди ее воздыхателей некоего Поля Тэнея?
— Ах, милостивый государь, кабы я помнила всех ее воздыхателей, впору было бы составлять справочник по мужской части населения Парижа.
— Собственно, мы ищем ее брата, Леопольда Гранжана. По семейному делу…
— Да-да, Леопольда я помню. Не знаю, что с ним сталось. А раньше он работал в типографии на улице Мазарини. Тот еще был оболтус — любовницы, долги… Уж сестра с ним горя хлебнула. Сомневаюсь, что он взялся за ум.
— Вы сказали, типография на улице Мазарини?
— Рядом с кабаком, Леопольд там каждый вечер проводил время с компанией таких же охламонов за игрой в буйот.
[352]
Типография, где во времена империи Леопольд Гранжан начинал трудовую жизнь, ныне превратилась в фабрику по производству игральных карт. У входа стоял воз листов бумаги с водяными знаками из Национальной типографии, его под присмотром владельца заведения, краснолицего южанина, разгружали двое работяг. Виктор изложил цель своего визита — они с Жозефом, дескать, разыскивают наследников недавно почившей мадам Гранжан, уроженки Жуи-ан-Аргон в департаменте Мёз.
Выслушав его, фабрикант Киприан Планьоль промокнул лоб огромным клетчатым платком и сказал с певучим южным акцентом:
— Сейчас помогу этим верзилам перетащить барахло внутрь и буду к вашим услугам. Да вы заходите.
В помещении, куда вошли Виктор и Жозеф, все пространство было занято
большими столами, на которых работники раскладывали плотные листы серого картона — они назывались «этресс» — и придавали им дополнительную прочность листами «таро», призванными служить «рубашками». Цилиндрические прессы намертво скрепляли два слоя, затем на другом оборудовании на лицевую поверхность наносились контуры рисунка и краски, поверх — особый лак, и тогда уже циркулярные ножи нарезали карты. Жозеф расчихался от резкого запаха химикатов и пропустил все технические подробности, которые излагал им с Виктором освободившийся Киприан Планьоль, очень гордившийся своим хозяйством.
— Дело-то вроде нехитрое, и торговля идет хорошо, да вот чиновники житья не дают, — пожаловался он под конец. — Количество листов бумаги с водяными знаками, которые нам поставляет госведомство… а печатают-то их у черта на куличках, в Тьере… Почему не в Пюи-де-Дом или в какой-нибудь Патагонии, скажите на милость?.. Так вот, количество этих листов, понимаете ли, должно в точности соответствовать количеству листов с трефовыми тузами и валетами, которые выходят из нашей типографии! — Он любовно огладил карточную колоду, уже обработанную мастером, который наносил на срез уголков позолоту. — Но когда смотришь на результат…
— Тот же метод используется при золочении обрезов книг, — заметил Виктор.
— Верно, месье Легри! Сразу видно образованного человека! А вот угадайте, что происходит с бракованными картами?
— Может, школьники на них тренируются? — предположил Виктор.
— Не угадали! Их продают на вес через налоговое ведомство изготовителям упаковки для нуги и трубок для петард! Впрочем, я совсем вас заболтал. Идемте, вам нужно побеседовать с мамочкой.
Они гуськом прошли по коридору, и Киприан Планьоль заглянул на кухню, где миниатюрная смуглянка в огромном сборчатом фартуке колдовала над клокотавшим на плите варевом, от которого исходил убийственный аромат чеснока и перца.
— Магали, где мамочка?
— В гостиной, наверно.
Жозеф, едва продышавшийся от химикатов, снова расчихался, и это помешало ему указать Виктору на тот факт, что «римские свечи», подобранные им в мастерской Пьера Андрези, по всей вероятности изготовлены из бракованных колод.
Та, кого Киприан Планьоль называл «мамочкой», оказалась его супругой — полная брюнетка в темно-синем платье восседала на диване, и фабрикант смотрел на нее влюбленным взором.
— Сладкая моя, гости интересуются одним молодым человеком, который работал в штате типографии до того, как мы ее купили.
— Ай-ай, Киприан, таки посмотри, на кого ты похож! Опять извазюкался как поросенок! Присаживайтесь, господа. — Мадам с изяществом мамонта пересела в глубокое кресло, уступив гостям диван. — Выпьете анисовки? Таки жара стоит как в Мартиге!
[353]
Виктор отклонил предложение.
— А белокурый пупсик тоже откажется?
— Он с удовольствием отведает анисовки, — отозвался Жозеф, проигнорировав неодобрительный взгляд патрона.
— Душечка моя, а куда ты задевала тот старый реестр в молескиновом переплете? — спросил Киприан, перебирая бумаги на столе.
— Никуда не задевала, а очень даже аккуратно припрятала — там, в кабинете, в одном ящике с документами из нотариальной конторы. Нет, ну подумайте только, какой грязнуля! Или я ему прачка — стирать с утра до ночи? Жарко — так потей себе на здоровье, чего ж в краске да в пыли валяться, я таки вас спрашиваю? Ну, пупсик, вкусная настоечка?
Жозеф энергично закивал, потягивая анисовку маленькими глоточками. Алкоголь всегда действовал на него быстро и эффективно — мебель вокруг уже слегка плыла и начинала менять очертания. Молодой человек поспешил отставить рюмку, пока посудный шкаф не превратился в носорога.
Киприан Планьоль вернулся и вручил Виктору толстую книгу:
— Вам повезло, мы собирались ее выкинуть, оставили только потому, что там еще есть чистые страницы, можно использовать.
— Кому раньше принадлежала типография? — поинтересовался Виктор.
— Первый владелец уступил арендный договор некоему месье Мартену, с ним-то мы и заключили сделку в сентябре семьдесят первого, — ответила мадам Планьоль.
— Мартену? — разочарованно повторил Виктор.
Он открыл реестр. На первой странице красовался эпиграф:
В каждой хорошей книге есть что-то священное.
Милтон
1869–1870 гг.
ШТАТНЫЕ СОТРУДНИКИ ЯНВАРЬ 1870 г.
Брюно — печатник
Клуанж — брошюровщик
Гранжан — подмастерье гравера
Греншар — наборщик
Леглантье — корректор
Мёнье — гравер
Матьё — цинкограф
Тардьё — метранпаж
Тэней — цеховой мастер
Виктор затаил дыхание — ключ к разгадке кровавого ребуса скрывался среди этих имен.
Следующие страницы были отведены перечню работ, выполненных типографией. Одни и те же фамилии значились в списке постоянных сотрудников до сентября 1870 года. В сентябре не хватало четверых: Брюно, Клуанжа, Мёнье и Тардьё — вероятно, они были призваны в армию. Типография продолжила работу с недоукомплектованным штатом. В октябре из списка исчезли Греншар и Матьё. Начиная с этого месяца в штате остались только Гранжан, Леглантье и Тэней.
— Черт возьми, патрон, вы это видите? Гранжан, Леглантье и Тэней работали в одном цехе!
Шум экипажей на улице де Бюси вывел обоих сыщиков из оцепенения, в которое их повергло неожиданное открытие. Они сами не помнили, как попрощались с четой Планьоль, вышли из типографии и свернули с улицы Мазарини.
Виктор сглотнул застрявший в горле ком.
— Патрон, мы совсем близко к разгадке! — Жозеф по привычке принялся излагать очевидные факты. — У нас, считайте, уже есть доказательства, что два убийства и одно исчезновение связаны между собой — куда там леопарду из записок! Три человека работали вместе до осады Парижа в декабре. Двое из них — Гранжан и Леглантье — мертвы, Поль Тэней куда-то испарился… Что с вами, патрон?
Виктор, отвесив челюсть, смотрел на прилавок цветочника, пестревший всеми цветами радуги на противоположном тротуаре. В его голове вдруг зазвучала знакомая песня: «Люблю тебя без памяти…», перед мысленным взором нарисовалась шляпка, которая была на Таша в день их первой встречи. Шляпка, украшенная маргаритками!
Он схватил Жозефа за локоть:
— Скорее! Нужно срочно вернуться на Фермопильский проезд!
— Зачем?
— Интуиция!
…Марта Тэней, как могла, разобралась с делами в типографии и теперь хлопотала в своей галантерейной лавке. Неожиданное вторжение Виктора и Жозефа ее не обрадовало — она уже жалела, что так разоткровенничалась с незнакомыми людьми, тем более репортерами. Виктор, взяв с места в карьер, застал ее врасплох:
— Мадам Тэней, цветок, который ваш муж рисовал в любовных письмах вместо своей подписи — это маргаритка?
— Какое право вы имеете задавать столь нескромные вопро…
— Это очень важно!
— Да. Я терпеть не могу имя Марта, которым наградили меня родители, и Поль звал меня Маргаритой…
— И вы подарили ему часы?
Мадам Тэней удивленно уставилась на Виктора:
— Откуда вы знаете? О боже! С Полем случилось несчастье?
— Пока неизвестно, мадам, — не моргнув глазом, соврал Жозеф, на самом деле понимавший не больше, чем Марта Тэней. — Напротив, есть шанс, что с ним все в порядке и мы напали на его след.
— Поль очень пунктуален, любит все делать вовремя, поэтому несколько лет назад я подарила ему карманные часы на цепочке… — тихо проговорила Марта.
— И сделали на них гравировку? — уточнил Виктор.
— Да. О, умоляю вас, скажите мне правду, я готова ее услышать. Он мертв?
— Нет, мадам. Так какую же надпись вы сделали на часах?
— «Полю от его Марты» на фоне стилизованной маргаритки.
— Благодарю вас мадам! Не переживайте, вы первая узнаете новости о месье Тэнее! — С этими словами Виктор стремительно бросился к выходу.
Когда галантерейная лавка осталась далеко позади, Жозеф сердито дернул его за рукав:
— Может, вы наконец объясните мне, патрон?
— Карманные часы, найденные в мастерской Пьера Андрези, те самые, которые нам с месье Мори показывал инспектор Лекашер, принадлежат Полю Тэнею! «П… от его …ы» — это значит «Полю от его Марты». Понимаете? Полю, а не Пьеру!
— Стало быть… — Жозеф не успел договорить. У сквера Монруж во всю глотку заорал газетчик:
— Покупайте «Пасс-парту»! Специальный выпуск! Инспектор полиции убит в собственном доме!
На первой полосе жирными прописными буквами было напечатано: ГЮСТАВ КОРКОЛЬ.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
В тот же день, ближе к вечеру
Победителем в краткой, но жестокой схватке за обладание газетой стал Виктор. Устав отбиваться от управляющего, он нетерпеливо подтолкнул юношу к скамейке и с маху уселся рядом под указующим перстом бронзовой овернской пейзанки.
— Я прочитаю вслух, Жозеф, таким образом нам удастся сохранить газету в целости, а то порвем.
И прочитал:
Труп инспектора полиции Постава Корколя обнаружен вчера вечером в его квартире на улице Жан-Котен Раулем Перо, помощником комиссара полицейского участка Шапели. Г-н Перо, обеспокоенный отсутствием на службе своего весьма исполнительного сотрудника, в конце рабочего дня отправился к нему домой. Дверь квартиры оказалась незапертой. Обнаженный инспектор Корколь лежал в своей постели, на его грудной клетке было несколько ран, нанесенных холодным оружием, а на животе выведены подсохшей к тому времени кровью такие слова: «Вспомни: май настал веселый, месяц всех услад. Господи! Святые твои сделались пищей для тигров и леопардов».[354]
— Патрон! — перебил молодой человек. — Леопард!
— Это еще не всё, Жозеф, имейте терпение.
Убийство, по заключению судмедэксперта, было совершено накануне. Соседка снизу, вдова биржевого маклера, слышала ночью подозрительный шум, но не осмелилась подняться к г-ну Корколю из страха его потревожить, ибо г-н Корколь, по ее словам, кротостью нрава не отличался. Полиция связывает это убийство с гибелью эмальера Леопольда Гранжана, 21 июня так же заколотого кинжалом, и со смертью г-на Эдмона Леглантье, погибшего от отравления газом 17 июля, поскольку на месте всех трех преступлений найдены послания, в которых фигурирует леопард. С его сиятельства герцога де Фриуля, водившего знакомство с Эдмоном Леглантье, сняты все подозрения. Что касается Жака Ботелье, исполнявшего роль Равальяка в пьесе «Сердце, пронзенное стрелой», то он остается под стражей по обвинению в нападении на своего партнера по сцене, игравшего герцога д’Эпернона, и нанесении оному ранения с целью получить его роль.
— Пожалуй, я избавлю вас от необходимости выслушивать интервью инспектора Лекашера, — закончил Виктор и сложил газету.
— Леопардус и Сакровир — один и тот же человек! — выпалил Жозеф. — Не зря вы не поверили Даглану. Это он!
Виктор достал из кармана блокнот, перелистал его, нашел то, что искал, и взглянул на своего управляющего:
— Вы сами где-то вычитали, что славный вождь галлов проявил себя в Отене, и оттуда же, как мы с вами знаем от Мариетты Тренке, в Париж приехал парень, носивший такую кличку. А Фредерик Даглан — итальянец.
— Это он нам сказал, что итальянец. Он же хитрый — притворяется жертвой, а на самом деле…
— Нет, Жозеф, не вижу логики. Если допустить, что Даглан — убийца, зачем ему было обращаться ко мне за помощью? Он не стал бы светиться лишний раз. И потом, где сейчас Поль Тэней и почему его оплавленные часы оказались в сгоревшей мастерской Пьера Андрези?
— Даглан убил Тэнея, забрал его часы, а потом обронил их в мастерской, когда устраивал поджог.
— Зачем Даглану понадобилось поджигать мастерскую Пьера Андрези?
— Чтобы украсть у него персидский манускрипт.
Виктор нахмурился, поднялся с лавки и зашагал вокруг бронзовой статуи.
— Не складывается, Жозеф. Вы забыли про акции «Амбрекса».
— Ни в коем случае! Как же, забудешь о таком… Вот как я представляю себе развитие событий, патрон. Четверо сообщников задумывают грандиозное мошенничество. У каждого в этой игре своя специализация: Гранжан рисует акцию, тщательно прорабатывая детали вроде портсигаров с трубками, чтобы привлечь чужие денежки, а затем делает и клише — он ведь был учеником гравера; Тэней печатает акции; Даглан крадет янтарные портсигары; Леглантье же со всей своей фиглярской ловкостью впаривает фальшивки честным гражданам.
— А что делает Корколь?
— Он — координатор. Четверка проведала, что он продажный флик, и заручилась его поддержкой. Это ж какой туз в рукаве — прикормленный страж порядка! Чтобы приступить к осуществлению плана, им нужен был стартовый капитал. А Корколь, как вы помните, последние два года общался с Пьером Андрези — стало быть, знал, что переплетчик приводит в порядок редкие книги, которые легко сбыть за приличные деньги какому-нибудь нечистому на руку букинисту. Раз — манускрипт украден, начальный капитал получен, два — акции и портсигары вбрасываются в игру, три — Леглантье обчищает карманы десятка олухов вроде герцога де Фриуля. Да только они недооценили Даглана, который захотел единолично завладеть всей кубышкой. Даглан убивает Тэнея, затем поджигает мастерскую Андрези и теряет там часы печатника, устраняет Гранжана, Леглантье и с помощью посланий, где упоминается леопард, выставляет себя жертвой, чтобы убедить вас в своей невиновности. Вот и всё! Ну, как вам моя история?
— Из вашей истории опять выпал Корколь.
— Даглан избавился и от него — убрал последнего свидетеля.
— Браво, Жозеф. Мои аплодисменты.
— Да чего уж там, я просто изложил гипотезу. В конце концов, жизнь — всего лишь череда нелепых случайностей. — «Ай молодца, дружище Жозеф. Отличный эпилог для „Кубка Туле“!» — не преминул мысленно отметить молодой человек. И вдруг насторожился: — А что, у вас есть возражения, патрон?
— Меня смутили ваши слова о стартовом капитале. Зачем он им нужен был? Сообщники не собирались нанимать исполнителей, которым надобно платить, поскольку, как вы блестяще подметили, у каждого в этом деле была своя специализация. И потом, с какой стати было Даглану и Гранжану подписывать акции собственными именами? Вы говорите, Даглан избавлялся от свидетелей. И при этом сам же обеспечил против себя улику на поддельных бумажках «Амбрекса»? А мастерскую переплетчика ему зачем было поджигать, если манускрипт уже украден? Опять же с чего вы взяли, что Поль Тэней мертв?
— Так ведь его часы… вы сами сказали…
— Возможно, эти часы призваны навести нас на ложный след. На нашей с вами памяти не один преступник заметал следы с помощью фальшивых улик.
— Хорошо, допустим, Поль Тэней жив и действует заодно с Дагланом…
— Давайте не будем увлекаться допущениями. Нужно держать… — Виктор уступил дорогу двум матронам со складными стульями; дамочки отошли чуть подальше и обустроились на лужайке. — Нужно держать в голове две загадки, на первый взгляд не связанные между собой. Одна касается гибели Пьера Андрези, другая — аферы с акциями «Амбрекса», к которой он, по моему убеждению, непричастен.
— Вообще-то, у этих двух загадок есть точка пересечения, патрон. Это Гюстав Корколь. — Жозеф тоже поднялся с лавки.
Матроны энергично раскидали вокруг хлебные крошки — на поляну слетелись голуби. Сыщики предпочли уступить им уютное местечко и направились в сторону мэрии.
— Предлагаю другой сюжет, — снова заговорил Жозеф. — Корколь затеял финансовую махинацию с «Амбрексом» и решил всю прибыль прибрать к рукам. Он убил выполнившего свое дело Тэнея, затем Пьера Андрези, чтобы украсть у него персидский манускрипт, и поджег мастерскую, предварительно подбросив на место преступления часы печатника с целью пустить полицию по ложному следу. Далее он избавился от Гранжана и Леглантье и все это время оставлял улики, призванные подставить Даглана, — извещение о похоронах и прочую заумь про леопарда. Под конец он собирался зарезать самого Даглана, но Даглан успел первым… Патрон, эй, патрон, вы меня слушаете?
— Э-э… да… Погодите! Та песня…
— Какая песня?
Они шли по авеню Мэн, где несколько фиакров соревновались в скорости с трамваем. Трамвай проигрывал. Внезапно Виктор схватил управляющего за локоть:
— Про май, Жозеф, про вишни! В «зауми» фигурировал не только леопард, но и месяц май. А что было в мае? Разгром Парижской коммуны! Жозетта Фату сказала вам, что убийца, стоя над телом Гранжана, пел «Время вишен» — автор слов посвятил эту песню некой Луизе с улицы Фонтен-о-Руа, в мае семьдесят первого она была санитаркой!
[355] В общем, это песня Коммуны.
— И откуда вы столько всего знаете, патрон?
— Прошу вас, помолчите… Корколь наплел мне с три короба, но вдруг он соврал не во всем? Ведь я застал его врасплох, ему трудно было сочинять на ходу… Он сказал мне о покойном брате Пьера Андрези. Что, если этот брат действительно существует и жив до сих пор? Что, если он и есть Сакровир, коммунар?.. Хотя, конечно, Сакровиром может оказаться и Даглан…
— Точно, патрон! Вы-то видели этого парня в гриме, но мы с Айрис хорошо рассмотрели его лицо — ему сейчас сорок с небольшим, то есть в год Коммуны было двадцать!.. Минутку, а если Сакровир — это Поль Тэней? Его жена говорила, что он выглядел гораздо моложе своих лет. У нас же есть его фотография — можно показать ее Мариетте Тренке и…
— Жозеф, не будь вы мужчиной, я бы вас расцеловал! — перебил Виктор. — Бегите на улицу Гизард, а я возвращаюсь на улицу Фонтен — надо протелефонировать Раулю Перо.
Возвращаясь домой, Жозетта Фату поминутно оглядывалась и жалась к стенам. Она так вцепилась в мешочек яблок, купленный после того, как цветочная тележка была поставлена на ночь в подъезд, что свело пальцы. В последние дни нервное напряжение росло и крепло, раздувалось в груди воздушным шаром и душило, душило… Не в силах бороться с этим страшным внутренним давлением, цветочница покорно готовилась к худшему.
И худшее случилось.
Когда Жозетта взялась за ручку калитки в решетчатой ограде, на ее кисть легла мужская ладонь в перчатке и слегка сжала пальцы. Ухо обдало горячим дыханием:
— Соберите вещи и следуйте за мной. Живо!
Воздушный шар в грудной клетке лопнул.
К чему сопротивляться? Куда бы она ни сбежала — он ее найдет. Лучше подчиниться — и будь что будет.
— Зачем? — чуть слышно выговорила девушка.
— Затем, что это единственный выход. Я подожду здесь. Поторопитесь!
— Куда мы пойдем? — На мгновение Жозетте показалось, что эти вопросы задает кто-то другой. Она вскинула голову, глаза расширились, рот приоткрылся. Слова, сорвавшиеся с ее собственных губ, сам факт ее диалога с убийцей напугали девушку до полусмерти. Не дожидаясь ответа, она покорно пошла к двери дома. Земля качалась под ногами. Страх достиг наивысшего предела — и вдруг словно отделился от нее, теперь он казался чужим и далеким.
Поднимаясь по лестнице, Жозетта думала о том, что смерть выслеживает человека с самого рождения, приближается то неспешно, то проворно, будто предоставляет возможность свыкнуться с ней. И если простой цветочнице Жозетте Фату смерть явилась в обличье любви, на то она и смерть, чтобы менять маски. Любовь и смерть, в конце концов, нередко идут рука об руку. Девушка задавалась вопросом, почему убийца был так ласков с ней в тот вечер, в ее комнате. Почему не зарезал сразу? В полуобморочном состоянии Жозетта тогда слушала и отвечала, повинуясь не столько его приказам, сколько биению собственного сердца, трепету, охватившему тело, к чьим желаниям она никогда раньше не прислушивалась. Жозетта была твердо уверена в одном: этот мужчина — ответ на все ее вопросы. Потому будь что будет. Она сделает то, что он потребует, и пусть смерть восторжествует над любовью. Этой встречи, пробудившей ее чувства, она ждала долгие годы, проклиная грязных самцов и мечтая о нежном любовнике. Вот только немного жаль, что человек, покоривший ее сердце, станет ее убийцей.
Фредерик Даглан в крылатке и фетровой шляпе, надвинутой до самых бровей, ждал, не сводя глаз с открытой двери дома за решетчатой оградой. Заскрипел гравий — двор пересекло чудовище женского пола в огромных галошах; из-под галош прыснули в разные стороны курицы. Возле будки заскулила на цепи собака, замахала хвостом в надежде на ласку.
— Заткнись! — рявкнуло на собаку чудовище, смерив злобным взглядом заодно и незнакомца, стоявшего под фонарем у ограды, после чего исчезло в темном провале подъезда.
Внезапно Фредерик Даглан почувствовал себя идиотом — собственный хитрый план напугать цветочницу, тем самым заставив ее повиноваться, показался ему сущим ребячеством. Что, если Жозетта Фату сейчас всполошит соседей и запрется у себя в комнате? Он думал, девушка сразу начнет кричать, сопротивляться, и заранее приготовил речь — это была жемчужина дипломатического искусства, — чтобы убедить ее тихо собраться и пойти с ним. Но покорность, с которой Жозетта поплелась к подъезду, его обезоружила. Она вела себя как охваченный головокружением альпинист, которого безудержно влечет пропасть. Вдруг это было притворство? Разыграла смирение и уже сбежала черным ходом? Нет. Вот она.
Жозетта вышла из дома с ковровым саквояжем в руке. Она успела причесаться и переоделась — дешевое платьице подчеркивало хрупкую женственную фигуру. Фредерик вспомнил ее маленькую упругую грудь под своей ладонью — тогда, в комнате, цветочница упала в обморок при виде вечернего гостя, и он едва успел ее подхватить, чтобы не ушиблась… Женщины редко разжигали в нем такую страсть с первого взгляда. Жозетте Фату это удалось. И все же ее покорность была подозрительна. Надо держать ухо востро…
Ни слова не говоря, Фредерик Даглан повел цветочницу к улице Фобур-Сент-Антуан, где у края тротуара ждал фиакр. Жозетта смотрела во все глаза на небо, на согретые солнцем фасады родного квартала, будто хотела сохранить навсегда в памяти эту мирную картину. Смотрела, садясь в фиакр, смотрела до тех пор, пока перед ней не захлопнулась дверца.
…Кэндзи был занят продажей трехтомного иллюстрированного издания «Неистового Роланда»,
[356] но появление в лавке незнакомца не ускользнуло от его внимания. Незнакомец робко просочился в торговый зал и теперь переминался с ноги на ногу неподалеку от прилавка.
— Чем могу помочь? — осведомился Кэндзи, как только счастливый обладатель трехтомника поволок добычу к выходу.
— Вы ведь компаньон месье Легри? — зачастил робкий визитер. — Мы с ним недавно познакомились, я часовщик с улицы Месье-ле-Пренс, меня привело к вам весьма деликатное дело. Недели две назад я доверил месье Легри карманные часы, принадлежавшие месье Андрези, покойному переплетчику, а месье Легри должен был передать их вам… Но так вышло, что сегодня утром ко мне в мастерскую явился человек, назвавшийся кузеном месье Андрези, и попросил вернуть часы. Я ему, не подумав, сболтнул, что в данный момент часов у меня нет, они у месье Легри, но я их сегодня же заполучу назад, поэтому он может зайти позже. Надеюсь, я не сказал ничего такого, чего не следовало говорить?
«Ох, Виктор, ваша патологическая скрытность до добра не доведет», — подумал Кэндзи.
— Что вы, все правильно. К сожалению, часов у меня при себе нет, и сейчас я не могу за ними сходить — как видите, я один в лавке и у меня покупатели. — Японец кивнул в сторону еще одного клиента, изучавшего книги на полке. — Но в обеденный перерыв непременно их вам занесу.
— О, можно и позже, — обрадовался часовщик, — тот человек обещал зайти к концу рабочего дня.
— Знаете, а я, кажется, встречал этого кузена Пьера Андрези… Такой высокий худощавый молодой человек, бородатый и взъерошенный, я бы сказал, слегка эксцентричный?
— Трудно определить, у меня в лавке темновато, а он был в крылатке, скрывавшей фигуру, — только представьте себе, в такую жару! Шляпа надвинута до бровей, дымчатые очки, борода как у Гюго… Да, пожалуй, даже очень эксцентричный! Что ж, не буду вас больше задерживать, до встречи, прошу прощения за беспокойство.
Кэндзи проводил часовщика к двери, и они уже раскланялись, когда тот щелкнул пальцами:
— Вспомнил! Он заинтересовался разными карманными часами, долго их рассматривал, и я заметил у него на левой ладони широкий рубец. Это вам о чем-нибудь говорит?
— Нет.
Как только часовщик удалился, сильно озадаченный Кэндзи, забыв про клиента, взбежал по винтовой лестнице на второй этаж.
— Айрис, девочка, ты не занята? Мне нужно срочно отлучиться, а эти бездельники Виктор и Жозеф где-то пропадают. Не могла бы ты… э-э…
— Поиграть в продавщицу? Конечно, папочка. Право слово, я так скоро превращусь из девушки, которая не слишком-то дружна с литературой, в книжного червя!
— А по-моему, этот омнибус мне удался! Что скажешь, Кошка?
На дальнем плане картины у подъема дороги остановился желтый омнибус «Компани женераль», старик подпрягал цугом к двум гнедым першеронам третьего. На облучке кучер в каррике
[357] и цилиндре из вываренной кожи с серебристой лентой наблюдал зрелище, которое вскоре должно было предстать и взорам тех, кто увидит законченное полотно. Семейство акробатов, пока лишь набросанное несколькими штрихами, готовилось к выступлению. Выстроившись в ряд и уперев кулаки в бока, мужчина, женщина и шестеро детей в трико стояли, касаясь друг друга локтями, и, казалось, ждали, когда художница вдохнет в них жизнь.
Кошка невнятно мяукнула и почесала за ухом.
— Ты права, чего-то не хватает. — Таша задумалась. — Может быть, дождя? Что, если на мою труппу прольется дождь?.. Нет, тогда все получится слишком унылым.
Насвистывая начало третьей части Севеннской симфонии Венсана д’Энди,
[358] которую она слышала совсем недавно на концерте, куда ее водил Виктор, девушка принялась размышлять над цветовой гаммой. Долой черный, он сгодится только на цилиндр кучера. Как говорил Одилон Редон: «К черному цвету надлежит относиться с уважением, ибо когда его много, он легко обесценивается». Вспомнились и другие изречения, например Дега: «Свет отливает оранжевым; тень человеческой плоти красновата; в полутень добавьте зеленого и избегайте белого». Таша погрызла ноготь, не обращая внимания на Кошку, которая терлась о ее лодыжки. Нет, все-таки нужно довериться интуиции, Виктор все время твердит ей: «Будь сама себе наставницей».
Таша положила на столик палитру. Мысли перескакивали с одного на другое, никак не получалось сосредоточиться. Художница прошлась по мастерской, заткнула пробкой флакон с керосином для разбавления красок, поставила его рядом с бутылочкой сиккатива и тюбиком кадмиевой лимонно-желтой.
«Когда пишу маслом, я, как Пуссен,
[359] не ведаю сомнений, но едва лишь откладываю кисть — перевоплощаюсь в котенка, который не может устоять перед игрушкой», — подумала девушка, пощекотав Кошкин нос бахромой. Бахрома была на шишечке, шишечка — на шнурке, шнурок плясал в руке Таша, и одуревшая от счастья Кошка впала в неистовство. Прыгая по мастерской, она разметала боты и штиблеты, опрокинула стопку книг на полу, вцепилась зубами в тапочек.
Таша, прихватив по дороге яблоко, подошла к столу, на котором лежала целая куча набросков к одному эпизоду из гомеровской «Одиссеи»; колдунья Цирцея на них с удовлетворением наблюдала, как Одиссеева команда мореплавателей превращается в стадо свиней. Художница давно билась над этой сложной композицией и уже чувствовала вину перед издателем — все сроки вышли, он нервничал. Повздыхав над Одиссеевыми и собственными невзгодами, она, однако, поворотилась к столу спиной, бросила яблоко на кровать и снова встала перед холстом. В голове немного прояснилось.
В этот момент Кошка громким мяуканьем изъявила желание выйти.
— Срочная необходимость? Ну пойдем, радость моя.
Они направились по двору к запертой на ключ двери квартиры. У Кошки были свои маленькие привычки — как только Таша ее впустила, зверушка бросилась в кухню к своему лотку, наполненному порванными газетами, и начала яростно в нем рыться. Таша, оставив дверь открытой, вернулась в мастерскую. Поразмыслив над картиной еще некоторое время, решительно взяла палитру и смешала кобальт с охрой, напевая тему из все той же симфонии Венсана д’Энди. А когда она собиралась добавить в краску немного осветлителя, в мастерскую влетела Кошка — хвост трубой, хребет дугой, шерсть дыбом, уши прижаты.
— Что с тобой, радость моя? Встретила во дворе чудовище? Кого же, соседского щенка или маркиза Карабаса?
Кошка, не обращая на хозяйку внимания, порскнула в угол, за нагромождение рам и картин. Заинтригованная Таша вышла во двор. Никого, только мошки вьются над водоразборной колонкой. Прищурившись от закатного солнца, девушка понаблюдала за причудливым воздушным представлением, рассеянно коснулась по дороге рукой ветки акации и вошла в квартиру. После того как у нее украли фотоаппарат, Виктор навесил на окна ставни и велел ей всегда запирать дверь, даже если идет поработать в мастерскую. Не зажигая лампы, Таша обошла комнаты, возмутилась в очередной раз поведением Эфросиньи — та во время ежедневной уборки с маниакальным упорством переставляла в спальне тумбочку ко входу в туалетную комнату.
В зеркале отразилось бледное даже в полумраке лицо — незнакомка с непокорными рыжими волосами, загадочное создание из сонма призраков, населяющих фантазии Гюстава Моро.
[360] Таша вгляделась в свое отражение, послюнила палец, вернула на место выбившуюся прядку. Да что же в ней загадочного? Глупости. Она — женщина, всей душой устремленная к независимости, творчеству и любви, не сфинкс и не суккуб, которыми одержимы все художники-мужчины, будь то символисты или натуралисты.
Из туалетной комнаты послышался треск — словно рвалась ткань. Нет, это кто-то чиркнул спичкой — пляшущий огонек свечи выписывал во тьме дверного проема каббалистические знаки.
— Виктор? Ты вернулся?
Из мрака выдвинулась тень — Таша даже отшатнуться не успела. Из груди рванулся крик, в животе образовалась ледяная глыба, стала расти, достигла верхушкой сердца. На рот легла чья-то ладонь в перчатке.
— Тихо, — прорычали в ухо мужским голосом.
Незнакомец схватил ее за плечи, навалился всем телом, чтобы опрокинуть на кровать. Уже падая, Таша попыталась вывернуться, замолотила кулаками наугад — и попала, ей удалось освободиться. Она бросилась к выходу, но незнакомец ее нагнал, схватил за локти, швырнул назад, в спальню. Голова взорвалась вспышкой боли — удар в висок отправил девушку на дно обморочной пропасти.
Женский крик раздался в тот самый момент, когда Виктор входил во двор дома на улице Фонтен. Ему показалось, что крик прозвучал, тотчас оборвавшись, из их квартиры.
— Таша! Таша, ты здесь?!
Он бросился туда со всех ног — дверь была не заперта, — влетел в сумрак прихожей и дальше, в спальню.
Раздался щелчок — и резкий приказ:
— Стоять, Легри! А теперь медленно идите вперед. И держите руки так, чтобы я их видел.
Виктор сделал шаг. Кто-то из-за спины ловко поставил ему подсечку, и он упал на кровать рядом с неподвижно лежащей Таша. Заметил, падая, что ее блузка разорвана, в прорехе видна грудь… и в глазах все поплыло от ужаса и ярости, тело налилось свинцом.
— Ах ты мерзавец!..
— Спокойно, Легри. Очень медленно встаньте на ноги.
Виктор поднялся, обернулся — на него смотрело дуло револьвера. Револьвер был в руке человека, чью фигуру полностью скрывал плащ-крылатка. Цилиндр надвинут до бровей, темные очки, борода — лица не разглядеть.
— У нее всего лишь шишка на голове — сейчас очнется. Надеюсь, вы понимаете, Легри, что я пришел не для того, чтобы подраться с женщиной. Мне нужны часы. Вы знаете, какие и почему.
Виктор молча покачал головой.
— Давайте не будем терять время, Легри. Мне известно, что часы у вас.
Странно знакомая интонация, нелепый маскарад…
— Кажется, я не приглашал вас в гости, Даглан.
— Часы, живо! И без фокусов — ваша подруга у меня на мушке.
Виктор медленно пошел к шкафу.
— Я сказал, без фокусов! Левую руку за спину!
— Я не смогу одной рукой снять крышку.
— А, часы в коробке с фотографиями! Мне следовало догадаться. Повернитесь. Шаг в сторону — и я выстрелю в эту женщину.
— Положите револьвер на подушку или я выстрелю в вас! — прозвучал от двери строгий голос.
Человек в крылатке невольно шагнул к Виктору, потому что ему между лопаток уперлось дуло пистолета в руке Кэндзи Мори, и в следующую секунду резко обернулся:
— Кэндзи! Вы?!.. Что ж, дело сделано, я ухожу с миром в душе.
Дальше все происходило как во сне. Человек молниеносно приставил дуло револьвера к своей груди и нажал на спуск. Виктору, оглушенному выстрелом, показалось, что фигура в крылатке зависла в воздухе на немыслимо долгое время, оно все тянулось и тянулось. Наконец смертельно раненный самоубийца обрушился на пол.
Кэндзи выронил пистолет — его руки дрожали.
— Я не хотел, — выговорил он. — Не хотел… Виктор, займитесь Таша. — И, бросившись к окну, распахнул ставни, затем опустился на колени рядом с умирающим, осторожно снял с него цилиндр, очки, склонился к самому лицу. — Пьер… Пьер, но почему?..
Пьер Андрези слабо улыбнулся:
— Фурастье… знает… — Слова срывались с его губ тяжело, он с трудом их выталкивал. — Фурастье… с улицы Байе… Кэндзи… судьба каждого… предопределена?
— Я думаю, что каждый из нас — автор собственной судьбы, — тихо сказал японец. — Мы пишем пьесу, и представление идет до самого конца.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Пятница 28 июля
— «Будь философом в жизни, дружок, по пустякам не беспокойся никогда, ведь завтра опять будет все хорошо, даже если сегодня случится беда», — галопом одолевая Новый мост, бормотал Жозеф стишок, сочиненный его отцом. — Ты был прав, папочка, прав…
Разумеется, визит к Мариетте Тренке ничего не дал — она не узнала в Поле Тэнее Сакровира, и Жозеф отчаялся: расследование зашло в тупик. Но когда вечером месье Легри протелефонировал ему и поведал, какая трагедия случилась на улице Фонтен, добавив, что они с месье Мори всецело полагаются на верного управляющего, более того — только на его бесценную помощь и рассчитывают, молодой человек воспрял духом.
А ближе к полуночи месье Легри сам пришел на улицу Висконти, разбудил бедняжку Эфросинью, к ее огромному неудовольствию, и утащил Жозефа посовещаться в каретный сарай. Патрон был бледен, глаза запали, он сильно нервничал.
— Инспектор Лекашер промариновал нас с месье Мори в префектуре полиции несколько часов. Мы заявили, что ничего не знали о серии убийств, просто искали свой персидский манускрипт, вот и все. О часах и словом не обмолвились.
— И Лекашер вам поверил?
— Нет. Думаю, нам от него так просто не отделаться.
— А про Леопарда он знает?
— Про леопарда? — округлил глаза Виктор. — Про какого леопарда? С каких пор вы занялись зоологическими штудиями, Жозеф?
— Терпеть не могу семейство кошачьих, патрон, — подыграл молодой человек. — Никогда ими не интересовался. Как чувствует себя мадемуазель Таша?
— У нее нервный шок, но она справится. Думаю, дома меня ждет головомойка.
— Кого вы больше боитесь, Лекашера или мадемуазель Таша? Шучу, патрон, шучу. По телефону вы говорили, что рассчитываете на мою помощь, я правильно вас понял?
— Рассчитываю, Жозеф. Перед смертью Пьер Андрези успел сказать: «Фурастье знает. Фурастье с улицы Байе». Это сапожник, который…
— Держит обувную лавку рядом с Лувром, — подхватил Жозеф, — а раньше он жил в одном доме с Сакровиром.
— Откуда, черт возьми…
— Мариетта Тренке, гладильщица с улицы Гизард, назвала нам с вами это имя. У вас опять провалы в памяти, патрон?
— Перестаньте издеваться и слушайте меня, Жозеф. Кэндзи тоже провел свое расследование. Фурастье — тот самый человек, который продал книготорговцу Адольфу Белкиншу наш персидский манускрипт. Завтра… — Виктор посмотрел на часы. — Нет, уже сегодня откройте лавку и попросите Айрис подменить вас в торговом зале…
— Ей это не понравится, патрон.
— Она будущая жена книготорговца, пусть привыкает.
При этих словах Жозеф покраснел от удовольствия.
— Оставьте Айрис в лавке, а сами отправляйтесь на улицу Байе, — продолжал Виктор. — Полагаю, в подробных инструкциях нет необходимости?
— Да, патрон, это лишнее. Я выйду из «Эльзевира» со связкой книг, как будто спешу доставить заказ клиенту — это обманет сбиров, если Лекашер приставил к нам «хвосты», оторвусь от слежки и дуну на улицу Байе. Что дальше?
— Фурастье — тот, кто сможет поставить точку в этой истории. Вы возьмете у него интервью — тут уж с вами никто не сравнится.
— А чем займетесь вы, патрон?
— Немного посплю. Нас с месье Мори утром снова ждут в префектуре полиции.
Жозеф, мокрый как мышь, свернул с улицы Арбр-Сек на улицу Байе. Подаренная Айрис в прошлом году записная книжка в сафьяновом переплете прилипла в кармане пиджака к пропитавшейся потом ткани. Наконец он добрался до сапожной мастерской. На вывеске значилось:
ПОЧИНКА ОБУВИ
Берем туфли, боты, сапоги,
башмаки, штиблеты
всех видов и фасонов
На картонке, подвешенной к дверной ручке, было написано:
ВРЕМЕННО ЗАКРЫТО
Жозеф постучал. Еще постучал. Не получив ответа, он отступил на тротуар, задрал голову к окнам и завопил, рискуя всполошить соседей:
— Фурастье!.. Эй, Фурастье!.. Ау!!! Спускайтесь! Это я, кузен из Отена! Фурастье, меня Пьер прислал!
Солнце жарило нещадно, Жозеф приставил ладонь козырьком ко лбу и увидел, как на втором этаже колыхнулась занавеска. Из табачного ларька на крик высунулась симпатичная брюнетка, и молодой человек одарил ее своей самой обаятельной улыбкой.
— Чего вы так надрываетесь? — притворно нахмурилась она. — Он, наверно, в Бельваль-су-Шатийон уехал, к дочери. Хотя странно это, ему ж птиц не на кого оставить…
В этот момент за стеклом в двери сапожной мастерской показалось лицо и тотчас исчезло.
Жозеф наклонился к замочной скважине:
— Месье Фурастье, меня зовут Жозеф Пиньо, я управляющий книжной лавкой месье Кэндзи Мори. Он уже приходил к вам сюда, но мастерская была закрыта. Месье Мори — друг Пьера Андрези.
— Что вам от меня нужно? — прохрипели из-за двери.
— Я должен сообщить вам, что он покончил с собой… Мне очень нужно с вами поговорить. Это важно!
— Для кого важно?
— Для меня. И для вас.
Фурастье, помедлив немного, отпер замок и приоткрыл дверь:
— Входите, быстро.
Сапожник оказался невысоким кругленьким человечком с обвислыми усами, седеющей шевелюрой и красными алкоголическими прожилками на пухлых щеках. Жозеф, посмотрев ему в лицо, поспешно отвел взгляд: толстячок страдал выраженным косоглазием. Он провел гостя в мастерскую, заваленную обувью, и дальше, за перегородку, причем, при своей полноте, двигался ловко и бесшумно.
За перегородкой Жозефу в лицо пахнуло теплом, в нос ударил запах птичьей фермы, в уши — чириканье, трели, невозможная какофония голосов. Здесь вдоль стены были устроены вольеры, разделенные на множество клеток, и в каждой порхали с жердочки на жердочку, били крыльями и заливались на все лады птицы — лимонно-желтые канарейки, африканские ткачики, колибри, попугаи, японские славки, певчие дрозды…
Фурастье указал Жозефу на табурет у стола без скатерти:
— Присаживайтесь. — И обвел рукой клетки с пернатыми: — Это моя семья. Выпьете чего-нибудь?
— Нет, благодарю.
— А я выпью. — Сапожник налил себе бокал красного вина, опустошил его залпом и пододвинул стул к столу в подтеках и пятнах жира. — Значит, месье Мори покончил с собой?
— Нет, — растерялся Жозеф, — Пьер Андрези…
Фурастье побледнел. Дрожащей рукой выдвинув ящик, достал оттуда конверт и несколько минут молча смотрел на вписанный твердым почерком адрес.
— Когда это случилось? — спросил он наконец.
— Вчера вечером.
— Бедный Пьер!
— Ваш бедный Пьер угрожал убить моего хозяина и его невесту, а перед этим прикончил четверых! — воскликнул Жозеф, охваченный странным чувством, в котором смешались гнев, скорбь и нетерпение.
— Я знаю, — опустил голову сапожник. — Это печальная история, молодой человек, очень печальная. Уж лучше не буду я вам ее рассказывать.
— Но я… Поверьте мне, месье Фурастье… — Жозеф лихорадочно подыскивал слова, призванные завоевать доверие сапожника. — Я на вашей стороне, полиция ничего не узнает о нашем разговоре! Только мне нужно записать, если вы не против, — патрон просил…
— В этом нет необходимости, — тихо произнес Фурастье и протянул ему конверт. — Письмо Пьера адресовано месье Мори, там все сказано.
— Я хотел бы услышать эту историю из ваших уст.
— Может, оставите меня в покое? Позвольте мертвым похоронить своих мертвецов.
— Послушайте, месье Фурастье, я очень любил месье Андрези, я должен узнать правду! — взмолился Жозеф.
— А вы настырный, — грустно усмехнулся сапожник. — Ну, попробуйте дом перевернуть вверх дном — может, ваша правда где под матрасом сыщется… Ладно уж, если загробная жизнь есть, думаю, Пьер не будет возражать, коли я вам расскажу, что знаю. Он ведь довел задуманное до конца.
«Да уж, похоронное бюро Пьера Андрези отработало свое и закрылось», — подумал Жозеф и уставился в пол, не выдержав грустного взгляда красного какаду, который, нацелив на него круглый глаз и покачиваясь на подвесной жердочке, тосковал по далекой родине.
Фурастье откашлялся.
— Записывайте, если хотите. Я случайно встретил Пьера Андрези два года назад, в девяносто первом, на набережной Сены. Я там рыбу удил, ловля уклеек — моя маленькая слабость, а Пьер ходил по букинистам в надежде отыскать какой-нибудь старинный диковинный переплет. Мы не виделись двадцать лет. Ну, как водится, молодость вспомнили, войну. Он тогда отказался участвовать в этом свинстве — я про свару с пруссаками — и уехал в Англию. Сам я после нашей капитуляции стал коммунаром. Двадцать пятого мая меня арестовали на улице Турнон, какой-то служака из версальцев учинил формальный допрос и,
не поднимая головы от бумажек, бросил жандарму: «В очередь его». Вот так — пять минут на приговор, и расстрельный взвод к твоим услугам, когда освободится. Я оказался на тесном дворике Сената. Народу там уже было — ступить некуда. Мужчины, женщины, подростки в кольце жандармов и солдат в красных мундирах… Нет, нет, не могу… — Сапожник жадно допил оставшиеся на дне бокала капли вина, плеснул остатки из бутылки и косящим глазом посмотрел на Жозефа. Тот ждал продолжения, и на лице его было написано искреннее сочувствие.
— Полиция не узнает о вас, слово чести, месье Фурастье.
— Плевать мне на полицию, молодой человек, дело не в этом… Во дворе слышны были залпы «шаспо», я знал, что скоро умру, что никому из тех, кто меня окружает, не уцелеть. Я почти примирился со смертью, когда заметил среди надсмотрщиков одного типа в штатском с триколором на рукаве. Мы знали друг друга в лицо — жили на одной улице, он был полицейским осведомителем… — Фурастье опять замолчал и повернулся к этажерке. Там на полке рядом с морской раковиной стояла фотография молодой женщины. — Это моя дочь. Кроме нее, у меня никого на свете нет. Она теперь замужем, живет на Марне.
— Очень красивая. Пожалуйста, месье Фурастье, вернемся к Пьеру Андрези.
— Чтобы вернуться к Пьеру, я должен досказать про события в конце мая семьдесят первого, молодой человек… Тот тип с триколором тоже меня заметил и крикнул: «Эй ты, иди сюда!» Я повиновался. Пробираясь в толпе приговоренных, я узнал жену Пьера, его четырнадцатилетнего сына и младшего брата, Сакровира. И пошел дальше, потому что подумал в тот момент о своей девочке, которая осталась дома совсем одна…
— Простите, вы сказали — Сакровир?
— Это была кличка Матьё, младшего брата Пьера. Матьё состоял в подпольном кружке рабочих вроде общества карбонариев.
[361] Его зазвал туда один приятель, задурил парню голову… Пьер был категорически против, твердил, что вся эта подпольная деятельность не сулит ничего, кроме неприятностей, и не только самим дуракам, которые в такие дела ввязываются, но и их родным, особенно если среди таковых есть владелец типографии. Они с братом тогда разругались вдребезги, Матьё ушел из дома, хлопнув дверью, и снял комнату на улице Гизард. Это было вскоре после объявления войны.
— Погодите! Владелец типографии? На улице Мазарини? Пьер Андрези имел в виду себя? Это он был владельцем типографии?!
— Да, и дела шли в гору. Когда он уехал в Англию, типографией взялась управлять Жанетта, его жена. — Сапожник опрокинул в себя еще полбокала.
— А того приятеля Матьё звали Фредерик Даглан?
— Не знаю. Пьер называл того приятеля бездельником и пустозвоном, говорил, что он связан с анархистами и промышляет воровством.
— Леопард! — выдохнул Жозеф. — Он!
Фурастье взглянул на него с удивлением и некоторое время сидел молча и неподвижно, прислушиваясь к ощущениям, менявшимся под воздействием алкоголя.
— Тот флик в гражданском отвел меня в сторонку, потер указательный палец о большой, будто банкноты пересчитывал, и сказал с мерзкой такой улыбочкой: «Мы вроде соседи, значит, можем договориться. Если найдешь чем заплатить, я устрою так, чтобы тебя перевели в Версаль, а там расстрел не пропишут. Уж лучше ссылка, чем пуля в лоб, согласен?»
— Как звали того флика?
— Вас не касается, это мое дело, — с неожиданной резкостью бросил сапожник и закусил губу. Подбородок у него дрожал.
— Не надо так, месье Фурастье… Пожалуйста, ответьте мне!
Хозяин мастерской не ответил — не смог, потому что сдавило горло. Он только головой мотнул.
— Его звали Гюстав Корколь? Ведь так?.. — тихо сказал Жозеф. — Месье Фурастье, он мертв. Позавчера зарезан в собственной постели.
Сапожник попытался улыбнуться, но не получилось — лицо исказила судорога.
— Да, — выговорил он с трудом, — Гюстав Корколь по прозвищу Барбос, распоследняя мразь! Ничего не могу с собой поделать, как вспомню его… Сейчас, сейчас пройдет… — Постепенно голос Фурастье обрел твердость. — Корколь в ту пору лютовал в Латинском квартале. Когда версальцы вернулись в Париж, он просто из кожи вон лез, выслуживаясь перед властями. Сопровождал офицеров, проводивших обыски. Версальцы ставили оцепление вокруг дома и обшаривали всё от подвала до чердака. Малейший намек на связь с коммунарами — и пиши пропало, выносят вещи, выводят жильцов и волокут в жандармерию. Тех, против кого не было очевидных доказательств принадлежности к Коммуне, отправляли в Версаль. Остальных запирали в подвалах Сената, а когда народу набивалось столько, что дальше уж некуда, — расчищали место.
— Расчищали место?..
— Выводили и расстреливали целыми группами в Люксембургском саду у большого пруда. Я чудом избежал этой участи — у меня нашлось чем заплатить. Выкупил свою жизнь у Корколя. Он в ту пору здорово обогатился — во время обысков получал свою долю добычи. Вы не представляете себе, сколько подметных писем ходило тогда по Парижу! В участках скапливались горы доносов, в конце концов даже военные власти взбунтовались против этой вселенской гнусности и стали выкидывать анонимки, но, конечно, не из милосердия — просто уже не справлялись… Люди доносили на соседей, хозяев заимодавцев, соперников в любовных делах… Да, юноша, слаб человек, но такого я больше никогда не видел!
— Погодите, месье Фурастье, не так быстро, — попросил Жозеф, который строчил в записной книжке, высунув от усердия язык.
— Вообразите себе, как я удивился, встретив Пьера Андрези спустя двадцать лет после того кошмара. Я-то думал, он погиб. Пьер сказал мне, что потерял всех, кого любил. Когда он вернулся из Англии, соседи поведали ему, что во время осады Парижа его семья укрывалась в доме дальнего родственника неподалеку от Сорбонны. А когда он пришел туда, на месте дома были руины. Прусская артиллерия постаралась. Вы знаете, молодой человек, что во время осады на город упало почти пятнадцать тысяч снарядов?
— Я почти не помню те времена, маленький был. Мы с матушкой жили в погребе, а папа сражался в Бузенвале… Постойте-ка, я думал, Пьер Андрези вернулся во Францию до того, как пруссаки осадили Париж…
— Нет, много позже. Его типография к тому времени уже была продана… Выпить не хотите?.. А я себе налью. — Фурастье, поднявшись из-за стола, открыл вторую бутылку, налил полный бокал и с ним в руке прошелся по мастерской. — Пьер был уверен, что его близкие погибли во время бомбардировок. Я решил, что обязан открыть ему правду. И рассказал обо всем, что видел, — о расстреле его жены, сына и брата, о других казнях, о трупах на улицах, об унижениях… Долго рассказывал. Мне казалось, что тем самым я помогаю Пьеру нести траур по его семье. А он слушал меня так, будто все эти картины живьем вставали у него перед глазами. На самом деле я должен был признаться ему в собственной трусости… Старый дурень, если б я только знал, что натворил… Я назвал имя палача его близких, Гюстава Корколя. Пьер смотрел на меня ошеломленно, потерянно. И молчал. А потом закрыл лицо руками и заплакал. Он винил себя в том, что уехал в Англию, бросив семью на погибель.
— И тогда он захотел отомстить?
Фурастье сел за стол, устало отодвинул подальше бутылку и стакан, поставил локти на край и уронил голову в ладони. Много времени прошло, пока он снова и снова мысленно проживал страшные дни репрессий и ту встречу с Пьером Андрези.
Внезапно сапожник опустил руки и обратил к Жозефу помертвевшее лицо:
— Жажда мести хуже, чем боль от ожога, ее ничем не унять. Андрези ушел от меня раздавленный горем, уже пережитым два десятка лет назад, и глаза у него были как у животного, которое ведут на бойню. Вестей о себе он не подавал до лета девяносто второго. А потом явился ко мне в мастерскую, выложил свой план и попросил убежища. Я поклялся молчать, потому что чувствовал себя в ответе за всё. — Один глаз Фурастье смотрел на бутылку, второй на вольер, оба красные, припухшие, лицо страдальчески сморщилось. — Пьер в конце концов разыскал Корколя в комиссариате Шапели. Изучил все его привычки, узнал, где живет, в каком ресторане обедает, в каких забегаловках перекусывает. Так и завел с ним «дружбу» — где-то за стойкой в кафе. Сочинил байку о брате, умирающем в госпитале Ларибуазьер от ранения легкого, которое якобы получил в мае семьдесят первого, разгоняя на баррикаде поперек улицы Рен гвардейцев, принявших сторону коммунаров. Потом показал Корколю свой шрам на левой ладони и сказал, что заработал его под Рейхсгофеном. Ха! Он порезался ножницами для картона у себя в переплетной мастерской… Конечно, Корколь не мог помнить семью Андрези, арестованную им и расстрелянную двадцать два года назад в числе многих других, поэтому Пьер смело назвал ему свою фамилию и адрес — утаил только имя брата, не желал его упоминать… Он превозносил Тьера, одобрял репрессии, ругал почем зря коммунаров, а Корколь ему поддакивал…
— Месье Андрези хотел наказать этого флика — тут я еще могу его понять. Но в чем провинились остальные? — спросил Жозеф.
— Это выяснилось в одной из бесед с Корколем за стаканчиком в кафе. Корколь признался Пьеру, что за милую душу расстрелял бы вместе с коммунарами и тех, кто на них доносил. Он с презрением рассказал о трех работниках типографии на улице Мазарини — на их совести были аресты почти трех десятков человек, в том числе семьи их хозяина. Имена этих негодяев Корколь уже позабыл, но Пьер понял, о ком идет речь.
— Гранжан, Леглантье, Тэней, Даглан! Вот сволочи! — воскликнул Жозеф.
— Даглан? — Сапожник покачал головой. — Нет, их было только трое, и я не знаю, кто такой Даглан.
— Но почему они написали донос на семью месье Андрези?
— Ради выгоды. В обмен на сведения о связи хозяйки, ее деверя и четырнадцатилетнего сына с коммунарами они добились от властей права собственности на типографию, вскоре продали ее, деньги поделили и разошлись каждый своей дорогой. — Фурастье опять уставился на бутылку, на этот раз сфокусировав на ней оба глаза, яростно махнул рукой: — А, ладно! К черту воздержание! — И залпом выпил два бокала подряд.
— Но как Пьеру Андрези удалось проникнуть незамеченным в театр «Эшикье»?
— Там шел ремонт, Пьер переоделся столяром, оглушил Леглантье, отпечатал на машинке письмо, открыл газ и поднял тревогу… Когда сюда, к моей мастерской, пришел месье Мори, Пьер испугался. Он… Ах, что же я наделал, что я наделал!.. — Фурастье сгорбился еще сильнее и продолжил почти неразборчиво: — Меня сослали в Новую Каледонию. Я провел девять лет вдали от моей девочки, на другом краю океана. Там выучился сапожному ремеслу и подружился с птицами… — С обвислых усов капало вино, взгляд блуждал по мастерской. — От прошлого не убежишь, оно всегда настигает… — Он вдруг вскочил и уставился на гостя: — Довольно, я отдал вам письмо Пьера, теперь уходите, мне нужно побыть одному!
Мучимый сотней вопросов Жозеф брел по тихим аллеям сада Тюильри. Вокруг прогуливались нарядные парочки, зеленели ухоженные лужайки, смеялись дети, катаясь на козьих упряжках. Мир и покой… Жозеф опустился на скамейку. Война, расстрелы, сломанные жизни — все это так далеко… В горле стоял ком. Молодой человек достал из кармана письмо Пьера Андрези, адресованное Кэндзи…
Сумерки уже сгустились в ночную темень вокруг каретного сарая, но Жозеф безжалостно продолжал рассказ, не обращая внимания ни на синеву под глазами Виктора, ни на беспрестанные зевки Кэндзи.
— …Доносчиков было трое: цеховой мастер Поль Тэней, ученик гравера Леопольд Гранжан и корректор Эдмон Леглантье — рифмоплет, который бахвалился, что ему рукоплескала сама императрица Евгения. Пьеру Андрези стоило немалого труда отыскать их спустя двадцать лет. А Корколю, который не раз занимал у него деньги, месье Андрези подсказал грандиозную идею — распространить акции фиктивного предприятия по производству искусственного вещества, ни в чем не уступающего янтарю. Корколь попался с потрохами — сразу согласился провернуть эту аферу. Дело было за малым: нарисовать, напечатать и продать акции. Месье Андрези дал ему адреса своих бывших работников. Эмальер, в прошлом ученик гравера, нарисовал акции, цеховой мастер, ныне владелец собственной типографии, напечатал их, актер облапошил покупателей. Разумеется, каждый получил приличное вознаграждение, месье Андрези упоминает об этом в письме. Поздравьте меня, месье Легри, — версия, которую я изложил вам вчера, почти подтвердилась! О, план Пьера Андрези был безупречен! Тэней и Гранжан знать не знали про аферу и всего лишь взяли деньги за выполненную работу. Между посвященными в финансовую махинацию Корколем и Леглантье месье Андрези разделил прибыль от продажи акций пополам, причем Леглантье был уверен, что главный в этом деле — Корколь.
Жозеф замер, простерев длань в позе персонажа античной трагедии. В его воображении снова воссияли софиты на сцене театра Гимназии и он сам подавал реплику мадемуазель Саре Бернар. Действительно, почему бы не отобрать роль у Коклена-младшего? Вот только какая роль будет достойна великого актера Жозефа Пиньо? Воеводы Отто фон Мунка или капитана корабля Уилкинсона?..
— Извольте вернуться к нам! — рявкнул Кэндзи.
— Пьер Андрези осуществил эту финансовую аферу с поистине макиавеллиевским коварством и беспримерной отвагой, — вернулся Жозеф. — Леглантье и в голову не пришло связать подпись на акции со своим старым знакомым Леопольдом Гранжаном, учеником гравера.
— Вот-вот, — кивнул Виктор. — Действительно, они ведь были знакомы. Неужели эта подпись не насторожила Леглантье?
— Надо думать, не насторожила, раз он согласился участвовать в деле и не задавал вопросов. В конце концов, ему очень нужны были деньги, его собственное имя в бумагах не фигурировало, и он надеялся выйти сухим из воды.
— А у Корколя тоже случился приступ склероза? — усмехнулся Кэндзи. — Он же сам поведал Пьеру Андрези о троице доносчиков. Как это он забыл их фамилии?
— Во-первых, прошло двадцать с лишним лет, во времена Коммуны все они были молоды. Гранжану было всего семнадцать, Тэнею — тридцать шесть или тридцать семь, Леглантье — двадцать восемь, самому Корколю — тридцать пять. Во-вторых, я уже сказал вам, что в семьдесят первом году Корколь каждый день брал в комиссариате Пятого округа длинные списки подлежащих аресту граждан, людей расстреливали десятками, обыски не прекращались, он мог вообще не обратить внимания на фамилии доносчиков.
— А откуда он знал, что все трое работали в одной типографии? — Кэндзи, сидевший, засунув руки в карманы и скептически склонив голову набок, теперь еще и прищурился с таким видом, будто говорил: «Меня не проведешь!»
Уязвленный Жозеф ответил, демонстративно обращаясь к Виктору:
— Они сообщили об этом сразу, чтобы получить от властей индульгенцию, ведь в те времена версальцы хватали на улицах всех, у кого руки и одежда были испачканы в типографской краске. А что касается Даглана, он не имел к доносу никакого отношения, — уверенно закончил молодой человек.
— Да-да, поведайте нам о Даглане, — закивал Кэндзи.
— Пьер Андрези ненавидел его больше всех — за то что он заморочил голову Матьё. Если бы не Даглан, младший брат месье Андрези никогда не стал бы Сакровиром, не примкнул к коммунарам, и вся семья не погибла бы. Я достаточно ясно изложил или нужны еще пояснения? — ядовито выпалил Жозеф ему в лицо.
— Избавьтесь от этих язвительных интонаций и продолжайте свою сагу, — невозмутимо произнес японец.
— Для осуществления финансовой аферы потребно было еще раздобыть янтарные портсигары, дабы предъявить их олухам из бомонда, каковых предстояло одурачить. Месье Андрези указал Корколю на квалифицированного вора, благородного разбойника, современного Робина Гуда, известного как Леопард из Батиньоля!
— Виктор, будьте любезны, переведите мне этот высокий штиль на нормальный язык, — буркнул Кэндзи, — у меня сейчас терпение лопнет.
— Как только акции «Амбрекса» были проданы и деньги получены, — заторопился Жозеф, — Пьер Андрези начал вершить возмездие. Он зарезал Гранжана, затем убил Поля Тэнея, переодел труп в свою одежду, посадил его за стол в переплетной мастерской и устроил там пожар. А мертвецам закон не писан — дальше месье Андрези, отныне считавшийся погибшим, мог действовать, не опасаясь, что ему помешают. Он расправился с Леглантье и Корколем…
— А какое отношение к делу имеет мой персидский манускрипт, господин Всезнайка? — перебил Кэндзи Мори.
— Официально числившемуся погибшим месье Андрези нужны были наличные. И он поручил своему другу Фурастье продать несколько библиографических редкостей, принадлежавших его клиентам.
— Ох, Пьер… — прошептал Кэндзи. — Я так его уважал…
— Он тоже вас уважал, патрон, иначе не направил бы револьвер себе в грудь — он застрелил бы вас.
— Как у Пьера Андрези оказались часы его брата? — спросил Виктор.
— Об этом тоже сказано в письме. Матьё из осторожности спрятал удостоверение коммунара и часы с надписью «Да здравствует Коммуна» в тайнике под паркетом в своей комнате на улице Гизард. Флики проводили обыски в спешке — на повестке дня у них был не один Матьё — и потому удовольствовались теми вещами, которые оказались на виду. Вернувшись во Францию в октябре семьдесят первого, месье Андрези попросил у новых жильцов разрешения осмотреть комнату. Жильцы оказались славными людьми, позволили ему забрать часы. Удостоверение коммунара он порвал и выбросил.
— А его кузен, он в деле замешан? — поинтересовался Виктор.
— Не было никакого кузена, — помотал головой Жозеф. — Кузеном представлялся сам месье Андрези, когда возникала необходимость появиться на людях.
— Всё так, — задумчиво кивнул Кэндзи. — Пьер вспомнил о том, что отдал в починку часы Матьё, и отправился к часовщику на улицу Месье-ле-Пренс под видом своего кузена — в лавке темно, да и оделся он так, что мастер не мог его узнать, еще и бороду фальшивую приклеил… Но часовщик уже отдал часы вам, Виктор, о чем и доложил «кузену», а затем пришел к нам в «Эльзевир», и я узнал от него, что у означенного «кузена» был широкий рубец на левой ладони. Лет шесть или семь назад Пьер сильно порезал левую ладонь ножницами для картона. Это не могло быть совпадением. Я схватил один из своих коллекционных пистолетов и бросился на улицу Фонтен… Но зачем Пьеру понадобилось выдумывать такой сложный, запутанный план мести? Портсигары, акции, целая финансовая афера… Он мог бы просто убить их одного за другим и исчезнуть.
— Он хотел, чтобы перед смертью они вспомнили о злодеянии, которое совершили, — сказал Жозеф. — Для того и нужно было придумать махинацию, призванную объединить всех четверых, но так, чтобы они не сразу об этом заподозрили. Пятым в списке был Даглан, и по замыслу Андрези ему предстояло помучиться дольше других. Послания с упоминанием леопарда тому доказательство. Одно было найдено в руке мертвого Гранжана, второе — извещение о похоронах переплетчика — опубликовано в газете, третье получил бухгалтер Поля Тэнея, четвертое осталось в печатной машинке Леглантье. Но Пьер Андрези совершил ошибку — не забрал часы из кармана убитого Поля Тэнея. Он конечно же не мог предусмотреть, что мы вмешаемся в его планы.
— Да, в каком-то смысле вы с Виктором лишили его апофеоза мести, — заметил Кэндзи.
— Каким образом?
— Не дали ему увидеть, как слетит голова Даглана. Ведь часы Матьё нужны были Пьеру для того, чтобы предъявить их виновнику гибели своей семьи — последнему в списке, но первому и главному в его глазах. А вовсе не для того, чтобы уничтожить улику против себя. И Пьер считал своим долгом завладеть этими часами любой ценой. Всё, Жозеф, я отказываюсь слушать вас дальше — вымотался донельзя, иду спать. Отдайте мне письмо Пьера и в будущем воздержитесь от прочтения моей корреспонденции. А от вас, Виктор, я жду часы, которые вы запамятовали мне вручить. Доброй ночи.
— Нет, вы слышали, патрон?! — вознегодовал Жозеф, когда Кэндзи покинул каретный сарай. — Он, между прочим, тоже виноват в том, что Пьеру Андрези не удалось довершить свою месть!
— Да что ж это творится? Шумят и шумят! — послышался сонный и очень недовольный голос Эфросиньи. — Мне ж вставать ни свет ни заря да за уборку браться, а тут национальные собрания устраивают почем зря! Ах боженьки-боженьки, за что ж мне такое наказание?
Жозеф на цыпочках подошел к двери, ведущей из сарая в жилые помещения, и плотно закрыл створку. Обернувшись, он приложил палец к губам:
— Тихо, патрон, а то если матушка узнает про наше расследование…
Виктор помахал свернутой в трубку газетой:
— Поздно, Жозеф, — газетчики скоро будут орать об этом во всю глотку. «Пасс-парту» уже тиснуло специальный выпуск, в котором изложены первые открытия полиции. И там фигурируют наши с месье Мори имена. На сей раз инспектор Лекашер отыгрался на нас по полной. И боюсь, «Эльзевиру» теперь обеспечена очень громкая и совершенно невыгодная реклама.
— Вот уж нет, патрон! Ожидайте в ближайшие дни толпы покупателей, а я воспользуюсь этим, чтобы выставить в витрине побольше криминальных романов, к черту принципы… Кстати, любопытно, как на все эти публикации отреагирует Даглан.
— Он прислал мне еще одно зашифрованное послание, и я нарочно позабыл похвастаться этим фактом перед Кэндзи, — улыбнулся Виктор.
— А вам удалось его расшифровать?
— Вы держите меня за идиота, Жозеф? Я поднапрягся и использовал ваш метод. Даглан на днях уезжает за границу.
— Но письмо месье Андрези послужит доказательством его невиновности во всех этих убийствах. Ему теперь нечего опасаться!
— Воровское прошлое подсказывает ему, что пора сменить обстановку. Знаете, Жозеф, этот человек мне симпатичен. Надеюсь, у него все будет в порядке.
ЭПИЛОГ
Почему говорят, что море синее? Оно пульсировало, беспорядочно вспухая волнами, и походило на пустыри, бугрящиеся кучами шлака у столичных окраин. Лишь когда тучи расступились и выглянуло солнце, вода соизволила принять зеленоватый оттенок. Опираясь на леер на корме судна, Жозетта Фату не отводила глаз от пенного кильватерного следа, на конце которого исчезали из виду берега Франции.
— Ура, ура, ура, ура! — ликовали чайки над ее головой.
Должно быть, она лишилась рассудка, если вот так все бросила и пошла за этим мужчиной, упала в его объятия, покорилась его воле… Но пути назад уже не было. Сердце заколотилось в приступе паники, потом Жозетта увидела на палубе против солнца силуэт того, по чьей прихоти она здесь оказалась, и сожаления разлетелись солеными каплями, истаяли на свежем ветру.
— Не повезло нам с погодой, надо же ей было именно сегодня испортиться! — вздохнул Фредерик Даглан. — Впрочем, придется привыкать — это предвестье чертовой британской мороси. А ты о чем задумалась?
— О лужайках, поросших маргаритками. Нарву букетов и буду продавать их на улицах.
— Тебе никогда больше не придется работать — в моем распоряжении будут все деньги в карманах англичан. Лондон — рай для щипачей, по крайней мере у них там нет Альфонса Бертильона.
[362]
— Я хочу сама зарабатывать на жизнь.
— Ты права, красавица моя! Нужна тысяча бедняков, чтобы прокормить одного богача. Жизнь волка — смерть барашка. Цветочницы Ковент-Гардена безропотно уступят тебе самое лучшее местечко!
Он привлек ее к себе. Жозетта попыталась отстраниться, но куда денешься с лодки? Фредерик ослабил объятия, поцеловал ее солеными от морских брызг губами.
— Дикарочка моя, вот такой ты мне и нравишься — растрепанной и непокорной! Твои острые коготки и свирепое рычание доказали мне, что я тебя еще не приручил.
— Но ты всегда добиваешься того, чего хочешь?
— Стараюсь, по крайней мере. И не надейся меня изменить! — Фредерик улыбнулся, словно знал, что она кокетничает, и попытался снова ее обнять, но Жозетта его оттолкнула.
— Сначала я приняла тебя за матерого преступника, а теперь знаю, что ты обычный воришка. — Девушка покраснела. «И ведь правда, — подумала она, — он никогда и никому не причинит зла. Если рядом с ним я могу быть в чем-то уверенной, так именно в этом».
— Воришка? Ну, можно сказать и так, тем более что я собираюсь украсть для тебя луну с неба! Но ты кажешься разочарованной, милая. Может, предпочитаешь, чтобы от меня пахло кровью?
Фредерик улыбнулся еще шире, и Жозетта при виде этой улыбки словно заглянула в другой мир, о котором раньше не знала, — веселый мир, легкий и беззаботный.
Она пожала плечами.
— Какое будущее нас ждет?
— Будущее — как бабочка, которая чахнет и умирает, стоит ее поймать, — подмигнул Фредерик. — Черт возьми, до чего мне наскучило парижское общество! Лавочники, которые копят монеты, не задумываясь, что это всего лишь песчинки в песочных часах их жизни, горожане, забившиеся в свои каменные мешки, словно стены избавят их от страха смерти… Забудь тревоги, красавица моя, вдохни морской воздух, почувствуй, как твои легкие наполняет беспечная радость. Обещаю — мы развлечемся на славу!
И пылкие призывы компаньона, его легкомысленный энтузиазм, такой забавный в сочетании с еще не смытым гримом, превратившим сорокалетнего мужчину в старика, почему-то развеяли опасения Жозетты. Добровольное изгнание, нужда, страх остаться рано или поздно одной, потому что этот ветреник наверняка ее бросит, — все тяжелые мысли исчезли вмиг, Жозетта засмеялась. Но внезапно снова помрачнела:
— Однажды ты окажешься в тюрьме. Что я тогда буду делать?
— Ждать меня. Или искать мне замену.
— А ты вообще знаешь, что такое любовь?
— О, любовь! Мираж, который исчезает в то самое мгновение, когда кажется, что ты можешь к нему прикоснуться. Я не рассуждаю о любви, я просто люблю, милая. Когда-то все было по-другому — я был молод и доверчив, принимал клятвы верности, в которых непременно звучало слово «навеки», и сам их искренне произносил. А что в итоге? Сердце в клочья, потому что ни у меня, ни у моих любовниц не хватало сил эти клятвы сдержать. Любовь, рыбка моя, — это чулан, куда бросают что ни попадя: любовь к Богу, любовь к отечеству, любовь к хорошей кухне, любовь к свободе! Туда же летят обещания прекрасного будущего и искоренения социальной несправедливости. Я пережил бойню семьдесят первого, я видел, как в ней погибли мои друзья — их сердца разрывались от любви, но каждый получил пулю в грудь вместо свободы. И я поклялся самому себе вот в чем: никогда не жениться и работать в одиночку на самого себя — не ради того, чтобы сделать этот мир справедливым, а потому что так легче выйти сухим из воды. Видишь, ты была права: из защитника обездоленных я сделался простым воришкой.
— Воришкой, которого ищет полиция. Воришкой, который вынужден переплыть Ла-Манш.
— Ты отлично знаешь, что я невиновен в тех убийствах и что я понятия не имею, зачем кому-то понадобилось вешать их на меня. Но я верю моему другу Легри — он докопается до истины!
— Твой Легри, между прочим, один из тех буржуа, которых ты так ненавидишь.
— Буржуа? Только с виду. Под респектабельной оболочкой Виктор Легри похож на меня гораздо больше, чем ему кажется. Да, мы ближе друг другу, чем он думает.
— Фредерик, а наша с тобой близость долго ли продлится?
— Chi lo sa?
[363] — Он взял Жозетту за руку, прижал ее ладонь к своей. — Наши линии жизни сошлись на заповедном перекрестке судьбы. Пойдем в каюту… — Другую руку Фредерик Даглан опустил в карман пиджака, и его пальцы коснулись гардении, когда-то потерянной Жозефом.
Виктор поцеловал на прощание пухлую руку Эфросиньи, и домработница еще больше раздулась от гордости. Сегодня она щеголяла в фисташковом наряде из атласа с кружевами и в итальянском соломенном капоре, была резва, жеманна и страшно довольна собой.
— Неужто я наконец увижу море? Ах, просто не верится! Месье Легри, вы очень добры, не знаю, как вас благодарить за эту курортную поездку в Ульгат!
[364]
— Благодарите месье Мори, мадам Пиньо, идея принадлежит ему.
Эфросинья устремилась было к Кэндзи, но ее парализовал пронзительный свисток паровоза, совершавшего подготовительные маневры, а когда добрая женщина пришла в себя, ей тотчас понадобилось в десятый раз пересчитать многочисленные кофры, саквояжи и тюки, рядами выстроенные на перроне. Эфросинья везла с собой кучу предметов первейшей необходимости: столовые приборы, бокалы, флаконы духов, мелиссовую воду от головокружения, шали, подушки, пледы, ворох одежды и прочие мелочи, не говоря уж о корзинах с провизией. Провизия! Бедняжка похолодела: украли корзину с заботливо уложенными головками сыра! «Уф! Вот она, спряталась за третьим чемоданом мадемуазель Айрис, моей будущей снохи, — мысленно возликовала Эфросинья и окинула нежным взглядом хрупкую фигурку девушки, которая уже виделась ей потяжелевшей от бремени. — И пусть меня все еще зовут мадемуазель Курлак, я стану-таки бабушкой!»
— Эти расставания на вокзалах превращаются в какую-то недобрую традицию, — проворчал Виктор.
— Я покидаю тебя всего на три недели. К тому же ты сам на этом настоял, — улыбнулась Таша.
После нервного потрясения, вызванного вторжением убийцы в дом, она немного осунулась, но уже справилась со своими страхами и почти не злилась на Виктора, чье поведение и стало причиной кошмара. Она любила этого мужчину настолько, что готова была сносить даже его хроническую ревность. Однако каков притворщик! Вопреки всем клятвам, ввязался в расследование, и если бы не Кэндзи… И все же как можно сердиться на того, кто осыпал ее подарками и ласками, чтобы вымолить прощение, на того, кто скоро станет ее мужем? Таша даже позволила уговорить себя на эту поездку. Впрочем, отдых на море даст ей возможность закончить иллюстрации к Гомеру и на некоторое время почувствовать себя свободной от опеки Виктора. Кэндзи уверял, что вилла большая и просторная, там для каждого найдется тихий уголок. «В том числе для тех, кому нужен тихий уголок на двоих в нарушение всех приличий», — добавил он, строго глядя на дочь и своего управляющего.
Айрис была восхитительна и в скромном туалете из серо-голубого крепа, который надела специально для отца. Она вся светилась в предвкушении вояжа и мысленно перебирала упакованные в чемоданы пляжные костюмы, предусмотрительно закупленные в универмаге Лувра. Среди этих костюмов был один из белоснежного пике, подчеркивающий талию и украшенный волнистыми оборками на бедрах, — он точно произведет фурор…
Не догадываясь о белоснежной оборчатой бомбе, скрытой в чемодане своей дульсинеи, Жозеф с покорным видом слушал последние наставления старшего патрона:
— …При купании пусть непременно держится за канат — извольте проследить за этим, иначе ее унесет в открытое море первой же волной, она ведь такая рассеянная, сама не заметит, как окажется вдали от берега. После приема пищи купаться запрещается, необходимо выждать хотя бы четыре часа от начала процесса пищеварения, в противном случае весьма высока вероятность обморока и…
Кэндзи прервало патетическое мяуканье, все взоры тотчас обратились на закрытую корзинку, которая совершала яростные скачк
и на перроне. Таша поспешно подхватила корзинку на руки и попыталась успокоить ее обитательницу:
— Бедная моя Кошка, все хорошо, через четыре часа ты уже будешь на воле…
— Обмотай корзинку веревкой, а то твоя бедная Кошка удерет, — сказал Виктор и мечтательно вздохнул.
— Да уж, лучше ее вообще не выпускать, не то все ковры загадит. Ежели скотинка в детстве была побродяжкой — пиши пропало, никакая выучка тут не поможет! — заявила Эфросинья.
— Что вы говорите? — обиделась Таша. — Кошка у нас очень чистоплотная!
Кэндзи, которого ничуть не занимали вопросы кошачьей гигиены, изготовился было продолжить перечень напутствий, но обнаружил, что Жозеф и Айрис от него улизнули — они покупали свежий выпуск «Пасс-парту» у газетчика. Виктор стоял рядом с ними и нервно курил, поглядывая на Таша; Эфросинья была занята очередной ревизией пожиток. Японец сообразил, что остался один на один с Джиной, и от неожиданности даже слегка попятился. Та с трудом сдержала улыбку: «Он меня боится…»
— Месье Мори, почему вы решили от меня избавиться? Ваше стремление отослать на курорт Айрис и Таша мне понятно — вы хотите оградить их от последствий скандальной огласки, которой предано ваше с Виктором недавнее расследование. За девушками будет присматривать Жозеф — это тоже понятно. Ваша забота о мадам Пиньо, заслужившей отдых, предельно ясна и похвальна. Но когда вы предложили, чтобы я отправилась вместе с ними, меня это удивило.
— Вы остаетесь без ученицы, а пребывание на море пойдет вам на пользу… — промямлил Кэндзи.
— Очень мило с вашей стороны побеспокоиться о моем здоровье.
— Я подумал, что вы… вы с Таша будете рады провести время вместе…
— Не сочтите меня неблагодарной, но поначалу я, не подозревая о вашем великодушии, полагала, что мое общество вам неприятно, и вы попросту желаете спровадить меня подальше.
Японец побагровел и почувствовал, что не может произнести ни слова. Джина же, обнаружив, что ей удалось привести в замешательство этого всегда невозмутимого, отлично владеющего собой человека, возликовала. Тут паровоз издал вздох, выдув облако пара, и Жозеф, деловитый, как петух в курятнике, бросился заталкивать в вагон своих подопечных, а затем с помощью Виктора и Кэндзи загрузил туда бесчисленный багаж.
— Сколько вещей, патрон! Можно подумать, мы отправляемся в Китай! — крикнул он, высунувшись из окна, и помахал кепи: — Не волнуйтесь, у меня все будет под контролем!
Кэндзи послал дочери воздушный поцелуй, а Джине — долгий тревожный взгляд. Виктор не сводил глаз с Таша, которую Эфросинья почти расплющила о вагонное стекло.
— Иисус-Мария-Иосиф, так и пышет паром, поглядите туда, так и пышет! А вдруг котел взорвется?
Проводник запер дверцу вагона на ключ, раздался оглушительный свисток, застучали колеса. Состав с лязгом двинулся к мосту Европы и вскоре исчез в жерле Батиньольского туннеля.
В душном фиакре, катившем по улице Рима, Виктор старался отделаться от навязчивых воспоминаний об Одетте де Валуа, его бывшей любовнице, которая четыре года назад тоже уехала в Ульгат.
— Какие планы на вечер? — поинтересовался Кэндзи.
— Вернусь на улицу Фонтен и завалюсь спать, если, конечно, все эти господа из прессы и полиции оставят меня ненадолго в покое. А у вас?
— Наведаюсь к вдове Поля Тэнея, отдам ей урну с прахом ее покойного мужа. А потом я намерен заскочить к себе, переодеться и немного развеяться в приятной компании.
— О, понимаю…
— Что это вы понимаете?
— Компанию вам составит одна очаровательная особа, которая от вас без ума, — усмехнулся Виктор, не осмелившись назвать имя Эдокси Аллар.
— Ошибаетесь, я проведу этот вечер с мужчиной, — невозмутимо сообщил японец.
— С мужчиной?! — вытаращил глаза Виктор.
— Не надо делать такое лицо. Мои естественные склонности не претерпели тех судьбоносных изменений, на которые вы намекаете. Речь идет о моем близком друге, почти сыне. Ему не терпится забиться в берлогу и похандрить, а я пропишу ему курс лечения от сплина.
— Вы имеете в виду…
— Я имею в виду вас, Виктор. Мы идем в «Фоли-Бержер». Красивые женщины благотворно влияют на состояние души.
— Это слова мудреца или повесы?
Кэндзи в ответ состроил привычную мину — один глаз прищурен, во втором пляшут чертики, — и как всегда, сделался похож на хитрого кота. Он притворно зевнул, вздохнул и закрыл глаза — мол, расположен подремать, невзирая на тряску. Виктор, тронутый заботой отчима, хотел было потрепать его по плечу, протянул уже руку — но передумал и, откинувшись на спинку сиденья, уставился в окно фиакра.
На площади Конкорд били фонтаны, ветер подхватывал сверкающие капли, и такими же каплями разлетелось-рассеялось недавно законченное криминальное расследование. Дело закрыто.
— Иисус-Мария-Иосиф, сколько убийств! Кровищи-то, кровищи — по макушку вымокнешь! — прокомментировала Эфросинья, складывая прочитанный выпуск «Пасс-парту».
Жозеф, упреждая шквал упреков, который вот-вот должен был на него обрушиться, поспешно выпалил:
— Есть и более опасные виды деятельности! К примеру, от рук врачей умирает куда больше народу. А спорт? В Англии на футбольных матчах погиб семьдесят один человек за полтора года!
— Не заговаривай мне зубы! — отрезала Эфросинья. — Заниматься глупостями вместе с господами Легри и Мори — куда опаснее, чем играть в какой-то там футбол. Ты подвергаешь себя ужасным опасностям, защищая всяких там невинных! Лучше уж пиши свои романы-фельетоны на радость домохозяйкам. Вы согласны со мной, мадемуазель Айрис?
— Еще как согласна, мадам Пиньо! Кстати, Жозеф вчера отнес свой «Кубок Туле» Антонену Клюзелю, и тот обещал начать печатать его уже в октябре. Он даже выдал аванс!
— Мамочки мои! Правда, котеночек? Что ж ты мне сразу не сказал?
— Мы приберегли эту новость, чтобы сказать именно сейчас, — буркнул Жозеф.
— Ах, ну до чего расчудесный год получается, — расплылась в улыбке Эфросинья, — нынешний-то, девяносто третий: свадьба месье Виктора и мадемуазель Таша, ваша свадьба, детки мои, да еще и новый роман-фельетон! За это непременно нужно выпить! Прямо голова закружилась! Ой, и тошнит меня что-то — это, наверно, от скорости.
Пока Таша и Джина поздравляли Айрис и Жозефа с грядущей свадьбой, Эфросинья извлекала на свет провиант. Купе тотчас наполнилось запахом чесночной колбасы. Забулькало красное вино, и вскоре зазвенели бокалы.
Жозеф, которого так и подмывало поделиться с дамами подробностями расследования, не попавшими в прессу, подавил это отчаянное желание, впившись зубами в толстенный бутерброд, сооруженный для него матушкой. А когда прожевал и проглотил последний кусок, в его голове уже сложился план новой книги. Она будет называться «Букет дьявола», и речь в ней пойдет о преступлениях некоего директора театра, пристрастившегося убивать молоденьких актрис с помощью отравленных цветов… Жозеф не замедлил изложить замысел дамам.
Джина не слушала. Проплывавший перед глазами пейзаж казался фантастической панорамой, написанной маслом на холсте, и реальным на этом фоне было лишь странное смятение, которое вызвал в ее душе Кэндзи Мори. Воспоминания о нем будут преследовать ее все три недели на курорте… К действительности художницу вернул только громоподобный глас Эфросиньи:
— А скажи-ка, котеночек, — с вашего позволения, милые девушки, — вот когда ты станешь зятем господам Легри и Мори, ты ведь не будешь обращаться к ним «патрон» да «патрон», надеюсь? Что до меня, одно могу сказать точно: я найму домработницу!
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Лето было знойное, виноград уродился в изобилии, забастовки и волнения вспыхивали не переставая, сюрпризы весьма впечатляли. Вот и осенью подоспела новость из-за границы: «9 сентября новозеландский сенат издал указ о предоставлении женщинам избирательного права». Француженкам предстояло дожидаться того же от своих властей еще полвека.
«Год 1893-й оставил по себе не слишком приятные воспоминания», — читаем в рождественском выпуске «Монд иллюстре».
И то верно, 9 декабря 32-летний Огюст Вайян взорвал в Национальном собрании бомбу, начиненную гвоздями. Осколками был легко ранен один депутат от департамента Нор — аббат Лемир. Председатель Шарль Дюпюи, крикнувший: «Господа, заседание продолжается!» — стал героем исторического анекдота.
Огюст Вайян, подкидыш, вырос в нищете. Отправился на поиски лучшей доли в Аргентину, но там ему пришлось совсем туго, хуже чем во Франции, и он вернулся на родину. Молодому человеку ничего не оставалось, как посвятить свою жизнь идее. «Я спокойно гляжу в лицо смерти, ведь смерть — последнее прибежище для всех, кто утратил иллюзии. Прошу судьбу лишь об одном: чтобы взрыв разметал мое тело на мелкие частицы и они пролились дождем на человечество, сея повсюду вирус анархии»,
[365] — писал он.
Вечером после теракта известные писатели собрались на банкет, устроенный литературным журналом «Плюм». Эмиль Золя сказал: «Нечему удивляться, мы вступаем в эру величайших социальных потрясений. <…> Смутные времена дышат безумием, и слепы те, кто не прозревает значения событий, не видит, как История придает смысл всему, даже этому безумию. Бомба Равашоля
[366] канула во тьму, бомба Вайяна рванула в ослепительном свете».
Много позднее выяснится, что Огюст Вайян скорее всего был марионеткой Сюрте. Андре Сальмон, автор «Черного террора», пишет, что полиция знала о намерении Вайяна заняться бомбометанием 9 декабря в Бурбонском дворце, поскольку «именно на этот день террористу был выхлопотан пропуск. <…> Довольно высокопоставленные особы выбрали его как случайного человека, простого исполнителя <…> которого легко одурачить и который не прочь оказать услугу властям».
Этот теракт позволил стремительно терявшему доверие правительству обрести поддержку большинства. Законы 1881 года о свободе прессы претерпели изменения. Начиная с 12 декабря палата депутатов голосует во все тяжкие, принимается первый закон (443 голоса за, 63 против) из тех, что левое крыло назовет «злодейскими». Отныне власти вольны закрывать журналы и газеты, осуществлять жесткую цензуру, упразднять организации и запрещать собрания.
Следствие по делу Вайяна провели на скорую руку, процесс закончился вынесением смертного приговора. На заседании суда 10 января 1894 года обвиняемый заявил: «Если бы целью моей было убийство, я начинил бы бомбу пулями, а не гвоздями. <…> Мне довольно уже того, что я ранил современное общество, проклятое общество, где люди без пользы растрачивают суммы, на какие можно прокормить тысячи семей; подлое общество, где все социальные блага находятся в распоряжении кучки богачей».
Смертный приговор Вайяну вызвал протесты немалой части общественности и прессы. Дело было беспрецедентное: на казнь осужден человек, который никого не убил и никому не нанес серьезных увечий. Но петиция в его поддержку, ходившая в палате депутатов, собрала всего пятьдесят восемь подписей. Президент Французской Республики Сади Карно безропотно принял отказ комиссии помилований.
На рассвете 5 февраля 1894 года Огюст Вайян был гильотинирован на площади Рокет.
26 июля 1893
года во Франции учреждена Колониальная медаль.
3 октября подписан мирный договор с королем Сиама, положивший конец кровавому конфликту. Отныне левый берег Меконга принадлежит Франции — завоевание Лаоса, предпринятое в 1887 году, завершено.
В черной Африке после оккупации Верхнего Сенегала и Нигера генерал Доддс одерживает победу над королем Беханзеном и занимает Дагомею. Основана новая колония: Гвинея. Контакты между колонистами и местным населением складываются по принципу отношений «работодатель — служащий». Стихийно проводится расовая сегрегация. Традиционная структура общества — деревни, племена — разрушена, и ничего не сделано для того, чтобы заменить ее приемлемым для жизни укладом.
В Индийском океане Франция аннексирует Кергеленские острова. Мало кому из французов известно, где эти острова находятся. Французы понятия не имеют, что там очень холодно и нет никого, кроме буревестников, морских слонов и пингвинов. Далеко он, архипелаг Кергелен.
Малая Азия тоже далеко. В Малой Азии назревает большая бойня. Она скоро начнется, ее планомерно готовят введением серии дискриминационных законов, это прелюдия к кровавому варварству XX века. Кто во Франции тех лет слышал об Армении? Кому было дело до горной страны между Закавказьем и Иранским плато, где жили пять-шесть миллионов человек, почти все христиане — католики и григорианцы? В 1878 году на Берлинском конгрессе Армению разделили на турецкую (Эрзерум, Трапезунд, Ван, Битлис) и российскую (Ереван, Карс). Как это бывает во всех колониях, патриоты сплотились для подготовки восстания; в той части Армении, что отошла России, началась борьба за создание самостоятельного государства. Император Александр III задушил это движение в зародыше — оппозиционеры были высланы в Сибирь, армянские церкви и школы закрыты, силой насаждалось православие.
Султан Высокой Порты идет еще дальше. С 1890 года Абдулхамид II вводит в турецкой Армении режим террора. Он преследует две цели: распространение ислама и приближение к границам России. План прост: избавиться от армянского вопроса, избавившись от армян. Султан науськивает на них соседей-курдов, заменяет христианских чиновников мусульманскими, навязывает ислам, сажает в тюрьму или отправляет в изгнание епископов и священников, дает добро на расправы, конфискации, грабежи, поджоги. За два года, в 1893-м и 1894-м, было убито более трехсот тысяч армян.
Европа заклеймила позором эти зверства — декларации и обвинительные речи не иссякали, — но была слишком разобщена и по большому счету равнодушна, чтобы эффективно действовать. Преемник Абдулхамида II, его брат Мехмет V, санкционирует пытки и массовые убийства 1910-го, 1912-го и 1915 годов. К концу 1918 года Турция решит для себя армянскую проблему окончательно: более миллиона мужчин, женщин, детей будут уничтожены, два миллиона спасутся, бежав за границу.
Избирательная кампания в начале июля ознаменовалась в Париже двумя событиями: волнениями в Латинском квартале и закрытием Дома профсоюзов. Волнения в Латинском квартале продлились четыре дня. Они были вызваны сущим пустяком: сенатор Беранже, возглавлявший лигу борьбы с распущенностью общества, подал запрос на принятие мер против очередного Бала Четырех Муз и добился своего. В знак протеста студенты Школы изящных искусств в субботу 1 июля организовали митинг на площади Сорбонны с целью осмеять и освистать Беранже. Но полиция отреагировала с неожиданной жестокостью. Митингующих разогнали бригады Центрального округа, полицейские ворвались в пивную «Аркур», избили посетителей, а одного из них, 23-летнего коммивояжера Антуана Нюже, и вовсе забили до смерти. Третьего июля социалист Мильран обратился к главе кабинета министров Шарлю Дюпюи с резким осуждением действий стражей порядка, которые «призваны служить оплотом безопасности общества, но превратились для населения в пугало, внушающее страх и отвращение». Палата депутатов приняла сторону правительства и префектуры. Уличные волнения не утихали с субботы до понедельника. Отряды полиции с саблями наголо обрушивались на любые группы людей на улицах, подразделения были поставлены в ружье, росли баррикады. Шестого июля беспорядки в Латинском квартале были подавлены. В тот же день Шарль Дюпюи дал распоряжение о закрытии Дома профсоюзов. На площади Республики по приказу префекта был открыт огонь, а затем последовали многочисленные аресты активистов профсоюзного движения.
3 сентября произошла сенсация. Социалисты, возглавляемые Жоресом и Мильраном, получили на выборах сорок одно место в палате депутатов и таким образом вернулись в политическую жизнь, из которой были вычеркнуты со времен Парижской коммуны 1871 года.
Националист Морис Баррес, автор изданного в 1888 году романа «Под взглядом варваров», затеял собственную кампанию под девизом «Долой иностранцев!». По закону от 18 августа означенные иностранцы должны были проходить процедуру регистрации в коммуне или округе, где они получили работу. Во Франции обострилась италофобия. В Эг-Морте предприятию «Южные солончаки» требовалось много рабочих рук для добычи и дробления соли. Владельцы нанимали поденщиков из Севенн и Виваре, а также «крестоносцев»,
[367] приезжавших со своего полуострова с женами и детьми, готовых трудиться по шестнадцать часов в день и жить в отвратительных условиях. Конкуренция между местными и приезжими была лютая, французы и итальянцы прониклись взаимной ненавистью. Шестнадцатого августа 1893 года противостояние закончилось дракой, были ранены пятеро французов. На следующее утро, 17 августа, разыгралась драма: почти шесть сотен французов, вооруженных ружьями и дубинками, напали на итальянцев; среди последних семеро были убиты, около сорока тяжело ранены. Началась охота на иноземцев. Полиция привлекла к суду тридцать восемь французов, иммигранты тем временем поспешно паковали пожитки и с семьями бежали в Марсель. Парижские журналисты, примчавшиеся на место событий, были потрясены этим массовым исходом. Чрезвычайно бурно отреагировало и итальянское правительство.
Панамский процесс, разоблачивший финансовые махинации и скомпрометировавший многих парламентариев, подавление беспорядков в Латинском квартале, закрытие Дома профсоюзов — все это стало причиной нарастания недовольства в среде электората, которое вылилось в подъем социалистических настроений. Почти пять десятков депутатов (гедисты, бланкисты, посибилисты,
[368] независимые народные избранники), победившие на выборах под социалистическими лозунгами, обращались к народным массам, придавая их чаяниям конкретную политическую форму.
В сентябре начали забастовку шахтеры Нора и Па-де-Кале. Общий заработок, потерянный ими, составил пять миллионов франков; компании понесли убытки в полтора миллиона.
За семь месяцев до этого разразился Панамский скандал. Восьмого марта виновники разорения восьмидесяти семи тысяч вкладчиков предстали перед судом присяжных департамента Сена. Месье Фердинана де Лессепса и его компаньонов обвинили в подкупе депутатов и сенаторов, которые проголосовали за закон, дозволивший Всеобщей компании Панамского канала выпуск облигаций. Многие мелкие вкладчики, обанкротившиеся после приостановления работ и выплат, покончили с собой. Месье Шарль Байо, бывший министр общественного труда, единственный из обвиняемых был признан виновным в лихоимстве и приговорен к пяти годам лишения свободы за коррупцию. Замешанный в этом скандале Жорж Клемансо, «вождь, сплотивший республиканцев», ушел с политической сцены и довольствовался написанием ежедневных передовиц в «Жюстис». Что до героя Суэца, 88-летнего Фердинана де Лессепса, он схлопотал штраф в размере триста тысяч франков и те же пять лет тюрьмы, но кассационный суд отменил приговор, сославшись на право давности. Предприниматель Гюстав Эйфель также получил снисхождение. Панамский скандал таким образом не повлек за собой юридических санкций, несколько незначительных обвинений разбились о процессуальные препоны, на судебных заседаниях затравили пару козлов отпущения, тем и ограничились.
Во Франции, как известно, все заканчивается песней. В Париже был построен концертный зал для исполнителей из кафешантанов — 12 марта «Олимпия» распахнула двери перед благодарной публикой на бульваре Капуцинок.
Насладившись шлягерами, праздные дамы и господа теперь могли после концерта отужинать в двух шагах, на улице Руаяль, у «Максима» — в шикарном ресторане, открытом 7 апреля месье Корнюше. Как отметил Леон Доде в «Подлинном Париже», «великим открытием Корнюше стала эта английская „’s“ при имени, написанном на английский же манер: „Maxim’s“. Назови он свою забегаловку „Maxime“, успех был бы вдвое меньше».
В ноябре в столице вспыхнула эпидемия оспы, парижан и парижанок призвали пройти вакцинацию. Было модно превращать эту процедуру в небольшое торжество, этакий «дженнеровский
[369] файф-о-клок» — друзья-приятели назначали встречу в определенный день, в определенный час, во двор городского дома приводили корову, шутники собирались вокруг нее, каждый закатывал рукав, и врач по очереди вкалывал им вакцину, как животным на ферме.
Кстати, о спектаклях. Театр «Водевиль» поставил пьесу «Мадам Сан-Жен», и критика отнеслась к спектаклю далеко не благосклонно. Было заявлено, что господа Викторьен Сарду и Эмиль Моро задались целью показать зрителям «музей моды начала века», а если они хотели создать историческую драму, то в результате получился «театр марионеток». Публика потешалась, глядя на Наполеона, которому наставляют рога, как какому-нибудь обывателю из Батиньоля. Лишь исполнительница главной роли, мадам Режан, заслуженно сорвала аплодисменты.
Биржевые операции привлекали всеобщее внимание. Французы, желавшие вложить свои скромные накопления в ценные бумаги, стабильно приносящие доход, выбирали достойные доверия предприятия. Деньги рекой лились в российские займы.
Обновление Тройственного союза, объединившего Германию, Австро-Венгрию и Италию, вынудило Александра III к сближению с Францией. В октябре в гавани Тулона встала на якорь русская эскадра из пяти военных кораблей под командованием адмирала Авелана. С таким портом приписки на Средиземном море Россия получила возможность использовать флот не только для охраны собственных границ, но и для весьма действенного участия в возможной войне с Тройственным союзом. Теперь, когда русский медведь и галльский петух объединились, Германия могла сколько угодно устраивать парады в Меце, демонстрировать военную мощь в присутствии своего императора, союзных королей и герцогов — Франция тепло приветствовала русских моряков, чье прибытие стало символом сплочения против общего врага. Тридцатого декабря российский дипломат Николай де Жиер вручил французскому послу месье Монтебелло послание, ратифицирующее договор о военной помощи между Парижем и Санкт-Петербургом. Через двадцать три года после поражения в войне Франция снова обрела веру в себя. Все взоры были устремлены на Россию и на русских моряков, которых с большой помпой принимали в Париже 17–24 октября.
А потом они ушли, прекрасные воины. Париж свернул знамена, снял гирлянды. Зато осталась мода на все русское. У бакалейщиков на прилавках появились сладости в упаковках с франко-русской символикой, модные туалеты обзавелись деталями, призванными увековечить память о наших гостях. Меха уже изготовились украсить длинные платья: выдра, куница, ягненок — всем нашлось местечко. А бравые господа все как один заделались казаками.
1893 год был чрезвычайно богат и на всякого рода изобретения, быстро распространялись технические новшества. С 1892 года между Сен-Дени и площадью Мадлен курсирует первый электрический трамвай. Двумя годами ранее в Париже установлено двадцать автоматических распределительных устройств, подающих горячую воду. Наиболее распространенная модель общественной уборной состоит из двух писсуаров, но есть и просторные заведения на пять-шесть мест. Общественные сортиры в городе теперь на каждом углу. На Больших бульварах в них по три писсуара и кладовка с чистящими средствами для служителей.
Франция вводит регистрационные знаки для автомобилей, которые пока что по пальцам можно пересчитать. Открывается первый автомобильный салон, где можно посмотреть на модель Де Диона.
[370] Одиннадцатого мая любители велосипедного спорта устремляются на открытый в апреле велодром Буффало, дабы посмотреть, как Анри Дегранж побьет первый в мире рекорд — 32,325 км в час.
Расходы Франции по военному ведомству на боевую технику достигают двух с половиной миллиардов франков. На подводной лодке «Гюстав Зеде» установлен первый перископ. В августе месье Бутан проводит первую успешную подводную фотосъемку. В декабре «Индустриальное обозрение» публикует статью о методе печати фотографии на ткани. Растет число абонентов телефонной сети, и возникает фантастическая идея создания «телефота» — оригинальной системы для передачи цветного изображения на расстояние. Ведется прокладка длинного подземного туннеля, призванного соединить Со и станцию «Люксембург» — предвестие строительства метрополитена.
18 июля — день открытия канала Рубе в Туркуэне, 23 июля другой канал соединяет Нант с морем. Двадцать пятого ноября Сейшелы и остров Маврикия связал с Европой телеграф. Мир становится тесным — до всего рукой подать. Шестого августа открыт для навигации Коринфский канал. Мореходные компании в сотрудничестве с железнодорожными предлагают туристам путешествие вокруг света за шестьдесят четыре дня и просят за это три тысячи сто франков. В Соединенных Штатах на Аляске обнаружено золото, и туда устремляются тысячи охотников за удачей.
15 июля принят закон о бесплатной медицинской помощи. В том же месяце, 25-го, особым декретом введена специальность хирурга-дантиста.
Мунк пишет картину «Крик», Писсаро — «Площадь Пале-Рояль». Четвертого ноября в галерее «Дюран-Рюэль» выставлены сорок шесть полотен Гогена, но, вопреки хвалебным отзывам в прессе, лишь одиннадцать из них найдут покупателей.
Читателям предоставлен выбор произведений на все вкусы: «Город» Поля Клоделя, «Любовное стремление» Андре Жида, «Харчевня королевы Гусиные Лапки» и «Суждения господина Жерома Куаньяра» Анатоля Франса, «Трофеи» Жозе-Мариа де Эредиа (тираж первого издания этого поэтического сборника разошелся за несколько часов), «Порт-Тараскон» Альфонса Доде, «Стихи и проза» Стефана Малларме, «С потайным фонарем» и «Россказни» Жюля Ренара, «Поля в бреду» Эмиля Верхарна, «В саду инфанты» Альбера Самена, «Оды в ее честь», «Элегии» и «Мои тюрьмы» Поля Верлена, «Саломея» Оскара Уайльда, «Доктор Паскаль» Эмиля Золя, «История израильского народа» Эрнеста Ренана, «Космополис» Поля Бурже, «Господа бюрократы» и «Бубурош» Жоржа Куртелина, «Легенда о смерти в Нижней Бретани» Анатоля Лебра, «О разделении общественного труда» Дюркгейма.
Историк Эрнест Лавис удостоен членством во Французской Академии.
В июне установлены памятники Теофрасту Ренодо и Араго.
[371]
26 декабря в тысячах километров от Франции, на бескрайних землях Китая, населенных миллионами людей, которых император Вильгельм II назвал «желтой угрозой», в семье зажиточного крестьянина из провинции Хунань новорожденный мальчик зашелся в первом младенческом крике. И никто не знал в ту пору, что его имя прогремит в истории грядущего века. Родился Мао Цзэ-дун, будущий «великий кормчий».
А иные покинули эту обитель слёз: Ги де Мопассан, врачи-психиатры Бланш и Шарко, композитор Петр Чайковский, сказавший: «Самый прекрасный подарок, который Вселенная сделала человеку — несчастному созданию, заблудившемуся на ее просторах, — это музыка».
Одни ли мы в этой Вселенной? Двадцатого декабря в небе Соединенных Штатов был замечен светящийся объект, двигавшийся над Северной Каролиной к Вирджинии. Минут на пятнадцать-двадцать он завис неподвижно и исчез. Загадка, достойная внимания профессора Косинуса, персонажа прославленного художника и юмориста Кристофа, автора «Семьи Фенуйар»!
Что, если на борту того светящегося объекта были пассажиры и они наблюдали за нашей маленькой голубой планеткой? Почему же тогда улетели? Быть может, они прочли, что написал о нас Виктор Гюго, и благоразумно решили держаться от людей подальше? Ибо
Шесть тысяч лет в войну все тянет
Драчливый род людской, а ты…
А ты, о Господи, все занят —
Творишь ты звезды и цветы.
<…>
Народы ведь не терпят, чтобы
Сосед под боком жил. Куда!
Так нашу глупость ядом злобы
Раздуть стараются всегда.
[372]
Год 93-й миновал. Да здравствует год 94-й!
Жан-Батист Клеман
ВРЕМЯ ВИШЕН
Время вишен настало, всем миром воспето,
Птичий гомон опять лишил меня сна.
Так нежно звенят соловьиные трели!
Красавицы шляпки с цветами надели,
Головы кружит влюбленным весна.
Время вишен настало, всем миром воспето,
И ночью отныне уже не до сна!
Увы, краток век вишневого счастья.
Мы вишни-сережки пойдем обрывать,
Рубиновым каплям подставим ладони.
Но вишни заплачут каплями крови,
Уронят к ногам их — кому подбирать?
Увы, краток век вишневого счастья,
И вишен-сережек уже не сорвать.
Настанет для вас время вишен — не скрыться.
А если совсем не хотите страдать —
Бойтесь красавиц и страстных признаний.
Но мне не страшны любые терзанья,
Я новых мук каждый день буду ждать.
Настанет для вас время вишен — не скрыться,
Любовной печали вам не избежать!
Время вишен любил я и юный, и зрелый,
С той поры в моем сердце рану таю.
Богиня Фортуна любовь подарила,
Это она в сердце рану открыла,
И ей не дано утолить боль мою.
Время вишен любил я и юный, и зрелый,
Поныне о нем я память храню.
Клод Изнер
«Талисман из Ла Виллетт»
Прошлое и будущее спят в глазу единорога.
Средневековая пословица
Голос старой шарманки
То плачет, то ранит.
То щекочет, то кусает.
Он кажется печальным
И бесцветным голосом
Безумца, который
то глумится, то рыдает
На смертном одре.
Жан Ришпен.[373] Песнь нищих, 1876
Моей любимой мамочке
Моник, которая останется с нами навсегда
Тысяча благодарностей Жаку Ружмону за его бесценный архив
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Воскресенье 7 января 1894 года
На побережье Нормандии бушевал яростный шторм. Он зародился на Британских островах, навел страху на Па-де-Кале и Котантен, а теперь бесновался в районе Ла-Аг.
Корантен Журдан лежал одетый на кровати под балдахином и слушал, как ураганный ветер сотрясает стены его жилища. В камине потрескивали дрова, полотняная простыня прикрывала его колпак, не давая дыму расползаться по комнате. Летучие искры огня танцевали вокруг медного кувшина и тяжелых ходиков. Казалась, что птицы, украшавшие оковки шкафов, вот-вот взлетят и выпорхнут в окно. Внезапно сквозь шум бури Корантен расслышал хриплое рычание и понял, что обезумевший от ужаса кот скребется снаружи в сделанную специально для него лазейку, прикрытую перевитыми соломой ветвями дрока. Корантен приподнял голову и увидел, как в лазейку пулей влетел грязный пушистый шар с розовым носом и торчащими усами, одним прыжком преодолел расстояние до кровати и забрался под одеяло.
— Разве так ведет себя кот отставного капитана, Жильятт? Ну чего ты так всполошился, разве это гроза? Пустяки, ничего особенного!
Мощный раскат грома опроверг его слова: соломенная крыша пристройки с грохотом обрушилась. Раздосадованный Корантен Журдан слушал, как дождь барабанит по поленнице дров, и мысленно подсчитывал убытки. Придется звать на помощь папашу Пиньоля, он тот еще мошенник, зато лучший кровельщик в округе. Из конюшни послышалось ржание: Флип нервничал. Только бы конь не сорвался с привязи!
Кот залез подмышку хозяину и громко мурлыкал, как будто жалуясь на непогоду. Корантен улыбнулся.
— Крепись, Жильятт! Это всего лишь ливень!
Он видал бури и пострашнее, когда ходил на «Мари-Жаннетон» вдоль англо-нормандского побережья! И когда б не тот проклятый удар о рангоут, покалечивший ему ногу, ни за что бы не бросил свое дело.
Корантен тяжело вздохнул. Его дом стоял в пятистах метрах от берега, но шум прибоя звучал в комнате, как рычание своры адских псов. Монотонный рокот волн убаюкивал.
Он проснулся с ощущением смутного страха и вспомнил, как это было ужасно — лежать прикованным к больничной койке, зависеть от доброй воли посторонних людей, знать, что никогда больше не вдохнешь йодистый соленый воздух морских просторов… Ему пришлось собрать все свое мужество, чтобы справиться с вынужденным бездельем и физическими страданиями. Корантен вернулся мыслями в прошлое. Он спрашивал себя, в чем была его ошибка, которая привела к этому глупейшему несчастному случаю. Ему сорок, две трети жизни позади и будущее неопределенно. Корантен сознавал, что ни один судовладелец не доверит штурвал калеке, и тосковал по морю.
Занимался желтый болезненный рассвет. В комнате стало светло, и Корантен заметил сидящего на буфете Жильятта с предательскими крошками паштета на усах.
Корантен потянулся и вспомнил свой сон. К нему снова приходила Клелия, неуловимая, призрачная. Образ единственной женщины, которую он любил и единственной, которой не обладал, не позволял ему обрести спасительный покой. Других — кухарок, горничных, уличных девок — он забывал, едва успев утолить желание. Корантен прекрасно понимал причину такой забывчивости: только недоступная женщина способна надолго завладеть мыслями мужчины.
Он решил прогуляться. Может, кому-то из соседей требуется помощь? Корантен вовсе не жаждал общения, но старался быть вежливым и любезным, раз уж ему пришлось похоронить себя в этом Богом забытом месте.
Струи дождя хлестнули его по лицу, он поглубже натянул картуз, бросил взгляд на свинцово-серое небо и толкнул дверь конюшни. Порыв ветра растрепал гриву и хвост Флипа. Пировавшие в соломе мыши с испуганным писком разбежались в разные стороны. Корантен зажег фонарь.
— Привет, Флип! — поздоровался он.
Конь вздрогнул, услышав голос хозяина. Корантен похлопал его по крупу, протянул на ладони кусок сахара.
— Гостинец от конюха, старый брюзга. Ну же, успокойся, буря уже стихает.
Флип потерся мордой о наличник стойла и только после этого соблаговолил принять лакомство.
— Черт побери, Флип, кончай дурить! — рявкнул Корантен, открывая ларь с овсом.
Флип довольно фыркнул и ткнулся мордой в плечо хозяина.
— Жуй спокойно.
Корантен погладил коня по шее, насыпал сена в кормушку и задул фонарь.
— Будь умником и ничего тут не круши, договорились?
По холмам гулял ледяной ветер. Корантен миновал притаившуюся за бугром ферму Шолара. Стекла дрожали в оконных рамах, стены сотрясались и угрожающе скрипели. Вокруг не было ни души.
Корантен спустился по крутому склону. Именно в такую погоду он сильнее всего тосковал по своему кораблю. В море он был со стихией на равных, не то что на суше.
Серебристые блики играли на гребнях волн. Корантен перешел на другой берег реки. Юбилан превратился в бурный поток: прибрежные скалы скрывали брызги водяной пыли. Главная улица Ландемера петляла между рыбацкими хижинами и несколькими богатыми виллами, которые каждое лето превращались в семейные пансионы. Дом государственного комиссионера — он каждый день ездил в Шербур, где занимался закупками продовольствия, — утратил прежний блеск, обломки вычурного керамического декора валялись посреди двора. У трактира «Вуазен» Корантен замедлил шаг и поднял воротник бушлата. Обычно в этот час здесь шла бойкая торговля рыбой и ракушками, но сейчас опустевшая деревня выглядела пугающе ирреальной, и Корантен невольно поежился.
Крутые буруны образовали на оставшемся после отлива песке галечную запруду и нехотя откатились обратно. Зоркие глаза Корантена разглядели справа от форта какое-то белое пятно. Что это, птицы? Когда-то он с наслаждением наблюдал за буревестниками и чеканами, залетевшими с Оркад.
Корантен прошел еще метров сто вперед. Ему нравилось гулять по пустынному берегу, и он проводил здесь много времени, любуясь птицами, разглядывая коряги причудливой формы и странные камни. Он вообще мало общался с людьми, разве что с мамашей Генеке, которая приходила к нему убирать и готовить, и только в одиночестве чувствовал себя в безопасности.
Вдоль горизонта неслась вереница свинцовых туч. Порывы шквалистого ветра атаковали дюны, сдувая их верхушки. Корантен прищурился. Нет, это не птицы, тут что-то покрупнее. Должно быть, снесенная волнами к рифам шхуна напоролась днищем на острые камни и ударилась о скалы, сломав углегарь, бушприт и форштевень. Сломанная фок-мачта под углом нависала над палубой, с нее бросали лини, чтобы снять с судна экипаж. Рыбаки из Ландемера и Юрвиля помогали, чем могли, но им и самим требовалась помощь: пенистые валы уже лизали палубу.
Корантен подумал, что капитан этого суденышка слишком самоуверен, если решился выйти в море такую погоду. Впрочем, в свое время он и сам считал себя непобедимым.
У Гревиля становились на якорь баркасы. Корантен прибавил шагу и вдруг застыл на месте, вглядываясь в воду у берега. Секунд пять или десять он стоял, приложив руку к глазам, потом неожиданно все понял и бегом бросился туда. В пене прибоя, словно сирена, запутавшаяся в водорослях, лежала какая-то девочка или женщина.
Он с трудом дотащил недвижное тело до полосы гальки, заглянул в лицо сирене и вздрогнул. Клелия? Нет! У этой молодой женщины тоже были нежные, тонкие черты, но это была не Клелия. Клелия умерла двадцать лет назад. Он черенком трубки разжал незнакомке губы, сунул два пальца в горло, чтобы вычистить слизь, и приложил ухо к груди. Сердце ее едва билось. Корантен опустился на колени, схватил женщину за запястья и начал делать ей искусственное дыхание. Он действовал автоматически — как-никак, у него была двадцатипятилетняя практика.
Наконец тело женщины выгнулось в судороге, она закашлялась, сплюнула, снова упала на спину и замерла. Корантен снял куртку, закутал ею женщину и вдруг заметил у нее на запястье кожаный мешочек на шнурке.
Шатаясь под порывами ветра, он шагал по пляжу, неся на руках хрупкое тело в тяжелой, насквозь промокшей одежде. Дорога до дома оказалась долгой и трудной, в дюнах клубился густой туман. На полпути Корантену пришлось остановиться, опуститься на одно колено и перекинуть ношу через плечо. Дождь усилился, и Корантен понял, что буря вот-вот разыграется с новой силой. Во рту у него пересохло, поясницу ломило, но он наконец добрался до дома и ввалился в дверь. Женщина совсем окоченела.
Корантен со вздохом облегчения уложил ее на кровать. Теперь надо как можно скорее развести огонь! Тяжело прихрамывая, он кинулся под навес за дровами и обнаружил, что все поленья мокрые.
Он вернулся в дом и, не обращая внимания на возмущенное мяуканье голодного Жильятта, принялся рубить топориком два стула с соломенными сиденьями. Огонь быстро разгорелся, и тут Корантен вспомнил, что оставил на конюшне, в глубине стойла, две охапки хвороста. Он принес его в дом, захватив заодно и ящик из-под бутылок с сидром: теперь топлива должно хватить на час.
Женщина тихо постанывала, не открывая глаз. Левую мочку ее уха украшала серьга с синим кабошоном,
[374] другой не было — наверное, унесло волной. Корантен взял незнакомку за руку — пульс по-прежнему был очень частым. На лбу у нее выступил пот. Нужно раздеть ее и крепко-накрепко растереть, чтобы разогнать кровь по жилам. Он снял с женщины свою куртку, отложил в сторону ее сумочку и замер в нерешительности, глядя на изорванное платье. Вот ведь чертова прорва пуговиц! Он оторвал одну, расстегнул другую, потом решил не церемониться и разрезал платье ножом. На пол полетели обрывки юбки, корсажа и нижних юбок. Он словно снимал слои шелухи с луковицы. Наконец лезвие наткнулось на непреодолимую преграду — жесткий, как панцирь, корсет. Корантен неумело развязал шнуровку, одним рывком раскрыл полы «кирасы», и его взгляду открылись нежные, округлые, полные груди. У Корантена задрожали руки, но он продолжил свое дело, стянув с женщины кружевные панталоны и превратившиеся в лохмотья чулки. Лодыжки у незнакомки были в царапинах и ссадинах, ребра корсета отпечатались на коже, но она все равно была красивейшей из женщин, которых ему доводилось видеть. Не сразу решившись прикоснуться к ее обнаженному телу, Корантен начал растирать ей заледеневшие ноги.
Жильятт ткнулся носом в пушистый лобок, Корантен раздраженно отпихнул его, и кот стремительно взлетел на балдахин.
Корантен откупорил бутылку крепкой сливовой водки, которую держал для особых случаев, намочил ладони и начал растирать женщине живот. Он задержался на бедрах, не решаясь двинуться выше, и Жильятт мяуканьем призвал хозяина к порядку. Корантен снова смочил ладони и удвоил усилия: он растер грудь, действуя невозмутимо и методично, так, словно нагота женщины нисколько его не волновала. Потом с усилием перевернул ее на живот и залюбовался нежным затылком, изящным изгибом спины, тонкой талией, упругими ягодицами и стройными ногами…
Бутылка опустела. Расслабленная, порозовевшая незнакомка лежала на боку, благоухая самогоном. Корантен промыл ей раны, смазал их заживляющим бальзамом с сильным запахом мяты, достал из шкафа простыню, завернул в нее пациентку, а сверху прикрыл несколькими стегаными одеялами.
Огонь в очаге догорел, и Корантен пожертвовал третьим стулом, а потом кинулся на конюшню — за остатками хвороста и двумя последними ящиками. Он сложил все в тачку и завернул под навес, чтобы взять несколько поленьев. Хворост и разломанные ящики он сложил на подставку перед очагом, а дрова прислонил к чугунной плите, чтобы подсохли.
Корантен устал, покалеченная нога разболелась, и он присел на край стола, растирая колено. Нервное напряжение отпустило. Он наконец и сам переоделся в сухое, отрезал ломоть хлеба, подбросил в очаг досок от ящика, а когда огонь разгорелся, налил себе сидра и устроился у изголовья кровати.
Женщина была молода, от силы лет двадцати пяти. Судя по загорелой коже, она много времени проводила на солнце. Интересно, глаза у нее такие же черные, как волосы? И каковы на вкус ее губы? Он едва не поддался искушению прикоснуться к ним, но устоял, позволив себе любоваться ее нежным лицом. Потом вдруг опомнился и резко вскочил, уронив табурет.
Что за безумие! Он отгородился от мира стеной безразличия, замкнулся в себе и научился обходиться без близости с женщиной. Незваная гостья нарушила его душевный покой впервые после исчезновения Клелии. Что ж, видно, усилия, затраченные в борьбе с собой, стоили ему куда дороже, чем он готов был признать.
Корантен поднялся по крутой, почти отвесной лестнице в мансарду, которую оборудовал для себя, обосновавшись на суше. Здесь вкусно пахло табаком, яблоками и чернилами. В чемоданах лежали акварели и блокноты с путевыми заметками. Два набитых соломой чучела — хохлатый баклан и красноклювая клушица — взирали стеклянными глазами на коллекцию разнородных предметов, собранных за годы странствий. На столе валялись разрозненные листы бумаги, на которых Корантен записывал воспоминания о том, как молодым матросом ходил в Северную Африку и на Ближний Восток. На маленьком бюро высилась стопка тетрадей в молескиновых обложках, рядом с керосиновой лампой лежали две камеи. Секстант и подзорная труба соседствовали с гербарием и маринованным саликорном
[375] в жестяных банках. На брезентовой складной кровати валялись книги, напротив несло вахту чучело совы. На саманных стенах висели рисунки Жана-Франсуа Милле
[376] — наследство дядюшки Гаспара, который купил их у художника, когда тот вернулся в Грюши, на свой родной хутор близ Ландемера. Больше всего Корантену нравилась картина с пастухом и бредущими под звездным небом овцами. Любил он и планисферу,
[377] которую сам скопировал с Меркаторской проекции
[378] и раскрасил. Десятки морских карт заполняли шкаф, но карта Ла-Аг ему не требовалась: подобно герою «Тружеников моря»
[379] — этому роману был обязан своим именем Жильятт, — Корантен Журдан «родился с картой дна Ла-Манша в голове».
Корантен закурил трубку, и в его мысли снова без спроса явилась Клелия. Почему он не женился на своей обожаемой кузине? Ее соблазнил проезжий шербурский кукольник, она последовала за ним в Париж, там он ее бросил, у нее случился выкидыш, и она умерла от послеродовой горячки. Так, во всяком случае, было написано в официальном заключении, которое Корантен получил после длившегося целую вечность расследования. Где похоронили Клелию, он так и не узнал.
— Не все ли равно! — пробормотал он и подошел к окну.
Сильный восточный ветер гнул стволы яблонь в саду. Аспидного цвета небо сливалось на горизонте с морем.
Корантен спустился на первый этаж. Женщина металась по кровати и что-то бессвязно бормотала, видно, ее мучил жестокий кошмар. Корантен погладил ее по щеке, потрясенный силой нахлынувшего на него чувства. Неужели эта встреча предопределена судьбой? Он слишком много пережил, чтобы верить, что ходом событий управляет слепой случай. Корантен не сводил с незнакомки глаз. Он поклялся себе никогда больше не любить — уж слишком горьким был опыт. И все же… Он чувствовал, как рушатся защитные барьеры, возведенные за годы одиночества и отчаяния. Да, он правильно поступил, когда принес эту женщину в свой дом.
Веки незнакомки дрогнули.
— Вы в безопасности.
Кто это сказал? Неужели качка никогда не прекратится? Вокруг царила серая мгла, пузырящаяся пена забивала нос и рот, она задыхалась. Женщина напряглась, вслушиваясь в звук доносившегося издалека голоса, шевельнулась и застонала от боли в затекших руках. Боже, да где же она очутилась?
— Вы спасены.
Голос прозвучал, как зов в пустом доме. Нужно бороться, она должна выжить. Высокая мужская фигура, бакенбарды… Судовой врач? Ей стало жарко, накатила дурнота, скручивая пространство комнаты в спираль, где сверкали зеленым фосфоресцирующим огнем кошачьи глаза.
— Вам лучше? — спросил склонившийся над ней мужчина, и она вдруг осознала, что слышит его вполне отчетливо.
— Мы в Саутгемптоне?
— Нет, во Франции.
Женщина попыталась приподняться, но чья-то рука помешала ей. Она решила воспротивиться, но была слишком слаба и так устала…
— Отдыхайте, — приказал тот же голос.
Она притворилась, что засыпает, и бросила осторожный взгляд из-под ресниц, чтобы оглядеться. Очаг, прямоугольный стол со скамьями, на столе оловянный котелок с горячими углями, на полках расписные тарелки. Мужчина поднял масляную лампу, и она разглядела подвешенный к потолочной балке окорок. Обрешетка потолка отбрасывала узорчатые тени на желтый глинобитный пол. Толстый серый кот, уютно развалившись перед очагом, смотрел на огонь.
В ее мозгу теснились смутные обрывки воспоминаний. Благополучное путешествие из Сан-Франциско в Нью-Йорк и мирное прибытие в Южную Англию. Потом — посадка на «Игл» в порту Саутгемптона, где она встречалась с нотариусом мужа. Приземистый толстячок-капитан, все норовивший прижаться к ней. Он клялся, что никакой шторм не помешает ему довести судно до французских берегов. Страх, который она испытала, оказавшись в воде среди бушующих свирепых волн…
Корантен сидел у изголовья кровати и рассеянно чистил трубку над фаянсовой плошкой. В голове у него бродили невеселые мысли. Каждому мужчине необходимо то, что заполнит пустоту его жизни. Любовь женщины? У него эту любовь украли. Душа Корантена иссохла, он уподобился Робинзону, наевшемуся копченой селедки и страдающему от жажды при полном отсутствии пресной воды.
Он было задремал, но тут дверь распахнулась, впустив в комнату порыв ветра. На пороге стояла матушка Генеке. Эта крепкая пятидесятилетняя вдова винодела кормила свою семью, убирая дома зажиточных горожан.
— Мое почтение, капитан, простите, что опоздала — уж больно страшно было выходить в такую бурю. Сейчас вроде бы прояснилось, только надолго ли… Вот уж беда так беда! Лодок сколько перевернуло — ужас, и только. Почитай, три дня море никак не успокоится!.. Ух ты, а у вас, оказывается, гости?
— Я нашел эту женщину на рассвете, на берегу, она была без чувств. Наверное, пассажирка с разбившейся шхуны. Я пытался ее отогреть.
Матушка Генеке закрыла рот, захлопнула дверь и засеменила к кровати, чтобы рассмотреть нежданную гостью. Она заметила валявшуюся на полу разорванную в спешке одежду, и ее морщинистое лицо осветилось лукавой улыбкой.
— Решили отогреть — и ободрали как луковицу?
— Выбирать не приходилось, она могла умереть. Вот тогда я бы вволю нагляделся на ее прелести!
— Ну же, не сердитесь, я ничего такого…
— Вы спросили — я ответил, — примирительным тоном бросил Корантен. — Выпейте-ка лучше кофе.
Женщина не заставила себя уговаривать.
— Что это вы со стульями сотворили? Вот ведь страсти Господни! Дамочка что, останется здесь?
— Я ждал вас, чтобы сходить в монастырский лазарет, пусть сестры пришлют за ней кого-нибудь.
— На вашем месте я бы не торопилась. Когда мой бедный муженек нырнул головой в чан с сидром, товарищи его выловили — и ну трясти, пока не отплевался. Да только сердчишко все одно не выдержало.
— Я ухожу. Разожгите огонь. Если она проснется и захочет есть, в буфете есть яйца и свежая колбаса.
— Не тревожьтесь, с голоду она точно не помрет. Сейчас займусь супом. — И матушка Генеке закатала рукава, бурча себе под нос: — Будь мужчина хоть трижды отшельник, против естества не попрешь.
Корантен Журдан вдохнул полной грудью влажный воздух, радуясь, что вырвался из заточения. Ураганный ветер не пощадил розы и мальвы, поломал ветви деревьев. Там и сям по земле важно разгуливали вороны. Крыша пекарни протекла, в загаженном пометом дворике сердито гоготали гуси.
Корантен отвязал Флипа и надел на него упряжь. Крутолобый жеребец англо-нормандской породы радостно замотал головой. Корантен сел в седло — левую ногу он в стремя не вставлял, и Флип понес его вдоль песчаного берега, вторя веселым ржанием заунывным крикам чаек.
Они въехали в Бьяль под колокольный звон. Молчаливая толпа собиралась у паперти собора Святого Мартина. Очень скоро юрвильским могильщикам придется копать новые могилы.
Корантен постучал тяжелым кольцом в дверь, и окошко распахнулось. Он изложил молоденькой монахине суть дела, и та обещала помочь, как только представится возможность, — сейчас все койки заняты пострадавшими от шторма и бури. Корантен не отступался:
— У этой женщины сильный жар. Одному Богу известно, сколько она пробыла в воде, чудо, что вообще выжила.
Пожилая Монахиня отстранила послушницу, поправила очки и оглядела Корантена.
— Сестра Урсула сказала вам правду, капитан Журдан. У нас нет ни одной свободной койки. Но я пошлю с вами сынишку садовника Ландри, и мы устроим вашу гостью в часовне.
Он рассыпался в благодарностях. Настоятельница питала слабость к черноглазому капитану: как-то раз, зимой 1892 года, он помог отремонтировать осыпающийся фасад больнички, попросив в качестве оплаты лишь чашку кофе и два гренка.
Обещание настоятельница выполнила: пять минут спустя рыжеволосый Ландри уже направлялся на монастырской двуколке в Ландемер.
Укрывшись за конюшней, Корантен Журдан наблюдал, как паренек и матушка Генеке переносят в повозку закутанную на манер мумии незнакомку.
Как только Ландри с ценным грузом скрылся за поворотом, Корантен расседлал Флипа и отпустил его пастись.
— Вы разминулись, — доложила ему матушка Генеке, помешивая суп. Из подвешенного над огнем котелка вкусно пахло овощами и шкварками. — Бедняжка глаз не открывала и словечка не промолвила.
Матушка Генеке закончила прибираться на первом этаже и надела пелерину. Вход на чердак ей был заказан, так что удовлетворить любопытство она могла лишь в отсутствие хозяина.
— Я ухожу, мне пора к папаше Пиньолю.
— Напомните ему про крышу. Шторм вот-вот утихнет, и все же…
— Ни о чем не тревожьтесь. Увидимся в среду, капитан. И найдите лохань, нужно перестирать кучу белья. — Она кинула сердитый взгляд на развалившегося на простынях Жильятта.
Корантен Журдан тяжело вздохнул, подумав, как легко незнакомка нарушила мирное течение его жизни, и улегся рядом с котом.
В середине ночи он поднялся, чтобы помешать угли. Подбросил в огонь обломки ящика, налил себе тарелку супа и сел у очага. Жильятт пристроился у ног хозяина и с аппетитом доедал остатки хлебной похлебки. Движения острого розового языка вызвали у Корантена чувственный отклик, и он вспомнил свой сон: обнаженная русалка зовет его в свои объятия, длинные черные волосы отливают синевой.
Да что это с ним творится? Впервые за двадцать лет он утратил самообладание и ведет себя, как влюбленный юнец. Устыдившись, Корантен встал и решительным шагом направился к лестнице, но тут его внимание привлек валяющийся в углу предмет. Он наклонился и подобрал сумочку своей недавней гостьи: видно, матушка Генеке не слишком усердствовала, подметая полы.
Корантен зажег свечу и поднялся на чердак. Он долго не мог решить, что делать с находкой. Открыв сумочку, он рискует узнать больше о женщине, от которой только что избавился, и привязаться к ней. А ведь он давным-давно принял решение никогда не покидать эту деревню и свое скромное жилище:
собственные скудные сбережения и дядюшкина рента обеспечивали ему независимость, почти богатство. Он наслаждался полным покоем, с окружающими он почти не общался, и заботило его лишь здоровье лошади да кота.
Интересно, есть ли у нее муж?
Не в силах бороться с искушением, Корантен открыл сумочку. Тетрадь, пухлый бумажник и связка писем, упакованные в тройной слой клеенки, не пострадали от воды. С чего начать? Корантен достал голубую, исписанную изящным почерком тетрадь, устроился на брезентовой койке и погрузился в чтение.
На рассвете он вернул тетрадь на место и подошел к окну. Тень от каминной трубы, освещенной тусклым лучом солнца, падала во двор, вдалеке виднелась зеркальная гладь моря. Корантен размышлял, зажав в зубах трубку. Очистившееся небо показалось ему добрым предзнаменованием, и он решил отправиться к монахиням и отдать им сумку.
Сестры сообщили, что, по мнению доктора, опасность миновала и жизни Софи Клерсанж ничто не угрожает. Матрос с «Игла» доставил в монастырь ее чемодан, в нем оказалось несколько красивых платьев. Бедняжка еще очень слаба, но все-таки съела несколько ложек бульона. Корантен может с ней поговорить.
Он отказался и попросил ни в коем случае не называть Софи Клерсанж его имя, если та вдруг спросит. Монахиня удивилась, но пообещала.
Корантен отправился в Юрвиль, купил свежий номер «Лантерн Маншуаз» и прочел заметку о потерпевшей кораблекрушение шхуне: к счастью, никто из пассажиров не погиб. Газета сообщала, что во время бури в Шербуре было вырвано с корнем несколько больших деревьев, и это замедлило работы по прокладке дороги.
Покончив с чтением, Корантен вернулся домой.
Среда 10 января
— Ну, и где же лохань? — ворчливо поинтересовалась матушка Генеке, заметив, что ее распоряжение не выполнено.
Корантен покорно отправился на поиски. Куда она, к черту, подевалась? Ах да, под кроватью. Он схватил наполненную стружкой коробку и поднял крышку. Четыреста двадцать франков. Этого должно хватить: билет в оба конца в третьем классе стоит меньше сорока франков. Значит, до Шербура он доберется задешево, да еще и Ландри облагодетельствует: тот с удовольствием потратит деньги в ближайшем к порту бистро. Нужно будет найти приличное жилье — хватит ли двадцати франков в месяц? — и экономить на еде. К счастью, он никогда не отличался хорошим аппетитом.
Париж! Шумный, кишащий людьми, таинственный, как океан… там так легко потеряться.
Корантен убрал деньги в карман, сунул несколько смен белья в вещевой мешок и спустился, волоча за собой лохань.
— Вот что, матушка Генеке… У меня возникло срочное дело в Париже, так что я уеду на несколько недель. Как только где-нибудь поселюсь, сообщу адрес, чтобы вы, в случае надобности, могли со мной связаться.
— Да ведь я ни писать, ни читать не умею.
— Попросите сестер, они вам помогут.
— Ну, вы меня и удивили, мсье Корантен. Сидели сиднем на своей кухне, как кролик в норе, и вдруг — нате вам! Смех, да и только!
— Полагаюсь на вас во всем, матушка Генеке, уж вы сумеете заткнуть рот шутникам. И проследите, чтобы кузнец перековал Флипу левую заднюю ногу. Но главное — прежде чем задавать ему корм, поите водой и чистите каждый день.
Женщина лукаво улыбнулась.
— Знаю, капитан, знаю. Не зря говорят: хочешь откормить скотину, приласкай ее. Париж, Париж… медом, что ли, там намазано? Вот и дамочка, что вы давеча спасли, тоже туда собирается. Доктор говорит, чтобы не торопилась, но она упряма, как ослица! Вы, часом, не вместе едете? — с подозрением в голосе поинтересовалась она.
— Что за глупости! Я ничего не знаю об этой женщине, понятия не имею, кто она и где живет… Говорю вам, у меня важное дело, это касается дядиных финансовых вложений.
— Ладно-ладно. Я позабочусь о животинке, буду приходить по утрам, но…
— Я оставлю вам сорок франков. Если не вернусь к Сретенью, сообщу, как вам быть дальше.
— Можете быть спокойны. Сорок франков мне ох как пригодятся! — воскликнула женщина и мгновенно спрятала деньги.
Корантен мимоходом погладил Жильятта, похлопал по крупу Флипа и вернулся в дом, сжимая в руке найденный под столом синий кабошон. По небу бежали черные тучи, дул сильный ветер, но буря уже ушла на юг.
Черт его дернул открыть эту проклятую тетрадь. Теперь ему известно то, чего лучше было бы не знать. Нужно все обдумать, иначе его жизнь станет невыносимой. Он не успокоится, пока не отыщет хозяйку сумочки в огромном городе, где ей грозят опасности пострашнее бури и кораблекрушения.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Пятница 9 февраля 1894 года
Было около пяти. Париж медленно тонул в сумерках. Город-спрут с большими доходными домами, ярко освещенными проспектами, подозрительными кварталами, оживленными улицами, темными улицами, пустынными улицами. Океан камня, роскоши, трущоб, подонков общества, богачей, бедняцкого люда… Корантен Журдан точно знал, как будет действовать. Женщины могут покинуть дом вместе или поодиночке. В зависимости от того, будет это брюнетка или блондинка, он поступит в соответствии с планом.
Из мансарды была хорошо видна анфилада улицы Альбуи,
[380] но его интересовал только павильон на углу улицы Винегрие. Если брюнетка — Софи Клерсанж — появится, он вполне успеет дойти до конюшни. Стоянка фиакров находится на бульваре Мажента, женщина будет там через пять минут, и он ее легко догонит.
Случай, судьба и удача оказались на его стороне. Все концы сошлись, и он преуспеет. Удобнее всего добывать информацию, когда живешь уединенно и держишься скрытно.
Он понимал, что ему, возможно, придется вести слежку за фиакрами или омнибусами, а значит, понадобится транспортное средство. Нанять коляску не по карману: двадцать пять — сорок франков в день быстро опустошат его карманы. Удача снова улыбнулась ему: грузчик, живший в соседнем доме, за весьма умеренную плату сдал Корантену внаем вполне резвую кобылу и двуколку. И тем и другим тот мог распоряжаться круглосуточно.
Выйдя из поезда на вокзале Сен-Лазар, Корантен отправился по адресу, указанному в голубой тетради спасенной им молодой женщины. Маленькая, выкрашенная в кричащий синий цвет лавчонка сразу бросилась ему в глаза. Вывеска гласила:
У СИНЕГО КИТАЙЦА
Вдова Герен
Изысканные кондитерские изделия
Торговый дом основан в 1873 году
Сердце бешено заколотилось, он скинул с плеча вещевой мешок. Теперь нужно найти гостиницу или меблированные комнаты — любое жилье по соседству с магазином — и ждать. Корантен взглянул на выстроившиеся по ранжиру на полках банки: карамельки, драже, пралине, помадка, анис, постный сахар, леденцы, драже, маршмеллоу,
[381] лакрица. Разноцветье красок вызвало в памяти ароматы детства, свободы, беззаботности. Окружающая действительность расплылась, и Корантен как наяву увидел бегущую ему навстречу по пляжу грациозную девушку.
Луч заходящего солнца вернул его к реальности.
Клелия мертва. Ты ищешь Софи Клерсанж.
Она была там, в кондитерской, стояла у прилавка рядом с пожилой женщиной. Толкнуть дверь и войти? Нет. Он так к этому стремился, цель совсем близко, можно дотронуться до нее рукой. Терпение! Нельзя совершить ошибку, объявившись раньше времени.
Корантен сел у стойки в кафе «Якорь фортуны», примыкающем к булочной на улице Винегрие, — в этом крошечном заведении на окраине столицы он чувствовал себя как дома, в Шербуре. За стеклом витрины, в чахлом палисаднике, стоял сарайчик из просмоленных досок. В свете газового рожка к ручейку, на берегу которого резвились два веселых пса, тянулись тонкие тени. Мальчонка со взлохмаченными волосами нес в руке литровую бутыль дешевого пива. Вокруг было тихо, только пыхтели поезда на Восточном вокзале.
— Не знаете, где бы мне поселиться? — спросил Корантен у хозяина кафе.
— Надолго?
— На месяц-другой. Плачу вперед.
— Матушка! — позвал мужчина. — Тут у нас клиент.
Из кухни выглянула старушка.
— Если вы не привередливы, могу предложить мансарду. Колонка во дворе. С отоплением разберетесь.
— Согласен. Сколько?
Вечер он провел в мечтах: решив не думать о завтрашнем дне, лежал и любовался небом над высоким темным строением. Вдалеке зажигались окна, свет, отражаясь от черепичных крыш, рассыпался разноцветными бликами. Его сирена была совсем рядом: за шторами мелькали зыбкие тени.
За две следующие недели Софи Клерсанж ни разу не вышла из дома. Корантен Журдан расспросил местных торговцев и выяснил, что мужчина с саквояжем, каждое утро переступавший порог павильона, — врач: новая обитательница недомогала.
Однажды вечером он заметил Софи в окне. Она поправилась! У Корантена от сердца отлегло.
Теперь нужно быть настороже и действовать стремительно. Он не знал всей последовательности событий, и воображение дорисовывало детали. Кто та блондинка? Сиделка или подруга?
Корантен смотрел на освещенное окно на третьем этаже и думал о Софи Клерсанж, о ее молодом теле и о тайнах голубой тетради.
Пьянчужка, сидевший на скамье в кухмистерской «С утра пораньше» на Немецкой улице,
[382] со всхлипом икнул и произнес в пространство:
— А ты недоливаешь!
Мартен Лорсон жевал жилистое рагу, уставясь невидящим взглядом в календарь «Самаритен» на растрескавшейся стене. Он не обращал внимания на окружающих, ему ни до кого не было дела. Сосед слева, бывший проповедник с бородой, испачканной яичным желтком, цитировал Экклезиаста: «Что было, то и будет», соседка справа, худенькая молодая мать лет шестнадцати, играла в ладушки со своим малышом: «Чьи это ручки?». Мужчина с деревяшкой вместо ноги улыбнулся младенцу беззубым ртом и воззвал к посетителям:
— Средневековье — вот это была эпоха! Щедрая, великодушная! В пятницу я грелся у печки в церкви Святого Евстафия. Появляется ризничий и начинает орать: «Что это вы здесь делаете?» — «Греюсь», — отвечаю я. — «Здесь вам не котельная, а дом нашего милосердного Господа, вы должны уйти», — говорит он.
— Средневековье? Ты бредишь! — прошамкал экс-проповедник.
— Храмы тогда давали людям убежище, господин церковник! Я человек образованный, хоть и впал в бедность!
Мартен Лорсон пришел в отчаяние и резко отвернулся к нише в мавританском стиле, где под звуки «Наслаждения любви» крутилась на одной ножке восковая египетская танцовщица. На одно короткое мгновение он сбежал от повседневности, мысленно заключил красавицу в объятия и забыл об уродстве окружающего мира.
— «Нет ничего нового под солнцем!» Я далек от того, чтобы обвинять в своих бедах общество, но это немыслимо, когда человек моего положения вынужден кривляться в Шатле! Пять переодеваний за вечер за сорок су! Экклезиаст прав: «Что пользы работающему от того, над чем он трудится?»
Хозяин заведения, желчный сухой человек в лихо заломленной кепке, косоротый, с цепким взглядом, раздраженно собрал тарелки, дал тычка Мартену Лорсону и вмешался в беседу:
— Ему вот тоже не повезло. Я прав, трудяга? Так его называли, когда он просиживал штаны в Министерстве финансов. Сами видите, до чего его это довело.
Взгляды присутствующих обратились на объект презрительной насмешки хозяина — полного лысеющего мужчину лет сорока с приплюснутым носом в обтрепанном грязном костюме.
— Знаете, что с ним случилось? — продолжил хозяин кухмистерской. — Долги! О, мсье не ленился, лет этак через восемь-десять мог бы стать начальником отделения. То-то была бы синекура: почитывай газетку да перебирай бумажки! Так бы все и случилось, кабы не жена!
Скомканная тряпка шлепнулась на стойку. Мартен Лорсон поспешно расплатился, надел потертый шапокляк и знававший лучшие времена редингот. Толстозадый, с огромным животом, он двигался медленно и неуклюже, втянув голову в плечи, как побитая собака.
— Мадам захотелось трехкомнатную квартирку в Пантене.
[383] Она не могла потерять лицо перед людьми своего круга. Туфельки, платье, горничная, ложа в театре! — ядовито бросил хозяин заведения в спину Мартену. — Возьмем, к примеру, меня — я себе такой роскоши позволить не могу. Ну, ясное дело, мсье наделал долгов, кредиторы явились в министерство — раз, другой, десятый кассир выдал аванс, а на одиннадцатый… пинок под зад!
Мартен был уже у двери, когда заметил, что забыл шарф. Пришлось вернуться, несмотря на душивший его стыд. Проповедник неожиданно повеселел и проникся непривычным самоуважением. Юная мамаша укачивала малыша и думала, что уж с ним-то точно никогда такого позора не случится.
— «Суета сует, — сказал Экклезиаст, — суета сует, — все суета!» — рявкнул проповедник.
— Дайте выпить! — зарычал пьяница.
— Стоило мадам Лорсон узнать, что ее муженек попал в опалу, как она выгнала его из дома. Счастье, что у них не было детишек! — заключил хозяин кухмистерской, глядя на девушку с ребенком.
— И что теперь? — поинтересовался любитель Ветхого Завета.
— Теперь? Нищий в черном сюртуке!
— «Все — суета и томление духа! Кривое не может сделаться прямым».
Громкие возгласы из булочной напротив нарушили тишину ночи. Корантен Журдан привстал взглянуть, что происходит. На тротуаре лежал отсвет тускло-оранжевого света. Молодые, голые по пояс подмастерья месили тесто, напевая и пританцовывая, как дикари вокруг костра. Корантен взглянул на часы: было восемь утра. Он вернулся на свой пост у окна и продолжил чтение.
— Недурное место этот остров, — сказал он. — Недурное место для мальчишки. Ты будешь купаться, будешь лазить на деревья, ты будешь охотиться за дикими козами. И сам, словно коза, будешь скакать по горам.[384]
Корантен закрыл книгу. Он постоянно читал и перечитывал ее, и всякий раз на этом месте у него сжималось сердце. «Лазить по деревьям… скакать по горам…» Ему самому такое больше не светит. Впрочем, то, чем он занят сейчас, очень похоже на поиски сокровища по карте острова в южных морях. Он — Джим Хокинс, плывет вместе с Джоном Сильвером на яхте «Эспаньола»…
Какой-то скрип вывел его из задумчивости. Он отодвинул занавеску. Калитка павильона отворилась. Женщина в накидке с золотыми блестками и бархатной шляпке на темных, высоко взбитых волосах семенила в сторону улицы Ланкри. Корантен схватил куртку, нахлобучил кепи, не обращая внимания на резкую боль в покалеченной ноге, сбежал вниз и кинулся во двор. Лошадка тихо фыркнула в знак приветствия.
Корантен догнал женщину на бульваре Мажента: она села в фиакр и поехала в сторону набережной Вальми.
Корантен пустил лошадь рысью, стараясь соблюдать дистанцию. На берегу канала, в слабом свете сигнальных огней выделялось цилиндрическое здание, похожее на античный памятник.
Ночь темным покрывалом нависала над рынком Ла Виллетт, царством бифштексов, фрикандо, жито и потрохов. Мартен Лорсон шел мимо бойни, пытаясь успокоиться и забыть колкости хозяина кухмистерской. «Рыба гниет с головы, плюнь на всех этих слабоумных, они не стоят и одной твоей слезинки».
Мартену казалось, что он слышит жалобные стоны обезумевших животных, которых погонщики оставили у входа на главную парижскую бойню, на самом же деле это кровь стучала у него в висках. Воздух в этом жутковатом месте, где разделывали туши, чтобы жители столицы могли купить себе мясо на обед, был пропитан ужасом жертв. С тех пор, как Мартен Лорсон оказался на улице, страх не покидал его ни на минуту. В сочетании с озлобленностью и ощущением полного одиночества он был неистребим, этот страх, не имеющий ничего общего с бьющим по нервам испугом, когда рядом неожиданно с грохотом переворачивается тележка с углем или фуражом. Страх лежал у Мартена на душе тяжким грузом, и лишь иногда отступал ненадолго, чтобы тут же вернуться и нанести предательский удар из-за угла. Но Мартен был упрям и твердо верил, что в один прекрасный день избавится и от страха, и от камня на сердце.
Фонарщик зажигал фонари: приподнимал газовый вентиль, нажимал на резиновую грушу на запальной трубке, и стеклянные колпаки загорались желтым светом. Мусорщики с грохотом опустошали баки. Мартен Лорсон потуже завязал шарф: зима в этот год выдалась не слишком холодной, но сырой, и он продрог до костей.
Он перебирал в голове дела на ближайшие сутки.
«Подменить Гамаша. Выспаться. Поваляться подольше. Подскочить на фабрику музыкальных инструментов и подменить Жакмена. Перекусить в „Дешевых обедах“ на Нантской улице. Подменить Бертье, Норпуа и Коллена на бойнях. Поужинать в „Пти Жур“. Вернуться к Гамашу».
Отлаженная как по нотам работа «на подхвате» была предметом его гордости. Приятели, которых он отпускал перекусить и выпить стаканчик вина, платили ему немного, но на еду и курево хватало. Проблема с жильем разрешилась благодаря Гамашу. Ну разве не отличный выход? Беспечальная жизнь — ни тебе начальника, ни продвижения по службе, ни жены, ни дома, ни обстановки, ни собственности — кроме небольшой кучки спрятанной в хибаре одежды. Независимость, самая что ни на есть настоящая. Так не все ли равно, что там болтает хозяин кухмистерской? Теперь, вкусив прелесть такого существования, Мартен не променял бы его на все сокровища мира. Пусть бывшие коллеги по министерству каждый месяц думают, как свести концы с концами, пытаются подработать, где только удастся, и сражаются с женщинами — конкурентками на их должности.
Внезапно им овладело смутное беспокойство. Он выкурил сигарету перед зданием общественных бань, где можно было помыться за 20 сантимов, и пошел дальше.
Здание таможенного поста в центре круглой площади Ла Виллетт напоминало укрепленную гробницу с круговой галереей, сорока колоннами и аркадами. В этом мавзолее, выстроенном Клодом Николя Леду,
[385] хранились взятые под залог товары. Здание давно и безнадежно обветшало и выглядело очень мрачно. На треугольном фронтоне над ржавыми решетками висела табличка с надписью «Вход воспрещен».
В свете фонаря Мартен Лорсон разглядел человека в кепи с клинковым штыком в руках, который совершал обход территории, то и дело подкручивая пышный рыжий ус. Завидев Мартена, он накинул пелерину и передал своему «сменщику» портупею и головной убор, где на темном фоне был вышит красный охотничий рожок.
— Я уже начал терять терпение, у меня времени в обрез!
— А у меня всего две ноги.
— Ладно-ладно, извини. Я могу слегка задержаться, у меня свидание с одной потаскушкой, она подвизается на вторых ролях в театре Ла Виллетт. Я пообещал ей угощение, а там, глядишь, она меня и в постель пустит. Эта Полина — просто персик! — Он смачно поцеловал сложенные пальцы, но Мартен только неодобрительно хмыкнул. Ему не было дела до сердечных тайн сторожа Альфреда Гамаша, он жаждал остаться в одиночестве и насладиться ромом, купленным в полдень.
Первым делом Мартен отставил подальше штык, утолил заветное желание и впал в состояние восхитительного блаженства.
На бульваре Ла Шапель шарманка тихо играла мелодию из «Дочери Мадам Анго».
[386] Мартен Лорсон задремал, привалившись к прутьям решетки. Вокруг было пусто, лишь время от времени слышался звук шагов по тротуару. Канал спал, отдыхая от утюживших его поверхность барж, груженых материалами для портовых доков и товарами для владельцев складов.
Одурманенный ромом Мартен Лорсон не заметил, как на площадке, отделяющей ротонду от канала, остановился фиакр. Из него вышла женщина в бальном платье и нарядном плаще. Она отпустила кучера и огляделась. Лицо ее скрывала черная бархатная маска. Со стороны улицы Фландр подъехал второй фиакр, и на этот раз Мартен Лорсон проснулся, но не увидел экипаж, который остановился под газовым фонарем, вне поля его зрения. Седок, мужчина в мягкой широкополой шляпе, некоторое время курил, наблюдая за женщиной в маске, и только потом решил к ней присоединиться.
— Будет весело поглазеть на грязные игры аристократишек, — проворчал Мартен Лорсон, но почти сразу понял, что эти двое — не любовники. Иначе как объяснить их холодность — ни нежных объятий, ни поцелуев?
Мужчина и женщина разговаривали, но слов было не разобрать. Потом женщина достала из сумочки конверт, мужчина попытался выхватить его, она со смехом увернулась и побежала в сторону улицы Фландр. Дальнейшее происходило так стремительно, что Мартен Лорсон даже не успел дотянуться до штыка. Мужчина набросился на женщину, схватил за шею и сжимал до тех пор, пока она не дернулась в последней судороге и обмякла. Тогда он опустил бездыханное тело на землю, несколько мгновений смотрел на него, потом наклонился, схватил сумочку и скрылся. Вскоре затихло и цоканье копыт по мостовой.
Шарманка на бульваре Ла Шапель теперь играла «Дочь тамбурмажора».
[387] Из-за ротонды снова появился мужчина.
«Я пьян, — подумал Мартен Лорсон. Сердце у него колотилось, как обезумевший от страха кролик. — У меня начались видения… Неужто мне конец?»
Но это было не видение. Убийца вернулся. Опустился над женщиной на одно колено. Снял с нее маску. Замер, вгляделся, снова надел ей маску и исчез в глубине здания.
Мартен Лорсон онемел. Он не мог ни шевельнуться, ни даже сглотнуть, уверенный, что незнакомец подкарауливает его, как кот воробья, и упивается его ужасом. С какой стороны он нападет? С той или с этой? У Мартена скрутило внутренности, он словно врос в землю. Что-то скрипнуло. Неужели сейчас?.. Эта тень — уж не занесенный ли для удара кулак?
Мартен закрыл глаза и стиснул зубы, он дышал тяжело, со всхрипами. Через пятнадцать минут — ему показалось, что миновал целый час, — он наконец убедил себя, что рядом никого нет, и, не переставая оглядываться, подкрался к женщине. Толкнул носком ботинка тело, жадно, со свистом, втянул в себя воздух. Его внимание привлек застрявший между булыжниками медальон. Мартен присел на корточки, поднял вещицу, сунул в карман, увидел брошенный убийцей окурок и, схватив его, жадно закурил. Ротонда смотрела на Мартена пустыми глазницами, словно приказывая вернуться на пост. Что ему делать — ждать, пока Гамаш вернется от своей девки? Нет, ни за что. Мартен хлебнул рома, и тут его осенило: он оставит кепи и штык на посту под перистилем,
[388] хитрец Гамаш увидит покойницу, догадается, что приятель счел за лучшее смыться, вызовет полицию и, конечно же, не станет сообщать легавым о том, кто был свидетелем убийства, — ведь тогда ему придется признаться, что он отлучился со своего поста.
Пошатываясь, Мартен Лорсон добрался до набережной Луары: там стояла сколоченная из досок хибара, где хранились конфискованные за неуплату пошлины посылки. Среди нагромождения коробок и корзин лежал простой соломенный тюфяк, служивший Мартену постелью. Набитая конским волосом подушка, два стеганых одеяла, печурка, кувшин и миска составляли все его имущество. Мартен не раздеваясь рухнул на жалкое ложе, закутался в одеяло и захрапел.
Улица Винегрие тонула в вечерней темноте. Часы на фасаде кафе мелодично пробили десять раз, и хозяин зажег вторую лампу. Корантен Журдан сидел спиной к стойке — так ему был хорошо виден павильон на улице Альбуи. Ему казалось, что игроки в кости изъясняются на каком-то чужом языке. По его телу то и дело пробегала нервная дрожь, он выпил две рюмки коньяку, но так и не успокоился и решил пересесть поближе к двери.
Он чувствовал себя совершенно разбитым, но все же расседлал лошадь, обтер ее пучком соломы, задал корма и рухнул на стул в кафе в нескольких метрах от павильона с закрытыми ставнями.
Внезапно его осенило: это ошибка! Кто мог знать, что блондинка перекрасит волосы в черный цвет?
Корантен рассчитался, перешел улицу, освещенную рдеющим пламенем из отдушины булочной, поднялся на четвертый этаж и лег, но от усталости не мог заснуть. Происшествие у заставы Ла Виллетт не укладывалось в хронологию событий. Он много дней подряд следил за Софи Клерсанж. Так когда же?.. Что, у него выпадение памяти, что ли… Сначала она отправилась к церкви Сен-Филипп-дю-Руль. Остановила фиакр и оглядела фасад, не выходя из экипажа. То же повторилось у частного особняка на улице Варенн и в третий раз — на улице Мартир, рядом с доходным домом. Корантен записал все три адреса, решив, что потом установит личности хозяев и сопоставит с данными из голубой тетради.
Свисток паровоза разорвал тишину, и Корантен Журдан вдруг ощутил щемящее чувство одиночества. Он скучал по Жильятту, по Флипу, даже по матушке Генеке. В этом опасном предприятии он мог рассчитывать только на себя, но должен был любой ценой выполнить задуманное. Когда Корантен наконец заснул, ему приснилась Клелия.
На рассвете Мартена Лорсона разбудил бешеный стук в дверь. Он зевнул, с трудом поднялся — с похмелья кружилась голова — и открыл: на пороге стоял разъяренный Альфред Гамаш.
— Такова твоя благодарность? Да если бы не я, ты ночевал бы на улице! Ты меня подставил! Полицейские нашли на берегу канала труп, явились за мной — и что обнаружили? Мои кепи и оружие лежат на земле, а меня нет на посту! Хорошо еще, что я появился почти сразу и объяснил, что отошел по нужде, а символы власти оставил поддерживать порядок, так что бедняжку задушили в мое отсутствие.
— Они тебе поверили?
— Очень на это надеюсь, потому что иначе я попал в тот еще переплет! На днях меня вызовут на допрос в участок!
— Ты… ты про меня не скажешь?
Тугой комок скакнул из желудка Мартена Лорсона прямо в горло, он запинался на каждом слове, с ужасом осознав, что убийство не привиделось ему по пьянке, а произошло на самом деле.
— Не скажу, старый ты осел, но, уж конечно, не ради твоих прекрасных глаз. Если я признаюсь, что надолго оставил пост, лишусь работы. А теперь колись.
— Ты о чем?
— Не морочь мне голову, расскажи, как все произошло.
— Ну… Я задрых. Промочил глотку и отрубился. А когда проснулся, заметил какого-то типа рядом с лежащей на земле женщиной. Она не шевелилась, и я так перепугался, что…
— «Промочил глотку»… Так я в это и поверил! Да ты был мертвецки пьян!
— Да нет же, клянусь, я сделал всего несколько глотков… Обещаю, больше такое не повторится!
Гамаш пожал плечами.
— Ладно, успокойся. Один из легавых — мой бывший однополчанин. Трупы тут находят часто, так что одним больше, одним меньше… Ладно, старина, спи дальше и держи рот на замке. Это будет наш секрет, понял? Мы ведь с тобой старые друзья и не станем портить себе кровь из-за какого-то убийства на почве страсти!
Гамаш ушел, но Мартен Лорсон больше не мог сомкнуть глаз. Убийство на почве страсти? У него не шел из памяти мужчина в фетровой шляпе и бездыханное тело женщины, лежащее на земле.
Что-то тут было не так.
Мартен Лорсон пытался привести мысли в порядок. Сделать это оказалось непросто, но в конце концов пасьянс все-таки сошелся. Женщина в маске прохаживается перед зданием таможни. Невидимый фиакр останавливается за зданием. Пассажир выходит, вступает в бурный, но короткий спор с женщиной, после чего душит ее и исчезает: «Тагада-тагада-тагада» — стучат копыта по булыжнику мостовой.
«Так, в этом я уверен… Но как объяснить почти мгновенное возвращение убийцы?»
Мартен Лорсон высосал из бутыли последние капли рома, и его вдруг осенило: убийца не мог раздвоиться, значит, в засаде сидел второй разбойник. Точно! Именно он и вернулся, чтобы заглянуть в лицо убитой.
«Если только… А что, если душитель вообще не садился в тот проклятый фиакр?.. Что, если он меня видел? Если он меня видел…»
Мартен Лорсон сунул задрожавшую руку в карман, нащупал там медальон и с трудом сдержал проклятье.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Среда 14 февраля
Перед домом номер 18 по улице Сен-Пер стоял человек в пальто с ратиновым воротником и в черном бархатном берете а-ля Ван Дейк. Он делал вид, что разглядывает витрину книжного магазина «Эльзевир». Слева были выставлены книги, посвященные расследованию криминальных тайн, в том числе, полное собрание сочинений Эмиля Габорио. Справа — старинные иллюстрированные гравюрами тома и современные английские издания: «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда, «Тэсс из рода д’Эбервиллей» Томаса Харди и «Приключения Шерлока Холмса» Артура Конан Дойла.
Утро выдалось хмурое, мелкий дождик моросил не переставая. Тротуары опустели, а вот книжную лавку оккупировали четыре светские дамы в зимних туалетах. Компанию им составлял старичок, похожий на мечтательно-грустного поэта: глубокие морщины на лбу, горькая складка у рта, щегольская бородка.
Морис Ломье прижался носом к витрине: на середине лестницы, ведущей в комнаты второго этажа, стоял Кэндзи Мори, один из владельцев магазина, а приказчик Жозеф Пиньо читал газету, прислонившись спиной к каминной полке с бюстом Мольера. Компаньона Кэндзи, Виктора Легри, нигде не было видно.
Морис Ломье перебрался под козырек подъезда соседнего дома, помедлил несколько мгновений и постучал в стекло привратницкой. «Шевелись, черт бы тебя побрал, ты не можешь просто взять и отступиться!»
Мишлин Баллю бросила чистить морковку и репу. Век подходил к концу, умножая мерзости жизни. Вокруг было полно чудаков, но Мишлин ничему не удивлялась с тех пор, как они с ныне покойным мужем Онезимом переехали в квартал литераторов и студентов. Она едва обратила внимание на хлыща, который мок под дождем. «Наверное, раздает проспекты, — подумала она. — Мог бы выбрать денек получше!»
— О, хранительница прохода, богиня вестибюля, снизойдите до меня, укажите, где живет почтенный мсье Легри.
Мишлин Баллю приготовилась дать нахалу от ворот поворот, но обращение «богиня» прозвучало нежной мелодией для слуха той, которая втайне от всех называла себя Балкис, царицей Савской. Как тут устоять? Она торопливо развязала тесемки фартука, поправила непокорную прядь и указала — пожалуй, слишком торопливо — пальцем на лестницу:
— Второй этаж, слева.
Фатоватый тип, не поблагодарив, начал взбираться по ступеням, и Мишлин рявкнула ему вслед:
— Вряд ли они вас впустят, эти глухие тетери! А ковер тут постелен не для всяких грязных псов!
Кипя от ярости, достойная дама вернулась к своим овощам.
— Старая дура, вот ты кто, Балкис Баллю, чокнутая простофиля, и все тут.
Морис Ломье нерешительно топтался у дверей квартиры. Его отношения с Легри были далеко не самыми теплыми, и Морису было нелегко заставить себя обратиться к Виктору за помощью. Он сделал глубокий вдох и позвонил.
На пороге возникла приземистая матрона с половником в руке. Собранные в пучок волосы держало устрашающее количество шпилек. Остолбеневший Ломье отпрянул назад и заголосил:
— О, незаменимая Амальтея, фея этого дворца, я жажду поговорить с мсье Легри, у меня к нему личное дело.
Эфросинья Пиньо нахмурилась и попыталась вспомнить, где и когда видела этого бесноватого.
— Живет он здесь, но в этот час всегда находится внизу, в магазине, где же еще ему быть! — гаркнула она и, не дав визитеру времени задать следующий вопрос, захлопнула дверь.
«Что это еще за тип? До чего же странные бывают люди! О-хо-хо, грехи мои тяжкие, мало мне других забот, теперь вот еще и дворецким приходится служить! Неужто мсье Мори вообразил, что я превращусь в восьмирукого идола, вроде той гадкой статуэтки, что красуется у него на столике? Я, мать его зятя! Ну уж нет, пусть даже не надеется!»
Эфросинья заперла дверь. Когда она колдовала над кастрюлями, поминая вслух этапы крестного пути Спасителя, никто, даже самые близкие, не имели права ее отвлекать. В результате теперь Кэндзи готовил себе чай в гостиной, на спиртовке. А Эфросинья, которая собиралась в скором времени стать бабушкой, надзирала за невесткой почище попечительницы беременной вдовы в эпоху Капетингов. Мысль о том, что будущий внук унаследует дурную кровь Айрис Пиньо, в девичестве Мори, приводила Эфросинью в бешенство. Каждый вечер, закрывшись в своей двухкомнатной квартирке на улице Висконти, где она теперь жила одна, Эфросинья придумывала сбалансированные меню, ловко маскируя мясо и рыбу в овощных пюре, слоеных пирожках и крокетах. Она старалась для продолжателя знаменитого шарантского рода, японские предки внука (в том, что родится мальчик, достойная матрона не сомневалась!) ее мало волновали. Времени на раздумья у Эфросиньи хватало: после женитьбы сына она больше не отвечала за порядок в квартире на улице Сен-Пер и в жилище Виктора и Таша Легри на улице Фонтен. Мсье Мори нанял для этой работы Зульму Тайру. Юное бестолковое создание отличалось ловкостью слона в посудной лавке, и хозяева давно перестали считать количество разбитых новой служанкой ваз, стаканов и тарелок. Мсье Мори горько сожалел, что сменил мадам Пиньо на неуклюжую недотепу, но молчал — ведь Эфросинья только и ждала, чтобы он вслух признал свою ошибку! Она с первого взгляда раскусила ни на что не годную девицу, но мсье Мори считал себя умнее всех и нанял Зульму, поддавшись на ее чары. Все мужчины одинаковы, думают не головой, а…
— Тем лучше! Пусть хоть все разворотит, так ему и надо! Но к малышу я ее и близко не подпущу! — ворчала Эфросинья, нарезая говяжью печенку под аккомпанемент «Отче наш» и «Богородице Дево радуйся…».
Она записывала в дневник все прегрешения и недостатки окружающих и теперь вознамерилась дополнить характеристику Зульмы Тайру, а также описать смешного надоеду в берете, которого только что выпроводила вон.
Никто не вышел на звяканье колокольчика, когда Морис Ломье переступил порог книжного магазина. Он схватил со столика, где были выложены новинки, «Сказки из хижины» Октава Мирбо и спрятался за книгой, а потому не увидел раздраженного лица Жозефа Пиньо.
— Прошу вас, мсье Пиньо, продолжайте! — воскликнула похожая на козу дама.
И Жозеф продолжил чтение вслух:
После того как следователь и руководитель экспертной лаборатории закончили осмотр места происшествия, кафе «Терминюс» снова принимает посетителей. Часть дня и весь вечер любопытные стеклись на улицу Сен-Лазар и отирались среди завсегдатаев в надежде узнать детали. Людской поток подхватил нас, внес в одну дверь и вынес из другой. Агент Пуассон пытался заступить дорогу террористу, и тот ранил его двумя выстрелами в грудь. Префект Лепин посетил мужественного агента у него дома на улице Сен-Луи-ан-л’Иль и вручил ему Орден Почетного легиона.
— Этот человек — герой, ему нужно поставить памятник! — звенящим от волнения голосом объявила дама в репсовом платье цвета баклажан с меховой муфтой в руках, из которой свисали поводки шипперке
[389] и мальтийской болонки.
— Вы слышали, Рафаэль, на вокзале, где я была несколько часов назад с мадемуазель Хельгой Беккер и моей кузиной Саломэ, произошло покушение! — простонала пухленькая дама.
— Анархисты, что тут скажешь! Счастье, что взрывное устройство, скорее всего — котелок, начиненный порохом и пулями, — угодило в люстру, изменило траекторию и упало на столы, иначе было бы не двадцать раненых, а Бог знает сколько убитых! — воскликнула Бланш де Камбрези, получившая от Жозефа Пиньо прозвище Коза.
— Продолжайте, мсье Пиньо, — приказала величественная дама с мучительно перекошенной половиной лица.
Морис Ломье потерял терпение и решил привлечь внимание Жозефа, но не успел — тот откашлялся и продолжил чтение:
Также весьма похвально действовали агенты Биго и Барбесу; анархист напал на них на Римской улице, завязалась схватка, и они скрутили преступника. Помощь им оказали прохожие. Напомню, дорогой читатель, что наш горе-подрывник — явный меломан, ведь он решился действовать в тот момент, когда оркестр исполнял «Марту» Флотова.[390] Хлыщеватый молодой человек лет восемнадцати с жидкими усиками и светлой бородкой отказался сообщить свое настоящее имя. «Я — Икс из Пекина»,[391] — заявил он. — Больше вам ничего знать не нужно.
— Наглец! Я бы не дожидался судебного процесса, а просто отрубил бы этому «жителю Пекина» голову! Или обвязал его динамитом и послал на передовую! Рано или поздно мы возьмем под контроль Мадагаскар! — проблеял старичок.
— Мадагаскар? — переспросила пухленькая дама. — Значит, вы разделяете убеждения полковника де Реовиля?
— Я никогда не бросаю слов на ветер, дорогая мадам де Флавиньоль. У меня есть связи в министерстве. Мадагаскар без труда офранцузится, как только мы станем там хозяевами.
— И непокорный Индокитай тоже будет нашим, если мы вырвем с корнем «желтую» культуру и заменим французским языком все аннамские диалекты. Таково мнение знаменитого исследователя Габриеля Бонвало, — важно заявила дама с перекошенным лицом.
— Весьма похвально, что вас так волнует продвижение нашей культуры по миру, дорогая мадам де Бри, — похвалил старичок.
— Конечно, заботит. Я пережила инсульт, сочеталась браком с полковником де Реовилем и теперь решила создать художественный салон в своем особняке на улице Барбе-де-Жуи. Я устраиваю ужины и принимаю членов Комитета Дюплекса,
[392] а они весьма осведомлены в этом вопросе. Мой четвертый муж не устает повторять: «У Поднебесной Империи нет языка, значит, мы должны дать его этой стране!».
— Браво!
Жозеф, который был доведен до исступления болтовней «бабищ» (так он называл толпившихся вокруг него трещоток), и прекрасно видел Мориса Ломье (который год назад пытался соблазнить Айрис), решил укрыться за газетой и вдруг наткнулся взглядом на заметку внизу полосы.
СОВРЕМЕННО! НЕСЛЫХАННО!
«Пасс-парту», пребывающая в постоянном поиске самых захватывающих романов, счастлива сообщить, что получила эксклюзивные права на публикацию второго произведения мсье Жозефа Пиньо. Наши читатели будут иметь удовольствие прочесть первые главы уже в следующем месяце. Те из них, кто по достоинству оценил «Странное дело Анколи» (роман издан у Шарпантье и Фаскеля), смогут насладиться готическими приключениями бесстрашной Фриды фон Глокеншпиль и ее пса Элевтерия, ищущих проклятый янтарь. Повествование понравится господам, дамам и девицам с нежной душой.
У Жозефа перехватило дыхание, он сложил газету, положил ее рядом с бюстом Мольера, почесал в затылке и пробурчал себе под нос:
— Вот подлецы! А ведь я с октября жду от них ответа! Мы же даже договор не обсудили! Аванс в двести франков — пустяк! На сей раз я потребую тысячу! Клюзель упрется, это ясно. Я уступлю, соглашусь на восемьсот, иначе… — Он потер руки. — Меня ждут слава, почести и все такое прочее! Нет, ну что за негодяи! Задержали публикацию моего шедевра, чтобы потешить самолюбие этого жалкого писаки Пеллетье-Видаля! Стиль — ужасный, интрига — пошлая! Зато он обедает с Полем Бурже!
Морис Ломье направился к камину, но тут в магазин ворвалась дама в шляпе с перьями, оттолкнула его и ринулась к Жозефу.
— Олимп, какой приятный сюрприз! — прощебетали «бабищи».
— Мсье Пиньо, будьте так любезны принести мне «Несчастья Софи» графини де Сегюр, урожденной Ростопчиной, я собираюсь читать ее близнецам моей племянницы Валентины — Гектору и Ахиллу.
— Эта книга, должно быть, на складе.
— Так не медлите, молодой человек, сбегайте за ней, и поживее!
— А кто будет стеречь лавку?
— От кого, от нас? Неужели вы усомнитесь в нашей честности? — воскликнула Олимп де Салиньяк.
Рафаэль де Гувелин — дама с собачками — бросив на Жозефа заговорщический взгляд, проговорила:
— Чудесная история! Весьма поучительное чтение! Все мы плакали над главой, где Софи хочет вылечить свою куклу от ужасной мигрени, прописывает ей горячую ножную ванну, и восковая любимица остается без ножек. Так трогательно!
— Дорогая, а вы уверены, что пересказываете близко к тексту?
— Совершенно уверена, Олимп. Я до сих пор вздрагиваю, вспоминая то место, когда наивная Софи отрезает головы несчастным золотым рыбкам.
— Хм… Пожалуй, я лучше я куплю мальчикам оловянных солдатиков. Да, именно так, это поможет воспитать в них чувство долга и любовь к родине. Вы идете, мадам?
Зашелестели шелка, по залу пробежал сквознячок, и дамы, не попрощавшись с Жозефом, покинули магазин, прихватив с собой старичка, отиравшегося рядом с госпожой де Реовиль.
Взгляды Мориса Ломье и Жозефа схлестнулись, как у двух дуэлянтов, готовых драться насмерть, вот только поединок вышел словесный.
— Кого я вижу! Кабацкий Рубенс!
— Будь я проклят, если это не Дюма для бедных! Как поживает ваша Дульсинея?
— Не тешьте себя иллюзиями, Айрис теперь — госпожа Пиньо.
— Париж кишмя кишит одинокими музами. Передайте вашей супруге мои соболезнования.
— По какому поводу?
— Она променяла драгоценную свободу на суровые будни супружества. Сожалею, что побеспокоил вас…
— Именно что побеспокоили! Убирайтесь!
— Не раньше, чем поговорю с мсье Легри, у меня к нему важное дело.
— В таком случае, я буду избавлен от вашего присутствия: мой шурин сейчас находится на улице Фонтен.
— Неужели милейший Легри позволяет вам, своему зятю, оставаться простым приказчиком? Это же эксплуатация!
— Я запрещаю вам…
— Прощайте, о счастливейший из супругов! — пропел Морис Ломье, приподнимая берет. — И передайте вашей достойной половине, что я готов запечатлеть ее в профиль в анфас, в фате или без фаты — как она того пожелает!
Пока Жозеф поискал глазами, что бы швырнуть нахалу в голову, Ломье испарился.
Гнев Жозефа стих, но его одолели черные мысли. Да, он действительно ничтожество — и в книжном деле, и в литературе. Айрис его не любит, а младенец родится горбатым.
— Малыш, я приготовила на ужин твое любимое блюдо, тебе пора подкрепиться, — громогласно заявила, входя в лавку, его мать. — Я поставлю его в буфет, тебе останется только разогреть.
Мысль об ужине вернула Жозефу жизнелюбие.
«Блеск! Сочный ростбиф с жареной картошкой!»
Таша задумчиво покусывала ноготь большого пальца, размышляя, какую из двух картин выбрать: портрет обнаженного мужчины со спины или парижские крыши в сумерках. Ей хотелось посоветоваться с Виктором, но тот проявлял снимки, закрывшись в лаборатории, и она удержалась от искушения.
— Пусть будут крыши.
Осенью 1893 года, в присутствии ближайших родственников, они поженились в
мэрии Девятого округа, после чего уговорились не мешать друг другу в работе. По утрам каждый отдавался своей страсти: он — книготорговле и фотографии, она — живописи и иллюстрированию. Если удавалось выкроить свободный часок, они вместе обедали на улице Фонтен. Хозяйством в доме ведал бывший метрдотель Андре Боньоль, избавивший супругов от услуг Эфросиньи Пиньо, которая всюду совала любопытный нос.
Если днем встретиться не получалось, супруги ужинали вдвоем, хотя Таша часто задерживалась в городе: ей приходилось встречаться с заказчиками и коллегами, а еще она давала уроки акварели в студии своей матери Джины. Она испытывала вину по отношению к Виктору, и хотя он уверял ее, что не обижается, старалась хотя бы по воскресеньям уделять мужу внимание. Они подолгу нежились в постели, гуляли по набережным Сены или отправлялись наслаждаться природой за город.
Таша очень боялась официального статуса супруги, но после замужества ее независимость ничуть не пострадала. Виктор был как никогда заботлив и внимателен, а их взаимное влечение ничуть не слабело с годами.
«Супружеская жизнь подобна процессу топки печи: если тяга слишком сильная, разгорается пожар, а если кислорода не хватает, начинается чад», — утверждал Кэндзи. Но Таша опасалась, что совместный быт может породить опасную для любви скуку.
«К черту! Ты должна доверять любимому человеку. Он, как и ты сама, ненавидит правила и плюет на условности! Carpe diem!
[393]» — сказала себе она.
Владелец «Ревю бланш» Таде Натансон,
[394] с которым она недавно начала сотрудничать, прислушался к совету Жана Вюйара
[395] и согласился в конце месяца выставить двадцать работ Таша на улице Лаффит.
— Двадцать, вы поняли? И отберите лучшие! — сказал он ей.
Она не должна ошибиться, а значит, придется просмотреть все парижские крыши, мужскую и женскую обнаженную натуру, античные сюжеты и ярмарки.
Таша поставила рядом «Семью канатоходцев» и «Укротительницу хищников». Кажется, этот тигр похож на чучело толстого кота. Грудное мяуканье подтвердило ее сомнения. Полосатая кошка, год назад подобранная Жозефом на улице, которой хозяева не удосужились придумать кличку и так и звали Кошкой, нетерпеливо помахивала пушистым хвостом, требуя, чтобы ее выпустили погулять.
— Ты права, моя красавица, голосуем за икарийские игры.
[396]
Таша приоткрыла дверь мастерской, смотрела, как кошка перебегает через двор, и задумчиво мяла в руках кружевные перчатки, борясь с искушением отправиться в фотолабораторию к Виктору.
Кошка с трудом протиснулась в свой лаз и потрусила в сторону кухни. Справив нужду, она принялась шумно скрести когтями пол, давая хозяевам знать, что все в порядке и за ней нужно убрать. Виктор промыл снимки в цинковой ванночке, повесил их сушиться, погасил керосиновую лампу с замазанным красной краской колпаком и покинул лабораторию.
Она располагалась прямо в квартире. Там еще имелись кухня, туалетная комната и просторная спальня, куда при переезде с улицы Сен-Пер Виктор ухитрился втиснуть свой письменный стол с откидной крышкой и конторку. На стенах висели акварели Констебля, два портрета Гейнсборо и наброски тушью фаланстеры Фурье. Выполненный сангиной портрет матери Виктора, Дафнэ, в овальной раме соседствовал с изображением Таша в костюме Евы и портретом Кэндзи. Виктору пришлось расстаться с массивным столом и шестью стульями, но застекленный книжный шкаф он сохранил. Открыв дверцу, он взял с полки «Галантные празднества» Верлена, улегся на кровать и стал перелистывать томик в поисках любимого стихотворения:
Каблук высокий спорил с юбкой длинной,
Да так, что то ветер, а то косогор
Порой лодыжкой голой радовали взор
Наш на лету. И наслаждались мы игрой невинной…
[397]
Чувство эротического наслаждения медленно погружало Виктора в сладостную истому, из которой его вывела Кошка: она вдруг решила, что ей совершенно необходимо размять лапки.
— Ах ты гадкое животное! — ойкнул Виктор. — Прекрати вертеться! — шепнул он и протянул руку, чтобы погладить пушистую красавицу, к которой успел привязаться.
Когда она окотится? Таша уверяет, что со дня на день. Что они будут делать с выводком котят? Неужели придется обратиться к милосердному Раулю Перо, секретарю комиссариата Ла Шапель, покровителю бездомных собак и оставшихся без хозяев черепах?
Он представил себе беременную Таша. Фигура Айрис уже заметно округлилась, что давало повод подозревать, что она и Жозеф нарушили запрет Кэндзи и познали друг друга задолго до того, как их благословил кюре прихода Сен-Жермен-де-Пре. Сам Виктор не принимал никаких мер предосторожности в интимных отношениях с женой, но Таша оставалась хрупкой и тоненькой, как девочка. Виктор был доволен — перспектива стать отцом его пока что не воодушевляла.
— Я не готов поступиться своим внутренним «я», — сказал он блаженно мурлыкавшей Кошке.
Да, ему уже тридцать четыре. С чувством собственника по отношению к Таша он кое-как справился, но что будет, если у них появится ребенок? Когда жена сказала ему о выставке, организованной «Ревю бланш», он ее поддержал, хотя это предприятие его вовсе не обрадовало — он был уверен, что все посетители-мужчины будут вертеться возле Таша, раздевая ее взглядами. Виктора не успокаивал даже тот факт, что вместе с картинами Таша будут выставлены три его фотографии.
А еще его угнетала необходимость постоянно врать Кэндзи. Он вел себя как лицеист, сочиняющий небылицы, чтобы оправдать свои прогулы.
— Давно пора признаться, что я сыт магазином по горло и хочу заниматься фотографией! — в сердцах сказал себе Виктор.
В дверь постучали — коротко, три раза. Кошка мгновенно скрылась под кроватью.
— Открыто! — крикнул Виктор.
На пороге стоял высокий бородач в бархатном берете. Виктор не удержался от язвительной реплики:
— Увы, я вас разочарую — Таша тут нет.
— Вот и хорошо, у меня к вам конфиденциальный разговор, Легри. Сожалею, что прервал вашу сиесту, но я на ногах с самого утра, так что… вы позволите?
Не дожидаясь ответа, Ломье плюхнулся на кровать рядом с Виктором. Мужчины обменялись неприязненными взглядами, Виктор сделал попытку подняться, и Морис Ломье насмешливо ухмыльнулся.
— Поторопитесь, Легри, вдруг войдет Таша? Что скажет эта невинная душа, если застанет нас в такой позиции?
До крайности раздраженный Виктор вскочил, разгладил костюм и закурил, забыв об обещании жене не дымить в комнатах.
— Успокойтесь, — бросил Ломье, кивнув на кресло.
Но Виктор садиться не пожелал, и Ломье тоже встал, уронив разложенные на столике фотографии.
— Надо же, какие сюжеты! Потрясающе! Кто бы мог подумать, что вас так заинтересует изнанка жизни нашего современного Вавилона! Я думал, вы более легкомысленны.
— А вы все так же привержены темной гамме?
— Мой бедный друг, в том, что касается живописи, вы безнадежно отстали от жизни. Знаете, что Ренуар проповедует юным умникам, которые выбрасывают в Сену тюбики с черной гуашью? «Черный — очень важный цвет. Возможно, самый важный». Ничего удивительного — с его-то фамилией…
[398]
— Я с ним совершенно согласен, потому и люблю темные стороны жизни столицы.
— Ошибаетесь, вас интересует не черный, а… серый. А это всего лишь оттенок, согласны?
— Прошу вас, довольно об этом! Что вам нужно?
— Вот это рассудительность! Ну и хладнокровие! Я потрясен, я…
— Выкладывайте!
— Ой-ой-ой, как вы меня напугали! Ладно, — Ломье опустился в кресло. — Меня привело к вам деликатное дело, за которое я не очень-то хотел браться. Если бы Мирей Лестокар не заставила меня…
— Мирей Лестокар?
— Ну же, Легри, вспомните: два года назад вы любовались ею на улице Жирардон. Брюнетка с пышными формами. Мими! Моя модель, моя муза, моя цыпочка. О, женщина, счастье художника!
— И чего ждет от меня эта самая Мими?
— Света, дорогой друг. Она усердно читает отчеты о ваших расследованиях — слишком опасных, на мой вкус. Вы стали ее кумиром. К счастью, я не ревнив. Вы не нальете мне выпить?
— Могу предложить только воды из-под крана. Так вы будете говорить или нет?
Ломье поудобнее устроился в кресле.
— Буду краток. У Мими есть кузина, Луиза Фонтан, — Мими зовет ее Лулу. Три недели назад Лулу исчезла, будто испарилась — не появляется ни на работе, ни дома. И Мими каждый день терзает меня просьбами: «Пойди к мсье Легри! Уговори его взяться за это дело! Он ее найдет, я в это верю». В конце концов я сдался. Заплачу, сколько скажете — в разумных пределах… Не расстреливайте меня взглядом! В нашем материалистическом обществе у каждого есть цена. Я спрашиваю, сколько стоите вы. Я бы никогда не стал злоупотреблять вашим драгоценным временем, не предложив взамен скромного вознаграждения.
— Что вы такое говорите?
— Вы ведь частный сыщик?
В комнату вошла Таша.
— Я обещала не мешать тебе, дорогой, но мне очень…
Она замолчала на полуслове, заметив Ломье.
— Приветствую тебя, о соблазнительная сестра по цеху. Слышала, что говорят на Монмартре? Это сенсация! Будто бы великолепная и талантливая Таша Херсон ответила «да» книготорговцу, увлекающемуся раскрытием преступлений. Она спутала любовь с иллюзией безопасности и — хлоп, птичка в клетке! Я, конечно, все опровергал.
— Как ты узнал?
— «Бибулус» на улице Толозе — прибежище болтунов. Хозяин заведения Фирмен водит дружбу с заместителем мэра Девятого округа, а тот — завсегдатай биллиардного зала в «Поддатой собаке». Не переживай, моя птичка, какая разница, кто прочел объявление о бракосочетании в мэрии. Кстати, могла бы пригласить меня, я бы осыпал тебя рисом, выпили бы шампанского… — И, довольный произведенным впечатлением, Ломье принялся рассматривать свои ногти.
— Так что же ты не кричишь об этом на всех углах?
— Я? Закладывать товарищей? За кого ты меня принимаешь!
— Ты спустился с Холма, чтобы сообщить мне эту новость? Что ты тут забыл?
— Тебя, прелестное дитя.
Таша унюхала запах табака, хотя Виктор успел незаметно спрятать окурок за книгами, и окинула мужчин подозрительным взглядом. Что замышляют эти двое? Они ведь терпеть друг друга не могут!
— Дорогой, когда освободишься, удели мне немного времени, я хочу с тобой посоветоваться, — сказала она Виктору и вышла, сопровождаемая вылезшей из укрытия Кошкой.
— Вы счастливчик, Легри, у вашей маленькой женушки есть характер. Ох уж мне эти пылкие чувства! Лекарство от одиночества или гиря на ноге? Что скажете?
— Нет, нет и нет!
— Странный ответ, Легри.
— Нет — это ответ на просьбу мадемуазель Лестокар.
— Мими — и никак иначе. Она будет страшно разочарована и превратит мою жизнь в ад.
— Зачем вы с ней живете, если так плохо думаете о супружестве?
— Привычка, лекарство от одиночества и гиря на ноге — до тех пор, пока не наскучит, а тогда — adios, епе maitia,
[399] уезжаю в Испанию, пришлю тебе кастаньеты. Подумайте, Легри, плачу вам двадцать франков, я продал картину.
— Дело не в деньгах, они для меня не проблема.
— Вам везет, мне они тяжело достаются. Прощайте, Легри, еще увидимся. И улыбнитесь, ведь жизнь — забавная штука! — Ломье бросил взгляд на маленький портрет Таша, который он сам написал, — задолго до того, как она вышла замуж за Виктора. — Признайте, Легри, я не самый плохой художник на свете! А уж модель до чего соблазнительная…
Оставшись наконец в одиночестве, Виктор приоткрыл окно, дрожащими пальцами достал из пачки вторую сигарету и закурил.
Морис Ломье пробежал через садик с чахлыми розами. Бродячие кошки порскнули в разные стороны, когда он вставил ключ в замок своего жилища на первом этаже. Мими куда-то исчезла, и он надеялся добавить кое-какие штрихи к портрету Жоржа Оне, который обещал закончить к концу месяца. От этого заказа зависело его финансовое благополучие.
Ломье напевал, пытаясь довести до совершенства не желавший закручиваться ус. Дрова в печи потрескивали, а значит, пышная брюнетка, изображенная на всех пятнадцати портретах, скоро появится. Так оно и случилось: Мими вернулась с горшком супа и газетой четырехдневной давности, которую стащила у торговца фруктами с улицы Норвен.
— Ты с ним поговорил? — дрожащим голосом спросила она.
Морис Ломье вытер руки о фуфайку, перелил суп в кастрюльку и поставил на огонь.
— Он отказывается.
— Даже если ему заплатят?
— Особенно если заплатят — от этого пострадает его самолюбие. Меня это вполне устраивает! Пока не получу деньги за картину, мы будем на голодном пайке.
Мими нервно рвала газету, комкала ее и кидала в огонь, а потом вдруг замерла, словно окаменела, не в силах оторвать взгляд от какой-то заметки.
— Это она, я уверена! Какой ужас!
— Что стряслось, моя курочка? — поинтересовался Ломье, разливая суп по тарелкам.
— В Ла Виллетт нашли задушенную девушку. Тело в морге. Нужно туда сходить! — воскликнула Мими, схватила любовника за плечо и тряхнула так сильно, что он чуть не подавился супом.
— В Ла Виллетт? Мими, подумай сама: в этом городе полным-полно юбок, почему ты решила, что это Лулу?
— Интуиция. И потом, она никогда не исчезала без предупреждения. С тех пор как я в Париже, мы виделись каждые две недели. Мы ведь вместе росли и были друг другу как сестры!
— «Родственные души находят друг друга, если умеют ждать»… Хорошо сказано, правда, милая? Увы, это не я — Теофиль Готье. Успокойся и пусти эту газетенку на растопку.
Мими топнула ногой, схватила кисть, ткнула ею в палитру, обвела красным статью, сложила листок вчетверо и накинула теплую шаль поверх широкой шерстяной пелерины.
— Как это на тебя похоже! — раздраженно воскликнула она. — «В этом городе полным-полно юбок!» Признайся, стоит мне отвернуться — и ты во всех подробностях изучаешь чужое белье. А девять из десяти натурщиц вообще позируют тебе без ничего!
— Полно тебе, полно! На что мы станем жить, если я не буду зарабатывать на хлеб? Хочешь вернуться на пан…
— Мне что же, упасть на колени и благодарить тебя за то, что пустил в свою постель? Да ты совсем сдурел от этой мазни! — Она махнула рукой в сторону стоявших у стены полотен.
— Ты тоже раздевалась, когда позировала мне, Мими!
— Ты меня не любишь! — со слезами в голосе крикнула она.
— Черт, а суп? Да что с ними со всеми такое? Любовь, любовь! Куда ты помчалась, идиотка?
— Сам ты кретин! В морг.
Ломье натянул на голову берет, надел пальто с ратиновым воротником и кинулся следом за Мими по улице Жирардон.
— В морг, в морг… Миленькое дельце! — бурчал он, пытаясь догнать подругу.
Погода испортилась. Ветер усилился, пошел снег, и видимость ухудшилась. Виктор задержался в книжной лавке «Эльзевир» — нужно было закончить инвентаризацию — и теперь медленно брел по улице, опустив голову и мысленно обзывая себя дураком. Надо было сочинить для Кэндзи какую-нибудь правдоподобную историю и остаться в уютной квартире! Ему все труднее выполнять обязанности компаньона, и это при том, что, к вящей радости Жозефа, он в последнее время все чаще спихивает свою работу на него.
Виктор едва не столкнулся с выходившей из ворот парой.
— Мсье Легри, умоляю, помогите! — со слезами в голосе воскликнула женщина, схватив его за рукав.
— Лулу мертва, ее убили. Мы только что из морга. Ужасное зрелище, — подхватил мужчина. — Мими в ужасном состоянии, а я… Будьте великодушны, Легри, угостите нас выпивкой, я чертовски замерз.
В желтом свете газовых фонарей лицо Мориса Ломье выглядело непривычно серьезным. Виктор встревожился и повел их в винную лавку на улице Дуэ.
Они устроились за столом у печки и заказали красного вина. Виктор быстро вспомнил спутницу Ломье, знаменитую Мими: ее пышное тело красовалось почти на всех его полотнах. Она комкала в руках мокрый от слез платок и то и дело подносила его к глазам. Кое-как справившись с рыданиями, Мими проговорила:
— У меня есть бабушкина серебряная брошка, я заложу ее и заплачу вам, сколько скажете.
— Ты ставишь мсье Легри в неловкое положение, — шепнул Ломье.
— Плевать, раз это единственный способ убедить его! Так вы согласны, мсье Легри?
Виктор молчал, разглядывая содержимое стакана.
— Нам вот что непонятно, — продолжил Ломье. — Лулу сидела без гроша, а нам сказали, что на ней было роскошное платье. А еще она почему-то покрасилась в брюнетку.
Виктор поднял голову и понял, что проиграл. Невозможно упираться, когда у женщины покраснели от слез глаза, губы распухли, а на лице полное отчаяние. Будь с ним Таша, она бы наверняка его приревновала.
— А какого цвета они были прежде? — поинтересовался он.
— Лулу была рыжевато-золотистой блондинкой, чистый Боттичелли! Рядом с телом валялась бархатная маска. В этой мизансцене есть аромат тайны, способный вас привлечь, Легри.
— Считаете меня садистом? В убийстве женщины нет ничего привлекательного, — кислым тоном произнес Виктор.
— Золотые слова, мсье Легри! — воскликнула Мими. — Произошла трагедия, а этому бесчувственному болвану, — она показала на Ломье, — хоть бы хны!
— Ты не права, козочка моя, меня чуть не стошнило.
— Но уж точно не из-за трупов, все дело в запахе фенола. А я, как увидела, что моя бедная Лулу лежит голая с лиловой шеей… Боже милосердный! — Мими спрятала залитое слезами лицо в шаль.
Виктор протянул руку, чтобы похлопать ее по плечу, она ухватилась за нее и рассыпалась в благодарностях.
— Благодарю вас, мсье, вы способны сочувствовать чужому горю!
— У меня тоже есть сердце! — проворчал Ломье и поцеловал Мими в лоб. Она прижалась к его плечу.
— Вы заявляли об исчезновении подруги в полицию? — спросил Виктор.
— Да вы с ума сошли, Легри! — воскликнул Ломье. — Мы и в морге не признались, что знаем ее. Полиция! С ними свяжешься — жди беды. Я чист перед законом, но Мими… Прежде чем мы сошлись, она торговала своими прелестями и состоит на учете в префектуре. Так да или нет?
— Да, мадемуазель, я берусь за расследование, — кивнул Виктор, высвобождая из пальцев Мими свою руку. — Мне нужен адрес вашей подруги. И адрес места, где она… работала.
Он деликатно кашлянул и полез в карман за карандашом.
— О, она была честной девушкой, работала на мануфактуре по пошиву готового платья, на улице Абукир, 68. А жила на улице Шофурнье, 8 — в двух минутах ходьбы от Компании по прокату легких экипажей, в меблированной комнате.
— Где ее нашли?
— Перед ротондой Ла Виллетт. Вот, здесь написано.
Мими протянула Виктору номер «Энтрансижан» за 10 февраля. Он пробежал обведенный красным текст.
— Я могу взять эту газету с собой?
— Да, конечно. Вы сделаете все, что нужно?
— Постараюсь.
— Во сколько это нам встанет?
— Сохраните брошь вашей бабушки, мадемуазель Мирей. Ломье мой давний приятель, мы познакомились в 1889-м, на выставке в кафе «Вольпини». Чего не сделаешь для друга, так ведь, Морис? — ответил Виктор и заплатил по счету.
— Вы настоящий джентльмен! — восхитилась Мими, сверкнув глазами.
Ломье встал и подал ей руку.
— Очень благородно с вашей стороны, Легри. Если я чем-то могу отблагодарить вас…
— Можете. Таша не должна ничего знать об этом деле, так что держите рот на замке.
— Буду нем как рыба, дорогой Виктор.
Они дошли до улицы Дуэ, где какой-то бедолага сгребал лопатой снег с тротуара.
— Буду держать вас в курсе, — пообещал Виктор и коснулся пальцами шляпы. — До свидания, мадемуазель Мирей.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Четверг 15 февраля
Впервые в жизни Альфред Гамаш был так встревожен. Не помогала даже мысль о пышногрудой Полине, расстегивающей корсаж прямо у него перед носом. Знай он, какие неприятности повлечет за собой это свидание, легко бы без него обошелся. И все из-за Никодима,
[400] не способного проявить ни малейшей инициативы!
Альфред прищурившись смотрел, как двуногие муравьи разгружают кирпичи из брюха баржи, перегородившей водоем Ла Виллетт. Его внимание привлек направлявшейся к нему мужчина: молодой, с правильными чертами лица и тонкими черными усиками, в твидовом костюме и сдвинутой на затылок мягкой шляпе.
«Новые неприятности на горизонте», — подумал он, когда незнакомец спросил:
— Скажите, вы не знаете, кто нашел задушенную женщину?
— Ну вот, сначала инспектор в опереточном доломане. Потом смуглолицый хромой. Теперь вы. Все его ищут. Жаль, что он смылся!
Виктор вздрогнул: слово «доломан» вызвало в памяти образ его вечного конкурента — инспектора Лекашера. «Значит, он уже вышел на охоту!»
— Простите, не улавливаю. Мсье Гамаш отсутствует? — спросил он человека в униформе.
— Гамаш — это я.
— Ах вот как! Значит, это вы охраняете таможню и, насколько мне известно, отлично справляетесь со своими обязанностями!
Альфред Гамаш колебался. Этот штатский держится по-свойски, но вдруг он — птица высокого полета, кто знает? Разве легко представить, как выглядят живущие на Олимпе боги! В таком случае глупо покрывать болвана Лорсона и рисковать своим местом.
— Я только констатировал смерть, а о том, другом — свидетеле преступления — никому ничего не сказал: он наивный простак, и я не хочу его подставлять. Бедняга Лорсон напуган до полусмерти.
— Лорсон?
— Мартен Лорсон. Он жил тут неподалеку, теперь ночует на бойнях. А днем шастает по городу! Думаю, он сейчас у своих дружков.
— Кто они?
— Бертье, Норпуа и Коллен. А может, добрался до Жакмена, тот работает на улице Фландр, на фабрике Эрара, где делают пианино. Эй, а зачем вы все записываете? Кто вы такой?
— Виктор Легри, к вашим услугам. Моя жена работает в газете «Пасс-парту», иллюстрирует для первой полосы политические и криминальные события. Она художница и сейчас готовится к выставке, вот и поручила мне собрать информацию.
— Так она художница! — воскликнул Альфред Гамаш: у него камень с души упал, и он даже прислонил штык к пилястру ротонды. — У меня тоже есть друг-художник. Вообще-то, на самом деле он сборщик налогов в таможне у заставы Ванв и малюет только на досуге. Я от его картинок не в восторге. У него есть «Артиллеристы», «Карманьола» и что-то там еще, но все здорово смахивает на пачкотню рекламщика, вроде этого: «Вы кашляете? — Пастилки „Жеродель“!» или «Консоме Жюлиуса Магги».
— Правда? Как интересно… — промычал Виктор, который уже выяснил все что хотел, и ему не терпелось уйти.
— Ну да. Мы с моей половиной ходим на все его выставки. В прошлом году были в Салоне независимых. Вот это был настоящий цирк! Знаете Анри Руссо? Его еще называют Таможенник Руссо?
[401] С цветом и пропорциями у него явно не все в порядке!
— Моя супруга знакома с его работами. Что ж, благодарю вас за информацию, мне…
— Постойте, мсье! Прошу вас, не выдавайте журналистам Лорсона, вам ведь все равно, а он, бедняга, может совсем рехнуться от страха!
— Не бойтесь, если он расскажет мне свою историю, я подпишу ее «Аноним». А моя жена проиллюстрирует статью… импрессионистической композицией!
Альфред Гамаш вернулся на свой пост. Он был очень доволен собой: ему удалось усыпить бдительность важной шишки и поучаствовать в создании произведения искусства.
С серого неба сыпал мокрый снег, который таял, не успевая долететь до мостовой. Виктор осторожно шел по улице Фландр, боясь поскользнуться, и хвалил себя за то, что не взял велосипед. Утро было сумрачным, прохожие прятали носы в кашне и шарфы. По мокрой мостовой медленно ехали телеги с грузом, заляпанным грязью из-под колес омнибусов и фиакров, которые, впрочем, редко попадались в этом рабочем квартале. Все вокруг склоняло к меланхолии, но Виктора уже охватил знакомый азарт расследования.
На подходе к бойням, на первом этаже каждого дома, были кабачок или кафешка: «У адмирала», «У золотого тельца», «У белого барашка», «У серебряного барана». Возле карусели с уродливыми коровами и петухами из папье-маше играла шарманка, грохотали вагончики круговой железной дороги.
Виктор шел вдоль огромной площади. От столба с часами брали начало пять широких аллей. Он был в замешательстве. Что выбрать? Проспект свинарников? Северную, Центральную, Южную или Подъездную аллею? Окунуться в адское смешение криков, стонов, мычания, рева, щелкающих бичей? Какие ненасытные демоны правят этой геенной? — Люди, обычные люди, работники бойни в сабо, окровавленных фартуках, с деревянными кувалдами и тесаками.
Он миновал камеры для убоя и разделки скота: на каждой был номер, как на доме или квартире. Мясники подвешивали освежеванные туши на стальные крюки, и начинался кровавый балет, как на кухне людоеда.
Виктор опустил глаза, задержал дыхание и двинулся вперед. Его толкали, бранились ему вслед, но он шел и шел, стараясь не смотреть на горы мяса и потрохов. Он выдохнул только на пороге зала с низким потолком. То, что происходило внутри, потрясло и ужаснуло его. Пятеро крепких парней с засученными рукавами суетились вокруг длинного стола, и их руки — какой кошмар! — были по локоть в крови. Виктора затошнило, он отвернулся и тут же об этом пожалел. С деревянного подноса на него смотрели бараньи головы. Ужас в мертвых глазах теперь долго будет преследовать его по ночам. Он попятился, не в силах отвести взгляд от отрубленных голов, поскользнулся и едва не упал на землю рядом с потрошильщиками, извлекавшими из голов языки и мозги. Казалось, Виктор на машине времени переместился во времена Инквизиции, в камеру пыток, где мучили ни в чем не повинных жертв. Прошла минута, прежде чем он с грехом пополам собрался с мыслями и произнес бесцветным голосом:
— Норпуа, Коллен, Бертье?
— В требушином цехе! — гаркнул один из рабочих.
Виктор развернулся и пошел прочь. Ему хотелось как можно скорее забыть увиденное.
В первом цеху работницы сортировали рога и копыта, которые превратятся в расчески или пуговицы. Щетина из бычьих хвостов пойдет на подушки и султаны военных касок. Из ушной щетины изготовят тонкие кисточки.
Виктор вдруг подумал, что человечество строит свое благополучие, каждый день уничтожая миллионы живых существ. Ни одному историку не пришло в голову посчитать эти жертвы. Цивилизация покоится на Гималаях страдания и страха.
Он бы все отдал за то, чтобы оказаться подальше от этого места, но не сдался, не отступил.
Удача улыбнулась ему в третьем по счету цехе. Человек двадцать рабочих обрабатывали рубец — на будущие тапочки и бинты. Другие колдовали над зародышами овцы, которым суждено было стать хозяйственным мылом.
— Мсье Норпуа! Мсье Бертье! Мсье Коллен! — выкрикнул Виктор.
Один из рабочих указал ему на рыжего гиганта, полоскавшего под краном внутренности.
— Бертье вон там.
— Вы господин Бертье? Я ищу Мартена Лорсона, это очень важно.
Гигант кивнул и повел его во двор, по периметру которого стояли маленькие лачуги.
— Третья слева.
Виктор долго стучал, пока трухлявая дверь наконец не приоткрылась.
— Мсье Лорсон? Мартен Лорсон?
Человек с огромным животом и таким же толстым задом таращился на Виктора из-под линялого шапокляка.
— Я друг мсье Гамаша. Я ищу вас, чтобы вы описали мне ту ужасную сцену, свидетелем которой недавно стали… Тогда я, как детектив, смогу вас защитить.
Мартен Лорсон смотрел недоверчиво и ногой придерживал дверь.
— С чего бы мне вам верить? Покажите значок.
— Я частный сыщик, работаю по найму, мсье Лорсон, и к префектуре не приписан, но вы можете навести справки, вот моя карточка.
— Вы торгуете книгами?
— Да. Вот мой адрес, мсье Лорсон. Прощайте. — Виктор приподнял шляпу.
— Мсье, подождите! Вернитесь! — крикнул Мартен Лорсон.
В хибаре стоял полумрак и сильно воняло навозом. Виктору очень хотелось прикрыть нос платком, но он удержался.
— Гамаш и вправду за вас поручился?
— Говорю вам, он мой друг.
— Назовите его по имени.
— Альфред.
Мгновенный ответ Виктора развеял сомнения Лорсона. Он тяжело вздохнул и спросил, понизив голос:
— А вы не донесете легавым?
— Клянусь, что не донесу.
— Сигаретки не найдется?
— Конечно, найдется.
— Душу продам за несколько затяжек. — Мартен Лорсон протянул руку, но тут же спохватился. — Простите мне дурные манеры, я остался без денег, потерял работу и последние четыре дня побираюсь. Можно?
— Берите всю пачку.
— Простите за любопытство, мсье… Легри, но почему вас заботит моя безопасность?
— Вы, возможно, удивитесь, но я не только держу книжный магазин, но и пишу романы, поэтому меня интересуют преступления. Я их расследую — для себя, и платы, конечно, никогда не беру.
— Премного вам благодарен, — сказал Мартен Лорсон.
— А теперь позвольте мне задать вопрос.
— Слушаю вас.
— Что именно вы видели?
Мартен Лорсон закурил вторую сигарету.
— Я должен облегчить душу. Расскажу, как запомнил. Это не значит, что все произошло именно так — я много выпил и было темно…
Он описал женщину в маске, рассказал, как появился тип в мягкой шляпе, задушил ее, потом сбежал и почему-то вдруг вернулся. Мартен запинался, глотал половину слов, а в самом конце рассказа полез в карман мятого сюртука и достал серебряную цепочку с медальоном, на котором был покрытый эмалью стоящий на задних ногах единорог.
— Я подобрал это рядом с телом. Заберите его, он жжет мне руку. Этот талисман приносит несчастье, — шепотом сообщил он.
— Почему вы так считаете?
— С тех пор, как я его нашел, мне не везет.
Медленно, сгорая от желания стать единоличным владельцем материальной улики, Виктор сунул украшение в карман.
— Вы останетесь здесь?
— А вам что до того? — к Мартену Лорсону вернулась подозрительность.
— Вы можете мне еще понадобиться, ведь расследование только началось.
— Я сам с вами сам свяжусь.
— Я побеспокою вас только в крайнем случае, — настаивал Виктор. — Возможно, это вам пригодится… — и он протянул Мартену пять франков.
Тот поколебался мгновение, потом все-таки взял деньги, но тут же застыдился и решил вернуть монету.
— Нет-нет, оставьте себе, — сказал ему Виктор.
— Спасибо. Чертова жизнь… Знаете, мсье, я не всегда был таким…
— Догадываюсь. Прощайте.
— Совместители и бабы — вот погибель министерств! — проорал Лорсон в спину Виктору.
На выходе тот натолкнулся на толпу людей и остановился, не веря своим глазам: мужчины стояли отдельно от женщин, и все по очереди пили что-то красное и жидкое, принимая кружку из рук мясника.
Виктора прошиб холодный пот. Это было уже выше его сил.
— Встаньте в очередь! — приказал ему полицейский.
Он отрицательно покачал головой. Чувство реальности ускользало от него. Он прислонился к решетке и закрыл глаза. До него доходили слухи об этом обычае: считалось, что теплая свежая кровь исцеляет от астении и туберкулеза.
Дрожа всем телом, задыхаясь от запаха крови, он прошел через морозильный цех и оказался на берегу канала Урк. Бродячий пес равнодушно взглянул на него и вернулся к изучению помойного бака. Снег перестал.
Кэндзи ничем не выдал своего раздражения, когда его компаньон уже в который раз явился в лавку только к полудню. Он сел за стол и принялся невозмутимо редактировать весенний каталог. Но, внешне спокойный, кипел от гнева. «Никакого чувства долга! Меня воспринимают как предмет мебели! Все меня бросили!»
Айрис, его драгоценная девочка, центр его вселенной, совсем отдалилась: увлеклась Жозефом, этим самовлюбленным приказчиком, и вышла за него замуж. Тот после свадьбы стал просто невыносимо дерзок. А вскоре покой в доме будет нарушен воплями и капризами младенца. Эфросинья Пиньо — просто деспот. Виктор выполняет свои обязанности спустя рукава. Воистину, стареть — все равно что пить слишком горький чай. Или дело в том, что он слишком долго один? Кэндзи ощущал некую интеллектуальную расслабленность: груз прожитых лет гасил эмоции, но ему все еще хотелось заглянуть «за горизонт».
Внутренний голос нашептывал ему: «Живи своей жизнью! Ничто не мешает тебе снять квартиру в городе». Кэндзи разрывался между привязанностью к семье и жаждой независимости и не мог решиться покинуть дом номер 18 на улице Сен-Пер и книжный магазин «Эльзевир», которому отдал многие годы упорного труда.
Идея бегства пришла ему в голову накануне Нового года, когда он получил письмо от соблазнительной Эдокси Аллар, бывшей Фифи Ба-Рен, а ныне княгини Максимовой. Она уверяла, что не забыла о Кэндзи в ледяном Санкт-Петербурге и вскоре вернется в Париж. Впрочем, Эдокси больше не занимала мыслей Кэндзи, он мечтал о матери Таша Джине Херсон, воображая, как она переступит порог гарсоньерки,
[402] которую он пока еще не решился снять.
«Но под каким предлогом заманить ее к себе? Как соблазнить умную, образованную и благочестивую женщину, уже немолодую, но выглядящую так молодо? Женщину, которая примет меня таким, каков я есть?»
Для начала он попросит ее совета насчет совершенно безобидных вещей — как отделать квартиру, какого цвета занавески выбрать. Потом откроет ей парочку секретов и заставит смеяться…
Кэндзи нравилось сочинять прелюдию к любовным отношениям, обещавшим наслаждения, сильные чувства и надежды на будущее.
Скудная дневная трапеза заставила его принять решение. Виктор остался завтракать, и раздраженная Эфросинья, которая терпеть не могла подобные сюрпризы, объявила, что урежет порции, потому что готовила на четверых, а не на пятерых. Достойная матрона подала салат из стеблей сельдерея и бобы под соусом бешамель. Овощное меню вполне подходило Айрис, но не могло утолить голод мужчин. Не желая навлечь гнев Эфросиньи, которая отказывалась присесть, пока они не опустошат тарелки, Виктор, Жозеф и Кэндзи отдали дань ее стряпне и надеялись насладиться апельсиновым бланманже, но тут Айрис перестала жевать, незаметно вытащила пальчиком изо рта какой-то кусочек и принялась его разглядывать.
— Кажется… Кажется, это сало!
Эфросинья взревела, как разъяренный бык:
— Скажите еще, что я вас травлю! О Боже, Боже, какой тяжкий крест я несу!
Айрис ждала, что Кэндзи и Жозеф ее поддержат, но они предпочли хранить нейтралитет, хотя тоже опознали среди зелени ароматные шкварки.
— И эти люди считают себя мужчинами! — возмутилась Айрис. — Ни на кого нельзя положиться!
Она вскочила из-за стола, убежала и закрылась у себя в комнате. Жозеф сказал матери:
— Зачем ты это делаешь, знаешь ведь, что Айрис не ест мяса!
— Это не мясо, а жир! А она худая, как щепка! Я должна помочь несчастному малышу!
— Если бы любители мяса хоть раз сходили на бойни, они бы навсегда избавились от пристрастия к сочным бифштексам. На их счастье, они не любопытны! — вмешался Виктор.
— Вот, значит, как? Иисус, Мария, Иосиф и святые угодники! — воскликнула Эфросинья. — Ладно, вот вам мой фартук, готовьте сами! — И вышла, хлопнув дверью.
Побелевший от гнева Кэндзи аккуратно сложил салфетку.
— Поздравляю вас, Виктор, это было очень умно, — проворчал он. — Я ухожу. Вернусь поздно.
— Я спущусь в магазин, — сообщил Виктор.
Несколько минут Жозеф вслушивался в шумные рыдания Айрис и проклятья матери, потом бесшумно приоткрыл дверцу буфета, где томились ростбиф и несколько холодных картофелин. С наслаждением жуя мясо, он обдумывал вторую главу своего романа «Букет дьявола», в которой гнусный подлец Зандини должен был убить несчастную Кармеллу. Только творчество поможет ему пережить сложные перипетии бытия.
Вторая половина дня обошлась без конфликтов. Эфросинья, как королева, чье величие оскорбили недостойные подданные, удалилась к себе на улицу Висконти. Айрис оставалась в своей комнате.
Виктор обдумывал версии убийства Луизы Фонтан, поигрывая талисманом с единорогом, когда в лавку буквально ворвался букинист с набережной Малакэ Орас Тансон, он же Здоровяк, он же Малый Формат.
— Легри, я принес вам петицию против распространения велосипедов. Это транспортное средство губит книготорговлю! У любителей езды на велосипедах просто не остается времени на то, чтобы насладиться печатным словом! Надеюсь, вы согласны и подпишете!
— Конечно, подпишу и скреплю печатью.
Удовлетворенный ответом Орас Тансон оседлал стул и принялся излагать душераздирающую историю о судьбе рукописи «Племянника Рамо», которую Жорж Монваль тремя годами раньше купил у одного из коллег.
[403] Жозеф за это время дважды поговорил по телефону с графиней де Салиньяк и пообещал ей заказать книгу доктора Лесгафта, которую та собиралась подарить своей племяннице Валентине.
— Да, госпожа графиня, «О воспитании ребенка в семье и его значении», нет, я не забыл. Да, все записано. До свидания, госпожа графиня.
Он повесил трубку, пробормотав себе под нос, что «бабища», похоже, впадает в детство. Виктор в ответ лишь молча поднял бровь, не решаясь прервать излияния Ораса Тансона.
Жозеф услышал шаги над головой и решил закрыть магазин, обуреваемый страстным желанием воссоединиться с супругой. Он ставил на окно первый ставень, когда появился Кэндзи.
— Уже закрываетесь? Не рановато ли?
— Осталось всего пять минут…
— Ну что же, продолжайте. — Кэндзи кивнул и насвистывая прошел в заднее помещение.
Раздался грохот.
— Виктор, сколько раз я просил вас не оставлять велосипед в лавке!
Виктор смущенно кашлянул, Тансон на мгновение онемел, потом вскочил и смерил собеседника презрительным взглядом.
— Предатель! — гаркнул он и величественно удалился, провожаемый насмешливым взглядом Кэндзи.
— Кажется, я совершил промах, — с иронией в голосе заметил тот.
— Вы сделали это намеренно.
— Конечно, намеренно, только так можно было избавить вас от этого сутяги. Он таскается со своей петицией по всем книжным лавкам, и я уже имел честь подписать ее. Держу пари, он пересказал вам сагу о «Племяннике Рамо».
— У вас, кажется, прекрасное настроение, — сказал Виктор, глядя на седеющего приемного отца.
— Именно так. Утром я пребывал в черной меланхолии, но к вечеру моя душа как по волшебству исполнилась радости. Я и сам не понимаю причин столь внезапной перемены.
Кэндзи беззастенчиво лгал, не чувствуя при этом ни малейших угрызений совести. Он прекрасно знал причину — ее звали вдова Дюверже и она была хозяйкой трехкомнатной квартиры в доме номер 6 по улице Эшель. Он начал переговоры и рассчитывал назавтра получить согласие.
«Он стареет, — думал Виктор. — Изображает веселость, но меня ему не провести, слишком давно мы знаем друг друга… У него душа и глаза мальчишки, но за ним нужен глаз да глаз…»
Виктор откашлялся, пытаясь справиться с волнением, и впервые в жизни осмелился положить приемному отцу руку на плечо. Кэндзи вздрогнул, растроганный этим жестом, и со странным удовольствием оглядел сына покойной Дафнэ Легри, которую когда-то так сильно любил. Он ухаживал за мальчиком, когда тот болел, заразил его любовью к литературе, научил бороться со страхами и наваждениями, привил вкус ко всему таинственному…
— Скажите мне, о сосуд знаний, — легкомысленным тоном спросил Виктор и незаметно убрал руку, — какая символика связана с единорогом?
Боровшийся с последним ставнем Жозеф замер и весь обратился в слух. Кэндзи поднял голову, легкая усмешка тронула уголки его губ, и он перевел взгляд с Виктора на Жозефа и обратно.
— Вы мне льстите, — произнес он, — но кое-какие идеи у меня есть. Единорог… Единорог… Некоторые утверждают, что это всего лишь носорог или благородный нарвал. Я видел его изображение… кажется, в иллюстрированной Библии… Да, именно так! В Библии Петрюса Коместора.
[404] Редкое издание, настоящая жемчужина, изданная в 1499 году.
— Ну, и?
— Коместор называет его Однорогом. Он изображен рядом с Адамом и Евой под древом познания. Есть изображения единорога и на гобеленах в музее Клюни.
[405]
— И это все?
— Кажется, алхимики связывали это мифическое животное с серой и ртутью. Я удовлетворил ваше любопытство? На сем прощаюсь, спокойной ночи, я очень устал — старый приятель недавно вернулся из Японии, он демонстрировал мне новую технику боя.
— Но вы уже не в том возрасте, чтобы…
— Да вы шутите! — бросил Кэндзи, направляясь к лестнице. — Я юн — душой и телом!
Жозеф ждал ухода шурина, чтобы закрыть магазин, но когда Виктор выкатил велосипед на порог, заступил ему дорогу:
— Патр… Мсье Легри, я слышал ваш разговор. В Париже есть два места, где вы можете добыть нужные вам сведения: книжный магазин Шамюэля на улице Тревиз, он называется «Либрери дю Мервейё», и магазин «Независимое искусство» на Шоссе-д’Антенн.
— Спасибо, Жозеф, подождите минутку.
Виктор дал Жозефу подержать велосипед, опустошил содержимое карманов, нашел блокнот и записал в нем адреса.
— Но почему вас вдруг заинтересовал этот рогатый зверь? — не удержался от вопроса Жозеф.
— Так, нипочему, просто странный сон приснился… Прощайте, Жозеф, до завтра.
— Вы только посмотрите, как улепетывает! Ему сильно повезет, если он не свалится со своего драндулета и не сломает челюсть. Он что-то от меня скрывает, руку даю на отсечение, — буркнул Жозеф, подходя к прилавку.
Виктор забыл у телефона ручку и сложенный вчетверо листок. Жозеф был заинтригован: листок оказался страницей из «Энтрансижан». «Надо же, что он теперь читает! Посмотрим?» Одна из заметок в разделе «Происшествия» была отчеркнута красным.
— Черт возьми! — воскликнул Жозеф.
Сегодня утром, на рассвете, два сержанта, совершавшие обход в Ла Виллетт, обнаружили бездыханное тело элегантно одетой молодой женщины лет двадцати пяти, рядом с ней лежала черная бархатная маска. Женщина была задушена на площадке перед ротондой, недалеко от канала. Личность убитой не установлена. Во второй половине дня комиссар допросил Альфреда Гамаша, охранника таможенного склада, который заявил, что ничего не видел. Тело доставили в морг.
На полях заметки рукой Виктора были записаны имена:
Морис Ломье. Мирей Лестокар. Луиза Фонтан, ее кузина, блондинка, перекрасившаяся в брюнетку. Альфред Гамаш. МартенЛорсон — на бойнях или на фабрике пианино Эрара.
«Готов поспорить на что угодно — этот Тартюф начал новое расследование! На сей раз мы будем сотрудничать с самого начала, я заставлю его — не мытьем, так катаньем! Больше на подножку уходящего поезда я впрыгивать не намерен!»
Жозеф взглянул на дату: суббота, 10 февраля 1894 года. След совсем свежий!
Развеселившись, он поднялся по лестнице и вошел в кухню. За столом сидели Айрис и Кэндзи и с аппетитом поглощали салат из одуванчиков. Жозеф целомудренно поцеловал жену в лоб.
— Ложись, малышка, я вымою посуду и присоединюсь к тебе.
После ухода Айрис он и Кэндзи отодвинули в сторону салат и воздали должное заливному из белого мяса.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Пятница 16 февраля
Виктор припарковал велосипед у книжного магазина в тот самый момент, когда Жозеф отпирал дверь.
— Вижу, вы спешили как на пожар. Не стоило. Я должен тут еще подмести и вытереть пыль. Обычно этим занимается мама, но после вчерашней «сцены у фонтана» она осталась в своей квартире на Висконти. Некоторым везет — могут уединиться, когда пожелают.
— Вам тоже никто не мешает оставаться дома! — бросил Виктор. Он поставил велосипед в кладовку и теперь что-то искал на полках и столах.
— Спасибо за совет, сам бы я ни за что не догадался. Вы что-то потеряли?
— Одну бумажку. Должно быть, выронил, когда записывал адреса книжных магазинов.
— Это, случайно, не страница «Энтрансижан»? Она лежит под Четвертым томом «Истории Франции» Анкетиля.
[406]
— Как, черт возьми… Это вы…
— Да. И, к вашему сведению, я ее прочел. Итак, дорогой шурин, наслаждаемся описанием гнусных преступлений? Или… — Жозеф сделал многозначительную паузу, делая вид, что сосредоточился на изучении своей метелки, — или вы уже ведете расследование, а меня решили в игру не брать?!
— Откуда такие мысли?
— Я не вчера родился! Вы записали на полях имена…
— Имена друзей, которым я собираюсь нанести визит.
— Морис Ломье — ваш друг? Да неужели? Вы мне…
Жозеф не договорил — раздался звонок телефона.
— Это меня! — крикнул со второго этажа Кэндзи.
Он прямо в халате сбежал по ступеням вниз, схватил трубку и тут же заулыбался.
— Замечательно, дорогая, до вечера, — сказал он, повесил трубку и насвистывая пошел наверх, не замечая иронических ухмылок Жозефа и Виктора. На середине лестницы он остановился и сообщил нарочито безразличным тоном:
— Я снял в городе кабинет, чтобы при необходимости иметь возможность поработать в тишине и покое. Ничего особенного, маленькая комнатушка, спартанские условия — стол, стул и койка. Само собой разумеется, когда я буду там работать, одному из вас придется заменять меня здесь. — И Кэндзи легкой походкой проплыл в туалетную комнату, пробормотав себе под нос старинную японскую пословицу: «Самый плохой чай сладок, если заварен из свежих листочков».
Жозеф и Виктор были так ошеломлены, что отреагировали не сразу, а потом Виктор расхохотался.
— Чертов Кэндзи! «Замечательно, дорогая, до вечера»! Должно быть, снова объявилась его танцовщица.
— Кабинет, как же! Не кабинет, а гарсоньерка с двухспальной кроватью и всем прочим!
— Нашему другу, Жожо, пришла в голову та же идея, что и вам, но он вас опередил.
— Не называйте его больше уменьшительной кличкой, это непочтительно, — произнес недовольный голос.
Мужчины расступились, пропуская Эфросинью. Облаченная в кроличье манто и шляпу с перьями, достойная матрона напоминала могиканина, вышедшего на тропу войны. В обеих руках у нее было по тяжелой кошелке с капустой, тыквами разной формы и топинамбуром.
— Как раз наоборот, мадам Пиньо, — не согласился Виктор, — такое обращение говорит, что ваш сын — член нашей семьи. И вы тоже, — поспешно добавил он. — Вы сегодня на редкость элегантны.
— Гм… Не пытайтесь меня умаслить. Я притащила в этот дом столько овощей, что вы можете переименовать свою книжную лавку в зеленную! Посторонитесь!
Появился одетый с иголочки, благоухающий лавандовой водой Кэндзи.
— Даже монахи нуждаются в независимости, — пробормотал он, устраиваясь за столом.
— Не всяк монах, на ком клобук, — тихо парировал Жозеф и продолжил, повысив голос: — Мсье Мори, мсье Легри хочет послать меня оценить библиотеку в Вожирар, что очень некстати — у меня много работы, а это займет три или даже четыре часа. Будьте так добры, предупредите Айрис.
Кэндзи кивнул.
— Отправляйтесь. Слава богу, клиентов сейчас немного. Но не задерживайтесь, я должен буду уйти.
Жозеф надел клетчатый пиджак и кепи.
— Идемте, Виктор, это на другом конце города!
Виктор чертыхнулся, но подчинился.
— Вы совсем обезумели! — возмущенно воскликнул он, когда они вышли на улицу.
— Вовсе нет! Вы взяли след, и я тоже хочу участвовать в охоте. Пойдем, я сегодня добрый, угощу вас чашкой кофе в «Потерянном времени», и вы введете меня в курс дела. И помните, вы — будущий дядюшка моего ребенка.
Виктор бросил на него незаметный взгляд. Жозеф взрослеет, с ним придется считаться как с равным. Он предпринял последнюю попытку:
— Айрис Пиньо вряд ли понравится…
— Как и вашей супруге Таша Легри. Но мы вовсе не обязаны ставить их в известность. Поклянемся молчать, как доблестные рыцари, чтоб мне провалиться на этом месте.
Виктор сообщил Жозефу всю имевшуюся у него информацию, и они решили отправиться на улицу Абукир — до нее с улицы Сен-Пер было ближе, чем до улицы Шофурнье.
Фиакр высадил их на площади Побед с конной статуей Людовика XIV. Многочисленные вывески с крупными золотыми буквами портили величественный вид фасадов с аркадами, увенчанными ионическими пилястрами. На углу улицы Этьен-Марсель Виктор брезгливо отвернулся от двух новых зданий, выстроенных по соседству со старинным домом. Париж XIX века незаметно проникал в историческую часть города, и можно было не сомневаться, что со временем бесценный декор, столь дорогой сердцу иллюстратора Альбера Робида, исчезнет без следа, а его место займет шумный муравейник без души и сердца.
Они свернули к улице Абукир, где соседствовали магазины, торгующие дорогими тканями, шелками, кружевом и тюлем, и скромные пошивочные ателье. Между фабрикой искусственных цветов и лавкой модистки стоял шестиэтажный дом под номером 68. Виктор и Жозеф вошли в располагавшийся на первом этаже магазин.
Освещение было тусклым, в темную глубину зала уходила вереница столов с нагроможденными на них стопками одежды, стены были обтянуты серой тканью. Комиссионеры, поглаживая рулоны ткани, вели переговоры с приказчиками.
Виктор представился хозяину, забавному толстяку с родимыми пятнами на щеках.
— Мы с моим другом пишем книгу о моде и сочли нужным поинтересоваться ценами. Нас удивило, что изделия из прочного на вид драпа стоят так дешево: брюки — два с половиной франка, костюмы — девять. Как производителям удается держать такие цены?
Польщенный хозяин пригласил гостей на экскурсию по магазину.
— Все пять этажей забиты товаром, мы уже боимся, что тюки начнут падать нам на головы. В этом главное неудобство парижских помещений. Приходится двигаться вверх, а не вширь.
Они прошли по коридорам, поднялись по лестницам, то и дело уступая дорогу приказчикам, перетаскивающим с места на место тяжелые рулоны и отрезы, и попали в мастерские. Тут обстановка напоминала улей. Одни швеи строчили, другие занимались отделкой, третьи обметывали петли, четвертые трудились исключительно над фальцовкой.
— Эти женщины заняты монотоннейшим трудом, — высказал свое мнение Виктор. — И сколько же они получают?
— Три франка в день, и это совсем неплохо по нынешним временам. Нужно просто правильно распределять бюджет.
— И экономить на еде, нарядах и развлечениях, — прошептал стоявший поодаль Жозеф.
— Сколько часов длится их рабочий день? — спросил Виктор.
— Четырнадцать. И виноваты в этом не производители и не оптовики, а клиентура больших магазинов. Мы вынуждены все время понижать цены, что сказывается на жалованье служащих. К тому же лето — мертвый сезон.
Прозвучал звонок на обеденный перерыв. Девушки разошлись кто куда. Виктор и Жозеф откланялись и проследовали за стайкой юных мастериц до дома под номером 60, где располагалась дешевая столовая, открытая прихожанками протестантской церкви. За девяносто сантимов здесь подавали мясное блюдо, овощи и десерт плюс вино, пиво или молоко. Большинство девушек — швеи, закройщицы, портнихи, брючные мастерицы и жилетницы — довольствовались супом за пятнадцать сантимов и рагу за тридцать.
Жозеф приметил банкетку, на которой сидели рыжая веснушчатая болтушка и жеманная девица, которая то и дело смотрелась в висевшее на стене зеркало И поправляла свои светлые букольки. Он увлек за собой Виктора, и они устроились на свободных стульях напротив.
— Вы позволите, мадемуазель?
Рыжая хихикнула, а блондинка воскликнула:
— До чего галантные господа!
— Мы будем рады угостить вас, если вы, конечно, не против, — вступил в разговор Виктор.
Девушки молча переглянулись.
— Что тут такого, Петронилла? — визгливым голосом произнесла рыжая.
— Петронилла… Прелестное имя!
— Я — Жозеф, а он — Виктор.
— А я — Флорина. Гарсон, четыре комплексных обеда, хлеба и вина! Что на десерт?
— Воздушные пирожные с кремом! — гаркнул пробегавший мимо официант.
— Мы выпьем кофе. Согласны, господа?
— Конечно, — кивнул Жозеф. — Мы друзья Луизы Фонтан, вы ее знаете?
— Лулу? Она три недели как уволилась. Заявила, что с рабством покончено, что она сыта по горло и больше не будет обметывать подкладку и портить себе зрение. Я бы тоже хотела так поступить.
— Наверняка заарканила какого-нибудь богатея! — безапелляционным тоном объявила Флорина и принялась за салат из помидоров с петрушкой.
— Лулу повезло больше. Ее наняла подруга детства, та приехала из Америки и дала ей непыльную работенку — за хорошие деньги. Не бог весть что, конечно, зато прощай, проклейка! Чудесный салат, обожаю помидоры!
Виктор спросил:
— А как зовут эту подругу?
— Понятия не имею. Лулу послала куда подальше Лионеля — это наш мастер, мерзкий старикашка с шаловливыми ручонками. Да уж, она не упустила счастливый случай! Вот бы мне так повезло…
— А где она живет?
— Подруга из Америки? Ты не знаешь, Флорина?
Та покачала головой.
— Она мне не сказала.
— А Лулу где живет?
Виктор хотел пнуть Жозефа ногой под столом — Ломье уже дал ему адрес девушки, но наткнулся на туфельку Флорины, и она фыркнула.
— А говорили, что ее знакомые. Вы, часом, не сутенеры? Пытаетесь нас облапошить?
В этот момент гарсон принес вареную свинину с чечевицей, и девушка смягчилась. Жозеф поспешил ее успокоить.
— Я молочный брат Лулу, мы вместе росли в Шаранте.
— А она говорила, что в детстве жила в квартале Фландр, — бросила Петронилла, с вожделением косившаяся на тарелку Виктора.
— Позже, после того как ее мать переехала в Париж, — подтвердил Жозеф.
— Невкусно, мсье Виктор?
— Просто нет аппетита. Если хотите…
Петронилла не заставила себя уговаривать. Ее аппетит говорил о полной лишений и вечно голодной жизни.
Обольстительная улыбка Жозефа и щедрость Виктора прогнали последние сомнения рыжеволосой швеи.
— Лулу живет на улице Шофурнье, 8, в меблирашках. Я была там всего раз и больше не пойду ни за какие коврижки! Видели бы вы, какая там грязь! А соседи…
Виктор понял, что вытянул из девушек все что возможно, и встал из-за стола.
— Нам пора, Жозеф.
— Как, уже? — воскликнула Флорина. — А десерт? А кофе?
— Я заплачу по счету и попрошу, чтобы вам принесли наши порции.
— Ну же, останьтесь, нам с вами весело, вы такие приличные господа! — Флорина мяла в руках салфетку, взволнованная знаком, который Виктор, как она решила, подал ей под столом.
Жозеф догнал Виктора у кассы.
— Приходите завтра! — крикнула им вслед Петронилла.
Мужчины вышли из столовой и остановились на тротуаре. Секретарши, модисточки, телефонистки возвращались на свои рабочие места. Виктор принял решение, как действовать дальше.
— Езжайте в магазин, Жозеф, а я отправлюсь к Лулу и присоединюсь к вам позже.
— А почему не наоборот?
— Таша проведет весь день в «Ревю бланш». А вас ждет Айрис, — объяснил Виктор и огляделся в поисках фиакра.
Улица Шофурнье примыкала к улице Боливар и поднималась к заросшим кустарником контрфорсам холмов Шомон, где и заканчивалась подковообразным тупиком. В сточной канаве плескалась грязная жирная вода, в воздухе стояли резкие запахи — кислые и сладковатые винные пары отравляли атмосферу. Здесь навеки поселились скорбь и отчаяние. Мальчишки залезали в поломанные коляски, разгонялись, на полном ходу неслись мимо облезлых фасадов и тормозили у кабачка мистера Смита, а потом поднимались обратно пешком, таща свой транспорт на вытянутых руках.
Появление фиакра привлекло внимание завсегдатаев бара. Любопытные потянулись к ветхому зданию, где располагалась лавка ростовщика, — местные проститутки закладывали здесь за два су всякий хлам. Булочник, прачка, торговец железным ломом, их детишки и соседи окружили Виктора.
У дома номер 8, меблированного пансиона, сулившего постояльцам все современные удобства, крепкая тетка со щетинистым подбородком сообщила Виктору нужные сведения.
— Лулу? Она внесла плату три недели назад. Эта девушка не из тех, что сбегают тайком. Я не пускаю одиноких, но о ней ничего дурного не скажу. Ей покровительствовал отец Бонифас, так что волноваться было не о чем!
— Где она теперь поселилась?
— Она не сказала, а я с расспросами не лезла.
— А отец Бонифас может знать адрес?
— Наверное, ведь он ей помогал. Раньше Лулу жила в общежитии для швей у сестер-благотворительниц, на улице Мобёж. Ей надоело спать в дортуаре, она мечтала снять дешевую комнатку, франков за десять в месяц, вот и обратилась к отцу Бонифасу. Он защищает бедняков, помогает им, чем может.
— Где мне его найти?
— Плевое дело. Пойдете по улице Аслен,
[407] только поторопитесь, это опасное местечко, попадете на улицу Бюрнуф, а там идите в диспансер рядом с бульваром Ла Виллетт.
Виктор углубился в грязный, узкий, не больше метра в ширину, проход. Справа был палисадник со сгнившим заборчиком, слева — мрачные лачуги без окон и дверей с грудами мусора вокруг.
На пересечении улиц Аслен и Монжоль «Отель дю Бель Эр» предлагал комнаты любителям женской ласки, пожелавшим воспользоваться услугами местных Венер.
Над лестницей Аслен стояли два здания примерно одинакового вида — «Отель де Бухарест» и «56 ступеней», нависавших над земляной площадкой. Какой-то безумец нагромоздил тут кучу лачуг, грязных и трухлявых домов, вряд ли спасавших своих обитателей от ветров и непогоды. Тупики и немощеные улочки захлебывались в грязи и нечистотах. В этой клоаке в ужасной тесноте жили бледные дети, голодные псы, публичные девки, сутенеры, безработные, старики, старухи и клошары.
Виктор прошел мимо выводка проституток: все они — тучные, с дряблыми телами, и худые, как сама смерть, — были в пеньюарах, не скрывавших их сомнительные прелести.
— Привет, красавчик-брюнет, пойдешь со мной? Я в минуту тебя ублажу, увидишь небо в алмазах! Оставайся, за двадцать су и полштофа получишь все, что захочешь!
Виктор повернул обратно. Вслед ему раздавались сальные шуточки, но он не реагировал и уже решил было, что опасность миновала, когда дорогу ему заступил апаш в красном шейном платке и картузе.
— Мне нужен карточный партнер. Решай сам, милорд. Либо играешь со мной, либо уважишь одну из этих дам. Рекомендую выбрать Марго — ее прозвище Депозитная Касса. Хотя резвушка Жижи ничуть не хуже. Товар хорош, так что раскошеливайся!
— Вы очень любезны, но я ни в чем не нуждаюсь, — спокойно отвечал Виктор.
Негодяй замер, перенеся вес тела назад, в ладони блеснуло лезвие ножа, но тут в грудь ему уперся чей-то кулак.
— Спрячь-ка нож, Малыш Луи, и думай, что говоришь. Высланному реклама не нужна. Будь тише воды, ниже травы и пойди сосни часок! А этот нож я заберу.
Эту тираду произнес здоровяк с тонзурой и веселым загорелым лицом. Под белой, знававшей лучшие времена сутаной на нем было латаное-перелатаное пальто, оттопыривавшееся на солидном животе. Он взял Виктора за плечо и отвел в сторонку.
— Послушайтесь доброго совета, мсье, избегайте наших мест: вы слишком хорошо одеты, это вызывает зависть. Здесь живет не только шпана, но временами люди приходят в возбуждение, и тогда случаются прискорбные инциденты.
— Отец Бонифас?
— Верно, друг мой, я — отец Бонифас.
— Спасибо, что вмешались, я… А что такое «высланный»?
— Тот, кому запрещено жить в столице. Малыш Луи далеко не ангел, но сердце у него доброе. В прошлом году он спас лошадь, тонувшую в канале Сен-Мартен. Прыгнул в воду и с помощью веревки вытянул ее на берег. Но потом он пырнул ножом соперника и стал парией.
— Вы дали ему убежище?
— Так велит моя вера. Меня здесь побаиваются, потому что я умею урезонивать упрямцев.
Он показал Виктору огромные кулаки.
— Не беспокойтесь, я редко пускаю их в ход. Предпочитаю лечить себе подобных — в юности я изучал медицину. Что до морали, то ее я оставляю имущим, они любят о ней поговорить, а здесь людям не до нее — они редко когда едят досыта. Мы пришли, вот мои владения, мой диспансер.
Они вошли в чистенькую комнату с побеленными известью стенами. Своей очереди ждали три пациентки. У одной был подбит глаз, другая кормила грудью тщедушного младенца, третья, голубоглазая девочка, укачивала одноногую куклу.
Отец Бонифас вздохнул.
— Года через два этот выросший на навозной куче цветок станет одной из ста тысяч проституток, удовлетворяющих животную страсть мужчин всех сословий.
Священник сделал женщинам знак подождать и провел Виктора в тесную смотровую.
— Здесь я практикую и по мере скромных сил пытаюсь утишать несчастья и боль моих пациентов. Из лекарств у меня мало что есть.
Виктор подошел к застекленному шкафчику. Огуречник, сухая горчица, настойка йода, перекись водорода, банки, вата, бинты, борный спирт и арника составляли арсенал, с помощью которого отец Бонифас боролся с туберкулезом, недоеданием, язвой и прочими недугами бедняков.
— Ну и как прикажете лечить сифилис и принимать преждевременные роды? Я выслушиваю несчастных женщин и делаю, что могу.
— Они могли бы выбрать более почтенную профессию.
— Друг мой, с какой планеты вы свалились? Законы писаны для богачей. Гражданский кодекс запрещает девушке выходить замуж до пятнадцати лет, зато уголовный дозволяет выйти на панель в тринадцать! Женщина из народа впадает в нужду, если ее бросает муж, но развестись с ним не может. А дети — легкая добыча, любой негодяй легко подчинит их своей воле. Когда рождается первенец, муж начинает поколачивать жену, а после рождения второго ребенка уходит из семьи.
— И тогда его место занимает сутенер. Но почему женщина идет на это?
— Ей же надо на что-то жить! Вот вам пример. Одна из моих пациенток добилась предписания суда на содержание для дочери, но у той нет отца, и мать ничего не получит.
— Я не понимаю.
— Фактический отец не есть отец юридический: гражданский кодекс запрещает устанавливать отцовство.
Отец Бонифас пожал плечами, взял флакон арники и вышел в предбанник.
— Итак, Фернанда, ты снова ударилась об дверцу буфета? Хорошенький же у тебя синяк! — Он говорил мягко, его слова звучали успокаивающе.
Фернанда только моргнула в ответ.
— Держи, сестрица, будешь делать примочки три раза в день. Только помни, настойка щиплется, так что покрепче закрывай глаз. Посиди тут, я сейчас вернусь.
Он улыбнулся и едва заметно нахмурился, но, когда вернулся к столу, снова был сама невозмутимость. Виктор знал этот обычай: военный вождь никогда не показывает истинных чувств своим людям и все переживает в одиночку, укрывшись в стенах палатки.
— Вы принадлежите к миссионерскому ордену?
— Когда-то давно я жил в Африке. Работал в больнице. Теперь служу сирым и бедным, пытаюсь облегчить страдания тех, кого отвергло общество, и… Впрочем, историю своей жизни я вам пересказывать не стану! Чем могу быть полезен, мсье…
— Виктор Легри.
— Вы хотите пожертвовать денег на мою деятельность?
— Как раз собирался предложить, — откликнулся Виктор, доставая бумажник.
— Очень великодушно. Думаю, вас привел сюда не только альтруистический порыв?
— Вы правы. Мне назвали ваше имя, когда я наводил справки о кузине одной моей хорошей знакомой, Луизе Фонтан.
— Лулу? Она прелесть. Серьезная, работящая. Я забочусь о ней с тех пор, как ей стукнуло двенадцать лет.
— Три недели назад она…
Скрипнула дверь, и на пороге возникла женщина с ребенком на руках.
— Минутку, Марион.
Отец Бонифас повесил на шею стетоскоп.
— Продолжайте, мсье.
— Лулу переехала.
— Знаю, она меня предупредила. Надеюсь вскоре ее увидеть, она собирает для меня лекарственные травы.
— Больше на нее не рассчитывайте… Лулу задушили у таможни Ла Виллетт.
Несколько секунд отец Бонифас стоял, склонившись над хромированным подносом с пузырьками, а когда повернулся к Виктору, лицо у него было до крайности расстроенное.
— Вы уверены?
— Да. Ее кузина официально опознала тело в морге. Хотя Луиза Фонтан выкрасила волосы в черный цвет.
— Многие мои пациенты умирают, хотя я мог бы их спасти. Большинство из них уходят тихо, просто не хотят больше жить. Но Луиза… Лулу…
Его голос дрожал, в глазах стояли слезы. Виктор удивился такой чувствительности в жестком, больше похожем на грузчика с рынка, чем на священника, человеке.
— Да покоится она с миром, и свет Господень пребудет над ней вечно, — прошептал отец Бонифас и перекрестился. А потом пристально посмотрел на Виктора. — Мсье Легри, мне кажется, вы не были со мной полностью откровенны. Что вам от меня нужно?
— У вас есть адрес последнего места жительства Лулу? — спросил Виктор.
— Нет… Какое несчастье! Она была хорошей девочкой!
В комнате повисла гнетущая тишина. Секунд тридцать отец Бонифас стоял неподвижно и молча смотрел на Виктора.
— Нет, мсье, — твердо повторил он. — Лулу ничего не рассказала мне о своих планах, а я не расспрашивал, хотя, наверное, должен был. Она казалась очень счастливой.
— Сожалею, что принес дурную весть, — тихо произнес Виктор. — Не буду вам больше мешать.
У выхода он столкнулся с Марион. Она схватила его за руку.
— Я слышала ваш разговор. Кое-кто может быть в курсе насчет Лулу. Элиана Борель, она живет на улице Монжоль, все называют ее Моминетта. Вы найдете Элиану у кафе «Под вывеской л’Элизе», сошлетесь на меня.
Виктору очень не хотелось возвращаться на улицу Монжоль.
[408] Это место напоминало ему населенные хищниками джунгли. По небу плыли разноцветные облака, за треснувшими во многих местах стеклами зажигались керосиновые лампы. В воздухе звучала мелодия:
Когда все возрождается для надежды,
И зима уходит далеко-далеко…
[409]
Виктор заметил кабачок на углу и вошел. Головы посетителей повернулись к нему, и он не на шутку испугался, но все тут же вернулись к своим разговорам.
— Да пошла ты, он отказался платить за ночь!
— …Укокошила сенатора в этот самый момент… Аневризма… ее прозвали Жницей.
Здоровяк в вязаной фуфайке угощался у стойки дешевым красным вином.
— Не скажете, где живет Моминетта? — спросил у него Виктор.
Любитель пикета дважды сплюнул и ответил со смешком:
— Мсье знаток! Напротив, на шестом, справа.
Я снова увижу Нормандию!
Этот край дал мне жизнь.
Коридор дома напоминал то ли пещеру, то ли вход в подземелье. Виктору пришла в голову мысль о Дворе чудес из «Собора Парижской Богоматери» Виктора Гюго. Отхожие места были устроены прямо на лестничных клетках и издавали ужасающее зловоние. Виктор задыхался и шагал через две ступени, торопясь добраться до шестого этажа. Наверху вонь оказалась еще сильнее — тут пахло еще и из выставленных к лестнице помойных ведер. На шестом этаже Виктора едва не сбил с ног полуголый, весь покрытый татуировками верзила. Виктор постучал в дверь.
— Входите, свободно.
В первый момент ему показалось, что он ударится головой о низкий потолок. Унылый полумрак зимнего вечера просачивался через окно в грязное помещение, воздух был тяжелым, атмосфера удушающей. Виктор разглядел грубую железную кровать со сбившимся в комок тюфяком, от простыней пахло ландышем, с балок свисали какие-то тряпки, на полу стоял таз. Обнаженная женщина поливала себя из кувшина с выщербленным носиком.
— Располагайся, сейчас закончу мыться и буду вся твоя.
Виктор замер. Близость этой девушки пробуждала давно забытые юношеские эмоции, у него зачастил пульс.
— Я пришел не за пустяками, мне нужно с вами поговорить.
Она была очень молода и, пожалуй, привлекательна, хоть и сильно накрашена.
— Вы только посмотрите на него! Ты ошибся адресом, здесь не исповедальня!
— Я вам заплачу.
— Деньги вперед, — мрачно потребовала она.
Виктор положил на кровать пять франков.
— Меня прислала Марион. Знаете, где обосновалась Луиза Фонтан?
— Лулу? Она верная товарка! Когда меня вышвырнули из мастерской, дала в долг, а на такое мало кто способен. Младенец Иисус вернул ей все сторицей, она теперь живет, как буржуазна, на улице Винегрие, у мадам Герен, сама мне сказала перед тем как уйти. — Она прикусила губу. — Черт, я же обещала хранить секрет… Вы ведь не сделаете ей ничего плохого?
Девушка подошла очень близко к Виктору, он вздрогнул от неожиданности, по телу прошел спазм. Она выглядела такой беззащитной. Он вдохнул ее запах, она прижалась к нему упругой грудью, и ее нежные плечи разбудили в нем желание.
— Я друг.
Девушка вгляделась в лицо Виктора.
— Да, я тебе верю, чувствую, какой ты романтичный. Уверен, что не хочешь меня? Это бесплатно…
Она подталкивала его к кровати. Хрупкая, соблазнительная… Внутренний голос увещевал: «Неужели ты не устоишь? Разве у тебя нет иных желаний, кроме плотских?»
— Я тебе не нравлюсь? — шепнула она.
— Нравитесь. — Он сделал над собой усилие и мягко высвободился. — Но я женат и влюблен в свою жену.
— Ты странный тип, но твоей жене повезло! Ладно, исчезни.
— Тысячу раз спасибо, мадемуазель, желаю вам удачи.
Виктор вышел за дверь, услышал плеск воды и вдруг понял, что вся его одежда пропиталась ароматом ландыша.
«Придется принять ванну».
Он подумал о Таша и почувствовал стыд.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Суббота 17 февраля
В то утро парижское небо было расцвечено оттенками грязно-белого, сизого и мышино-серого. Таша встала очень рано, чтобы отнести гладильщице сверток с бельем и бархатное розовое платье с коричневато-серой отделкой — свадебный подарок Виктора.
Она поднималась по бульвару Клиши, и ее душа полнилась радостью, словно многоцветный радужный пузырь, скрывающий в себе тайну жизни. Но не успела она выйти на улицу Фонтен, как пузырь лопнул и радость сменилась сомнениями. Таша вспомнила визит Ломье и смущенное лицо Виктора. Что они замышляют? Она вдруг представила Виктора раненым, убитым…
Войдя в дом, Таша кинулась в объятия мужа. Виктор едва успел положил бритву.
— Спасите, на меня напала амазонка! — Он вытер мыльную пену со щек мятым платком и поцеловал жену. — Что с тобой, моя красавица?
— Я соскучилась, — шепнула она, подталкивая мужа к кровати.
Ей хотелось сказать Виктору: «Подозреваю, что Морис втянул тебя в какую-то аферу. Ты не признаешься ни за что на свете, но я читаю тебя, как открытую книгу», но вместо этого она обняла мужа, скинула кофту и прижалась к нему. Он страстно поцеловал ее в губы и обхватил ладонями нежные груди. Она коротко вскрикнула и запрокинула голову. Он уложил ее на кровать и принялся раздевать.
Когда их дыхание успокоилось, они не разомкнули объятий. На кровать вспрыгнула Кошка, разлеглась на стеганом одеяле и принялась вылизывать себе живот.
— Пошла вон, наглая толстуха!
— Она проголодалась, — сказала Таша, — и я тоже. А ты?
— Я опоздаю, радость моя.
— Ты уже опоздал.
Она взъерошила ему волосы, вскочила с кровати и побежала на кухню. Дверцы буфета хлопнули, и Таша закричала на кошку:
— Ах ты воровка! Если бы кот сапожника не оставил тебя в интересном положении, ты сидела бы у меня на хлебе и воде! Виктор, она слопала сыр!
— Ничего, зато ты сохранишь осиную талию.
Виктор говорил с ней, как с ребенком, и Таша это нравилось.
Когда она вернулась с кофе и тостами, Виктор курил, сидя в подушках.
— Ты обещал больше не дымить в доме, — с укором напомнила она.
— Человек, способный пообещать, способен и забыть. Иди ко мне. Как ты собираешься провести день?
— Я обедаю с Таде Натансоном. Он милый, хотя и страшноватый — со своей черной блестящей бородой и горящими глазами. Но благодаря тебе я буду в форме, — шепнула она.
— Эгоистка! Мсье сама-знаешь-кто снова обзовет меня лодырем!
— Твой отец слишком снисходителен к тебе… Но он так красив…
Таша кивнула на портрет, написанный четыре года назад: Кэндзи сидел, удобно устроившись в кресле, и едва заметно улыбался.
— Он тебе нравится? — спросил Виктор.
Таша одарила мужа лукавым взглядом.
— Кто знает, начни он ухаживать за мной первым, я бы, возможно, не устояла. Мне очень хочется написать его обнаженным.
Виктор вдруг смутился: он боялся неосторожным словом выдать, какому искушению едва не поддался у Моминетты.
Таша решила, что он тревожится о выставке, и мягко сказала:
— Твои фотографии будут иметь успех у Натансона, дорогой.
— Что ты наденешь?
— То роскошное платье, твой подарок…
— Нужно было купить тебе рубище!
— Успокойся, Таде женат на прелестной молодой женщине, он ее просто обожает.
[410]
Виктор вспомнил Моминетту и подумал, что самая пылкая страсть к супруге не помешает мужчине изменить ей.
— Ответь-ка мне, Виктор Легри, что там вы с Ломье замышляете?
— С этим щеголем? Можешь не волноваться, с ним у меня не может быть ничего общего. Вставай, долг зовет! — воскликнул он и почесал Кошке шею, чтобы закончить разговор.
Пушистая красавица сладострастно заурчала.
Айрис приоткрыла один глаз и увидела одевавшегося у окна Жозефа. Сквозь щели в закрытых ставнях в комнату проникал сероватый свет. Одно плечо у Жозефа было намного выше другого, но Айрис всегда находила это ужасно трогательным. Отец ее будущего ребенка такой хрупкий! Она чувствовала себя более зрелой и сильной, чем ее горбатенький муженек с наивными глазами. Он много читал, успел кое-что написать и мнил себя зрелым и умудренным опытом человеком, но Айрис считала разумным началом их союза себя.
Она поудобнее устроилась на постели и обняла руками животик, где обреталось существо, бывшее для них с Жозефом одновременно и мечтой и явью. Очень скоро малыш появится на свет и займет главное место в жизни окружающих его взрослых. «Мальчик это будет или девочка? Какое у него будет лицо? А характер? А недостатки?» — размышляла Айрис.
Жозеф склонился к ней с поцелуем. Его переполняли любовь, благодарность и удивление: он, конечно, обязательно станет великим писателем, но до сих пор не может поверить, что такая красавица согласилась разделить с ним, жалким горбатым приказчиком, жизнь.
Появившаяся на пороге Эфросинья прервала его размышления. Она поставила поднос с завтраком на столик.
— Я вот что тебе скажу: нам нужно хорошенько ухаживать за нашей малышкой. Иисус-Мария-Иосиф, носить ребенка — это не шутка! Помню, как была беременна тобой, мой зайчик: ты весил целую тонну! И все время капризничал. Мне частенько хотелось кровяной колбасы с картошкой среди ночи!
— Никогда не предлагай этого Айрис!
Айрис забавляли такие разговоры. Характер у Эфросиньи был невыносимый, она привыкла всеми управлять, но Айрис уважала и почитала ее. Она потеряла мать в три года и ценила заботу зрелой женщины о своем здоровье, пусть даже временами эта забота становилась чрезмерной.
Айрис дождалась ухода Жозефа и села на постели.
— Хочу перед вами извиниться, Эфросинья. Я понимаю, что вы за меня переживаете, и предлагаю компромисс. Я буду есть ветчину раз в неделю, рыбу по пятницам и время от времени белое куриное мясо, как советует доктор Рейно.
— Вот и славно! Я просто счастлива. Надеюсь, вы ничего не имеете против яиц, я сварила два всмятку. Вы наверняка проголодались, ешьте. Вот гренки, домашний сливовый конфитюр от Мишлин Баллю, круассаны, бриоши, взбитый шоколад и апельсиновый сок.
Айрис затошнило, но она позволила свекрови взбить ей подушки и поставить поднос на кровать.
— Ешьте, пока не остыло, а я открою окна — здесь нужно проветрить.
Пока Эфросинья раздергивала шторы, Айрис успела спрятать круассаны, бриошь и хлеб в пустую коробку из-под печенья, которую специально для этого держала в ночном столике.
— Хочу попросить вас, Эфросинья, никого не лишайте мяса из-за меня. Мы ведь теперь одна семья и должны есть все вместе, за одним столом.
— Славная малышка, — пробормотала Эфросинья, прослезившись. — Хочет облегчить мне мой крест. О, вы съели весь хлеб! Сейчас я принесу еще.
Войдя в кухню, она увидела спину Кэндзи, направлявшегося к себе с чайником в руке. Он был в синем с красными горохами халате.
— Какова дочь, таков и отец, — буркнула она. — Только и делает, что пьет чай!
На первом этаже Жозеф распевал национальный гимн Савойи.
[411]
Привет тебе, гостеприимная земля,
Ты, что дала защиту от несчастий;
Славлю народ, поднявший
Знамя свободы.
Сняв ставни, он прокричал припев:
Зазвонил телефон, положив конец его звонким вибрато. Графиня де Салиньяк желала знать, доставлен ли ее заказ — книга о воспитании детей, которую она хотела подарить племяннице.
— Автор — доктор Лесгафт, — отчеканила она с немецким акцентом. — Я на вас рассчитываю!
— Яволь, госпожа графиня! — рявкнул Жозеф и, повесив трубку, проворчал: — И нечего на меня лаять, будет вам ваш учебник!
Он еще раз записал заказ в книгу Кэндзи, и перед его мысленным взором предстал угловатый силуэт Бони де Пон-Жубера, супруга его первой любви — Валентины.
«Этот король хлыщей, щеголь, позер… Нет уж, своего сына я буду воспитывать без всяких английских бонн, гувернанток и прочей челяди! Впрочем, дело не в национальности — вздумай я нанять любую няньку, мама разорвет меня на части!»
В магазин вошел коротышка с помятым лицом и газетой подмышкой. Он положил ее на томе Литтре
[412] и начал рыться на полках. Жозеф стянул газету.
— Вот черт! — воскликнул он, дрожащими руками вырезал одну из статей и убрал в заветный блокнот. Коротышка тем временем украдкой спрятал в карман книгу.
В магазине было полно покупателей. Это был один из тех дней — возможно, причиной тому стало неожиданно выглянувшее солнце, — когда каждый считал своим долгом пролистать или даже купить книгу.
Человечек с помятым лицом свернул газету и уже собирался шагнуть за порог, когда его остановил спешившийся с велосипеда Виктор.
— Простите, мсье, но вы случайно сунули в карман пальто книгу. Мой помощ… мой зять проводит вас к кассе, — строгим тоном произнес он, наставив указательный палец на Жозефа.
Вор послушно оплатил томик Ронсара, взял сдачу и как ни в чем не бывало покинул магазин.
— Каков наглец! — пробормотал Жозеф.
— Я видел через стекло витрины, как вы увлеченно кромсали газету, так что удивляться нечему, — съязвил Виктор.
Он раскланялся со знакомыми и вернулся к прилавку.
— Не расстраивайтесь, такое всегда случается в самый неподходящий момент, — шепнул он Жозефу и подмигнул.
— Дело того стоило, взгляните, что тут пишут, — ответил Жожо и протянул ему вырезку.
НА АЛЛЕЕ БУЛОНСКОГО ЛЕСА
ТЯЖЕЛО РАНЕН МУЖЧИНА
Маркиз Сатюрнен де Ла Пикадьер, как всегда, ехал в фаэтоне в клуб, когда вдруг заметил лежавшее на обочине аллеи тело. Это был барон Эдмон де Лагурне. Видимо, он упал со своей лошади вюртембергской породы по кличке Приам, которую позже нашли разгуливающей по Елисейским Полям. На затылке у барона зияла кровавая рана. Пострадавшего немедленно доставили домой. Его здоровье внушает серьезные опасения, хотя господа с медицинского факультета полагают, что опасность кровоизлияния устранена.
Напоминаем нашим верным читателям, что барон де Лагурне — друг Жана Лоррена, чью пьесу «Жантис» сегодня впервые сыграют в театре Одеон. Несколько лет назад барон основал известное всему Парижу оккультное общество «Черный единорог», которое ставит своей целью «проникнуть в царство невидимого и осветить сумрачный лабиринт, ведущий к философскому камню». Очень жаль, что оно не «отворило вежды» самому несчастному барону, и он не избежал падения с лошади…
— И что? — поинтересовался Виктор.
— Как это «что»?! Тот медальон с единорогом, что отдал вам толстяк на бойнях… Он подобрал его у трупа Лулу, ведь так? Может, она встречалась с бароном…
— Тсс! — шикнул на Жозефа Виктор, услышав на винтовой лестнице знакомые шаги Кэндзи.
— Как приятно вас видеть, мсье Мори! — трубным гласом воскликнула пышная дама в буклях. — Вы наконец получили «Песни крестьянина» Деруледа? Книга месяц как вышла, и вы обещали…
Укрывшегося за стеллажом Жозефа спасла трель телефона, заглушившая ответ Кэндзи.
— Алло, Легри? Это я…
Жозеф мгновенно узнал голос ненавистного Ломье и понял, что тот спутал его с Виктором.
— В магазине много народу, — тихо ответил он.
— Вы подумали? Я могу на вас рассчитывать? Мими меня совсем измучила…
— «Терпение и время дают больше, чем сила или страсть».
— Не тратьте попусту слов, Легри, выражайтесь яснее!
— Это из Жана де Лафонтена, куда уж яснее! — Жозеф бросил трубку на рычаг и пробормотал себе под нос: — И ради этого кретина мы из кожи вон лезем…
— Что вы записали в моей книге учета, Жозеф? Я не могу разобрать ваш почерк, — сказал Кэндзи.
— Всего лишь учебник по воспитанию для мадам де Салиньяк. Эта бабища заказала его повторно.
— Я, кажется, запретил вам употреблять по отношению к графине это слово.
Виктор поспешил вмешаться.
— Помните книжные лавки, о которых вы мне говорили? — сказал он, обняв зятя за плечи. — Нужно сходить туда и узнать насчет заказа барона де Лагурне.
— Какого заказа? — хором удивились Жозеф и Кэндзи.
— Того, что передал нам маркиз де Ла Пикадьер, — ответил Виктор, выразительно помахав перед носом у Жозефа газетной вырезкой.
— Ах да, — наконец сообразил тот, — конечно, уже бегу!
— Куда он бежит? Разве маркиз де Ла Пикадьер наш клиент? Вы постоянно о чем-то шушукаетесь, — посетовал Кэндзи. — Ну вот, он снова исчез. А как насчет вас — останетесь или снова скажете, что вам пора проявлять пленки?
Виктор огляделся. Большинство посетителей удалились, и лишь несколько библиофилов аккуратно перелистывали страницы книг.
— Вам не кажется, Кэндзи, что Жозефу не пристало быть приказчиком? В конце концов, он теперь ваш зять.
— Не напоминайте, не бередите мне душу.
— Значит, вы со мной согласны?
— Но Жозеф сам настаивает, чтобы все осталось как прежде! Я уже собирался найти ему замену, но он категорически воспротивился! При этом его мамаша возомнила себя гувернанткой!
— Я возьму на себя закупки, а он займется продажей и доставкой — в обмен на долю в прибыли.
— Если бы на яблонях росли золотые яблоки, человеческая жадность превратила бы все рощи в мертвый лес. Иными словами — деньги не растут на деревьях! — раздраженно бросил Кэндзи и отправился беседовать с клиенткой.
— Новый приказчик обошелся бы нам дороже, — заметил ему вслед Виктор, но решил на время отступиться. «Хуже глухого лишь тот, кто не желает слышать», — подумал он.
Жозеф сел в омнибус на улице Бержер и вскоре оказался на улице Тревиз. Виктору пришло в голову продолжить их расследование в «Либрери дю Мервейё». Магазин располагался в доме номер 29, его хозяин, уроженец Вандеи Люсьен Шамюэль был издателем и организовал в помещении за лавкой что-то вроде зала заседаний. За пятьдесят сантимов в день здесь можно было насладиться классиками герметизма.
[413]
Величественный бородатый персонаж в нелепом, отделанном мехом одеянии, встряхивая темными волосами, декламировал текст собственного сочинения:
Слава тебе, неосязаемый Эрос!
Уранический Эрос, слава тебе!
О, исцелитель пошлых ласок,
Могущественный алхимик несовершенного желания,
Атанор великого творения в мире душ,
Слава тебе, о Андрогин!
Жозеф едва удержался от смеха, глядя на почтительно аплодирующих слушателей.
В магазин вошел приземистый весельчак с курчавой бородой. Оратор гордо отвесил ему поклон и удалился в сопровождении свиты обожателей. Вновь пришедший хитро прищурился, постучал в дверь и, услышав приглашение войти, вошел.
Жозеф не знал, что делать, и решил попросить помощи у молодого красавца с золотистыми локонами, читавшего тонкую книжечку стихов. Он подошел и кашлянул, чтобы привлечь к себе внимание.
— Извините, что отрываю, но кто этот болван?
— Как, вы не узнали Сара Пеладана?
[414]
— Сира?
— Да нет же, Сара, этот титул носили правители Ассирии. Он знаменитый писатель, его «Маг Меродак» меня просто потряс, а еще рекомендую прочесть «Последний порок», книга вышла десять лет назад и до сих пор актуальна.
Жозеф вспомнил, что расставлял романы этого автора по стеллажам в зале книжной лавки «Эльзевир», но сам читать их не стал, уж больно витиеватым показался ему стиль.
— А другой, тот, что прогнал… Сара?
— Доктор Анкосс, его чаще называют Папюс,
[415]патроним духа из «Никтамерона» Аполлония Тианского. Они с Пеладаном враждуют со времен Войны Роз.
— Той, что была в Англии? — невинным тоном поинтересовался Жозеф, знакомый с краткой историей дома Ланкастеров.
Его собеседник поставил книгу на полку и снисходительно посмотрел на Жозефа.
— Вовсе нет. Думаю, имя Станисласа де Гуайты
[416] говорит вам так же мало, как имена Пеладана и Папюса?
Жозеф уныло кивнул.
— Станислас де Гуайта, угодливый обожатель Пеладана, шесть лет назад предложил тому стать соучредителем каббалистического ордена Розы и Креста. Тот согласился, однако 14 мая 1890 года решил создать собственное братство и назвал себя «магистром и высшим иерархом третьего ордена католиков-розенкрейцеров». Папюс занял его место при Станисласе. Отсюда и вражда. В прошлом году Высший совет назвал Пеладана узурпатором, схизматиком и отступником. Это весьма досадно, потому что я считаю всех их талантливыми исследователями. Взять хотя бы детище Пеладана — салоны Розенкрейцеров. В 1892 году в галерее Дюран-Рюэля собралось более двадцати тысяч зрителей, и шестьдесят трубачей играли «Парсифаля». Да вы наверняка об этом слышали! А «Элементарный трактат оккультной науки» возводит Папюса на уровень Калиостро… Боже, если бы только исполнилось его страстное желание найти философский камень!
Жозеф сделал стойку.
— О, да этот ваш Папюс наверняка просветит меня насчет «Черного единорога»!
Модой человек оттопырил верхнюю губу и стал похож на волосатого уистити.
[417]
— «Черный единорог»? Да это сборище болванов!
— Но они тоже ищут философский камень!
— И еще долго будут искать. Не хотите ли выпить со мной рюмочку абсента? Или насладиться парами эфира в моем скромном жилище? — Он приблизился к Жозефу почти вплотную. Тот перепугался и, забыв о намерении встретиться с доктором Анкоссом по прозвищу Папюс, сбежал.
Взволнованный, Жозеф миновал улицу Лафайетт, вышел на шоссе д’Антенн и увидел книжный магазин «Независимое искусство». Он вырвал из блокнота листок, нацарапал на нем «Последний порок» и предъявил в качестве пароля одному из продавцов, согбенному лысому старику с белоснежными усами и растрепанной бородой. Тот посетовал — Жозефу не повезло, он разминулся со Стефаном Малларме и Клодом Дебюсси — они друзья Сара Пеладана и страстно увлечены эзотерикой. Жозеф, уже успевший оправиться от покушения на свою мужскую честь, нисколько не расстроился и спросил о «Черном единороге». И тут вдруг неожиданно выяснилось, что старик туговат на ухо.
— Говорите громче! — крикнул он.
— Е-ди-но-рог, — произнес по слогам Жозеф.
— Ах, единорог… Чудесное животное. Три тысячи лет назад китайцы почитали единорога под именем Килин. На санскрите его называли Экасринга, на Тибете — Цо-По, во Вьетнаме — Ки-Ла, а арабы — Куркаданн. В Индии это Сарабна, что пасется на заснеженных вершинах. В Палестине он звался Реэм, у ассирийцев — Риму, — проблеял старичок.
— Я интересуюсь «Черным единорогом»! — проорал Жозеф.
— Фи! Секта шарлатанов! Возомнили себя наследниками великого дела и заявляют, что откопали на Балканах кусок рога Тюссона, или Тексона.
— Что это такое — Тюссон?
— Единорог! Они утверждают, что изготовляют из этого рога порошок, берут щепотку, смешивают с серой и ртутью и используют на церемониях для посвященных. На самом же деле просто бессовестно обирают доверчивых простаков и набивают свои карманы.
— Кто эти «они»? — рявкнул Жозеф.
— Откуда мне знать? Спросите у мсье Сати. — Старичок кивнул на стоявшего у полок посетителя. — Он регент часовни Розенкрейцеров, автор звонов и вообще осведомленный человек.
На вид Сати было лет тридцать — бесформенная шляпа, длинные светлые волосы, бородка, закрученные кверху кончики усов, улыбчивый рот и темные глаза за стеклами пенсне. Он стоял, опираясь на зонт, и внимательно рассматривал Жозефа.
— Я знакомый мсье Пеладана…
— Вам нравится моя музыка?
Жозеф смущенно теребил вырванный из блокнота листок.
— Ну, я… Да, ваши звоны!
— Мои звоны? А как же три моих прелюда из «Сына звезд» и «Готические танцы»? А «Гипнопедии» и «Гносиенны»? Не лгите, я знаю, что ни Пеладан, чьи идеи я, кстати, разделяю, ни его окружение не являются ценителями моих опусов. Моя судьба трагична. «Я так юн в этом старом мире».
— По правде говоря, мсье, я… Я пытаюсь добыть адрес одного алхимика, барона Эдмона де Лагурне, мне нужно передать ему сообщение.
— Де Лагурне, — повторил Эрик Сати, поглаживая бороду. — Он из тех, к кому более чем применима острота кого-то из великих: «Чем лучше я узнаю людей, тем больше люблю собак». Этот честолюбец мнит себя алхимиком! Шарлатанский порошок и секреты Полишинеля… Я был однажды на приеме в его доме вместе с Дебюсси и Гюисмансом… чудовищная скука! Он живет на улице Варенн, 34-бис. Особняк совсем обветшал, того и гляди обрушится. Слуг в доме почти не осталось, он им не платит, вот они и разбежались. Что до мадам де Лагурне, то она лакомится отнюдь не духовной пищей. Ничего удивительного — ее благоверный «балуется» хлоралом. Их дом весь провонял эфиром и морфином.
— Но почему? Для дезинфекции после падения с лошади?
Эрик Сати весело оскалился.
— Вы либо очень наивны, либо наделены весьма своеобразным чувством юмора. Я склоняюсь ко второму предположению. Надеюсь, что помог вам, мсье. — Сати приподнял шляпу и отошел к полкам в глубине магазина.
«Что его так рассмешило?» — недоумевал Жозеф, трясясь в фиакре на Левый берег.
Экипаж остановился, немного не доехав до места: участок деревянной мостовой был выложен охапками соломы.
— Богатеи оберегают свой покой, — хрипло пробормотал кучер.
По фасаду дома на улице Варенн змеились трещины, краска на ставнях облупилась, но в целом здание не производило впечатления древних руин.
Жозеф долго звонил в колокольчик, прежде чем на пороге возникла хрупкая изящная женщина с бледным лицом в широком бархатном манто цвета фуксии и шляпе с желтой райской птицей.
— Добрый день, мадам. Я от мсье Шамюэля, он книготорговец, барон де Лагурне заказывал ему книги.
— Мой муж? Он очень плох, — равнодушным тоном сообщила баронесса, но взяла колокольчик и нетерпеливо позвонила. На зов явилась служанка с одутловатым лицом и бородавками на подбородке.
— Проводите этого господина к моему мужу, Оливия. Я ухожу, сегодня журфикс у моей подруги Бланш, потом я отправлюсь на примерку к Дусэ.
— Мадам поедет в тильбюри?
— Нет, Приам перенервничал. Я возьму фиакр.
Она коротко попрощалась с Жозефом и удалилась, а он поднялся по ступеням к двери, провожаемый хмурым взглядом служанки в черном платье, грязном фартуке и стоптанных туфлях.
— Мадам Клотильда совсем рассудок потеряла! Думает, у мсье сегодня гости. У него уже час сидит какой-то чудак! Я бы на ее месте выгнала вон всех этих типов, что надоедают бедному мсье, в его-то нынешнем состоянии!
Служанка произнесла эту тираду «в никуда», словно Жозефа и вовсе не существовало. Продолжая сердито бормотать себе под нос, она провела его через просторный, выходящий окнами во двор холл, где стояли поросшие мхом статуи. Стены холла потрескались, мебель была старомодная. Ступени массивной мраморной лестницы нуждались в ремонте. Из дальней комнаты слышались звуки фортепьяно.
Они шли через анфиладу тесных комнат: плотный слой вековой пыли покрывал угловые камины, гипсовые бюсты, кресла, гобелены и драпировки, как будто никто никогда не наводил здесь порядка. Семейные портреты над бюро в стиле Людовика XVI сурово взирали на окружающую обстановку, мерно тикали бронзовые часы.
Доведя гостя до совершенно обветшавшей передней, Оливия наконец снизошла до разговора с ним.
— Тот чудак все еще там — сидит у изголовья хозяина. Когда он уйдет, зайдете, но не задерживайтесь, врачи запретили мсье переутомляться! — надменным тоном произнесла она и удалилась, шаркая подошвами по паркету.
Оставшись один, Жозеф испустил глубокий вздох и оглядел шаткие стулья и потертые персидские ковры. Кроме двери, через которую он сюда пришел, и другой, ведущей в покои барона, была еще одна. Именно она заинтересовала Жозефа. Он открыл ее и вышел в коридор, который вел к винтовой лестнице. Обстановка напомнила ему дом Фортуната де Виньоля. Он уже собирался обследовать коридор, но услышал чей-то голос и, вернувшись, осторожно приоткрыл дверь в покои барона.
— Мне это необходимо, чтобы облегчить боль! — умолял кто-то, срываясь на визг.
— Это безумие! Снова окунуться в кошмары, разрушить душу и внутренности… Лучше последовать совету Лоррена: сульфанол и бромид вылечат тебя, — прогудел в ответ чей-то бас.
— Глоток хлорала, умоляю, я так страдаю! — отвечал первый голос.
— Опасность… Кровь! Мои куклы, они погибли! — рокотал бас. — Необходимо проверить твою… повсюду кровь.
Жозеф приоткрыл дверь еще чуть шире и увидел человека во фраке, склонившегося над кроватью, где лежал барон. Голова несчастного была забинтована.
— Глоток, всего один… Бутылка в секретере, — умолял больной.
Человек во фраке распрямился, и Жозеф тихонько прикрыл дверь, а когда решился снова заглянуть в комнату, в ноздри ему ударил запах карболки.
— Где ты спрятал ключ с единорогом? — вопрошал гость, склонившись к лицу барона. — Ключ от твоего личного кабинета, он мне нужен. Эдмон, ключ… Будет довольно одного твоего жеста…
— Прошу тебя…
— Ответь, я должен знать, залили твою коллекцию кровью или нет! Говори, черт бы тебя…
— Вы его прикончите! — произнес за спиной Жозефа пропитой голос. Он перепугался, отскочил в коридор, обернулся и увидел сиделку: женщина была такого огромного роста, что он едва доставал ей до плеча. Жозеф поспешно отступил в тень.
— Служанка правильно сделала, что предупредила меня. Эй, вы, убирайтесь оттуда, и поживее! — рявкнула она, врываясь в покои барона. — У больного травма головы, и отдых для него — первейшее дело! Мало нам легавого, так еще этот устроил тут допрос с пристрастием безо всякого разрешения… Пшел вон!
Спрятавшись за дверью, Жозеф наблюдал, как посетитель ругается с сиделкой. У него было квадратное, гладко выбритое лицо с узкой щелью рта, в руке он сжимал замшевые перчатки. Спор закончился не в его пользу, и он вынужден был уйти. После чего сиделка извлекла Жозефа из его укрытия и вытолкала взашей.
— Уносите ноги, пока целы, — напутствовала она его.
Жозеф взглянул на ее мужеподобное лицо и молча подчинился.
У подножия лестницы, уперев руки в боки, его ждала довольная Оливия.
Убаюканный тряской дорогой — из-за гололеда он предпочел велосипеду фиакр, — Виктор боролся со сном. Поскольку Таша сказала, что будет занята весь день, он принял приглашение на семейный обед — Эфросинья пообещала приготовить картофель «дофин». Жозеф сгорал от нетерпения дать Виктору отчет о своих утренних передвижениях, но в присутствии тестя вынужден был держать рот на замке. Поговорить им так и не удалось, и после десерта Виктор удалился, вызвав живейшее неудовольствие Кэндзи.
Фиакр попал в пробку, и кучер высадил его на бульваре Мажента, в начале улицы Ланкри. Виктор прошел через набережную Вальми на улицу Винегрие и заглянул в маленькое кафе под вывеской «Якорь Фортуны». В тесном зальчике, за столом напротив старого зеркала, сидел единственный посетитель.
Виктор заказал у стойки вермут с кассисом, завязал разговор с хозяином и вскользь упомянул имя мадам Герен.
Одинокий посетитель вздрогнул и посмотрел на Виктора.
— Вдова Герен? — воскликнул кабатчик. — Как же, как же, знаю! Она всегда жила в нашем квартале. У нее кондитерская чуть выше по улице, мадам Герен назвала ее «У Синего китайца» — в память о своем отце, погибшем в Паликьяо.
— Паликаьяо? Где это? — вежливо поинтересовался Виктор, не выпуская из поля зрения входную дверь.
— В Китае. Он служил под командованием генерала Кузен-Монтобана.
Корантен Журдан чуть не подпрыгнул. Он вдруг почувствовал опасность: так заяц в чистом поле инстинктивно вострит ухо, почуяв браконьера. Любитель вермута исчез. Корантен заплатил по счету и снова занял свой наблюдательный пост под козырьком булочной.
Виктор вошел в кондитерскую «У Синего китайца». Хозяйка обслуживала какую-то женщину с маленькой девочкой — серебряным совочком насыпала сладости в пакетики.
— Это не просто крестины, у мадам Эрманс будет настоящий семейный праздник, — говорила покупательница. — Мои племянники обожают ваши мятные пастилки и постный сахар. А Бастьенна без ума от миндальных коржиков.
— Хочу помадку, мамочка, — прошепелявила девочка.
Торговка взвесила покупки. Из-под ее черного кружевного чепца выбивались волнистые пряди рыжеватых с проседью волос, обрамлявших милое, простодушное лицо. Глаза у нее были ярко-голубые, как у фарфоровой куклы, но сеточка морщин на щеках выдавала почтенный возраст.
Когда покупательница вышла, она обратилась к Виктору на удивление молодым и звонким голосом:
— А вы что желаете, мсье?
— Я пришел не за конфетами, мадам. Меня зовут Морис Ломье, и я хотел осведомиться у вас о Луизе Фонтан, она кузина моей невесты Мирей Лестокар, и та поручила мне ее разыскать. Товарки Лулу по мастерской на улице Абукир рассказали, что три недели назад она переехала к вам. Но я узнал, что произошло несчастье — девушку задушили.
Виктор давно занимался расследованием трагических смертей, повидал немало подозрительных субъектов и научился различать нюансы их поведения. Мадам Герен выслушала его тираду бесстрастно, но невольно моргнула и сжала челюсти, что было равносильно признанию. Она без сомнения знала Луизу, но заявила в ответ кислым тоном:
— Это имя мне ничего не говорит.
Виктор протянул ей вырезку из «Энтрансижан». Пока она читала обведенные красным строки, у нее дрожали руки, что подтверждало подозрения Виктора: женщина ему солгала.
— Я только что из морга и вынужден — увы! — подтвердить: убитая — действительно Луиза Фонтан.
— Повторяю, мсье, я с ней незнакома. Вас либо ввели в заблуждение, либо вы что-то не так поняли. Герен — распространенная фамилия. У меня много клиентов, они покупают сласти на праздник по поводу первого причастия, свадьбы, другие церемонии и просто чтобы полакомиться. Я продаю свой товар обеспеченным людям, на Рождество и в Новый Год торговля идет особенно хорошо. Вам нужен кто-то другой. Нет, я никогда не встречалась с этой… как вы ее назвали?
— Луиза Фонтан.
— Сожалею, мсье, ничем не могу помочь. — Возвращая ему вырезку, пожилая женщина уже полностью владела собой.
Город погружался в сумерки. Виктор курил, стоя под козырьком, и наблюдал за кондитерской.
Это привлекло внимание Корантена Журдана, и он остался у булочной, пытаясь получше разглядеть лицо незнакомца. На вид тому было лет тридцать. Корантен видел, как он вошел в кондитерскую, протянул хозяйке листок, минут через десять вышел, ничего не купив, но не ушел, а остался наблюдать за лавкой. Когда вдова Герен задвинула изнутри засов и повесила табличку «Закрыто», незнакомец прижался к перилам лестницы, чтобы его не заметили.
Хозяйка кондитерской в накинутом на плечи плаще помедлила на пороге, как любой выходящий на холод и дождь из теплого уютного помещения. Оглядев окрестности, она поспешила на угол улиц Винегрие и Альбуи, толкнула калитку обнесенного решеткой садика и вошла в узкое строение с закрытыми ставнями на окнах.
Виктор выбросил окурок, надвинул шляпу на лоб и направился туда же. Когда он проходил мимо Корантена, тот мельком увидел его лицо: правильные черты, черные усики, вид по-юношески беззаботный. «Он явно следит за старухой, — подумал Корантен. — Но зачем? Остановился под фонарем, делает вид, что читает газету. Кто он? Отвергнутый поклонник? Шпик? Сумасшедший? Этот город кишмя кишит психами!»
Корантен решил размять ноги — купил круассан и поболтал с булочницей, не спуская глаз с типа в шляпе. Тот свернул газету и посмотрел на часы.
Корантен не раздумывая кинулся к сараю и запряг лошадь в двуколку с надписью «Перевозки Ламбера». Сердце у него колотилось, неожиданно, как бешеный пес из-за угла, возник полузабытый образ Клелии. Почему каждый день несет с собой новые опасности? Корантен был обречен не бездействие, и это сводило его с ума. Он едва устоял от искушения вломиться в убежище прекрасной сирены из Ландемера. Утрата Клелии много лет причиняла ему жестокие страдания. Он постарался изгнать ее образ из памяти и убедить себя, что время все лечит. Увы, оно над ним посмеялось: боль притупилась, но не ушла, и в этом было нечто устрашающее. Корантен терял аппетит и начинал опасаться за свой рассудок. Чтобы обрести свободу, нужно покончить с этим раз и навсегда.
Виктор мысленно прикинул конфигурацию павильона, размышляя, что предпринять. Выждать? Тогда он рискует появиться на улице Сен-Пер после закрытия, что затруднит разговор с Жозефом. Тем временем пошел дождь со снегом, и он принял решение: ни к чему спорить со стихией, одному Богу известно, сколько продлится ожидание в засаде.
«Будем надеяться, что завтра погода улучшится», — постановил Виктор, вернулся на бульвар Мажента и взял фиакр.
Следом, на небольшом расстоянии, ехала двуколка «Перевозки Ламбера».
В ярко освещенном зале книжного магазина Кэндзи беседовал на философские темы с профессором Сорбонны. Виктор сделал знак Жозефу и прошел в фотолабораторию. Как только над бюстом Мольера зажглась красная лампочка, Жожо схватил стопку книг и отправился следом за шурином. Конспираторы вполголоса обменялись информацией.
— Держу пари, вы ничего не знаете о Войне Роз.
— Ошибаетесь, Жозеф, я рос в Англии. Эта война, если мне не изменяет память, началась в 1450 году. Ланкастеры — у них на гербе была красная роза, и Йорки — у тех роза была белой, боролись за корону. Победил Генрих II Тюдор — он принадлежал к роду Ланкастеров — и взял в жены Елизавету Йоркскую.
— Неувязочка, патр… Виктор! — торжествующе воскликнул Жозеф и поведал шурину о ссоре между сторонниками Станисласа де Гуайты и Сара Пеладана, а потом описал все, что увидел и услышал у барона де Лагурне.
— Он упал с лошади, но сиделка уверяет, что ему проломили башку. Там был еще один тип — странный такой, похоже, колдун. Он говорил что-то про кукол, кровь и ключ с единорогом!
Виктор с трудом сдержал раздражение. Ну что за напасть — снова оккультисты! Он уже сталкивался с одним ясновидящим, неким Нумой Виннером,
[418] и до сих пор помнил переданное им сообщение от покойной матери: «Ее смерть освободила нас с тобой. Любовь. Я ее нашел. Ты поймешь. Нужно… Подчиняйся своему инстинкту. Ты возродишься, если разорвешь цепь. Гармония. Скоро… Скоро…».
— В любом случае, — продолжал Жожо, — дражайшей баронессе нет дела до несчастного супруга.
— Мы на этом не остановимся. Необходимо нанести еще один визит.
— Хорошо, это вы возьмете на себя, а я займусь служанкой и сиделкой — она настоящий унтер-офицер. А что с кондитершей?
— За ней тоже необходимо понаблюдать.
— Плохо, что завтра я занят: Айрис хочет, чтобы я присутствовал во время визита доктора Рейно.
— Ничего не поделаешь, как-нибудь сам разберусь.
— Но вы потом все мне подробно расскажете?
— Не беспокойтесь, дам полный отчет, как всегда, — рассмеялся Виктор.
«Точный, так я и поверил… Если он полагает, что я соглашусь на вторые роли, то сильно ошибается!» — подумал Жозеф.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Воскресенье 18 февраля
На углу бульвара Мажента и улицы Винегрие стоял фонарь, у которого поднимали лапу все окрестные собаки. Поблизости от фонаря, в мутно-серой утренней мгле, посверкивала оранжевыми проблесками жаровня, и закутанная в шаль старуха предлагала прохожим кофе. Виктор медленно отхлебывал крепкий горячий напиток, согревая замерзшие руки о фарфоровую чашку. Подкрепившись и воспрянув духом, он дошел до «Синего китайца», дабы убедиться, что хозяйка уже там. Дама в кружевном чепце сидела у печки и вязала коричневый шарф.
Виктор немедленно отправился к павильону, куда накануне «довел» эту женщину, и позвонил. Минут через пять дверь скрипнула и приоткрылась.
На пороге стояла чумазая девочка лет тринадцати-четырнадцати. Она исподлобья разглядывала незнакомца, накручивая на палец выбившийся из-под чепца локон.
— Здравствуйте, мадемуазель, мне необходимо поговорить с дамой, которая здесь живет.
— С мадам Герен? Так она в магазине.
— Нет, не с мадам Герен, а с молодой американкой.
На детском личике служанки отразилось замешательство. Виктор снял шляпу и улыбнулся — он ни в коем случае не должен был напугать девочку.
— Вы гувернантка?
Она приосанилась, исполнившись осознанием собственной значимости.
— Навроде рабочего ослика.
— Что, простите?
— Я Алина, служанка!
— Могу я войти?
— Не можете. Мадам Герен рассказывала мне историю о козе и семерых козлятах: волк показал им обсыпанную мукой лапу, они его впустили, а он их сожрал.
— Мое имя Морис Ломье, я известный художник, — успокоил девочку Виктор, пытаясь поверх ее головы разглядеть полутемную прихожую и примыкающую к ней кухню.
— Волк из сказки тоже вывалялся в муке.
Виктор вздохнул, с трудом сдерживая желание встряхнуть девчонку за плечи. В любой момент могла появиться мадам Герен.
— Я жених американки, о которой спросил вас.
— Вы, наверно, заблудились, у нас тут никакой американки нет, только мамзель Софи, но она в отсутствии.
— А как фамилия Софи?
Девчушка сильно дернула себя за волосы и попыталась заложить непокорную прядь за ухо.
— Не знаю.
— Попытайтесь вспомнить, куда отправилась мадемуазель Софи.
— Даже если вспомню, вам не скажу.
Упрямство девчонки бесило Виктора, но он справился с собой, изобразил удивление и достал из кармана монетку.
— Я восхищен вашей исполнительностью и верностью, Алина. Позвольте вас отблагодарить.
Детское личико просияло.
— Меня?
— Вас, милая.
Девочка зажала монету в кулаке и задумчиво переступила с ноги на ногу, крутя торчавшими из-под длинной холщовой блузы юбками. В конце концов чаша весов склонилась в пользу «волка».
— Мамзель Софи болела целых две недели. Приходил доктор, ставил ей горчичники — ужас как жгло. Я за ней ухаживала.
— Вы просто молодец.
— Угу. Обычно-то я только убираюсь, глажу, хожу за покупками и готовлю. А мамзель подарила мне красивую цепочку с медальоном, — похвасталась девочка, прижав кулачок к груди. Виктором овладел охотничий азарт: он с трудом сдержался, так ему хотелось схватить ее за руку и взглянуть на медальон.
— Моя невеста очень щедрая и добрая, — заметил он, — она любит делать подарки друзьям. Покажете мне цепочку?
Девочка колебалась, не зная, как поступить. Она не сводила глаз со своих раскачивающихся юбок, и выглядела отстраненной, как готовящийся к левитации йог. Ее ужимки окончательно вывели Виктора из себя.
— Все это очень серьезно, мадемуазель. Невеста и мне подарила медальон, так что, если наши медальоны похожи, все будет ясно.
Она вытащила из-под рубахи цепочку, Виктор увидел… нет, не единорога, а всего лишь доллар, и возликовал: очень скоро он поймет, что связывает Луизу Фонтан, загадочную американку и вдову Герен.
— Где сейчас мадемуазель Софи? — спросил он дрогнувшим голосом.
— Сегодня рано утром мсье Брикар запряг свою тележку и погрузил все ее вещи, только один чемодан остался в подвале.
— И куда он их повез?
— В гостиницу у вокзала.
— У Восточного вокзала?
— Да. Я слышала название то ли города, то ли страны, когда мадам Герен говорила с мсье Сильвеном.
— С Сильвеном? Кто такой Сильвен?
— Ну как же, миллионер!
— Кто миллионер?
— Да говорю же — мсье Брикар. Я его боюсь, он все время ругается, кричит: «Пошла вон, прилипала!», а когда никто не видит, зажимает меня у туалетной и щиплется. Один раз позвал на танцы в Тиволи-Воксхол,
[419] да я не пошла — там бывают плохие женщины. Больше он мне горячих булочек не приносит.
— Вы знаете, как называется гостиница?
— Одно вам скажу: как только мсье Брикар заявился, мамзель Софи прыгнула в фиакр и уехала. Мадам Герен его чмокнула, а он ее по спине похлопал и сказал, что потолстела. Потом они перетаскали чемоданы в тележку, вот тогда-то она и сказала название, да я не разобрала… Ну ладно, пойду работать, не то хозяйка задаст мне трепку!
И она скрылась за дверью.
Виктор шел по направлению к улице Ланкри и напряженно размышлял. Потом вдруг остановился у плавильни Барбедьен и, не обращая внимания на окружающих, записал в блокнот рассказ служанки.
Миновав бульвар Мажента, он свернул на бульвар Страсбур, вдоль которого стояли пестрые торговые палатки и дешевые пивнушки. Остановился напротив улицы Страсбур,
[420] пропуская омнибусы, фиакры и велосипедистов. Ругань извозчиков, скрип колес, свистки и кваканье клаксонов оглушили его. Прямо перед ним, в глубине полукруглого, обнесенного решетками двора, высился треугольный фронтон Восточного вокзала. Здание напоминало одновременно тюрьму и суд. Циферблат часов с аллегорическими фигурами, символизирующими Сену и Рейн, усиливал это сходство.
Виктор с детства испытывал к вокзалам двойственное чувство: они и пугали его и манили, казались границей, отделяющей реальность от таинственного путешествия на пороге сна. Стоило войти в зал ожидания, где суетились носильщики, «бегуны»,
[421] отъезжающие и прибывшие пассажиры, и повседневная действительность начинала расплываться. Виктор терпеть не мог прощаний, но не раз махал платком вслед отходящему от перрона поезду. Он был очень привязан к приютившему его городу, однако часто мечтал о далеких странах. Теперь ему не было нужды ограждать себя от магии поездов. Он купил в киоске «Ревю бланш» и принялся громко жаловаться, призвав на помощь все свое актерское мастерство:
— Ну что я за дурак! Заблудился! У меня встреча с племянницей, а название гостиницы вылетело из головы. Помню только, что это город, а может, страна…
Проходящая мимо торговка провела указательным пальцем по подбородку, проверяя, не выросло ли чего лишнего, и сказала:
— Выбор тут богатый! В самом начале улицы Страсбур — «Отель де Франс и де Сюис», в двух метрах от него — «Отель де л’Ариве», чуть выше — «Отель Франсе», на улице Святого Квентина — «Отель Бельж», а на бульваре Мажента — «Отель де Бельфор».
Виктор поблагодарил и начал обходить все гостиницы подряд. Удача улыбнулась ему в «Отель де Бельфор».
Декор холла являл собой смешение старины и модерна. Над камином в средневековом стиле висело огромное полотно с изображением замка графов Бар-ле-Дюк, справа стояла уменьшенная копия патриотической скульптуры Мерсье «Вопреки всему!», слева — «Лев» Бартольди.
Виктор подошел к стойке и произнес заранее заготовленную тираду:
— Моя племянница поселилась у вас сегодня утром. Она должна была оставить записку для Мориса Ломье. Это я.
Портье, которого Виктор оторвал от пасьянса, с недовольным видом заглянул в книгу записи постояльцев.
— Ломье? Сожалею, мсье, дама с такой фамилией у нас не зарегистрирована.
— Вот как? Ну, дела! Она же сама сказала — «Отель де Бельфор», как замок! Вы уверены, что ее здесь нет?
Портье кивнул.
— Софи ужасная растяпа! Я всегда считал брата и его жену никудышными воспитателями.
— Вы назвали ее Софи? Мадемуазель Софи Клерсанж? Молодая дама предупредила, что ей должны доставить чемодан, вы не…
— Вовсе нет! Я говорю о мадам Софи Ломье! Л.О.М.Ь.Е., — возмутился Виктор. — Она замужем за старшим сержантом Ломье! Проверьте еще раз.
— Она не останавливалась в этом отеле, мсье. Среди наших постояльцев всего одна дама без спутника — мадемуазель Софи Клерсанж. В остальных номерах и апартаментах живут господа и семейные пары. Справьтесь в других местах. — «И идите к черту», — недвусмысленно говорил его взгляд.
— Спасибо за совет. Я могу отсюда позвонить?
— Телефон в том конце холла, — буркнул портье и вернулся к пасьянсу.
Корантена Журдана лихорадило и мутило. Его сердце билось как сумасшедшее. Его охватил не объяснимый страх. Что этот тип делает в гостинице? Надо успокоиться и подумать. Заметить Корантена он не мог, он вообще не подозревает о его существовании. Накануне, на Левом берегу, Корантен поостерегся покидать двуколку: хромота могла его выдать. Тот, за кем он следил, вышел из фиакра у дверей какого-то магазина и скрылся внутри. Корантен прочитал вывеску на витрине:
КНИЖНАЯ ЛАВКА «ЭЛЬЗЕВИР»
В. ЛЕГРИ — К. МОРИ
Основана в 1835 году
Корантен прождал полчаса, а потом рискнул заглянуть в лавку. Он увидел, как его потенциальный противник поговорил с кем-то в зале магазина и начал подниматься по винтовой лестнице. Видимо, он — один из хозяев «Эльзевира». Легри или Мори? Таких имен в голубой тетради не было, однако этот тип ходил по пятам за прекрасной сиреной из Ландемера. С какой целью?
Корантен устроился в кресле рядом со «Львом» Бартольди, спрятал лицо за газетой и увидел, что книготорговец спешит к телефонной будке.
— Наряженная в переливчатые крылья Кармелла порхала по сцене, как обезумевшая стрекоза…
Тик-ток-тик-ток-цзинь! — отбивали ритм клавиши пишущей машинки.
— Она готовилась танцевать страстное, чувственное фанданго…
— Слишком быстро, я не успеваю! — пожаловалась Айрис и перестала печатать.
Расхаживавший по гостиной Жозеф остановился.
— Что-то не так, дорогая? — встревожился он.
—
Наряженная… не то слово, правильней будет сказать
украшенная.
— И все?
— Нет.
Обезумевшая стрекоза — нехорошо! Я бы предложила
стремительная или
неудержимая стрекоза.
Жозеф стоял под портретом своей жены в полный рост, который написала Таша.
— Твоя логика как всегда безупречна.
— И еще: как в водевиль, действие которого происходит в Италии эпохи Возрождения, попало фанданго?
— Да какая разница? Мне нравится это слово, все андалузское нынче в моде, отсюда и имя моей героини.
— Пусть твоя Кармелла танцует бранль.
[422]
— Согласен на бранль.
Она готовилась станцевать бранль… Кто-то звонит! — И Жозеф побежал на первый этаж.
Корантен Журдан наблюдал за человеком, безуспешно сражавшимся с телефоном. С третьего раза его наконец соединили, и теперь он разговаривал, постукивая кончиками пальцев по стеклу кабины. Черт, умей Корантен читать по губам, смог бы понять, насколько опасен этот тип!
Объект слежки повесил трубку, направился к стойке и заплатил. Может, пойти за ним? Но Корантен не решился покинуть свой пост и остался сидеть в кресле.
Айрис тихонько подошла к лестнице, но не разобрала ни одного слова из телефонного разговора Жозефа. Когда он вернулся, она уже снова смирно сидела на стульчике у журнального стола перед пишущей машинкой «Ремингтон». После того как доктор Рейно осмотрел Айрис, Жозеф успокоился, но ему не хотелось оставлять ее одну.
— Виктор требует, чтобы я сейчас же отправился в Бург-ла-Рен, к коллекционеру старинных изданий Громье и Гувенена…
— Значит, тебя не будет весь день. Странно, я думала, мой брат и Таша не любят разлучаться.
— Я тоже не хочу покидать тебя, дорогая, но это особый случай: клиент просто замучил Виктора, — невинным тоном пояснил Жозеф и сам почти поверил в эту спонтанную ложь.
— Тогда поторопись.
— Ужасное невезение — у Зульмы выходной, твой отец куда-то ушел… Может, позвать мою матушку?
— Только не это! Не волнуйся. Я перечитаю начало «Букета дьявола», выпью цикория со сливками и съем кусочек орехового пирога — Эфросинья утром все приготовила, а потом прилягу отдохнуть.
— Ты права, родная, сон пойдет тебе на пользу.
Жозеф поцеловал жену чуть более долгим, чем обычно, поцелуем, и не удержался, чтобы не забраться рукой под черное шелковое кимоно.
— Ты опоздаешь, — прошептала она.
— Да, но…
Она мягко отстранила его, он послал ей воздушный поцелуй и поспешил уйти.
Наконец-то она осталась одна! Айрис встала и с удовольствием потянулась. Как хорошо хоть ненадолго почувствовать себя хозяйкой квартиры. В какую авантюру снова ввязался Виктор? Следует ли ей предупредить Таша? Не угрожает ли опасность Жозефу? А Кэндзи заделался искателем любовных приключений, в его-то возрасте! Впрочем, почему бы и нет? Любовь — сладкий дар! Как и свобода. Пусть одни ищут-рышут, а другие соблазняют. В любом случае, возможность провести день в одиночестве — подарок небес.
Айрис достала из корзинки для рукоделия дорожку, которую собиралась подарить свекрови на день рождения: Эфросинье исполнялось сорок четыре. При мысли о том, что мать Жозефа родилась в год Дракона, Айрис фыркнула: властный характер госпожи Пиньо полностью соответствовал этому знаку. Эфросинья тоже рано стала матерью — она родила Жозефа в семнадцать лет, а Айрис сейчас двадцать. Она решила вышить дракона среди вытканных на холсте хризантем. Ребенок шевельнулся, и Айрис решила ненадолго прерваться.
Она мечтательно взглянула на заправленный в машинку лист бумаги. Писательство напоминало игру: найти нужные слова, включить воображение и сплести из них пестрый ковер повествования. Айрис схватила карандаш и набросала на листке бумаги: «
Жила-была на свете стрекоза, и влюбилась она однажды в мотылька…»
Виктор проголодался и озяб. Он зашел в кухмистерскую Дюваля, подкрепился яичницей-глазуньей и жареной картошкой и теперь в ожидании Жозефа лениво наблюдал за посетителями. Мужчина апоплексической наружности с бакенбардами с вожделением взирал на рюмку московской анисовки, которую налила ему официантка в темном шерстяном платье. Наконец появился до крайности возбужденный Жозеф. Он плюхнулся в плетеное кресло и выхватил из кармана иллюстрированное приложение к «Пти журналь».
— Между Сциллой и Харибдой! — громогласно объявил он. — Вот, читайте!
Виктор нетерпеливо протянул руку за газетой.
ЗАГАДОЧНАЯ СМЕРТЬ
Как только что стало известно, г-н барон де Лагурне, член клуба по улучшению лошадиной породы «Пегас», владелец нескольких чистокровок и соучредитель эзотерического общества «Черный единорог», скончался вчера вечером в результате падения с лошади. По заключению врачей, травма черепа могла быть получена в результате удара по затылку тяжелым предметом. Пока неизвестно, были ли действия преступника намеренными. Вдова барона госпожа Клотильда де Лагурне отказалась от вскрытия. Начнет ли полиция следствие по делу, которое рискует оказаться крайне непростым?..
Мужчина с пушистыми бакенбардами закурил кубинскую сигару. Ароматный дым достиг ноздрей Жозефа, и он поспешил защититься носовым платком. Виктор сложил газету.
— Что ж, если его убили, нам следует всерьез задуматься, не связана ли эта смерть с гибелью Лулу. Однако нить, связывающая обе жертвы, весьма эфемерна. Единственное, что подкрепляет наше смелое предположение, это слово «единорог».
— Меня мутит от дыма, — пробормотал Жозеф.
— Вы проголодались, вам нужно поесть.
Жозеф начал изучать меню, а Виктор достал блокнот. «Сладкое или соленое?» — думал один, пока второй обдумывал версии.
Жозеф подозвал официантку.
— Желе из айвы и чашку кофе, пожалуйста.
— Какая умеренность! Думаю, нам стоит нанести еще один визит в особняк де Лагурне, но мы отложим его на завтра, сегодня есть более срочные дела.
И Виктор описал Жозефу утренние события.
— Жившая на улице Винегрие американка маскируется под французскую гражданку Софи Клерсанж.
— Доллар на цепочке ничего не доказывает, — с полным ртом возразил Жозеф. — Держу пари, такую цацку можно достать у любого парижского антиквара-перекупщика. Если мне не изменяет память, Петронилла упомянула о приехавшей из Америки подруге, но не утверждала, что та — гражданка Соединенных Штатов.
— Петронилла?
— Ну да, одна из девиц, которых мы угостили дешевым обедом на улице Абукир!
— Ах да… Вы придираетесь к мелочам, Жозеф. Между прочим, мадам де Лагурне ведет себя подозрительно, вы не можете этого отрицать. Предлагаю следующий план: вы дежурите у «Отель де л’Ариве» и следите за каждой женщиной, которая в одиночестве покинет гостиницу. Возможно, так нам удастся вычислить Софи Клерсанж. Наблюдение, само собой, ведите скрытно.
— Мне не привыкать, патр… Виктор! Я — король сыщиков!
— И хвастунов. Я только сейчас понял, что рассказ Мартена Лорсона об убийстве Лулу дает повод к сомнениям. Он был сбит с толку тем обстоятельством, что убийца вскоре вернулся на место преступления. Но что, если мужчин было двое? Предположим, барон де Лагурне — а это вполне возможно — задушил Лулу, а его сообщник затем устранил самого барона.
— Мы блуждаем в тумане!
— Процитирую нашего дорогого Кэндзи: «Лучший способ выйти к свету — идти на ощупь сквозь мрак».
— Ну а я, как профессор Лиденброк,
[423] предпочитаю вооружиться лампой Румкорфа. Чем больше улик, тем яснее я вижу. Как зовут хозяина тележки?
— Брикар, Сильвен Брикар по прозвищу Миллионер.
— Почему так?
— Не знаю. Со слов малышки-горничной я понял, что он в более чем дружеских отношениях с вдовой Герен.
— А вы знаете, где живет Лорсон?
Виктор кивнул и расплатился по счету.
— Будет лучше, если я позвоню вам сегодня вечером в магазин. Надеюсь, Айрис ничего не подозревает, она ведь совершенно не способна держать язык за зубами…
— Не беспокойтесь, она думает только о будущем ребенке, — уверенно ответил Жозеф и с наслаждением вдохнул аромат лошадиного навоза, смешанный с запахом пыли.
Джина Херсон расставляла в вазе цветы из букета, доставленного посыльным. Подбор цветов был явно неслучайным, но она не была уверена, что разгадала код. Кажется, белые розы означают «Я вас достоин» — так, во всяком случае, написано в одном английском журнале. Лист папоротника — «ослепление», красные гвоздики… — «любовь»! А вот и лилии. Придется проверить. Букет был очень красив. Джина прочла приложенную к нему карточку.
«Цветок, на божественном наречии — дочь утра, очарование весны в сердце зимы, источник жизненных соков», — писал Шатобриан. Мне никогда не сравниться талантом с поэтом, но я могу быть приятным собеседником. Не согласитесь ли выпить со мной чашечку чая у Глоппа на Енисейских Полях? Буду ждать Вас у входа.
Преданный Вам
Кэндзи Мори.
Записка вынуждала Джину принять решение: отказываться глупо, она горько об этом пожалеет. Они с Пинхасом официально не разведены, но его отъезд в Нью-Йорк разрушил их союз. Свидание с Кэндзи Мори ни к чему не обязывает и не может считаться изменой супругу, отцу ее дочерей и сердечному другу. Они с Пинхасом редко ссорились, но их мнения по многим вопросам расходились. С годами политика развела их в разные стороны. Оба осуждали еврейские погромы и антисемитизм царского правительства, но Пинхас возводил в абсолют революционные идеи, а Джине всего лишь хотелось найти уголок, где можно жить достойно и в безопасности. Она надеялась, что ей, как и Таша, будет хорошо во Франции, и горевала, что ее младшая дочь Рахиль вышла замуж за врача по имени Милош Табор и поселилась в Кракове.
Возможно, они с Пинхасом и остались бы вместе, но Джина не могла не признать очевидного: в личном плане их супружеская жизнь обернулась катастрофой. Придя к этому выводу, она прямо сказала Пинхасу, что им надо расстаться.
Она осталась в мастерской, где вечно царил веселый беспорядок, Пинхас покинул конуру на Хестер-стрит и снял квартиру на Манхэттене. Дела у него шли настолько хорошо, что он время от времени переводил жене деньги, и она была ему за это благодарна, хотя и не понимала, как можно заработать на эксплуатации кинетоскопов. Виктор, зять Джины, недавно рассказал ей, что знаменитый Томас Эдисон изобрел машину, позволяющую показывать движущиеся картинки. Джина считала эти большие прямоугольные ящики непристойным развлечением, уместным разве что на ярмарке. На кинетоскопе была оборудована щель-приемник для денег и два отверстия с окуляром. Вращая ручку, зритель мог увидеть петушиные бои, боксирующих котов, бойцовских псов, танцы островов Самоа… Но наибольшей популярностью пользовались раздевающиеся потаскухи и подглядывающие за ними шалуны-любовники. К счастью, пленка кончалась до полного «разоблачения». Джина не понимала, как Пинхас мог увлечься подобной порнографией?
Она вернулась в комнату и спрятала в шкатулку последнее письмо с американскими штемпелями. Муж оставался за океаном, и она вольна была отправляться на свидание с мсье Мори.
«Нужно принарядиться».
Джина посмотрелась в зеркало, поправила золотисто-каштановые с проседью волосы.
«Ты похожа на старую ведьму, милая моя! Морщины, складки на шее… Воистину, кто-то опоил этого обольстительного азиата волшебным любовным напитком, как Тристана и Изольду. Ты сошла с ума! В твоем возрасте…»
Она умылась, накрасилась и надела классический туалет: платье из зеленовато-синей муаровой тафты с темно-розовой отделкой, которое вполне сочеталось с ее единственным манто. Рукава обтрепались, и их пришлось замаскировать кружевом. Глядя на тюлевую, украшенную примулами шляпу, Джина вдруг вспомнила, что символизирует лилия, — чистоту. Какая ирония! Она ведь почтенная мать семейства! Он что, смеется над ней? Она снова посмотрелась в зеркало: разоделась в пух и прах и готова бежать на свидание к мужчине, с которым обменялась несколькими ничего не значащими фразами и множеством волнующих взглядов! Джину мучил стыд, но она была не в силах справиться с возбуждением, словно юная девушка, взволнованная комплиментами первого в жизни воздыхателя. Много лет она в одиночку боролась, мечтала и душила свою мечту… Джина решительно повернулась к зеркалу спиной.
Поездка в фиакре оказалась бесконечно долгой. Судя по размеру зданий под номерами 110 и 112 по улице Фландр, поиски Мартена Лорсона будут ничуть не легче разгадки квадратуры круга. Но совесть Виктора была чиста — Таша пригласили к Натансонам, так что ему не пришлось вешать ей
лапшу на уши — и теперь он мог полностью отдаться своему любимому занятию — расследованию.
Надпись на мемориальной доске гласила:
ДОМ ЭРАР
ПЕРВАЯ МАНУФАКТУРА
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПИАНИНО И АРФ
Основана в 1780 году в Париже
братьями Эрар[424]
Ситуация осложнялась. Откуда начать? С мастерской, где изготавливают рояли, с механического цеха или оттуда, где собирают пианино? А может, с крытого склада?..
Виктор стоял в воротах огромного двора. Перед ним было несколько пяти- и шестиэтажных построек и сушилки с подогревом, где были сложены доски, багет, рейки и разнообразные емкости, видимо, с жидкостями для обработки дерева. Виктор остановил подростка, тащившего огромный кленовый брус.
— Не подскажете, где мне найти мсье Жакмена?
— В его штанах, где же еще! — воскликнул подмастерье и дал деру.
К Виктору подошел пожилой рабочий.
— Глуп, как пробка, да еще и дерзит, но вы на него не сердитесь, у нас здесь работает не меньше пятисот человек. Я вам помогу: Жакмен работает с роялями. Вы музыкант?
— Именно так. Ищу инструмент — с такими же резвыми клавишами, как… гоночный велосипед.
— Точное сравнение, мсье. Наши модели отличаются качеством, вы не пожалеете о потраченных деньгах.
Виктор ограничился общим осмотром фабрики. Благодарение Небу, здесь не воняло ни мертвечиной, ни сигарами. Он переходил из одного помещения в другое, пробирался мимо верстаков и ящиков, с удовольствием вдыхая запах свежей стружки. Все продолжали заниматься своим делом, никто не обращал на него внимания. Виктор миновал цеха, где делали каркасы, потом мастерскую, где склеивали отдельные части инструментов. Он всюду задавал вопрос о Жакмене, и ему советовали идти дальше. Наконец Виктор спустился на первый этаж, где плакировщики облицовывали каркасы кленом, красным деревом, туей и палисандром, но и тут не нашел Жакмена.
Вспотев и запыхавшись, Виктор шел мимо рабочих, натягивающих струны. Он и не представлял, сколько сложных операций нужно произвести для изготовления слоноподобного инструмента, из которого музыкант-виртуоз извлекает волшебные звуки. Он остановился посмотреть, как команда из семи лакировщиков наводит глянец на дюжину готовых инструментов, и залюбовался кабинетным роялем — шедевром Шарпантье и Беснара. Один из рабочих с удовольствием объяснил Виктору, что над инструментом трудились целых два года — это заказ богатого иностранца, заплатившего за работу кругленькую сумму в тридцать тысяч франков. Виктор присвистнул и сказал, что ищет своего друга Жакмена.
— Он на складе, на другом конце двора. Идите на звуки.
Виктор толкнул дверь, и на него обрушился водопад звуков. Гаммы. Он сразу вспомнил, как ребенком сидел на вертящемся табурете перед ненавистной клавиатурой, и отец, никогда не посещавший концертов, пытался вдолбить ему азы сольфеджио. Всякий раз, нажимая на клавишу, Виктор воображал, что обезглавливает невидимого врага. Он с сочувствием взглянул на девушек, которые опробовали пианино с только что натянутыми струнами. Как же мало эта какофония походила на «Арабеску» Шумана!
Высокий мужчина в халате со всклокоченными волосами и растрепанной бородкой надзирал за «пианистками».
— Господин Жакмен? — проорал Виктор.
Мужчина указал пальцем на себя, потом махнул рукой в сторону отгороженного закутка.
— Из-за этого шума я стал глухим, как тетерев. Чем могу быть полезен?
— Мне поручили встретиться с Мартеном Лорсоном.
Жакмен помрачнел.
— Вы найдете его у входа, он оборудовал себе конуру в одном из ангаров, где мы храним древесину. Смотрите, не проболтайтесь: если узнают, что я его приютил, мне попадет. Я не мог ему не помочь: как-никак, мы вместе учились в колледже. Бедняга совсем обнищал.
Пришлось начать поиски сначала. Виктор переходил из одного пакгауза в другой, пока не услышал, как кто-то фальшиво распевает пьяным голосом:
Друзьям плевать на воду, мы выберем вино…
На перегородке в свете керосиновой лампы колыхалась тень: в ширину она была явно больше, чем в высоту. Виктор обогнул баррикаду из мешков и досок и наконец-то увидел Мартена Лорсона: тот поджаривал над углями сосиску, прижимая к груди литровую бутыль рома, из которой периодически отхлебывал. Сделав очередной глоток, Мартен перешел к припеву:
И пусть главный тупица станет географом!
[425]
Появление Виктора прервало эту оду алкоголю.
— Кто здесь? Жакмен? — рявкнул Мартен Лорсон.
— Легри, книготорговец. Мы с вами разговаривали на бойнях.
— Книжник-детектив?.. Вы совсем чокнутый, раз притащились сюда средь бела дня! Когда вы наконец отвяжетесь от меня?
— Я купил вам сигарет.
Мартен Лорсон смягчился, снял с огня котелок и поставил его перед собой, прежде чем взять у Виктора пачку.
— Я не отниму у вас много времени, — сказал Виктор. — Мне не дает покоя одна деталь. Вы рассказали, что убийца сбежал и почти сразу вернулся — неизвестно зачем.
Мартен Лорсон громко икнул.
— Вы достаточно трезвы, чтобы отвечать? — уточнил Виктор.
— Будь я пьян, и двух слов не связал бы.
— Тогда скажите, но сначала подумайте: это мог быть другой человек?
Мартен Лорсон потирал ладони, держа их над жаровней.
— Странно, что вы заявились с этим вопросом именно сегодня. Я чуть не рехнулся, пока перебирал в уме подробности. И теперь уверен: молодчиков было двое!
— Спиртное не повлияло на ваше мнение?
— Нет, вовсе нет. Дело в их шляпах! Они были разные. Тот, что задушил девушку, был в фетровой шляпе, а второй — в картузе.
— Убийца мог сменить головной убор.
— Но зачем? Он не знал о моем присутствии, иначе вряд ли рискнул бы вернуться.
— В подобных обстоятельствах люди часто теряют голову.
— А вы, как я погляжу, знаток… — хмыкнул Мартен Лорсон. — Коли вы заявились в эту нору, значит, мои слова чего-то стоят, пусть я сто раз пьянчужка. Доверьтесь моему чутью. Пожмем друг другу руки и разойдемся. Я не хочу, чтобы вы навлекли на мою голову неприятности, мне их и без того хватает.
Виктор удалился, очень довольный тем, что Лорсон подтвердил его догадку.
Джина вышла из омнибуса. Кто-то толкнул ее, она извинилась. Город наступал на нее со всех сторон. По Елисейским Полям от Триумфальной арки катил океан экипажей. Шумное зрелище напоминало возвращение победителей после битвы.
У Джины закружилась голова, все поплыло перед глазами, и она прислонилась к дереву. Она не могла заставить себя влиться в толпу, лучше вернуться домой, где ей ничто не угрожает. Джина увидела свое отражение в витрине ювелирного магазина и показалась себе уродиной. По тротуару мимо нее шли элегантные, ухоженные женщины в сопровождении молодых и не очень мужчин, но все с пресыщенным выражением лиц. Ей показалось, что она читает их мысли: «Никто тебя не знает. Никто не знает, кто ты, никому не ведомы твои желания и твое одиночество. Тебе здесь нет места». Она вдруг устыдилась своего наряда и того, что дожила до зрелых лет, но так и не набралась опыта.
Кондитерская «Глопп» напоминала сказочный дворец. Джина запаниковала. Она никогда не осмелится переступить порог подобного заведения!
«Не стану бояться, — подумала она и сделала глубокий вдох. — Будь что будет».
Она стояла, пытаясь совладать с чувствами, и чувствовала себя какой-то мидинеткой.
[426] И все же как хорошо, что есть такой человек, как Кэндзи Мори, и как приятно думать — пусть это всего лишь иллюзия! — что она ему нравится.
— Вы заблудились? Мне очень жаль. Здесь слишком людно — победители и проигравшие возвращаются со скачек в Лоншане. — Кэндзи стоял перед ней и улыбался — так мило, так искренне. Он ее не обманывает. От него исходит умиротворяющее благоразумие, он ничем не выдает своих чувств. — Я очень рад вас видеть, дорогая, — сказал он. — Позвольте предложить вам руку.
Жозеф мерз у входа в «Отель де Бельфор». Он прохаживался по тротуару и то и дело поглядывал на часы, изображая нетерпеливого поклонника. Надо было «заправиться» поплотнее у Дюваля, есть ему хотелось ужасно, а уж за сортир он бы сейчас душу продал. Его убьет голод или холод, но прежде он опозорится, намочив штаны. Нет, он все выдержит. Уже дважды к стойке подходил, прихрамывая, какой-то человек и о чем-то разговаривал с портье. На третий раз он написал записку кому-то из постояльцев — судя по тому, что портье позвонил и вызвал грума. Хромой торопливо покинул холл. Жозеф принялся насвистывать, делая вид, что рассматривает витрину мебельного магазина. Хромой отошел на несколько метров и притворился, что его ужасно заинтересовала витрина другого, писчебумажного магазина. На вид ему было немного за сорок. Приятное лицо, разве что чуточку жесткое, густая шевелюра, бакенбарды… «Красивый мужчина», — машинально отметил Жозеф.
Он небрежной походкой вернулся обратно и задержался у входа: посреди холла с растерянным видом стояла очаровательная смуглая брюнетка. Она развернула записку, прочла, резко вскинула голову и побледнела, словно увидев призрак.
Заинтригованный Жозеф решил продолжить слежку. Неужели это и есть Софи Клерсанж?
Софи подошла к стоявшему у лифта груму.
— Кто оставил эту записку? — спросила она.
— Один господин.
— Как он выглядел?
— Не знаю, мадам, записку вручили мсье Делору, а он уже ушел.
— Где я могу его увидеть?
— Мсье Делора? О, мадам, он живет далеко, в Аржантейе.
У Софи подкосились ноги.
«Как они меня нашли?»
Она перечитала записку:
Вы в опасности, остерегайтесь, за вами следят. На вашем месте я бы убрался подальше от этой гостиницы. Не медлите, прошу вас. И главное, прервите на некоторое время все сношения с внешним миром.
Друг
Кто может быть автором предупреждения? Эрманс? Нет, она бы подписалась… Друг… Что еще за друг? Вон тот толстяк, который пьет джин с тоником? Или худой, как скелет, хлыщ, что болтает всякий вздор хихикающей индюшке?
Софи поднялась на лифте на четвертый этаж и заперлась у себя в номере. После убийства Лулу ее жизнь превратилась в кошмар. Кто же все-таки автор записки? Софи сменила адрес, успокоилась, а теперь все началось снова.
Кто-то хотел убить ее, но ошибся в выборе жертвы. Который из троих?
Жозеф заметил, что хромой вернулся в гостиницу и теперь стоял у лифта. Дверь открылась, появилась давешняя молодая женщина в теплой накидке. Коридорный нес за ней чемоданы. Незнакомка подошла к стойке, оплатила счет. Мальчик погрузил ее вещи в подъехавший к тротуару фиакр и крикнул кучеру:
— «Отель де л’Ариве»!
Дама села в экипаж.
Хромой перегнулся через стойку и выложил перед портье несколько монет. Тот что-то сказал, хромой кивнул, огляделся и направился к вращающейся двери.
Жозеф выждал пять минут, выхватил из кармашка часы и ринулся к стойке.
— Это уже слишком! Все женщины одинаковы, все не в ладу со временем! Соблаговолите сообщить мадемуазель Клерсанж, что клерк мэтра Пиньо желает немедленно ее видеть.
— Не могу, — невозмутимо сообщил портье.
— Это почему?
— А потому, что она съехала, муж, видите ли, тоже пожелал ее видеть. Стоило брать номер на один день!
— Муж? И куда же она отправилась?
— К нашим конкурентам.
На счастье Жозефа, на улице Страсбур имелся общественный туалет. Он облегчился и вернулся на свой пост к гостинице. Присутствие в холле хромого ничуть его не удивило. Неужели это и есть супруг Софи? Нет, не может быть — с чего бы ему тогда прятаться? Кроме того, его записка вынудила Софи срочно съехать из отеля, хотя, судя по ее растерянному виду, она явно не знала того, кто ей писал. Неужели хромой предупредил ее о том, что за ней по пятам ходит молодой блондин? В таком случае, сейчас все разъяснится: Жозеф увидел, что хромой идет прямо на него, и приготовился отразить нападение, но тот, даже не взглянул на Жозефа, направился к бульвару Страсбур.
Жозеф согрелся, но голод мучил его все сильнее. Он брел за хромым мимо ярко освещенных окон ресторанов и кипел от злости. Кто этот человек? Несчастный влюбленный? Сыщик? Бандит? Убийца Лулу?
Они свернули на улицу Винегрие. На бульвар Мажента опустились сумерки. Жозеф увидел кондитерскую и с волнением прочел название:
У СИНЕГО КИТАЙЦА
ВДОВА ГЕРЕН
Он замедлил шаг. Хромой вошел в обшарпанный дом напротив бистро. Слежка становилась все более утомительной, но Жозефу повезло: хромой пробыл внутри недолго, сменил редингот на коррик
[427] и направился в сторону бульвара Мажента. Боже, неужто он собрался вернуться в отель? Только не это…
— Говорю же вам, хромой рванул к «Отель де л’Ариве» на такой скорости, словно от этого зависела его жизнь, подкупил портье и уселся на стул, как прилип. Готов побиться об заклад, он там и заночует! Я выдохся, у меня больше нет сил! — через некоторое время по телефону сообщил Виктору Жозеф.
— Сочувствую, но мы не должны его упустить. Завтра отправляйтесь туда как можно раньше, с Кэндзи я все улажу. Он дома?
— Еще не вернулся. А что я скажу вашей сестре?
— Что-нибудь придумайте.
— Полагаете, ее легко обмануть?
— Ну, она хотя бы делает вид, что обманывается. Так да или нет?
— Да.
Жозеф осторожно положил трубку и едва не подпрыгнул, когда у него за спиной раздался голос Айрис:
— Ну что, старинные фолианты стоили поездки в Бург-ла-Рен?
Виктор задумчиво смотрел на телефон и гладил вспрыгнувшую ему на колени Кошку. Ему не давало покоя слово «хромой». Он прогнал Кошку, и она принялась оскорбленно вылизывать пушистую грудку. Виктор достал из кармана блокнот. Ага, вот оно: Альфред Гамаш упоминал про высокого хромого мужчину мрачной наружности. Тот ли это человек, которого видел Жозеф?
— Мы у цели, — объявил он Кошке, и та, решив, что ее сейчас накормят, помчалась на кухню.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Понедельник 19 февраля
Жозеф размышлял, стараясь как можно медленнее жевать круассан. Кто придумал пословицу: «Кто спит — ест»? Он отлично выспался, а потом позавтракал вместе с Айрис, но не сказать, чтобы досыта наелся. Может, причина в холодной погоде? Хорошенькая же идея пришла в голову Виктору — послать его на улицу Страсбур топтать тротуар под пронизывающим северным ветром! Интересно, купился ли Кэндзи на историю о выставке книг по искусству в Друо? Что до Айрис, то она пожаловалась на мигрень и снова легла.
Устав наблюдать за дверями «Отель де л’Ариве», куда входили только поставщики, Жозеф перебирал в уме народные поговорки. Большинство из них казались ему идиотскими. Взять хоть эту: «Кого люблю, того и бью». Вряд ли его тесть и шурин оценили бы порку розгами — пусть даже из лучших побуждений, в воспитательных целях.
Он передернул плечами от холода, завидуя своей нежнейшей «половине», которая сейчас нежится под одеялами. Но ведь она в положении, а подобный опыт ему ни к чему. Жозеф представил себя беременным и посмеялся нелепости этого видения. Минутой позже он задумался о посетителях заведения, наслаждающихся вкуснейшей едой в жарко натопленном зале. Интересно, хромой тоже там? Накануне вечером он долго торчал в холле и, судя по всему, собирался задержаться до утра.
Пока Жозеф предавался этим размышлениям, к тротуару подкатил тележку с нарисованным на ней трехцветным флагом немолодой мужчина. Он выглядел довольно экстравагантно: помятый цилиндр, изношенный черный редингот, широкий синий пояс и красные сабо. Тяжелые веки и выдающиеся вперед челюсти делали его похожим на бульдога. Он постоял перед входом, разминая натертые лямками тележки плечи и лопатки, и вошел внутрь. Жозеф проскользнул следом и услышал раскатистый голос незнакомца:
— Тьфу, пропасть! Скажите, что пришел Брикар, Сильвен Брикар, дядюшка Брикар! Я попусту потратил время, притащил ее сундук в «Де Бельфор», а там сказали — вези в «Де л’Ариве». Ладно, так тому и быть, но теперь всё, точка, конечная остановка, слезай — приехали! Я же не чемодан Гуффе
[428] притаранил, а бабьи тряпки! Разбирайтесь сами!
Он вышел на улицу и принялся снимать ремни с сундука с медными окантовками, стоявшего на тележке, на которой было написано оранжевыми буквами:
ТОЛЬКО СВЕЖИЕ ОСТАТКИ
— Вам помочь? — предложил Жозеф.
— Не откажусь, — буркнул Брикар. — Хозяин этой ночлежки глуп, как пробка! Я уже голос сорвал, но никак не могу объяснить этому дураку, что Софи Клерсанж ждет меня. Он твердит, что она никого не принимает. Деревенщина неотесанная!
Под высокомерно-неодобрительным взглядом швейцара в адмиральской униформе они изловчились занести сундук внутрь и поставили перед стойкой портье.
— Вот вам вещи дамочки, делайте с ними, что хотите, а я умываю руки, — заявил Сильвен Брикар.
— Я тоже хотел встретиться с Софи Клерсанж, она заказала мне книгу… Но эта женщина неуловима, — сообщил ему Жозеф, когда они вернулись к тележке.
— Она и впрямь изменилась с тех пор, как вышла замуж за американского богатея и уехала из Калифорнии.
— Она замужем? И как же фамилия ее мужа?
— Мэт-как-то-там, слышится, не как пишется, язык сломаешь! Вообще-то, могла бы отблагодарить меня и получше.
— Вы с ней родственники?
Сильвен Брикар досадливо сплюнул.
— Родственники? Да я качал Софи на коленях, и она сосала мой палец. Я много лет заменял ей отца, родной-то папаша был в отсутствии, а я хотел угодить моей тогдашней цыпочке. Потом мы с малышкой потеряли друг друга из виду, но когда у нее случились неприятности, я тут же пришел на помощь. Извините, мне пора, надо забрать товар от церкви Святого Иоанна Крестителя. На тамошнего сторожа надежды мало, он недотепа, того и гляди, раздаст хлеб беднякам из своего прихода! Нужно успеть отвезти товар на склад на Эншевальской дороге.
— Простите мое любопытство, но как вам удается сохранять остатки хлеба свежими?
— Это только так говорится. Остатки уступают мне булочники или их подмастерья. Я получаю бриоши, хлебцы из теста на молоке с маслом, ячменные булочки, хлебцы из крупчатки, и все — твердое, как булыжник, такое не продашь, разве что в качестве оружия. Но я кое-что придумал: сажаю их в печь, потом складываю в корзины, гружу корзины в повозку и прикрываю шерстяным одеялом, чтобы не остыли, а потом продаю клиентам… как свежий хлеб! Ну, прощайте. — Он кряхтя взялся за ручки тележки.
— Еще минуту! — взмолился Жозеф. — Вы говорили о неприятностях, которые были у… Софи… да, у Софи Клерсанж. Она не поладила с полицией?
— Это давняя история, в процессе были замешаны светские дамы и не очень, и губки, и свечи, и рожь со спорыньей и все такое прочее. Всё, я снимаюсь с якоря, нужно успеть к окончанию уроков…
Уже отойдя прочь, Брикар обернулся и крикнул:
— Сегодня меня ждет лучшая выручка за всю зиму!
— Замужем! Мэт-как-то-там еще. Рожь со спорыньей, — бормотал себе под нос Жозеф, — дрожжи и пшеничная мука… Этот плут, похоже, повредил себе мозги. И это он — миллионер? Тогда я — король Пруссии!
Мелкий град барабанил по мостовой круглой площади Ла Виллетт. Альфред Гамаш пытался очистить окоченевшими пальцами теплые каштаны, купленные у араба в лавочке рядом с пожарным насосом. Рекламный проспект зазывал на новое ревю в «Фоли-Бельвилль» с забавным названием «Вот ползет фуникулер».
[429] Гамаш обещал Полине, что придет поаплодировать ее выкрутасам в трико телесного цвета. Он положил в рот золотистый шарик и принялся с наслаждением жевать его, вспоминая юные годы: зимой, по воскресеньям, его мать — она была маникюршей — всегда покупала ему кулек жареных каштанов. Он пытался ее угощать, но она отказывалась, уверяя, что совершенно сыта, хотя была худа как щепка.
Рядом кто-то кашлянул, прервав его размышления.
— Добрый день, вы меня помните? Моя жена — художница, она работает для…
— «Пасс-парту», помню, как же. Я его прочитал: ничегошеньки там не написали! Сдается мне, вы все наврали, — с полным ртом процедил Гамаш.
— Ошибаетесь. Я все время думаю о том хромом, которого вы описали в нашу прошлую встречу.
— Я что-то говорил про хромого? Ну надо же… Я тут прочел в одной газетенке занятную вещь: если столбик термометра опускается ниже нуля, у людей случаются галлюцинации — в точности как в тропиках. Вы бы сходили к доктору.
Гамаш продолжил жевать каштаны, а Виктор аккуратно сложил вчетверо банкноту и сунул в щель в облупившейся стене ротонды. Альфред Гамаш и глазом не повел.
— Кто вы?
— Помощник высокого сыщика в доломане, который все время сосет леденцы.
— Легавый, черт бы вас подрал!
— Вы рассказали инспектору Лекашеру про хромого?
— Допустим, хромой и вправду существует: но мне было бы затруднительно сообщить о нем вашему шефу.
Виктор закурил и выпустил дым в лицо Гамашу.
— Почему?
— Слыхали о таком: сначала — причина, затем — следствие. Пример: предположим, вы стали жертвой призраков, притворившихся людьми. Как их опишешь, если не видел? Может, я грезил наяву, а может, и был какой-то тип, он вроде как припадал на одну ногу, — и спроси кто, не заметил ли я чего в ночь преступления, я, может, и ответил бы: «Милейший, я свечку не держал…» Так оно все и случилось после беседы с вашим инспектором.
— А как оно выглядело, это ваше наваждение?
— Брюнет с бакенбардами, без усов и без бороды.
— Одежда?
— Я смылся. Решил поостеречься. Сказал себе: «А если этот легавый или, того хуже, журналист пудрит тебе мозги?». Так что рассматривать его я не стал. Глядите-ка, что растет на стенах, — хмыкнул Гамаш и сунул в карман купюру.
— Я ничего не заметил. Вы бы поостереглись, вдруг это оптический обман…
— Это вряд ли. Хотите каштанчик?
…По залу пронесся ледяной сквозняк, Кэндзи чихнул, поймал едва не слетевшие на пол бумаги и рявкнул:
— Закройте дверь!
Хельга Беккер со своим неразлучным велосипедом столкнулась с выходившими покупательницами, и они так и стояли бы в дверях, если бы не Эфросинья. Она твердой рукой отодвинула в сторону даму в галифе с железным конем, а библиофилок вытолкала на улицу.
— Как жаль, мадам Пиньо, что в жандармы берут только мужчин, — буркнул Кэндзи, — из вас вышел бы отличный страж порядка.
— Зато повариха из меня вышла не хуже! Это к сведению тех, кто что-то имеет против мерланов с томленой в сале чечевицей!
Кэндзи снова чихнул и высморкался. Из льняного платка выпали крошки пирожного, он подцепил одну указательным пальцем и лизнул.
— Тарталетка с малиной.
Какой милый вышел вечер у «Глоппа»! Кэндзи был в восторге от Джины. Обычное чаепитие превратилось в захватывающее, просто головокружительное приключение. На нежном лице его спутницы было одновременно и смущение и влечение, которое она тщетно пыталась скрыть. Их пальцы соприкоснулись, когда он разливал чай, она покраснела и отвела взгляд. Покоренный Джиной, Кэндзи прислушался к себе. После смерти Дафнэ он всегда общался с женщинами в покровительственно-непринужденной манере, но теперь все изменилось. Он отвез Джину домой, на улицу Дюн, поцеловал ей на прощанье руку и понял, что пленен. Душа его оживала, но он надеялся скрыть свои чувства от Джины.
— Я, как Исав, охотно продала бы право первородства за тарелку чечевичной похлебки, мадам Пиньо, — хихикнула Хельга Беккер.
— Я думала, у вас нет ни братьев, ни сестер.
— Я выразилась фигурально. Сегодня утром я ощущаю такую легкость! Мой соотечественник доктор Отто Лилиенталь
[430] сделал новую попытку и одержал победу! В октябре прошлого года ему удалось подняться в воздух и спуститься вдоль склона одного из холмов Риноу. Теперь он прыгнул с платформы в Штиглице — это недалеко от Берлина — и приземлился в двухстах пятидесяти метрах!
— Этот ваш Отто вообразил себя птицей?
— Именно так! Он десять лет изучал пернатых, в том числе аистов, и твердо уверен, что мы научимся летать, как они. Аисты — птицы крупные и тяжелые, но это не мешает им лететь, планируя. Все дело в том, что крылья у них вогнутые. Когда они полностью развернуты, ветер толкает их вверх, а хвост служит рулем!
Хельга Беккер раскинула руки, рискуя смахнуть на пол книги, и Эфросинья преградила ей дорогу.
— Значит, если привязать к слону двух жирных гусей и выпустить их, задав направление на юг, они перелетят через Пиренеи? Чушь собачья!
— Да как вы можете высмеивать технический прогресс!
Unverstӓndig![431]
Кэндзи не смог не вмешаться.
— Я сторонник прогресса, но согласен с госпожой Пиньо. Того, что мы уже имеем в области воздухоплавания, более чем достаточно: монгольфьеры, воздушные шары, дирижабли…
Ноздри Хельги Беккер раздулись, она встала на цыпочки и устремила гневный взгляд на верхнюю ступеньку лестницы.
— А я утверждаю: сегодня — ведущее колесо, а завтра — полет!
— Что случилось? — воскликнул Жозеф, который, разрумянившись от холода и спешки, в этот момент вошел в лавку.
— О чем вы? У нас разве что-то украли? — Кэндзи недоуменно поднял брови.
— О нет, видите ли…
Эфросинья бросилась сыну на помощь:
— Вообрази, цыпленочек, что предсказывает госпожа Беккер: нам приделают крылья и заставят махать ими до тех пор, пока мы не оторвемся от грешной земли!
— Раз так, я ухожу, — объявила Хельга Беккер и, повернувшись, столкнулась с Виктором и его велосипедом.
Удар металла о металл, натянутые улыбки, извинения и наконец — блаженное затишье.
— Тевтонка ретировалась, а меня ждет плита, — буркнула Эфросинья и скрылась на кухне.
Жозеф нашел Виктора в задней комнате, где тот полировал замшевой тряпочкой руль своего велосипеда.
— Нужно было взять фиакр, мостовая превратилась настоящий в каток. Но дело того стоило: Гамаш подтвердил, что видел хромого на месте преступления. Ну, а что у вас, почему так рано вернулись?
— Задание выполнено, шеф. А вернулся я потому, что Софи Клерсанж доставили ее вещи, следовательно, она твердо решила остаться в «Отель де л’Ариве». Насчет хромого — никаких следов. Но не беспокойтесь, у меня есть его адрес. А еще я…
— Притормозите, Жозеф! Я вами горжусь, отличная работа, вы — первоклассная ищейка.
Жозеф скромно перевел взгляд на застекленный шкаф с колчанами и духовыми ружьями, но его лицо сияло гордостью.
— Теперь нам нужно сходить на улицу Варенн и выразить соболезнования мадам де Лагурне, а еще я хочу попытаться выяснить личность мордатого, — пробормотал себе под нос Виктор.
— Не забудьте, что у этого чудака был ключ с единорогом и он хотел получить доступ к коллекции барона, чтобы проверить, не залили ли ее кровью, как его собственных кукол. Надо же — куклы, и это в его-то возрасте! Хотите, я все запишу?
— Это ни к чему, Жозеф, я все запомнил. — Виктор постучал пальцем по виску.
— Когда мы отправляемся?
— Я пообедаю с Таша — постараюсь управиться побыстрее — и побегу.
— Где встречаемся?
— Я пойду один и потом позвоню вам.
Жозеф застыл, словно не понял смысла сказанного, глаза у него округлились, дыхание перехватило от возмущения.
— Чем я провинился? — прошептал он, морща лоб.
— О, ничем, — язвительно-приторным тоном ответил Виктор. — Всего лишь оставили свой пост, хотя должны были следовать за Софи Клерсанж по пятам, и выставили меня дураком перед мсье Мори, которому я сказал, что послал вас на выставку в Друо и вы пробудете там целый день. Знаете, Жозеф, вы меня огорчаете. Засим позвольте откланяться.
Виктор толкнул дверь, ведущую в лавку, поскользнулся на паркете, с трудом удержался на ногах и вошел внутрь.
Жозеф был вне себя.
— Он вконец обнаглел! Что ж, тем хуже для него: не узнает, что наболтал мне Брикар. Ничего не узнает, ни единого словца, я все приберегу для себя! Рожь со спорыньей, губка, свеча, процесс и все-все-все! Катитесь к черту, дядюшка Легри!
— Заткнись! — взревела Эфросинья.
Виктор мял в руках шляпу, уставясь на носки своих ботинок: он был смущен ничуть не меньше, чем при встрече с Моминеттой. Служанка с усыпанным бородавками лицом провела его в гостиную, задрапированную темными, поглощающими свет гардинами. На стоящих полукругом козетках полулежали дамы, на их бледных, с темными кругами под глазами, отрешенных лицах лежала печать вселенской усталости. В трепещущем пламени свечей Виктор разглядел туалетные столики между диванами: среди флаконов с духами и пудрениц валялись золотые и серебряные шприцы в кожаных, инкрустированных драгоценными камнями чехлах.
Одна из дам протяжно вздохнула и тут же расхохоталась как безумная.
— Клотильда, к вам прекрасный незнакомец. Не знала, что вы снова интересуетесь сильным полом!
Она села, нисколько не смущаясь, задрала юбки, спустила черный чулок и сделала себе укол в бедро. Мадам де Лагурне медленно встала, поправила вдовий чепец и разгладила гренадиновое платье и мантилью. Баронесса была одного роста с Виктором. На ее бледном как мел лице выделялись глаза с расширенными зрачками, выдававшими пагубное пристрастие.
— Дорогая мадам, я глубоко опечален вашей утратой. Какая несправедливость! Прошу вас…
— Это плеоназм, мсье: смерть — всегда несправедливость, — ровным тоном ответила она, и Виктор понял, что действие морфина уже проходит. — Вы меня удивили: оказывается, у Эдмона, несмотря на все его выходки, еще оставались друзья. Вы ведь его друг, я не ошиблась?
— Конечно, мадам, я доставал для него книги по алхимии, мы познакомились…
Она подняла руку, не дав ему договорить.
— Не трудитесь, мсье, меня совершенно не интересуют дела покойного мужа. Если хотите с ним проститься, Оливия проводит вас на второй этаж.
Она позвонила в колокольчик. Шаркая стоптанными туфлями по паркету, появилась горничная. Очнувшиеся от дурмана гостьи баронессы встретили ее веселыми смешками.
Они миновали длинный коридор и оказались в знакомой Виктору по описанию Жозефа прихожей. Оливия застыла на месте и подняла взгляд на Виктора. Черная траурная лента, приколотая к воротничку, придавала ей еще более суровый, неприветливый вид.
— Мадам слишком увлекается этим снадобьем. Уверяет, что оно помогает от нервов, но если будет продолжать, скоро превратится в развалину. Она то спит часами, то бродит всю ночь по дому, ничего не ест и все забывает!
— Мне показалось, что смерть супруга ее совсем не расстроила.
— Да плевать она на него хотела. В этом доме только я одна о нем и заботилась. Но не решилась позвать священника, чтобы он соборовал барона и отпустил ему грехи. Благодарение Господу, наш добрый кюре в последний момент прислал своего кузена, и он помолился, так что хозяин, может, и попадет в рай, несмотря на все свои прегрешения. На мадам и ее болвана-сына нечего рассчитывать… Нечестивцы! Они его бросили. Заниматься музыкой в день траура! У этого юноши нет сердца.
Где-то в дальних комнатах горе-пианист терзал полонез Шопена.
— Барон оставил большое наследство?
— Сущие пустяки! Состояние растрачено, а долгов — вовек не расплатиться. Дом заложен и перезаложен. Хорошо еще, что семья хозяина — они живут в Орлеане — согласилась приютить мадам с сынком. А вот я уже в таком возрасте, что на мои рекомендации никто и не взглянет… — Служанка замолчала, не договорив, но намек был вполне прозрачен, и Виктор сказал:
— Я всего лишь скромный книготорговец, но попробую…
— О, мсье, благодарю вас, благодарю! — воскликнула Оливия и провела его в помещение, где лежал покойник.
Виктору стало не по себе: атмосфера в комнате с закрытыми ставнями была мрачная. Усопший лежал на кровати в костюме для верховой езды и казался огромным. Его руки были сложены на крупном распятии из слоновой кости. Горящие свечи отбрасывали на стены причудливые тени.
— Это правда, что ему проломили череп? — спросил Виктор у Оливии, которой явно не терпелось поскорее уйти.
— Врачи в конце концов согласились с тем, что с самого начала говорила сиделка: кто-то столкнул несчастного с Приама. Целились не в лицо, а в затылок. И ведь даже бумажник не взяли!
И Оливия удалилась, бормоча что-то о предателях и трусости.
Оставшись наедине с Эдмоном де Лагурне, Виктор зажег керосиновую лампу. Труп приобрел нормальные пропорции, а костюм стал выглядеть почти гротескно: шелковая шляпа, куртка, брюки со штрипками. Сапоги и стек лежали на коврике. Неужели и лошадь тихонько пофыркивает в коридоре?
Виктор обескуражено обвел взглядом комнату, загроможденную мебелью в стиле Людовика XVI. Где искать ключи? Он начал с секретера, из которого на пол вывалилась гора писем и счетов, потом присел на корточки перед книжным шкафом, почувствовал судорогу в правой икре и подумал: «Неужели старею?». Не без труда распрямившись, он стоял, сдвинул шляпу на затылок, и задумчиво чесал висок. Тут и за три дня не управиться.
Он попытался сосредоточиться.
«Загляни в глубины памяти», — всегда советовал Кэндзи. Ладно, заглянем. Куда его отец обычно прятал ключ от кладовой, чтобы сын не воровал сахар и яблоки? Виктор нахмурился, и перед его мысленным взором возникла большая ваза в узорах-завитушках, стоявшая на углу каминной полки в столовой. Батюшка явно недооценивал его сметливость. Виктор почти сразу вычислил тайник, но не воспользовался находкой: слишком силен был страх перед наказанием.
В комнате было три китайских вазы: ключ оказался во второй. На крученом кольце висел крошечный золоченый единорог. Виктор преисполнился почти детской радости, но тут же задался вопросом: ключ у него есть, но к какому замку он подходит?
Мебель обступала его враждебной стеной. Неужели придется-таки обшарить все углы и закоулки? Виктор уныло кружил по последнему обиталищу покойного барона. Какая бы участь ни ожидала того, кто носил в этом мире имя де Лагурне, пережитые им муки, пристрастие к эфиру, оккультизму и деньгам и даже побудительные мотивы преступления, положившего предел его дням, вместе с последним вздохом стали достоянием потустороннего мира. А что, если насмешливый призрак наблюдает сейчас за Виктором, который, как белка в колесе, мечется по комнате?
На переднем плане гобелена Жуи
[432] были изображены пастушки с бледно-голубыми овечками, из уходящей к горизонту рощи выезжали на опушку влюбленные мушкетеры. У Виктора закружилась голова, и он замер. Что-то тут было не так. Он вгляделся в стену напротив окна и наконец понял, что именно привлекло его внимание: одна из овечек отражала свет. Он подошел, не сводя глаз с блестящего предмета. Замочная скважина! Он поднял лампу, кончиками пальцев обвел прямоугольник размером метр пятьдесят на семьдесят сантиметров, простучал его и понял, что с другой стороны — пустое пространство.
Виктор повернул ключ, увидел перед собой коридор, взял свечу и головой вперед шагнул в темный проход. Метра через два он наткнулся на перегородку. Огонек свечи вздрогнул и погас. Виктор решил вернуться, но понял, что попал в ловушку. Чтобы снять напряжение, он соскользнул на пол и тут же почувствовал тошноту.
Ему тогда было семь лет. Отец стоял над ним — огромный и грозный. Приговор был вынесен и обжалованию не подлежал. За какое преступление его могли посадить в подвал? Подвал, темнота, одиночество. Он этого не вынесет, он умрет.
Виктор сидел, упираясь подбородком в колени, и судорожно шарил по карманам в поисках зажигалки. Фитиль свечи загорелся, закоптил, и пламя метнулось из стороны в сторону. Легкое дуновение воздуха коснулось лба Виктора.
— Боже, сделай так, чтобы…
Воздух проникал через щель в деревянных панелях. Виктор приложил руку к стене и услышал щелчок. Панель отъехала в сторону.
Пригнувшись, Виктор пересек тамбур и оказался в кабинете, заваленном грудой разнородных предметов. Свет проникал в это помещение через слуховое окно. Первым, что бросилось в глаза незваному гостю, были книги и бесчисленные единороги из бронзы, мрамора, аметиста, хризопраза и глины. Постепенно глаза Виктора привыкли к тусклому свету, и он заметил, что некоторые статуэтки разбиты. Его затошнило от какого-то странного запаха. Уж не попал ли он, часом, в брюхо переваривающего обед единорога? Тут он заметил коричневатые пятна: они были повсюду — как проказа, как оспины на лице. Виктор пригляделся и понял, что это запекшаяся кровь. Горло у него перехватило спазмом. Брызги были повсюду — на полу, на ковре, на стенах… Виктор посветил свечой на переплеты книг: «Основы алхимии» Бертело, трактаты Николя Фламеля, Альберт Великий, Элифас Леви, Роджер Бэкон, Бэзил Валентайн, Парацельс, Гельвеций — все в омерзительных бурых пятнах.
— Какая жалость, это оригиналы, и они погибли, — пробормотал Виктор.
Пламя свечи отразилось от поверхности овального зеркала в раме, украшенной листьями аканта, и на миг ослепило Виктора. Он моргнул и прочел написанные печатными буквами слова:
В память о брюмере и ночи мертвых
Луиза
Он случайно задел столик, и единороги посыпались на пол. Виктор поймал несколько медальонов: все они были точной копией талисмана Мартена Лорсона. Зловещая тайна, которую они с Жозефом никак не могли разгадать, начинала проясняться: медальон из Ла Виллетт — явно из коллекции убитого Эдмона де Лагурне, а вот Луиза… Нет, она не могла оставить это непонятное послание. Так кто же написал слова на зеркале? Загадочная мстительница Софи Клерсанж? Эрманс Герен? Хромой? Миллионер? Человек с квадратным лицом? Виктор взглянул на ключ от кабинета, словно опасался, что и на нем окажется пятно крови, как в сказке о Синей Бороде, потом сунул его в карман и попытался открыть слуховое окошко, чтобы глотнуть свежего воздуха. Шпингалет заело, он отступил назад, наткнулся спиной на дверь, через которую вошел, и она захлопнулась, прежде чем он успел ее придержать. Виктор собрался с духом и начал методично обыскивать комнату в поисках скрытого механизма. Задев ногой кочергу, он нагнулся и увидел под одной из полок деревянные стружки. Там оказалась вторая дверь, замаскированная фальшь-переплетом. Он надавил ладонью, и она сразу поддалась.
Виктор оказался у винтовой лестницы в коридоре, провонявшем цветной капустой. При мысли о еде его снова затошнило. В полубессознательном состоянии он спустился по ступеням и вышел к кухне, где возилась служанка. Девушка схватилась за сердце.
— Как вы меня напугали…
— Предупредите вашу госпожу, что я ухожу.
Баронесса де Лагурне не захотела беседовать с гостем в присутствии подруг и увлекла его на лестничную площадку. Она припудрила лицо и выглядела почти нормально: только вялые интонации выдавали ее нездоровое пристрастие к наркотику.
— В то утро у вашего мужа было много посетителей?
— Три или четыре человека, — уклончиво ответила она.
— Я прочел в газетах, что вы отказались от вскрытия. И правильно сделали.
— Я также не желаю, чтобы полиция обыскивала дом.
— Вот это я нашел рядом с кроватью, — сказал Виктор, протягивая ей ключ. — Пожалуй, будет разумно закрыть доступ в комнату.
— Тайный кабинет… Спасибо, — прошептала она.
— Я бы хотел прийти на похороны.
— Погребение состоится завтра, в десять утра, на кладбище Монпарнас, в семейном склепе. Соберутся все верные соратники мужа, будут плакать, произносить высокопарные речи, хотя ни один не питал к нему искренне дружеских чувств. Все они безумцы, и худший из всех — Гаэтан.
— Я приду с Софи… Софи Клерсанж.
— Софи? Одна из ваших побед? Или ее сердце покорил Эдмон?
Виктору показалось, что баронесса искренне удивлена, и он откланялся, но прежде все же счел нужным уточнить:
— Это молодая дама, она интересуется «Черным единорогом».
— Буду рада снова вас увидеть, мсье. Вы не похожи на… других.
Виктор направился к стоянке фиакров. «Печально, — думал он, — что морфий оказывает на европейцев, особенно на женщин, влияние столь же пагубное, как опиум на китайцев». Неожиданно он заметил толстяка в старом коричневом костюме и потертом котелке, который неторопливо шел по тротуару, переваливаясь с ноги на ногу. Это был Исидор Гувье, флегматичный, но проницательный репортер «Пасс-парту».
— Мсье Гувье! — крикнул Виктор.
— Мсье Легри! Вот так встреча! Сколько же мы не виделись, года два? Как я рад! Что поделываете? Все сочиняете детективные истории?
— Это не я, а Жозеф Пиньо, мой приказчик.
— Он, кажется, женился, а его счастливая супруга — ваша сводная сестра.
— Как вы узнали?
— У меня есть привычка заглядывать в раздел свадебных объявлений и некрологов газеты, где я имею честь служить. А как насчет вас?
— Я вполне доволен жизнью. Выпьете со мной?
— Благодарю, но у меня свидание с дамой. Не подумайте чего такого, это задание редакции, — пояснил Гувье, кивнув на обшарпанный особняк барона де Лагурне.
Виктор принял молниеносное решение сказать полуправду.
— Какое совпадение! Я только что навестил вдову. Усопший был нашим клиентом. Кажется, он упал с лошади и ударился затылком.
— Так говорят… Хотя врачи уверены в обратном. Поговорите с ними, если не боитесь получить головную боль от их ученой тарабарщины! Я в недоумении — барон считался одним из лучших наездников… Попытайтесь что-нибудь разнюхать. Вам хорошо известен мой патрон. Когда Антонен Клюзель чует скандал, он желает получить пикантные детали. Упоминание тайного общества «Черный единорог» мгновенно повысит тираж газеты.
— Я что-то об этом слышал, но детали мне неизвестны.
— Сборище чокнутых последователей Николя Фламеля. Ищут философский камень, будь он неладен!
— Госпожа де Лагурне та еще штучка. Думаете, полиция захочет вмешаться?
— Кто знает? Судя по моим источникам, в префектуре пока не приняли никакого решения. В этом оккультном обществе состоит много влиятельных особ, так что нужно проявить деликатность. Барон был одним из трех основателей «Единорога».
— Не знал…
— Теперь делом заправляют двое, а их паства — человек двадцать крупных промышленников, мелких дворян, модных актеров, политиков, чиновников… есть даже один инвалид с Моста Искусств!
— Кто-кто?
— Академик. Вам наверняка знакомы их имена.
— А компаньоны барона вам
известны?
— Председатель общества — Ришар Гаэтан.
— Кутюрье с улицы Пэ?
— Он самый. Конкурент Уорта. Оборки, воланы, перья и пайетки! Правая рука Гаэтана — звезда Зимнего цирка Франкони,
[433] виртуоз прыжков и трюков, любитель экзотики. Наряжается то черкесом, то китайцем, то японцем, то марокканцем, то индусом. Его зовут Абсалон Томассен. Он исполняет фантастический номер: совершает сто оборотов, вися на проволоке.
— Великий Абсалон, — пробормотал себе под нос Виктор. — Собираетесь упомянуть в статье их имена?
— А то как же! За это мне и платят. А если на газету подадут в суд, Клюзель решит проблему.
— Очень досадно.
— Почему?
— Не самая лучшая реклама для книжной лавки «Эльзевир». Эти люди — наши постоянные клиенты.
— Ошибаетесь, Виктор, покупателей у вас станет только больше. Кстати, как продвигается ваша детективная деятельность?
— После женитьбы на Таша я остепенился.
— Браво, хороший выбор. Вы меня успокоили — я не раз опасался за вашу жизнь. Мне пора, мсье Легри. Заходите в редакцию и передайте от меня поклон жене.
Жозеф без сна лежал рядом с Айрис. Загадочные слова торговца черствым хлебом крутились в голове, как рой светлячков.
«Процесс, в котором были замешаны светские дамы, и не очень светские, и Софи Клерсанж-Мэт-как-то-там! Что за процесс? Когда он состоялся? Будь у меня дата, всего лишь дата, я бы проверил по своим записям!»
Внезапно он вспомнил, что его мать превратила сарай на улице Висконти в комнату для будущего внука, и пришел в ужас: кипы газет и журналов валялись теперь прямо на полу в подвале книжной лавки, да и на это мсье Мори не сразу согласился.
«Можно спросить у Бишонье… Нет, он будет копаться неделями… Что же делать?»
Айрис перевернулась на другой бок, стянув с Жозефа одеяло. Он встал, зажег свечу и на цыпочках отправился в кухню. Хлеб, сыр и яблоко подхлестнут его воображение.
В час ночи он вернулся под бочок к благоверной, так ничего и не решив. У него образовалась серьезная проблема: что надеть на похороны барона де Лагурне? Жозеф осторожно отвоевал у Айрис краешек одеяла и отключился. Ему снилась морская губка, представшая перед судом колосьев пшеницы и свечей в цилиндрах.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Вторник 20 февраля
Жозеф и Виктор медленно шли по центральной аллее некрополя. Траурные сюртуки жали в пройме, а цилиндры на голове и вовсе были китайской пыткой. Лакированные ботинки хлюпали по лужам. Казалось, что сыпавший на симметричные ряды могил мелкий дождик заказан специально по случаю похорон. Жозеф выглядел довольным, но твердо решил не делиться с Виктором сведениями, почерпнутыми из разговора с Сильвеном Брикаром, пока шурин перед ним не извинится. Шесть слов неотвязно крутились у него в голове: пораженная спорыньей рожь, свечи, губки, процесс. Очередной ребус. Бред сумасшедшего или криптограмма? Он бы охотно посмотрел на склеп Ги де Мопассана, похороненного год назад на кладбище Монпарнас, но не решился предложить это Виктору. Они миновали украшенную пальмами могилу историка Анри Мартена и вышли на северную аллею, где в нескольких метрах от места упокоения издателя Пьера Ларусса собрались одетые в черное люди.
— Тот, что в центре, с выпученными глазами и перстнями на пальцах, — писатель Жан Лоррен, денег у него куры не клюют, — шепнул Виктору Жозеф. — Остальные — я почти со всеми встречался — это Папюс и Сар, чокнутый музыкант…
— А мужчина с квадратным лицом тоже здесь?
— Да, крайний справа.
Собравшиеся выстроились в колонну и медленно направились к могиле. Каждый получал от служителя красную розу из корзины, бросал ее на гроб и крестился. Потом все целовали руку вдове — она стояла в позе античной плакальщицы, скрывая безразличие под плотной вуалью, пожимали руку прыщавому молодому человеку с лицом мученика и отходили, втянув голову в плечи. Виктор обогнал одного из присутствующих и ухватил за рукав в тот самый момент, когда тот предстал перед вдовой.
— Позвольте выразить вам мои самые искренние соболезнования, мсье…
— Гаэтан, Ришар Гаэтан, — не слишком приветливо буркнул тот, нетерпеливо высвобождая руку.
— Морис Ломье. Надеюсь, еще не слишком поздно…
— Поздно? Но для чего?
— Примкнуть к «Черному единорогу» — теперь, когда его основатель умер.
Ришар Гаэтан расслабился и изобразил безгубым ртом подобие улыбки.
— За внесение в список отвечаю я. Вступительный взнос, увы, достаточно высок, но ведь и трат у нас немало: мы снимаем зал для собраний, обеспечиваем членов общества значками и инструкциями, оплачиваем обеды и ужины…
«Мошенник», — подумал Виктор и весело поинтересовался:
— И дорого приходится платить?
— Тысячу франков в год.
— Кругленькая сумма, черт побери! Впрочем, не все ли равно, на что тратить деньги… Я слышал много лестного о вашей организации.
— Вот моя карточка, мсье Ломье, поторопитесь сделать вступительный взнос, вы не единственный соискатель, а количество мест ограничено.
— Разве не в ваших интересах собрать толпу побольше? За такую цену…
— Толпу? Мы ее презираем. Наша цель — объединить элиту, занимающуюся высокоинтеллектуальной деятельностью! — широкое лицо Гаэтана презрительно сморщилось, и он отошел, не дожидаясь ответа.
— Атака удалась! — воскликнул Жозеф. — Вы получили адрес?
Виктор показал ему визитную карточку:
РИШАР ГАЭТАН
КУТЮРЬЕ ДЕЗ ЭЛЕГАНТ
Париж, Второй округ, улица Пэ, 10
Бюро: Париж, Седьмой округ,
улица Курсель, 43-бис
— Первостатейный прохвост, — прокомментировал он.
— А вон Жан Лоррен, мы с ним общались! — воскликнул Жозеф. — Я рассказал, что пишу и издаюсь, он пригласил меня к себе и обещал прочесть мой роман.
— На случай, если вы не в курсе, он предпочитает мужчин.
— Не считайте себя самым умным! Я в курсе — как и весь Париж. Но все равно это лестно: автор «Прибрежного цветка»
[434] снизошел до беседы со мной!
И Жозеф принялся напевать, подражая игривой интонации Иветт Гильбер:
Вечерами, в «Золотом льве», в снежную пору,
У жаркого огня,
Я испробовала на нем свои чары…
— Ну и дела… И это отец моего племянника!
— Не изображайте скромника, дорогой шурин. Мне отлично известно, что вы цените куриозы,
[435] не забыли?
— Ну да, конечно… Но мы отвлеклись.
— Вы позвали меня на похороны, но ничего не рассказали о посещении мадам де Лагурне.
— Я ждал удобного момента. Как насчет плотного обеда? Я знаю маленький ресторанчик, где подают изумительное филе по-беарнски. Мы подведем промежуточные итоги и избежим овощного меню. Мне есть что рассказать. Плачу, конечно, я.
Благие намерения Жозефа испарились.
— Мне тоже, я много чего нарыл. Софи замужем, Сильвен Брикар рассказал, что она…
…Корантен Журдан сидел у окна и смотрел на запруженный экипажами бульвар Страсбур. Счет за номер он оплатил заранее. Одной ночи будет довольно. Он снова перечитал статью.
Сегодня утром на кладбище Монпарнас состоялись похороны барона Эдмона Ипполита де Лагурне. Присутствовали доктор Жерар Анкосс, он же Папюс, писатели г-да Гюисманс и Малларме, композиторы Клод Дебюсси и Эрик Сати, а также г-н Ришар Гаэтан, знаменитый кутюрье с улицы Пэ. Баронесса Клотильда де Лагурне отказалась сделать заявление…
«Одним меньше, — подумал он. — Осталось двое. Я не должен торопиться, нельзя допустить ошибку. Главное — защитить мою сирену. Потом…»
Он был возбужден, но не утратил способности рассуждать здраво и прекрасно понимал, что ему лучше было бы сесть в поезд и уехать домой, вместо того чтобы нестись на всех парах навстречу неизбежному провалу.
«Ну что за глупышка! Почему она не покинула этот квартал? Это облегчило бы мне задачу. Время поджимает, у меня скоро закончатся деньги… — Он взглянул на часы. — Будь что будет, рискну: теперь или никогда».
Корантен встал, разорвал свою рубаху, взлохматил волосы, накинул куртку и приоткрыл дверь: коридор был пуст. Он запер замок на два оборота и на цыпочках дошел до дверей номера 14,
ее номера. Сделал глубокий вдох и со всего размаха врезался о створку, даже не пытаясь смягчить удар. Потом упал на колени и скорчился на полу.
Дверь открылась. На пороге стояла женщина в облегающем воздушном платье. Она на мгновение застыла в нерешительности, потом тенью проскользнула между мужчиной и канделябром. Корантен неловко распрямился, упершись головой в стену. Она здесь, наконец-то здесь, совсем близко. Стоит, слегка наклонив голову, и молчит, затаив дыхание. Он моргнул — свет резал ему глаза.
— Что вы здесь делаете? — спросила она дрожащим голосом.
— На меня кто-то напал, — хрипло произнес он. В голову пришла нелепая мысль: «Мне следовало податься в актеры!»
— Не шевелитесь, мсье, вам нужен врач.
— Нет, никаких докторов!
— Но вы ранены!
Кровь застучала в висках Корантена, он схватил женщину за руку. Она испугалась и попыталась высвободиться.
— Помогите мне встать. Ваше появление спасло меня от худшей участи, я отделался несколькими царапинами.
Он вцепился в ее локоть.
— Слушайте очень внимательно. Вы должны мне доверять. Вы в опасности: возьмите только самое необходимое и покиньте гостиницу, но не берите фиакр.
— Кто вы?
— Друг.
— Записка в «Отель де Бельфор» была от вас?
— Да. Больше я ничего сказать не могу. Возвращайтесь в павильон на улице Альбуи, там вы будете в безопасности. Запритесь, никого не впускайте, еду пусть оставляют перед дверью. Я с вами свяжусь.
— Но… Да вы сумасшедший!
— Вовсе нет. Все, что я сказал, правда! — почти выкрикнул Корантен. — Заклинаю вас, послушайтесь меня.
— Назовите мне ваше имя.
— Я тот, кто спас вас — в январе, в Ландемере. — Он отпустил ее руку. Ему вдруг стало не по себе, он ощущал неодолимую тревогу: как она поступит и как далеко способна зайти в своем безрассудстве. — Вы должны мне верить!
Он, пошатываясь, поднялся с пола и исчез, завернув за угол коридора.
Софи вернулась в номер и заперла дверь на ключ. Ей было страшно, она не знала, что делать. Кто он, этот незнакомец, так страстно моливший ее бежать? Друг? Кто на него напал? И почему? Правда ли, что он спас ее в Ландемере? А вдруг он собирался ее убить?
«Ты бредишь, если он — убийца, ты была бы уже мертва… Голубая тетрадь… Он прочел ее или нет?.. Довериться ему? Нет, это безрассудно…»
Впрочем, павильон на улице Альбуи явно безопаснее этого враждебного отеля.
День клонился к закату. Всю дорогу она почти бежала: стремглав преодолела садик, опасаясь нападения со спины, добралась до двери и повернула ключ в замке. Пять минут спустя за ставнями одного из окон второго этажа мелькнул свет.
Корантен Журдан замер у окошка булочной. Благодарение Богу, она его послушалась.
Погода улучшилась, потеплело, и на улицу Пэ высыпали клерки и продавщицы. В тот момент, когда из ворот дома номер 10 выпорхнула стайка девушек, пытавшихся успеть на омнибус, во двор незаметно проскользнула тень. Никто не обратил внимания на человека, скрывшего лицо за рулоном ткани, который кто-то оставил у двери. Тень метнулась к лестнице черного хода, укрылась в стенном шкафу среди швабр и затаилась.
Консьерж тушил в мастерских печи. По паркету простучали каблуки, зазвучали юные звонкие голоса:
— Что, папаша Мишон, кота ищете?
— Глядите в оба, папаша Мишон, обожжетесь — никто в мужья не возьмет!
Работницы дружно подсмеивались над консьержем, шустрым, то и дело распускавшим руки вдовцом. Папаша Мишон, хлебнув самогона, сдобренного перцем и луком, всегда горько жаловался, что с ним обращаются хуже, чем с подстилкой, и не только эти неотесанные соплячки, но и сам хозяин. Тридцать лет беспорочной службы — и ни тебе почета, ни уважения, одни оскорбления.
Забившаяся в узкий шкаф тень, затаив дыхание, прислушалась. Раздался резкий стук — это консьерж удалился к себе. Уборщица, что-то монотонно бормоча, подмела магазин — так происходило каждый вечер, а в швейных мастерских она наведет порядок ранним утром, перед открытием.
Дышать становилось все труднее, тело затекло, хотелось немедленно размять руки и ноги. От шкафа до лестницы на антресоли — всего несколько шагов. Оттуда можно будет наблюдать за первым этажом и последним пролетом лестницы. Начать сейчас, возможно, опасно — наблюдение, которое он вел несколько дней, позволило установить, что командующий, распустив войска, частенько задерживается, да не один, а с пленницей. Раздавшийся наверху скрип подтвердил это: кто-то спускался по ступеням, останавливался, делал следующий шаг, издавая неясные звуки — то ли смех, то ли плач.
Спрятаться — хоть сюда, за фикус в горшке.
В сером рассеянном свете возникла девушка. Она остановилась, вцепившись рукой в перила, и из ее груди вырвалось отчаянное рыдание, перешедшее в долгий стон. Свет фонаря проникал в окошко над дверью, освещая кафельный пол вестибюля, и отражался в висевшем на стене зеркале в человеческий рост. Молоденькая — на вид ей можно было дать лет пятнадцать, не больше — ученица швеи с растрепанными волосами, расцарапанными щеками, в перекрученных на лодыжках чулках подошла к зеркалу. Увиденное привело ее в отчаяние, она уронила на пол скомканную одежду, снова горько заплакала, разгладила ладонями мятую юбку, кое-как расправила изодранное в клочья белье, застегнула корсаж и накинула пелерину. Потом утерла слезы тыльной стороной ладони, нахлобучила задом наперед шляпку, всхлипнула и вышла на улицу. Консьерж не запер дверь на засов, что было на руку незваному гостю.
Тень убедилась, что кожаный мешочек и его содержимое на месте — так, на всякий случай, — и начала медленно подниматься по лестнице. Ступенька, еще одна, еще. Остановка. Отдых. Тень двигалась медленно и осторожно, пытаясь забыть про несчастную девочку.
Тень миновала первый пролет и стремительно, как проворный кот, закончила подъем: будто какая-то невидимая нить тянула этого человека вверх, помогая восхождению. Теперь нужно повернуть направо, миновать предназначенные для показа моделей салоны и туалетную комнату. Прекрасно, просто замечательно. За небольшое вознаграждение уволенная в прошлом месяце закройщица нарисовала ему подробный план помещений: анфилада комнат заканчивалась будуаром, куда главнокомандующий приглашал богатых заказчиц на рюмочку «Кюрасао». Осматривать ее нет никакой нужды: обиженная девушка во всех деталях описала, как однажды вечером ее позвали выпить ликера, как силой повалили на пестрый диван, как она отбивалась, дралась и царапалась. На консоли стоял фарфоровый кувшин для шоколада и покрытая золочеными сеточками тарелка со сластями, перед калорифером — два глубоких кресла, жардиньерка с искусственными цветами и китайская ширма. Дополняла обстановку танцовщица из терракоты на подставке, освещенная оранжевым светом лампы Рочестера. Он тоже был там — лежал на диване, как паук в центре паутины, насытившийся собственной жестокостью, и отдыхал: чтобы изнасиловать ребенка, требуется немало энергии, а подлый ловелас был уже немолод.
На сей раз он сумеет прицелиться и метнуть свое орудие. Главнокомандующий не будет страдать, он даже ничего не почувствует, а когда перейдет на ту сторону, поймет, как легок был его конец по сравнению с грузом грехов. О, как же приятно прикосновение к тяжелому шару, который вот-вот выдаст злодею билет в один конец!
Ришар Гаэтан потянулся и зевнул. Боже, как же он устал! Нет, подобные экзерсисы ему больше не по возрасту, да и сердце сдает. Черт, повсюду пятна, нужно оставить записку, чтобы чехол отнесли в прачечную еще до открытия мастерской. Плевать, два-три дня он вполне обойдется без светло-желтого бархатного покрывала, на котором одержал столько побед. Старшая мастерица Соланж состроит гримасу, но он знает, как купить ее забывчивость. Швею уволят, она получит пухлый конверт и не раскроет рта. Боже, как скучно — и все это за несколько жалких мгновений удовольствия!
Он заправил полы рубашки в брюки, застегнул ремень и причесался перед зеркалом с гипсовыми ангелочками на раме. Рука со щеткой замерла в воздухе. Ему вдруг почудилось, что из темноты выступает чье-то лицо. Ерунда, эта дуреха ни за что не посмела бы вернуться. Он взял миндальное печенье. Принять ванну, переодеться, поужинать на Бульварах и спать, спать… Он провел расческой по волосам.
Тень прицелилась. Раздался короткий свистящий звук. Ришар Гаэтан получил удар по затылку и тяжело рухнул на пол, не успев проглотить печенье.
Тень наклонилась к своей жертве: тело оставалось неподвижным. Дело сделано. Он достиг значительных успехов в обращении с оружием. Воистину: «Хочешь стать кузнецом, работай в кузнице». Куда он закатился? Вот, рядом с расческой.
Тень подняла свинцовый шар, задула фитиль. Оставалось лишь исчезнуть и сосредоточиться на следующем шаге.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Среда 21 февраля
Главная мастерица «Кутюрье дез Элегант» Соланж Валье могла быть довольна. Заказанный госпожой де Камбрези туалет для визитов выглядел просто отлично. Она расправила надетую на плетеный манекен черную юбку, отделанную по бокам подхватами из зеленого бархата. Присборенный у круглого воротничка корсаж с сужающимися к запястьям рукавами-буфами чудо как хорош. Оставался последний штрих — добавить пышный атласный бант жемчужного цвета, и костюм станет совершенным.
Швеи, позевывая, рассаживались на свои места. Соланж послала одну из девушек убедиться, что в будуаре царит полный порядок и патрон сможет принять там клиентку, чтобы выслушать похвалы и благодарности.
— И не забудьте про миндальное печенье и тарталетки, Маргарита, он их обожает. Коробки на жардиньерке.
Кудрявая ученица вскочила со стула, воодушевленная возможностью попасть в святилище, где перебывала вся парижская элита.
— Мне нужен фонарь, там совсем темно!
— Вечно вы копаетесь! Ну же, поторопитесь!
Маргарита переступила порог верхнего этажа дома и застыла, предвкушая волшебное приключение. Из рабы иголки она ненадолго превратилась в героиню трагедии, в тезку королевы Марго: мать читала ей иллюстрированное издание Александра Дюма, где описывались бурные любовные приключения прекрасной Маргариты. Девушка миновала склад, где бархат, шелк, блестящая тафта, индийские тюсоры и сюра
[436] ожидали, когда великий мэтр превратит их в туалеты для светских приемов или торжественных обедов. Девушка спустилась по ступенькам и через скрытую в стене дверь вышла к парадной лестнице. Будуар примыкал к примерочным салонам и туалетной комнате. Девушка залюбовалась расставленными на полках сокровищами, осторожно трогая каждый понравившийся ей предмет. Ей представилась чудесная возможность — прикоснуться к вещи, владеть ею, пусть лишь мгновение, касаться пальцами поверхности жирного мыла и осторожно класть его на место. Это было волшебное ощущение: она воистину
была королевой.
Маргарите хотелось задержаться в туалетной, но мысль о штрафе отрезвила ее. Она толкнула дверь будуара, и — снова волшебство: повсюду были роскошные наряды, а на диване спал принц. Завороженная девушка зачем-то поклонилась терракотовой танцовщице и вдруг окаменела.
«Кто-то за мной наблюдает».
Она опустила глаза. На полу, вытянувшись на боку, лежал Ришар Гаэтан. Шея у него была как-то странно вывернута, на губах застыла коричневая жидкость. Он смотрел на Маргариту одним глазом, в котором отражался янтарный свет из окна. Девушка отпрянула. Внутренний голос истерически кричал: «Притворись, что ничего не видела!» Нервы у нее сдали, она круто повернулась, оступилась, ухватилась за терракотовую статуэтку… Та упала и разбилась вдребезги.
«Чертовы бабищи! Похоже, по ночам они превращаются в летучих мышей и висят вниз головой на водосточных трубах, а по утрам, к открытию магазина, снова принимают человеческий облик», — думал Жозеф, глядя, как Матильда де Флавиньоль и Рафаэль де Гувелин обметают промокшими плащами книжные полки. Будь благословенно Небо, наславшее на Париж непогоду: нахалки оставили дома шипперке и мальтийскую болонку!
— Да уж, хороший хозяин, как говорится… — буркнул себе под нос Жозеф.
Матильда де Флавиньоль критиковала торжества по случаю двухсотлетия со дня рождения Вольтера, Рафаэль де Гувелин расхваливала устроенную в Девятом округе благотворительную лотерею. К счастью Жозефа, раздался спасительный звонок телефона. Исидор Гувье хотел поговорить с мсье Легри.
— Он пока не пришел, — сообщил Жозеф, — но я могу его заменить. Да, я женат и скоро стану отцом… Что?.. Убит?.. Когда?.. Вот черт!.. Да, я ему передам… Вы правы, он был нашим постоянным покупателем. Спасибо, мсье Гувье, до скорого.
Не успел он положить трубку на рычаг, как «птичий двор» всполошился.
— Убийство? — прокудахтала Рафаэль де Гувелин.
— Что за постоянный покупатель? — взвизгнула Матильда де Флавиньоль.
— Успокойтесь, дамы, дело грязное, особа высокопоставленная. Преступление на почве страсти. Пресса в скором времени разъяснит, что и как. Оставляю вас за старших! — И Жозеф выбежал из зала.
Рты у женщин округлились, они дружно кивнули. Жозеф постучал в дверь Кэндзи, и тот появился на пороге в синем, в красный горох, халате.
— Меня вызывает Виктор, намечается фантастическая покупка! Не сочтите за труд, предупредите Айрис, я туда и обратно. Ба… Дамы де Гувелин и де Флавиньоль жаждут вас видеть!
Глаза Кэндзи сузились от ярости, он собрался дать зятю гневную отповедь, но Жозефа уже и след простыл. Провожаемый изумленными взглядами покупательниц, он сорвал с вешалки редингот и котелок и опрометью выскочил на улицу.
День, о котором Таша мечтала много недель, наконец наступил. Через несколько часов Таде Натансон откроет выставку в «Ревю бланш» —
ее выставку. Публика увидит работы, которым она отдала пять лет жизни. Какой реакции ждать? Похвал, критики или безразличия? Сумеет ли она поразить воображение хоть кого-нибудь из любителей живописи? Ее мечты выглядят самонадеянными, если вспомнить, что Винсент Ван Гог продал при жизни всего одну картину. Таша теперь замужняя дама и не стеснена в средствах, но зависимость от мужа ранит ее самолюбие, хотя Виктор считает такое положение дел вполне естественным. Он до конца своих дней останется ревнивым собственником, но так предупредителен и бескорыстен, что Таша готова на все, чтобы он мог ею гордиться.
Она взглянула на себя в зеркало. Как совладать с этой непокорной рыжей гривой? Гребенки то и дело выскальзывают. Она застегнула вышитый корсаж розового бархатного платья. Придется втянуть живот — Таша считала корсет орудием пытки и никогда его не носила. Она натянула кружевные перчатки, припудрила носик и надушилась капелькой росного ладана, чувствуя на себе восхищенный взгляд Андре Боньоля.
Бывший метрдотель, забавно сочетавший деловитость и чопорную степенность, наводил в мастерской порядок.
— Мы почти готовы: мы потушили рагу с душистыми травами, нам осталось только вытереть пыль.
Поначалу его манера говорить очень удивляла Таша, но со временем она привыкла.
— Андре, мы уходим: сначала к окантовщику, а потом а «Ревю бланш», я обещала появиться там до полудня.
Б
ольшая часть отобранных для выставки картин была развешена накануне, но четыре самых крупных полотна еще ждали своей очереди.
Таша погладила нежившуюся у печки Кошку. Виктор проявляет снимки, потом он отправится в магазин, а во второй половине дня они встретятся на улице Лаффит. Его прощальный поцелуй принесет ей удачу! Таша поспешила в квартиру и, к своему неудовольствию, столкнулась с Жозефом.
— А вы что тут делаете?
— Меня вызвал Виктор, нам нужно взглянуть на собрание одного коллекционера…
— Где он?
— В лаборатории.
— Я спрашивала о коллекционере, — уточнила Таша.
— Улица Курсель, 43-бис, — сообщил Жозеф и тут же пожалел о сказанном: он назвал первый пришедший на ум адрес, чего делать не следовало. — И он умильно улыбнулся, надеясь умаслить Таша.
Она колебалась, зная, что хотя Жозеф почти наверняка соврал ей, давить на него бессмысленно. У них с Виктором бывают разногласия, но когда ведут расследование, они стоят друг за друга горой. Очевидно, теперь как раз такой случай. Или нет? Таша предпочла отложить выяснение отношений на потом, тем более, что она могла ошибиться.
— До вечера, дорогой! — крикнула она Виктору.
— Удачи, любимая! — весело отозвался он.
Выходя, она бросила в сторону Жозефа грозный взгляд.
— Кажется, ваша жена о чем-то догадывается, — шепнул он Виктору, когда тот вышел из гардеробной.
— Но пока, слава Богу, молчит и не вмешивается… Повторите мне слово в слово рассказ Гувье, — велел Виктор, решая, какой надеть жилет.
Владение Ришара Гаэтана выделялось среди соседних зданий своим неоготическим стилем, стрельчатыми сводами и гаргульями. Худой, как журавль, лакей в сюртуке, полосатых брюках и белом пикейном галстуке переводил взгляд с одного незваного гостя на другого, и губы его едва заметно подрагивали. Когда Виктор сообщил ему об убийстве хозяина, старик не выказал особого волнения, но долго молчал, пытаясь справиться с тиком.
— Господа полицейские желают меня допросить?
Они не стали выводить его из заблуждения и прошли следом за ним в библиотеку. Жозеф стоял, заложив руки за спину, и рассматривал красные и зеленые переплеты с золотым обрезом. Большинство из корешков оказались «обманками». Жозеф презрительно фыркнул и отвернулся.
Лакей машинальным жестом смахнул пыль с фарфоровой вазочки.
— Хозяин часто не ночует дома, в этом нет ничего необычного, но на этот раз я почему-то беспокоился и не спал до рассвета.
— Сколько в доме слуг? — спросил Виктор.
— Домработница Сидони Мандрон, она приходит каждое утро и убирает в комнатах. Мадам Купри, кухарка, эта не бывает в жилых помещениях. Я двенадцать лет на службе у мсье, но никогда видел его в таком состоянии, как в тот день…
— Что вы имеете в виду?
— Девятого числа этого месяца, в пятницу — я помню, потому что мадам Купри женила своего сына Арно. Он мясник, а его невеста — дочь торговца рыбой, белоручка, неспособная вести дом, и я уверен, что ничего хорошего из этого не выйдет. Мадам Купри приготовила холодные закуски, и я сервировал для мсье Гаэтана карточный столик у камина. Он вернулся довольно поздно и выглядел уставшим. Я подал ужин и направился в кабинет, где мы ведем учет и бухгалтерию, и тут мсье закричал: «Дидье! Дидье! Вернитесь немедленно!» Меня зовут Дидье Годе. Я прибежал и увидел мсье, он был белее снега. Казалось, с ним вот-вот случится удар.
Лицо старика исказила судорога, но он сделал над собой усилие и преодолел волнение.
— Хозяин указал мне на приоткрытую панель между Бальзаком и Бомарше. Он спросил: «Это вы повернули механизм?» — и голос его дрожал. Я воскликнул: «О боже, нет, мсье Гаэтан, я и не знал о существовании потайного кабинета». Мы вошли. Там царил полный кавардак. По комнате будто смерч пронесся. Дюжины и дюжины кукол разного размера, одетых, как модели из модных журналов, валялись на полу — без рук, без ног, разбитые, раздавленные. Но ужасней всего была…
Он замолчал, пытаясь справиться с дурнотой.
— Прошу меня простить… Можно было подумать, что это Арно Купри вылил на кукол целое ведро!
— Крови или красной краски?
— Крови, господа, крови! Ее ни с чем не спутаешь: густая, липкая жидкость с особым, душным запахом, который я не выношу. По этой самой причине я и вспомнил про молодого Купри, парень весь пропитался ею. Когда он приносит нам мясо, я потом всегда проветриваю помещение.
Лакей вытер лицо платком и долго откашливался.
— Продолжайте, — властно потребовал Виктор.
— На одной из стен была надпись зеленым мелом. Я не успел прочесть — мсье Гаэтан стер ее так быстро, словно узрел адские врата, но одно слово я запомнил:
Анжелика. Мы с ним полночи собирали разбитых кукол, отмывали кровь, скребли и чистили. Потом мсье Гаэтан закрыл проход и заставил меня поклясться самым дорогим, что есть на свете, что я буду молчать. Я поклялся именем тети Аспазии: когда мои родители погибли — они угорели из-за неисправности системы отопления, — она стала мне настоящей матерью, вырастила меня и…
— Не отвлекайтесь.
— Моя должность требует преданности и умения держать язык за зубами, но теперь, когда хозяин нас покинул… Он был так талантлив! Мсье Гаэтан предложил мне сесть и выпить рюмку коньяка. Я отказался, сочтя это неуместным, но все равно выслушал его. Он рассказал, что эти куклы были для него как родные дети. Торговцы модной одеждой и кутюрье отсылают такие за границу, чтобы привлечь внимание к своим творениям. Это давняя традиция. Королева Изабелла Баварская посылала королеве Англии алебастровых кукол, одетых по французской моде. Они пользовались такой популярностью при европейских дворах, что в XVII веке воюющие стороны подписали конвенцию об их свободном обороте. Мсье Гаэтан собирал свою коллекцию годами и дорожил куклами, как бесценным сокровищем. Он говорил, а я чувствовал себя виноватым: мне следовало удвоить бдительность, ведь к мсье приходило много народу, мужчины и женщины. Они пользовались служебной лестницей, звонили — два длинных звонка и один короткий, и он сам их впускал, так что мне эти люди были незнакомы. Иногда — редко — клиенты являлись через главный вход, и это были весьма респектабельные особы, так что у меня не было причин их опасаться. Я заявил мсье, что прошу отставки, потому что считаю, что все это случилось по моему недосмотру, но он ее не принял. «У меня есть враги, Дидье, много врагов, люди не прощают успеха!» — так он сказал. Все это очень печально. Мне остается только одно — начать подыскивать новое место. Но я буду вечно сожалеть о мсье Гаэтане.
— Вы впускали кого-то в его отсутствие?
— Женщину, в тот самый день, когда случился этот ужасный погром. Было уже поздно. Она ждала в гостиной — я полагал, что хозяин вот-вот вернется: обычно он ужинал около восьми. Дама заявила, что условилась с ним о встрече, и я на четверть часа удалился на кухню, чтобы проверить, готов ли ужин. Она ушла, не предупредив.
— Как она выглядела?
— Как любая светская дама — шляпа с вуалью, дорогие украшения.
Резкий звонок прервал беседу. Виктор был настороже и подал знак Жозефу: пора было уходить. Спускаясь по лестнице, они услышали недоуменный возглас лакея:
— Полиция? Но они уже здесь!
За чем последовала хриплая тирада инспектора Лекашера про доверчивых простаков, которых ничего не стоит обмануть.
Виктор и Жозеф добрались до прачечной, где хмурая девушка разбирала грязное белье.
— Сидони Мандрон? Инспектор Лекашер. Мы проверяем выходы. Откройте это окно!
Метром ниже находился навес. Виктор перешагнул через подоконник и прыгнул, уверенный, что либо вывихнет лодыжку, либо проломит черепицу, но упал на колени и остался цел и невредим. Рядом приземлился Жозеф. Они подбежали к краю крыши, съехали по водосточной трубе и оказались на газоне. Невдалеке садовник подстригал изгородь.
— Полиция! Мы преследуем вора! — рявкнул Виктор и ринулся к калитке.
Забег закончился близ церкви Сен-Филипп-дю-Руль. На них оглядывались прохожие. Жозеф подозвал фиакр. Они сели и всю дорогу до Елисейских Полей пытались отдышаться, глядя на подпрыгивающую впереди спину кучера в накидке.
— Вы заметили, Жозеф? Я все еще в хорошей форме, — сказал Виктор, растирая уставшие ноги.
Их экипаж протиснулся между двумя омнибусами. Жозеф устало вздохнул.
— Ну, что сказать… Когда я соберусь сочинить роман о ворах и взломщиках, опишу все, что видел собственными глазами!
— Кэндзи вечно твердит мне о том же: опыт — нектар для творцов!
— Бывают дни, когда я мечтаю умереть невежей.
Они переглянулись, зашлись безумным смехом и все смеялись и смеялись, не в силах совладать с собой.
— Их уже двое! Нет, трое! — заикаясь, произнес Жозеф.
— О ком вы?
— О покойниках!
— Проявите хоть немного уважения, Жозеф, ведь они такие же люди, как мы с вами, и это жизнь, а не роман.
— Простите, патрон, уж слишком много всего случилось! Смех — это защитная реакция организма. Не считайте меня бесчувственным. На самом деле у меня есть сердце.
— Знаю, Жозеф, знаю. Хотите, чтобы мы прекратили расследование?
— Ничего подобного! Но я скоро стану отцом…
— Мы доведем это дело до конца — во всяком случае, попытаемся…
— Согласен. Итак, к чему вы пришли, патрон?
— Убийства Гаэтана и барона очень похожи. Обоим проломили череп. Похожи и мизансцены: разлитая кровь, желание разрушить все, что было дорого убитым. «Подписаны» преступления женскими именами:
Луиза и
Анжелика.
— Ни черта не понимаю!.. Лакей Гаэтана не видел надписи, но, возможно, там тоже было слово
Луиза?
— В призраков мы не верим, так что этот след — фальшивка, он никуда не ведет: Луиза Фонтан мертва. Убийства и погромы совершил тот, кто знал, как попасть в тайные комнаты… Тот, кто был близко знаком с жертвами. Эта гипотеза возвращает нас к Софи Клерсанж.
— Не увлекайтесь, патрон, имена могли написать специально, чтобы увести следствие в сторону. Вспомните, что мне рассказал Мартен Лорсон: в вечер убийства Лулу у ротонды Ла Виллетт было два человека. Один из них хромал. Либо это и есть преступник, либо Софи Клерсанж и хромой — сообщники.
— Придется все начать сначала: допросить с пристрастием торговца черствым хлебом и вдову Герен, схватить хромого…
Фиакр остановился у дорогого каретного магазина, примыкавшего к манежу барышника. Лошадиное ржание мешало Виктору думать: сейчас ему хотелось оказаться на необитаемом острове.
— Стоило бы поставить памятник тишине, — недовольно буркнул он.
Оскорбленный в лучших чувствах Жозеф немедленно надулся.
— Итак, подведем итоги, — продолжил Виктор. — Лагурне и Гаэтан возглавляли оккультное общество. Когда кукол Гаэтана уничтожили, в полицию он заявлять не стал. Значит, подозревал кого-то конкретного. Остался третий руководитель общества, и Гувье назвал мне его имя: Абсалон Томассен, акробат, звезда цирка Франкони. Его жизнь в опасности? Или он и есть преступник?
Жозеф продолжал дуться, и Виктор примирительно похлопал его по плечу.
— Мы учиним допрос всем и каждому и раскроем тайну! — пообещал он.
— И действовать нужно быстро, пока никого больше не убили!
— Легко сказать! В сутках всего двадцать четыре часа! Таша рассчитывает на мое присутствие, Айрис — на ваше. Так что на сегодня с делами покончено. Призн
аюсь вам, иногда мне хочется, чтобы время текло быстрее!
— Ну уж нет, иначе я стану дедушкой, не успев понянчиться с детьми!.. О, черт… Дама, что посетила Гаэтана… Получается, что она пришла к нему вечером 9-го числа, в день смерти Луизы Фонтан!
Софи Клерсанж все утро наводила порядок в своей комнате — нехитрая домашняя работа отвлекала ее от поселившейся в душе тревоги. Она словно вернулась в прошлое, перестав быть богатой плантаторшей, повелевающей толпой слуг в богатом калифорнийском имении, засаженном апельсиновыми рощами. Комната, оформленная в желтых тонах, выглядела довольно уныло и навевала печальные мысли. Софи не была поклонницей декора в стиле Генриха II, однако узкое пространство между кроватью, над которой висели старинные гобелены, и буфетом, «разжалованным» в комод, символизировало оазис покоя, откуда изгнано всякое зло. Что до посредственной гуаши с изображением старушки перед очагом, дующей на угасающие угли, то она навевала ощущение покоя и мысли о доме, в котором жизнь течет по раз и навсегда заведенному порядку. Где-то далеко, на заднем плане, маячил прозрачный силуэт Сэмюеля Мэтьюсона. Она никогда не испытывала любви к мужу, но этот порядочный, добрый человек обеспечил ей комфортное существование, которое теперь, после его смерти, казалось счастьем. Софи питала безграничную благодарность к ниспосланному Провидением мужу.
Она бесшумно вышла на лестничную площадку: на полу перед дверью стоял поднос с холодными закусками и свежей газетой. Внимание Софи привлек напечатанный крупными буквами заголовок:
УБИТ КУТЮРЬЕ РИШАР ГАЭТАН!
Она прочла всю статью, от первого до последнего слова, а потом, нарушив запрет покидать комнату, сбежала по лестнице вниз.
Эрманс Герен сидела в гостиной. В комнате с витражными окнами царил полумрак. Женщина дремала в глубоком кресле с кретоновой обивкой перед пианино с мраморными часами и подсвечниками в стиле Ренессанс на крышке. Ее чепец съехал набок, вязанье соскользнуло с колен на войлочный коврик. Софи нагнулась, чтобы поднять клубок, и разбудила ее.
— Ты обещала оставаться наверху.
— Я прочла газету.
— Я тоже. Он получил по заслугам.
— Я больше не выдержу! Сколько еще мне сидеть взаперти?
— Потерпи. Дело нужно довести до конца, дорогая. Поешь, ты плохо выглядишь.
Софи сидела, уставясь в черно-белый ромбовидный узор пола. Ее мучили сомнения.
— Если кто-то рылся в моей сумке…
— Успокойся, тебе нечего бояться.
Для пущей убедительности Эрманс снова взялась за спицы.
— Во время моей болезни…
— Я присматривала за доктором, когда он приезжал с визитом.
— А Сильвен?
— Сильвена интересуют только его торговля и кокотки. А Алина — совершеннейшая дурочка, из всего алфавита она знает лишь те буквы, без которых не обойтись на рынке.
— А как быть с тем, кто якобы спас меня на пляже? Он все еще в Париже, бродит где-то рядом.
— Не терзай себя, никто тебе ничего плохого не сделает, я же с тобой, — улыбнулась Эрманс.
Клубок снова упал на пол и закатился под канапе. Софи погналась за ним, как кошка за мышонком, и улыбка Эрманс сменилась горькой гримасой, а взгляд стал жестким.
Джина отменила занятия под предлогом похода в Лувр и велела каждой ученице выбрать картину для копирования акварелью.
Сиесту она не любила, но сейчас ей вдруг захотелось немного полежать. Она бросила на ночной столик записку Кэндзи, доставленную курьером, закрыла глаза и как наяву услышала его голос:
Не будете ли Вы столь любезны сопроводить меня в магазин между двумя и четырьмя часами? Мне необходим Ваш совет по части приобретения штор. Потом мы вместе отправимся на выставку, чтобы полюбоваться картинами Вашей дочери…
Джина сама не заметила, как заснула. Она шла по лесу между деревьями в мелких соцветиях, захотела сорвать красный цветок и вдруг ощутила жар желания. За завесой листвы неясно вырисовывался силуэт, до которого ей непременно нужно было добраться, но она никак не могла этого сделать, и была одна, и чувствовала тоску и влечение, а тянуло ее к заснеженному мостику, куда она не решалась ступить, потому что была совершенно обнаженной. Потом она нырнула в потайную дверь, увидела на полу ворох вещей, поспешно оделась, но одежда мгновенно исчезла, словно растаяла в воздухе, и осталась только обтягивающая ночная кофта.
Джина очнулась и вдруг со стыдом осознала, что ее правая рука нырнула под юбки и скользит вниз по атласной коже бедер. Она справилась с желанием и взглянула на будильник: было около двух часов.
В дверь позвонили. На пороге стоял Кэндзи в темно-сером сюртуке и лиловом галстуке бантом, в руке он держал трость с нефритовым набалдашником. Джина вышла из квартиры и начала спускаться по лестнице, «не заметив» предложенной Кэндзи руки. В фиакре, который вез их на Севастопольский бульвар, они почти не разговаривали: Кэндзи пытался завязать беседу, но Джина отвечала коротко и неохотно, отодвинувшись от него на сиденье как можно дальше. Кэндзи это ничуть не обескуражило: главное, что она согласилась сопровождать его.
Выбрал ли он магазин с названием «У Пигмалиона» с намеком, желая показать, что, подобно большинству мужчин, собирается, как знаменитый создатель Галатеи, лепить Джину по своему вкусу? Нет, Кэндзи не таков: он объяснил, что этот просторный торговый двор на углу улиц Риволи, Ломбар и Сен-Дени потряс его воображение, когда они с Виктором переехали в Париж и он покупал там постельное белье для квартиры на улице Сен-Пер. Он рассказал Джине о классических концертах по пятницам в примыкающем к базару зале «Эдан-Консер», где исполнялись старинные французские песни. Там он наслаждался пением Иветт Гильбер, пока она не сменила репертуар на более «откровенный».
На фасаде, к вящей радости детворы, все еще красовался огромный рождественский Полишинель. Джина залюбовалась куклой, расслабилась и с удовольствием оперлась на руку своего спутника. Так, рука об руку, они вошли в тяжелую дверь под бронзовой люстрой.
Покупательницы под раздраженными взглядами продавщиц рассматривали лежащие на длинных прилавках рулоны тканей.
— Не станем уподобляться тем, кого бесценный Лабрюйер критиковал в одной из глав «Вольнодумцев»: «Они не уверены в выборе тканей, которые хотят купить: большая часть образцов, которые им предлагают, оставляют их равнодушными, они ни на чем не могут остановиться и уходят без покупки», — процитировал Кэндзи.
— Браво, у вас отличная память.
— Профессия обязывает, — ответил он, напустив на себя скромный вид. — Я вас обманул, идея у меня есть, посмотрим, согласитесь вы со мной или нет. Я отделаю квартиру, руководствуясь вашим вкусом. В этом пристанище я стану редактировать каталоги и — если вы окажете мне честь — принимать вас, а значит, вы на совершенно законных основаниях можете высказать свои предпочтения.
Кэндзи высказал свою просьбу так весело, что заподозрить его в хитрости было совершенно невозможно, и Джина послушно проследовала за ним в отдел дамастовых тканей. У лестницы с чугунными коваными перилами стоял приказчик с набриолиненными, расчесанными на прямой пробор волосами и внимательно наблюдал за ними сквозь полукруглые стекла очков. Кто эти двое — придирчивые зануды, клептоманы или настоящие покупатели?
— Взгляните, я колеблюсь между вот этим вышитым дамастом с цветочным узором и другим, полуматовым, цвета нильской воды, — сказал Кэндзи.
— Какого цвета обои в комнате? — спросила Джина, поглаживая ладонью рулон набивного кретона.
— Слоновая кость, — тихо произнес Кэндзи, как бы
невзначай коснулся рулона, провел ладонью по ткани и осторожно накрыл пальцы Джины своими.
— В таком случае, будет правильно выбрать вот этот теплый свежий цвет, — посоветовала Джина. Сердце у нее колотилось, она не могла поверить в собственное безрассудство.
Кэндзи кивнул — со значением, словно собеседница высказала драгоценную истину, — и сделал знак приказчику.
— Мсье предполагает заказать пошив штор? Вы сняли мерки? Два окна? Я позову продавщицу.
Появилась девушка с сантиметром и ножницами, отрезала четыре куска дамаста и аккуратно их сложила.
— А что с подхватами? — спросила она.
— Та же ткань, но однотонная, кольца и штанга медные, — распорядилась Джина, не глядя на Кэндзи: уж слишком прозрачен был тайный смысл этой покупки.
Они прошли за продавщицей к кассе. Замыкал процессию приказчик, подсчитывавший в блокноте цену покупки. Кэндзи заплатил по счету, копию чека накололи на железный штырь. Приказчик упаковал дамаст, сообщил, что все будет готово через два дня, и поинтересовался, по какому адресу доставить пакет.
— Улица Эшель, 6, мсье Кэндзи Мори, второй этаж, слева, — ответил Кэндзи, бросив выразительный взгляд на Джину.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Тот же день, вечером
Эфросинья Пиньо и Айрис помирились и теперь проводили время в доме номер 18 по улице Сен-Пер за шитьем приданого для будущего наследника. Решено было не полагаться на предположения касательно пола ребенка и выбрать белый цвет. Эфросинья неукоснительно следовала всем правилам и предусмотрела мельчайшие детали. Крестным отцом первенца станет дед по материнской линии, крестной матерью — бабушка по отцовской. По поводу имени она пришла к компромиссному решению:
Дафна, Эфросинья, Жанна для девочки и
Габен, Виктор, Кэндзи для мальчика.
Покупателей в лавке не было, и Жозеф ничего не продал. Через час он вместе с матерью должен был идти на выставку Таша. Айрис ввиду своего положения не хотела показываться на публике.
Жозеф понуро сидел у прилавка и предавался печальным мыслям. Задачка оказалась слишком сложной. Будет лучше, если он посвятит все свое время жене и перестанет ломать голову над делом, которое, тем не менее, питает его творческое воображение. Вдруг он понял, что больше не в силах сдерживать возбуждение.
6 марта! Еще две недели ожидания! На второй странице «Пасс-парту» будет опубликован «Кубок Туле» Жозефа Пиньо! Он представлял лица домашних: Айрис возгордится, мама скупит почти весь тираж, а мадам Баллю оповестит квартал. Он точно знал, что подумают Виктор и мсье Мори: «Стиль никуда не годится, воображение бедное, автор велеречив, короче, чтение этого опуса — пустая трата времени». Они ставят его творчество ниже дамских романов. Плевать, ведь Оллендорф поставил на него.
Жозеф не рискнул потребовать большой аванс из страха получить отказ и даже согласился кое-что поправить, лишь бы потрафить вкусу Антонена Клюзеля, второго после Бога человека в газете. «Милейший Пиньо, действие вашего романа разворачивается в Трансильвании, но никто не знает, где она находится. Будьте проще, дайте читателям то, что они любят, — сентиментальность и тайны, а описания и психологию сократите».
Ничего, его время придет, и все увидят, что никакая критика не лишит настоящего художника присутствия духа.
Он перелистал блокнот.
Брикар Сильвен, торговец всегда свежим черствым хлебом. Рожь со спорыньей, свеча, процесс…
Злосчастный процесс! Ах, если бы он мог добраться до своих бесценных архивов, так некстати оказавшихся в подвале!
— Прошлое мертво, — мрачно пробормотал он, и тут же в его сознании забрезжил слабый лучик света.
«Что-то ты сегодня плохо соображаешь, старина! У тебя нет подшивок за 1891-й. Ты перестал их собирать, когда поступил на работу в магазин, то есть в 1885-м, несчастный кретин!»
Ясности прибавилось, и природный оптимизм Жозефа взял верх над самоуничижением. Для него это расследование — дело чести, и он найдет способ вытащить ответ из глубин своего мозга, даже если придется применить акушерские щипцы. Итак…
Жозеф нахмурился и склонился над своими заметками.
19 февраля. Виктор отправился без меня на улицу Варенн, и я зол на него, как черт. Он встретил Исидора Гувье, когда выходил от мадам де Лагурне. Гувье собирается писать статью о…
— Будь я неладен! — воскликнул Жозеф.
Он выскочил и кинулся к телефону.
— Алло, мадемуазель, я хочу поговорить с мсье Исидором Гувье, он репортер «Пасс-парту», улица Гранж-Башельер, 40.
После десятиминутного разговора он занялся ставнями и закрыл магазин.
Два смежных выставочных зала в «Ревю бланш» были невелики по размеру, но Таша удалось развесить картины именно так, как она хотела. В первом зале парижские крыши соседствовали с натюрмортами и мужскими ню (не было только портрета Виктора), второй был отдан современным сюжетам, написанным под влиянием Николя Пуссена, и сценам ярмарочных праздников. Рядом висели фотографии Виктора, навеявшие эти сюжеты.
Тема бродячих акробатов позволила Таша обрести яркую индивидуальность, свой неуловимый стиль, в котором смешивались мечта и реальность.
Среди посетителей выставки было много художников — никому не известных и прославленных, снисходительно-спесивых и нарочито-доброжелательных. Эдуар Вюйар и Морис Дени наперебой хвалили чувство ритма и богатый колорит композиций. Лотрек, вернувшийся накануне из Бельгии и Голландии, где они с Анкетеном воздали должное пиву и насладились походами по музеям, был более сдержан.
— Слишком слащаво, — шепнул он карикатуристу Морису Донне, но тот упрекнул его в излишней суровости.
— Ничего не поделаешь, я только что получил блестящие уроки от великих учителей — Рембрандта и Хальса, — прогнусавил Лотрек. Тем не менее, он сказал Таша несколько теплых слов, надеясь если не соблазнить ее, то хотя бы уговорить ему попозировать.
Появился Пьер Боннар и принес печальную весть: три дня назад Гюстав Кайботт простудился в собственном саду, и врачи не оставляют ему надежды на выздоровление.
— Такой сердечный, милый, самоотверженный человек… И такой молодой — ему всего сорок шесть! Воистину, судьба ополчилась на искусство. Папашу Танги мы уже потеряли, — посетовал Лотрек.
— Что будет с коллекциями, если Кайботт не поправится? — спросил из-за спины Боннара Морис Ломье.
— Собрание Танги наверняка продадут.
[437] Что до Кайботта, то ходят слухи, что он назначил своим душеприказчиком Ренуара…
Таша поискала глазами Виктора: она была разочарована тем, что его снимки вызвали всего лишь вежливый интерес. Ее муж разговаривал с Жозефом, потом тот исчез в толпе, а ему на смену явились расфуфыренные, в воланах и перьях, Эфросинья Пиньо и Мишлин Баллю. Публика встретила их тихими смешками и еще больше развеселилась при виде Хельги Беккер в шевиотовом костюме, шотландской пелерине и шляпе, украшенной гроздью винограда. Элегантные Матильда де Флавиньоль и Рафаэль де Гувелин щеголяли модными юбками в серебристых пайетках. Они отошли в сторону, чтобы вволю посплетничать.
— Вы слышали, дорогая, какая ужасная история произошла с полковником де Реовилем? Вчера утром он свалился в воду в Кийбёфе, куда они с Адальбертой отправились полюбоваться волнами! — прошелестела Матильда де Флавиньоль.
— Он утонул? — поинтересовалась Рафаэль де Гувелин.
— Нет, только нахлебался воды и заработал насморк.
Взволнованная Хельга Беккер наблюдала за Лотреком.
— Я аккуратненько сняла его рекламный плакат Мулен-Руж с колонны Морриса. Как вы думаете, он согласится дать мне автограф? Я коллекционирую все его афиши, какие удается достать, у меня их уже шестьдесят, — шепотом сообщила она Матильде де Флавиньоль. Та не спускала глаз с Виктора, чья обезоруживающая улыбка пробуждала в ней странное волнение.
Виктор переходил от одной группы посетителей к другой, чтобы послушать разные мнения. Он остановился рядом с картиной, на которой были изображены женщины за столом в кабачке.
— Боже, какая вульгарность! А цвета… Чудовищно!
Виктор заметил графиню де Салиньяк с племянником, Бони де Пон-Жубером. Он предполагал, что их все в этой картине шокирует. Они не чувствовали скрытой мощи произведения и не понимали, что именно вульгарность определяет силу ее воздействия.
— О, снова этот человек. Наглец! Получить развод и красоваться на публике!
— О ком вы говорите? — шепнула Хельга Беккер.
— Об Анатоле Франсе, романисте. В прошлом году
[438] он расстался с женой — она устала терпеть его связь с Леонтиной де Кайаве. Суд, естественно, принял ее сторону! Теперь романист живет на Вилле Саид, что на улице Перголезе, но бывает там только по утрам. Во второй половине дня он творит на авеню Ош, у любовницы, она устроила ему кабинет на третьем этаже своего особняка. Потом они вместе обедают.
— А что же ее муж?
— Господин Альбер Арман де Кайаве? Он делит с ними хлеб! Этот гасконец — философ, он так хорошо уживается с соперником, что ему дали прозвище «администратор французского сожительства»!
Виктора возмутил подслушанный разговор — он был почитателем автора «Харчевни королевы Педок»
[439] — и счел нужным вмешаться:
— Супруги Кайаве давно подали бы на развод, если бы не боялись испортить карьеру своему сыну Гастону.
Защитив Анатоля Франса, Виктор пошел встречать Кэндзи и Джину.
— Меня не удивляет, что мсье Легри взял на себя роль адвоката дьявола, его образ жизни ни для кого не тайна! А его компаньон-японец установил у себя в квартире ванну, это возмутительно!
— Ну почему же, в ванне всего лишь моются, — не согласилась Рафаэль де Гувелин.
— О да, но при этом снимают всю одежду, — отрезала графиня.
Анатоль Франс придвинул свое ассиметричное лицо с лукавыми глазами поближе к холсту, на котором был изображен эквилибрист на проволоке над оживленной улицей, и подкрутил седой ус.
— Очень тонко подмечено, вы писали с натуры?
— Только фон. Сюжет взят вот с этой фотографии, — доверительным тоном сообщила Таша.
— Великолепно. Я покупаю обе, — объявил писатель и отправился поприветствовать Таде Натансона.
Порозовевшая от удовольствия Таша поспешила сообщить эту новость Виктору, который только что подслушал разговор, из которого узнал, что в январе Лотрек вынужден был переехать с улицы Фонтен на улицу Коленкур.
«Вот и прекрасно! Будешь реже докучать Таша», — подумал он.
— Куда подевался мой сын? — воскликнула Эфросинья.
— Отправился к клиенту. Он просил сказать, чтобы вы возвращались домой с мадам Баллю.
— Мог бы со мной попрощаться! — буркнула мать Жозефа.
Виктор вполне одобрял инициативу зятя и охотно составил бы ему компанию, но не мог оставить Таша. К нему подошел Морис Ломье.
— Блестящая идея, Легри, — повесить фотографии рядом с художественными полотнами, они демонстрируют, как художник творчески преображает реальность.
— Я счастлив помочь Таша, — сухо ответил Виктор.
— Бросьте, Легри, я ценю ваши работы, вы явно растете.
— Рад, что угодил вам.
— А ваше рассле…
К ним подошла Таша, и Ломье не договорил. Он порывисто обнял ее, заслужив в ответ ироническую улыбку.
— Прелестная коллега, я как раз объяснял твоему мужу, что Лотрек и Боннар высоко оценивают твои работы.
— Замолчи, коварный искуситель, пока я не утонула в потоке твоих комплиментов.
Стоявшая неподалеку графиня де Салиньяк чуть не задохнулась от изумления. Матильда де Флавиньоль тоже была потрясена.
— Ее муж? Ее муж? — повторяла она. — Значит, они женаты?
— В церкви эти нечестивцы точно не венчались! — прошипела графиня, нервно обмахиваясь веером.
— И все же, согласитесь, Олимп, они красивая пара.
— Если бы не моя любовь к чтению и не изысканная учтивость мсье Мори, я бы бойкотировала эту книжную лавку. Мы уходим, Бони.
Она так стремительно направилась к выходу, что едва не столкнулась с Таша и Джиной.
— Тебе действительно нравится, мама?
— Очень нравится, детка. Поразительно, как много тебе удалось сделать за эти шесть лет, какие мастерство и зрелость ты обрела…
— Нужно было затянуть стены тканью нейтрального цвета, эти ужасные лиловые драпировки убивают контрасты. И штору с цветочным узором, наверное, нужно снять?
Вопрос Таша был адресован Кэндзи, который стоял перед портретом обнаженной натуры, восхищаясь красотой сильного юного тела. Они с Джиной переглянулись, улыбнулись и едва сумели сдержать смех: объяснить Таша, что их так развеселило, было бы непросто.
«Я заразилась скоротечной
штороманией. Хорошо еще, что Кэндзи все-таки не решился показать мне японские эстампы!» — подумала Джина и закашлялась.
— Что тут смешного? — с недоумением спросила Таша и, не получив ответа, отошла. Недовольный женский голос у нее за спиной произнес:
— Хорошо бы твой друг Легри оказался на высоте, я на него рассчитываю, так что пусть пошевеливается, потому что Лулу уже похоронили в общей могиле — и легавым на нее плевать!
— Съешь пирожное, моя козочка, — предложил в ответ на эту тираду мужчина.
Таша обернулась и успела увидеть, как Морис Ломье с такой поспешностью сунул бисквит в рот Мими, что та едва не подавилась. Он попытался увести подругу, но она увернулась и схватила Виктора за руку.
— Когда вы раскроете тайну, мсье Легри?
— Дайте мне время, я ведь обещал, что…
Мими сильнее сжала его руку.
— Вы — лучший, я в вас верю и сделаю все, что вы захотите!
На сей раз Ломье с такой силой потянул Мими прочь, что она едва устояла на ногах.
— Ты совсем рехнулась? — рявкнул он.
— А она хороша! — с видом знатока произнес Лотрек.
— Кто такая Лулу? Что вы с Ломье замышляете? И что ты пообещал этой шлюхе? — накинулась на Виктора разъяренная Таша.
Она говорила так громко, что это привлекло внимание окружающих. Раздосадованный Виктор увлек жену к выходу.
— Ты все неправильно поняла, дорогая. Кузина этой женщины недавно умерла в больнице от туберкулеза, Ломье мой старинный знакомый, и…
— Ты, наверное, забыл, что я сама представила тебе Мориса, и ты терпеть его не можешь!
— Я переменил мнение, он не так уж и плох. Я взялся вернуть вещи бедной Лулу, их, видимо, украла санитарка или кто-то из больных.
— Думаешь, я куплюсь на твои выдумки? Вы с Жозефом наверняка снова ввязались в какое-то расследование. Куда ты его послал?
Таша разозлилась и была твердо намерена уличить мужа во лжи. Он придал лицу кроткое выражение и кивком указал ей на зал.
— Никуда. Я люблю тебя, и это главное. Сегодня твой день, я внес в это свою лепту и совершенно счастлив. Не порти момент своего торжества.
Виктор умел увиливать от прямого ответа. Таша могла бы попытаться вытащить из него признание, но решила на время забыть о Ломье и Мими. Не зря ведь говорят: «Многие знания — многие печали».
Они вернулись в зал и столкнулись с Эфросиньей Пиньо и Мишлин Баллю, которые торопились на омнибус.
Поездка вышла утомительная — они сидели на империале,
[440] других свободных мест не оказалось. Ледяной ветер проникал под одежду, пощипывал щеки. Стиснутые новыми ботильонами ноги мадам Баллю молили об отдыхе. Когда омнибус подъехал к углу ее родной улицы, она испытала чувство, сравнимое разве что с восторгом умирающего в пустыне при виде оазиса. Радость ее была бы полной, если бы у тротуара напротив книжной лавки не стояла двуколка с табличкой «Перевозки Ламбера».
— Это подозрительно, — сказала она Эфросинье. — Вон та повозка приезжает сюда уже третий раз за последнюю неделю, останавливается на одном и том же месте, и возница просто сидит, натянув кепку поглубже на уши. Причем в двуколке ничего нет. А еще этот тип в кепке хромает, я заметила, когда он вышел, чтобы выкурить трубку.
Эфросинья подняла глаза к небу.
— А что, хромать — это грех? Мсье Виктор и вас заразил подозрительностью, не только моего Жозефа! Это же надо — мой сын даже не посадил нас в фиакр, забыл, что дома его ждет беременная жена, и куда-то усвистал. У него, видите ли, клиент! И это в такой-то час! Ну, просто эпидемия полицейской лихорадки…
— У меня своя голова на плечах, — проворчала оскорбленная госпожа Баллю. — Один раз этот тип даже шел за мной до самого нашего двора.
— Что-о-о?
— Да, он за мной… он…
Мишлин Баллю не договорила — уж слишком недоверчиво смотрела на нее Эфросинья Пиньо — и пожалела, что вообще коснулась этой темы.
— Что он сделал? Бедняжка Мишлин, у вас, наверно, галлюцинации или вы принимаете желаемое за действительное. Вы уже не в том возрасте! Зачем мужчине преследовать вас? Мне кажется, вы зря волнуетесь!
— Я знаю то, что знаю.
— Нет, вы только посмотрите на эту недотепу! — воскликнула Эфросинья при виде Зульмы Тайру, увидев у той в руках корзинку с осколками фарфора.
— Я не виновата, мадам! Я убиралась в комнате мсье Мори, книга свалилась на пол, я нагнулась, чтоб ее поднять, и споткнулась об ночной горшок, хорошо еще, что он был пустой…
— Да вы просто притягиваете неприятности! Учтите — у вас вычтут за разбитый фарфор из жалованья!
Зульма разрыдалась и побежала к Сене.
— Какая вы злюка! И все из-за жалкой ночной вазы, совершенно, кстати, бесполезной, поскольку ваш хозяин оборудовал личный ватер-клозет!
— Мой хозяин? Вернее будет сказать — отец моей невестки. Хочу напомнить — мы с ним теперь на равных. И, если ему угодно держать под кроватью горшок, это касается только его и уж никак не привратницы, вообразившей, что в нее влюбился незнакомый мужчина!
Мишлин Баллю показалось, что ураганный ветер повалил с пьедестала статую царицы Савской и та рухнула в грязь, разбившись вдребезги. Поверженная Балкис превратилась в обычную простолюдинку. Ее лицо исказилось от злости, и она прошипела:
— Да пошла ты к черту, старая перечница!
— На себя посмотри, мадам Мафусаил! — не растерялась Эфросинья.
Мишлин Баллю забаррикадировалась в привратницкой.
«А я-то повела себя по-христиански и проводила эту мерзавку до дома!», — думала Эфросинья по пути на улицу Висконти. Она забыла, что собиралась поговорить с Айрис про Жозефа. Перебранка с подругой выбила ее из колеи.
— Старая перечница? Да мне всего сорок два, и я отлично выгляжу для своих лет! — бормотала она, закрывая за собой входную дверь.
Шляпка и накидка полетели на кресло, Эфросинья расстегнула платье с воланами и ощупала свою грудь.
«Да, я женщина в теле, но уж никак не хуже толстомясых амазонок из музеев! Я на них нагляделась, когда мадам Таша таскала меня по Лувру. Ляжки, как бараньи окорока, упругие груди и крепкое сложение. Я из той же породы. А у Баллю один жир!»
Она вздохнула и бросила горестный взгляд на висящую над комодом фотографию Габена Пиньо: букинист с набережной Малакэ добродушно улыбался в объектив. Счастливчик, он навсегда остался тридцатилетним.
«Ну почему мужчинам вечно во всем везет? Мсье Мори, дамскому угоднику, уже за пятьдесят, а он продолжает одерживать победы. Кто это придумал, чтобы женщины с возрастом увядали, а мужчины только хорошели?»
Эфросинье не терпелось записать это в свой дневник. В рубрике «Зульма» она зафиксировала:
Зульма разбила ночной горшок и заплатит за это. Она ужасная недотепа. Баллю ее защищает, а про уборку мест общего пользования и думать забыла. Это тоже не останется безнаказанным!
Внезапно ее мысли приняли иной оборот. Куда исчез Жожо? Неужели пошел к девкам? Боже, Боже, как тяжело ей нести свой крест! Эфросинья подняла голову и повлажневшими от слез глазами взглянула на Габена Пиньо, любовь всей ее жизни, отца Жозефа, которого Господь призвал прежде, чем он успел на ней жениться.
Трамвай, следовавший по маршруту «Насьон — мэрия Монтрёя», катил по рельсам мимо заводов, строек и складов. Сонный возница подстегивал двух лошадок, которые с трудом тащили вагон с полудюжиной пассажиров. Позади осталась мануфактура «Бебе Жюмо» по производству фарфоровых кукол.
«Как сказал Гувье — спуститься по улице Дюпре, между огородами?».
Уже почти совсем стемнело. Желтые газовые фонари отбрасывали на фасады домов длинные зыбкие тени.
Жозеф сдвинул котелок на лоб, сунул кулаки в карманы и углубился в хитросплетенье улиц.
«Четвертый павильон справа. Должно быть, вот эта одноэтажная хибара».
Домик достался Исидору Гувье от родителей, мелких лавочников, которые всю жизнь копили на клочок земли. Тут он родился, рос и старел. Жозеф прошел через крошечный заросший садик со вкопанными в землю столом и скамьями. Летом здесь можно было предаваться блаженному безделью, попивая аперитив.
Гувье осторожно открыл трухлявую дверь, и Жозеф вошел. На вешалках в прихожей висел ворох одежды. Кухня была чисто прибрана. Хозяин провел Жозефа в кабинет: там на полках, на столе, под столом лежали стопки книг.
— Книжные шкафы с дверцами хороши для тех, кто ничего не читает, — заметил журналист, пожевывая сигару.
Повсюду валялись безделушки и фотографии в рамках, сотни папок с подборками документов лежали на полу. Молчащие старинные часы затыкали одно из окон.
— Они отсчитывали время для моих стариков, а теперь отдыхают, — сказал Гувье Жозефу, поймав его взгляд. — Устраивайтесь, мсье Пиньо, я готовлю рагу. Понюхайте, какой аромат.
И он отправился на кухню. Походка у него была нетвердая: в бытность агентом уголовной полиции ему во время одного из задержаний сломали голень. Жозефу невольно вспомнился хромой тип из «Отель де л’Ариве». Он огляделся. На углу буфета, среди груды принадлежавших знаменитым взломщикам фомок и отмычек, а также полицейских наручников с цепочкой и без цепочки стояла керосиновая лампа. Жозеф и мечтать не мог о том, чтобы попасть в подобное местечко: для писателя это была просто золотая жила.
Они поужинали, выпили вина, и пребывающий в радужном настроении Жозеф начал задавать вопросы.
— Вы хотите знать, что означают рожь со спорыньей, свеча, губка, процесс? Я правильно понял, мсье Пиньо? — уточнил Гувье.
— Да.
— Рожь со спорыньей… рожь со спорыньей… Ну как же! Пораженную спорыньей рожь пускают в ход, чтобы избавиться от нежеланного ребенка. Губка и свеча также могут вызвать выкидыш.
— Какой ужас! — воскликнул Жозеф.
— О да. И этот «ужас», как вы изволили выразиться, происходит каждый день. Что до процесса… Мне кажется… Минутку. — Гувье наклонился, чтобы разобрать даты на корешках папок. — Я помню, что это было недавно. Два-три года назад… Сейчас проверим. — Он извлек из стопки несколько пухлых папок. — Я храню всё. Не могу заставить себя выбросить ни одну бумажку… Вспомнил! Это было в год расстрела Фурми! Мой мозг подобен воску мсье Эдисона, запечатлевает малейшую деталь! Вот нужный нам год: 1891-й. Процесс освещал Клюзель. Все газеты об этом писали. Странно, что вы ничего не слышали. Чем вы занимались в ноябре девяносто первого?
Вопрос застал Жозефа врасплох, он попытался вспомнить, но не смог.
— Не помню… Это было давно.
— Развлекайтесь, а я иду в «Пятнадцать-двадцать».
[441]
Жозеф отодвинул тарелки, смахнул крошки и водрузил папки на стол. Заметки были подобраны в хронологическом порядке. Первая вырезка была из «Ла Жюстис».
15 ноября 1891 г.
Завтра, в понедельник, суд департамента Сена под председательством мэтра Робера начнет рассматривать дело об абортах, которое может растянуться на пятнадцать заседаний. На скамью подсудимых сядут пятьдесят два человека. […] Среди женщин-подсудимых — служанки, торговки, работницы, разносчицы хлеба…
«Фигаро» от 16 ноября писала:
ПРОЦЕСС О ДЕТОУБИЙСТВЕ
Они занимают три ряда, некоторым не хватило места, и их посадили в ложе прессы. Одни во всем черном, но большинство надели самые нарядные туалеты. Шляпы с перьями, лентами и цветами, вышитые черным стеклярусом, переливающимся в полумраке зала заседаний. Некоторые совсем молоды, но есть и шестидесятилетние. Жеманная блондинка, называющая себя художницей-миниатюристкой, соседствует с кухаркой, чуть дальше — слуги из хорошего дома: приличный чисто выбритый муж, тощая жена в старой каракулевой шубе с хозяйкиного плеча. Что вы хотите? Они работали у буржуа, не желавших видеть у себя никаких детей… И она отправилась к Тома…
Жозеф быстро пробежал заметку из «Тан» от 18 ноября:
В урну опустили бумажки с именами тридцати шести кандидатов, из которых были выбраны двенадцать присяжных и два запасных. Ни художник Жан Беро, ни скульптор Огюст Кэн, ни адвокат Клеман Руайе, возглавляющий комитет бонапартистов, в их число не попали…
Вырезок было много. Процесс стал лакомым куском для любителей сильных ощущений, из него получился настоящий роман с продолжением в духе Эжена Сю: мрачный и сентиментальный. Жозеф взял наугад «Газетт де Трибюно» за 16-е и 17 ноября:
Заседание началось в двенадцать тридцать. Ввели обвиняемых. […] Уродливые и заурядные, все они принадлежат к одной социальной группе: большинство служанки и мелкие работницы. Есть среди подсудимых и мужчины. Г-н председатель задает им обычный вопрос, и они поочередно называют свои имена: Тома Мари Констанс, сорок шесть лет. Флури Абеляр-Севрен, тридцать один год. Дельфина Селин, привратница, пятьдесят два года. Наис Мари, приходящая домработница, тридцать восемь лет. Дюваль Мари Онорина, прислуга, двадцать два года…
Жозеф читал полный список обвиняемых, пока не споткнулся на одной фамилии. Он чертыхнулся, подвинул поближе лампу и задумался.
— Куда я задевал мое вечное перо? Мне нужна бумага, ну же, скорее!
Он склонился над столом и начал торопливо записывать…
— Трудитесь?
Жозеф вздрогнул от неожиданности и поставил кляксу. Гувье втиснулся в старое кресло.
— У меня бессонница. Сегодня двенадцать лет с тех пор, как меня бросила жена.
— Мне очень жаль, я не знал, — пролепетал Жозеф.
— О, она ведет себя как ангел с тех пор, как вышла замуж за мясника. Ненавидела беспорядок, ей хотелось иметь чистенький, аккуратный домик. Заставляла меня ходить в тапочках и все время что-то чистила и драила. Мы только и делали, что ругались. Вот, поглядите.
Гувье достал из пиджака бумажник и протянул Жозефу плохой снимок, сделанный на ярмарочном празднике. На фоне задника с заснеженными вершинами замерли по стойке «смирно» перед объективом мужчина и женщина.
— Это вы? — изумился Жозеф, которому и в голову не приходило, что у Исидора Гувье тоже была своя любовная история.
— Да, мой мальчик. Это я, собственной персоной, только на тридцать лет моложе. Удивлены? Время никого не щадит. — И он продекламировал:
Стареть! Разгромное поражение,
Уродство и оскорбление,
Все больше морщин на лбу
И все меньше волос на голове…
[442]
— Не знал, что вы философ, мсье Гувье.
— Это сочинил мой приятель, не я. Вы нашли, что искали?
— Еще как нашел! Не знаю теперь, что и думать.
— Не паникуйте, мсье Пиньо, оцените ситуацию спокойно. Поиск информации требует терпения. Лично я провожу в редакции немного времени. Нет ничего скучнее бесконечных летучек, которые проводит Клюзель. Атмосфера там такая же, как на корриде: никогда не знаешь, чьей смерти жаждет публика — быка или тореадора. Скажу вам честно и без малейшего стыда — я болею за победу быка. Только бессердечный человек может наслаждаться страданиями животного. Выпьете кофе?
— Не откажусь.
— Зачем вам утомлять себя переписыванием? Можете взять эту папку, потом вернете. Сейчас одиннадцать, трамваи уже не ходят, так что ложитесь на диванчик и спите. Я встану на рассвете и разбужу вас.
Но Жозеф долго не мог заснуть. Беспрестанно ворочаясь с боку на бок, он вдруг вспомнил надпись в кабинете барона де Лагурне, которую видел Виктор: «В память о брюмере и ночи мертвых»…
Он почувствовал возбуждение. Процесс состоялся в ноябре 1891 года. Лулу и какая-то Софи были на нем обвиняемыми… Как и Мирей Лестокар!
— Брюмер — это ноябрь! А ночь мертвых — День всех святых, ведь его отмечают как раз в ноябре! Да мой драгоценный шурин рот разинет от изумления!
Около полуночи Виктор и Таша съели, не разогревая, рагу, приготовленное для них Андре Боньолем. Выставка прошла более чем успешно, посетители рассыпались в комплиментах, кажется, вполне искренних. Продались три полотна, одно из которых купил Анатоль Франс. Матильда де Флавиньоль пришла в восторг от фотографии с каруселью и изъявила желание приобрести ее в самое ближайшее время.
Таша поставила тарелку мелко порубленного мяса перед Кошкой, лежащей в корзине рядом с кроватью, но та едва удостоила еду взглядом.
Виктор разделся, как всегда аккуратно сложил вещи и нырнул под одеяло во фланелевых кальсонах. Таша расплела косу, бросила одежду на пол и улеглась рядом с мужем. Их любовная игра была недолгой, оба слишком устали. Виктор нежно ласкал грудь Таша, а она прикрыв его руку своей, бессвязно лепетала:
— Три продажи, нет, пять — вместе с твоими фотографиями… только ярмарочные сцены, досадно, что…
Ее рассуждения прервал хриплый стон. Таша так резко села на кровати, что ударилась о спинку.
— Что это?
— Кошка, — буркнул Виктор.
Таша на ощупь добралась до лампы, дважды едва не упала, запутавшись в подоле ночной рубашки, нащупала коробок и поднесла спичку к фитилю.
— О Боже, нет, только не это! Я весь мокрый!
Лампа высветила растянувшуюся на ногах хозяина виновницу преступления: у Кошки отошли воды.
— Она сейчас родит! — воскликнула Таша.
Виктора едва не стошнило. Он выскочил из-под одеяла и скрылся в туалетной. Кошка жалобно мяукала, хозяйка утешала ее, ласково поглаживая.
— Я с тобой, кисонька, ну же, давай, поднатужься, скоро все закончится.
Кошка, прижав уши, прерывисто дышала, зрачки у нее были расширены, бока тяжело вздымались и опадали.
Появился Виктор и, стараясь не смотреть на кошачьи страдания, начал одеваться.
— Сколько их будет?
— Не знаю, два, а может, три…
Виктора посетило ужасное видение: Таша лежит в подушках с обнаженной грудью, а из ее чрева выходят три орущих младенца.
— Отправляйся в мастерскую, — сказала она ему, — я приду, как только все закончится.
— Это надолго?
— Откуда мне знать? Я впервые принимаю роды.
Виктор удалился, радуясь, что ему есть где укрыться. В четыре утра Кошка произвела на свет первого, черно-белого котенка.
— Я была права, ты согрешила с котом сапожника, — прошептала Таша.
Двадцать минут спустя взволнованная хозяйка увидела второй мокрый комочек, на сей раз — полосатый. Через четверть часа третий, черный как смоль детеныш оказался на кровати.
Измученная переживаниями Таша решила умыться, а когда вернулась, Кошка вылизывала котят, жадно припавших к соскам.
— Они как будто нажимают на педаль швейной машинки, того и гляди проткнут тебе брюшко.
Кошка, как будто услышав слова хозяйки, встала на дрожащие от слабости лапы, взяла зубами полосатого сына, спрыгнула на пол и замерла перед гардеробом Виктора.
— Ты уверена, что это курорт твоей мечты? Папа вряд ли одобрит такой выбор, — заметила Таша.
Кошка не двинулась с места. Оставшиеся на кровати котята отчаянно пищали.
— Ладно, выступлю на твоей стороне.
Оставив молодую мать заниматься переездом, Таша поменяла белье на постели, подобрала выпавшую из сюртука Виктора газету, оторвала от нее листок, скомкала его и вдруг остановилась. Ей бросилось в глаза слово «Убит» на сгибе, и она разгладила бумажку.
УБИТ КУТЮРЬЕ ГАЭТАН
Полиция обыскала дом № 43-бис
по улице Курсель в надежде…
— Сорок три бис, улица Курсель, — задумчиво пробормотала Таша. — Кто-то называл при мне этот адрес. Но кто? Андре? Эфросинья? Айрис?
И тут она вспомнила: это сказал Жозеф сегодня утром. Он собирался поговорить с Виктором. Ее подозрения превратились в уверенность. Убийство. Или даже два убийства, если принять в расчет Лулу, о которой говорила Мими.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Четверг 22 февраля
Всю дорогу от Шатле до улицы Сен-Пер невыспавшийся Жозеф вполголоса жаловался на свою тяжелую долю. На его несчастье, Эфросинья появилась там раньше и не преминула устроить ему выволочку.
— Кого мы видим! Мсье изволил вернуться домой! Ты не слишком торопился! — рявкнула она. — Веселая была ночка? Я бы на твоем месте сгорела со стыда! Каков тесть, таков и зять!
Жозеф не стал отвечать — ему нужно было попасть в магазин, прежде чем там появится Кэндзи. Он выбежал, устояв перед искушением хлопнуть дверью, чтобы не разбудить Айрис. В лавке он поспешно снял ставни, отпер дверь, «проигнорировал» метелку для пыли и ринулся в свою вотчину в подвале, где хранил личные бумаги.
Там он выложил на стол пронумерованные блокноты. Жозеф завел их в 1889-м, когда они с Виктором вели первое расследование. Ему нужны записи за 1891 год.
«Вот, нашел! Что со мной такое, как я мог забыть? В ноябре 1891-го мы с Виктором…»
Он вздрогнул, почувствовав, что за ним кто-то наблюдает, резко обернулся и стукнулся носом об стеллаж с энциклопедиями.
— Это вы, Виктор?
— Я. Что вы там задумали?
— Очень умно! Больше так не делайте! Теперь нос распухнет, и меня будут принимать за пьянчужку!
— Высморкайтесь и рассказывайте.
Жозеф покраснел.
— Я нашел разгадку: процесс состоялся в 1891-м, в год нашего расследования убийства на перекрестке Экразе.
[443]
— Какой процесс?
— У вас плохо с памятью? Тот самый, о котором бормотал чокнутый, что собирает черствые булки. Процесс об абортах, он наделал много шума. Его освещала вся пресса, начиная с «Газетт де Трибюно» и заканчивая «Пер Пенар». Большинство попавших в затруднительное положение женщин были служанками, портнихами, женами ремесленников или служащих с годовым доходом в тысячу пятьсот франков. Гражданка Тома квартировала у торговки вином в Клиши, там она и открыла свой «кабинет». Ее сожитель Абеляр-Севрен Флури был моложе на пятнадцать лет. Он тоже участвовал в деле — избавлялся от плодов. Не стану пересказывать ход заседаний — они длились две недели — и перейду сразу к приговору. Тома приговорили к двенадцати годам каторжных работ. Флури получил десять лет. Остальные сорок пять обвиняемых были оправданы присяжными. Среди них я нашел имена Луизы Фонтан, Мирей Лестокар и трех Софи, работавших у одного и того же патрона: Софи Дютийёль, Софи Гийе и… Софи Клерсанж, портнихи.
— Чертова Мими мне об этом не рассказала.
— Может, барон и Гаэтан — совратители? А их убийства — месть соблазненных ими девушек?
— Думаете, один из них убил Луизу Фонтан?
— Она могла шантажировать своего обидчика.
— Два с половиной года спустя? А загадочная Софи Клерсанж… А хромой? Придется допросить с пристрастием мадемуазель Лестокар.
— А мне чем заняться?
— Сразу же после закрытия магазина отправляйтесь в «Отель де л’Ариве» и убедитесь, что Софи Клерсанж по-прежнему там.
Швейцар «Отель де л’Ариве» — широкоплечий гигант двухметрового роста — взглянул поверх головы Жозефа. Его приветствие «Добрый день, мсье» прозвучало монотонно, как голос ручного скворца, приученного повторять этот рефрен при каждом обороте вращающейся двери.
Жозеф подошел к стойке портье.
— У меня назначена встреча с мадемуазель Клерсанж.
— Ее нет, мсье. Горничная сообщила, что мадемуазель не ночевала в гостинице.
— Она выехала?
Портье одарил Жозефа снисходительной улыбкой.
— Вещи мадемуазель в номере, она оплатила проживание до конца недели.
— Значит, она вернется?
— Не знаю, мсье. Наши клиенты вольны поступать по собственному разумению. — И стоявший навытяжку портье принял расслабленную позу, показывая, что разговор окончен.
«Мне снова утерли нос!» — подумал обескураженный Жозеф.
Неожиданно ему в голову пришла идея: он попросил у портье конверт, написал на нем «Для мадам С. Клерсанж», покинул холл гостиницы, прошел по улице Страсбур, свернул на бульвар Мажента и огляделся. На скамейке сидел хлыщ лет пятнадцати с сигаретой во рту и глазел на проходивших мимо девушек. Жозеф подсел к нему и завязал разговор. Тот кивнул, взял деньги и конверт и небрежной походкой направился в сторону улицы Винегрие. Жозеф шел за ним, в нескольких шагах позади.
Госпожа Герен стояла за прилавком кондитерской. Парнишка отдал ей конверт и исчез. Она вскрыла конверт, не обнаружила внутри никакого послания, подбежала к двери и с озабоченным видом вгляделась через стекло витрины в улицу. Приняв какое-то решение, женщина выключила газ, вышла, закрыла ставни и вернулась в павильон на улице Альбуи. Через минуту горевший на втором этаже свет погас, и Жозеф заметил два женских силуэта в одном из нижних окон.
Проведя вечер в «Бибулусе», куда он приходил каждый вечер общаться с собратьями-художниками, Морис Ломье вернулся домой на улицу Жирардон. Свет на кухне не горел. Морис заглянул в спальню и в мастерскую, но никого не обнаружил: Мими куда-то ушла. Он разжег огонь и продолжил работу над портретом Жоржа Оне, который обещал закончить к началу марта.
Прошло полчаса, потом час, и Морис забеспокоился, перебирая в голове причины, по которым Мими могла задержаться, но ничего не придумал. В четверть восьмого он не выдержал и отправился на улицу Норвен к зеленщику, но тот сказал, что не видел Мими. Морис решил, что произошло несчастье, и ринулся в комиссариат, но и там ничего не узнал. Вернувшись к себе на улицу Жирардон, он почему-то проверил почтовый ящик. Там обнаружилась записка:
Прощай, я ухожу. Наслаждайся обществом любовниц и не пытайся…
Дальше Морис читать не смог. Он упал на кровать и разрыдался, уткнувшись лицом в подушку — в
ее подушку!
В дверь постучали. Он вскочил, решив, что Мими передумала и вернулась, но на пороге стоял Виктор Легри.
— Что стряслось, Ломье?
— Мими меня бросила.
— Куда она могла отправиться?
— Уж точно не к кузине, сами знаете — Лулу погибла. Разве что к подруге, к той, что позирует Лотреку.
— Где живет эта подруга?
— Улица Сен-Венсан, 10, четвертый этаж, слева.
— Я верну вашу Мими домой. Будьте к ней повнимательней и бросьте свои донжуанские замашки.
— Мими все выдумывает. С тех пор как мы сошлись, я ни разу ей…
— А как же моя сестра Айрис?
— О, это так, легкий флирт.
Виктор шел по извилистым улочкам мимо разросшихся палисадников и почерневших от времени стен, покрытых любовными признаниями и непристойными рисунками. Над ветхими лестницами и заброшенными садиками свисало с веревок белье. Грязные тротуары были пустынны: навстречу Виктору попались лишь несколько тепло укутанных домохозяек да парочка длинноволосых художников. Тонкий слой снега покрывал крыши домов, мерцали слабым светом окна кабачков. Фонарь на доме номер 10 — это оказалась гостиница — напоминал ночник у изголовья больного. Виктор поднялся на четвертый этаж и постучал. Девушка в пеньюаре открыла дверь, и он увидел узкую клетушку, обставленную простой, грубой мебелью. Хозяйка, не обращая внимания на Виктора, вернулась к стоявшему на огне рагу.
— Мими? Найдете ее у Адели, улица де Соль, 4.
На склоне холма, нависавшего над кружевом Сакре-Кёр, находилась бывшая «Харчевня убийц»,
[444] сменившая «кровавое» название на вполне уютное «У моей подружки». Позади террасы, на которой росла акация, прятался двухэтажный домик с плоской черепичной крышей. Виктор взглянул на нарисованную прямо на стене вывеску: художник Андре Жило изобразил вылезающего из кастрюли кролика с бутылкой вина под мышкой. Именно этот пушистый зверек дал название кабаре — «Кролик Жиля», переделанное позже в «Ловкого кролика». Танцовщица Адель, подруга шансонье Жюля Жуи,
[445] вкусно кормила посетителей и развлекала их исполнением народных французских песенок.
Виктор вошел в небольшую комнатку с баром, примыкавшую к главному залу, где стояли навощенные дубовые столы, скамьи и пустые бочки. В очаге с навесом горел жаркий огонь. Местные торговцы, нищие поэты, простоволосые девушки играли в манилью
[446] и попивали грог. Атмосфера в кабачке была совершенно семейная. Виктор знал, что очень скоро сюда придет публика с бульвара Ла Шапель и с улицы Гут д’Ор, и все станут дружно подпевать куплетам Адели.
Виктор сел напротив Мими, устроившейся у самого очага.
— Мсье Легри! Как вы меня нашли?
— Ломье мне…
— Вы парламентер?
— Нет. Вы попросили меня расследовать убийство вашей кузины Луизы Фонтан, но рассказали не все. Если хотите, чтобы я добился результата, помогите мне.
— Что вы хотите знать?
— Процесс некоей Тома, 1891 год.
— Какая тут связь?
— Любое имя или какая-то деталь могут иметь решающее значение для поимки убийцы Луизы. Доверьтесь мне и не тревожьтесь, я буду нем как могила. Вы знали Ришара Гаэтана?
— Красивый мерзавец. Он насиловал своих работниц, самых молоденьких, и прогонял прочь! Я знаю, о чем говорю, потому что работала на этого человека. Одна из подруг Лулу после такого едва не погибла. Я тоже прошла через «кабинет» Тома. Теперь вы довольны? Когда одна из пациенток умерла, Тома арестовали, и она нас выдала. Я жила впроголодь, мне было не на что растить ребенка, а как относятся к несовершеннолетним матерям, вам известно не хуже моего!
— Вы работали на улице Пэ?
— Сначала мы с Лулу были на побегушках в «Ла Рив», это дом моды на улице Мадлен. Вечно были на ногах, носились из одного конца Парижа в другой. На первые заработанные деньги купили по шляпке — чистое безумие, но у нас никогда не было ни одной красивой вещи, а ведь на улице на нас оглядывались, мужчины говорили комплименты.
— И там вы…
— Уступили мужу одной клиентки, тот еще был бабник. О, не одновременно, по очереди! Его жена направила нас к Тома.
— Как звали того любвеобильного господина?
Мими залилась румянцем.
— Мне бы не хотелось называть его имя, баронесса хорошо с нами обошлась, дала рекомендации в «Кутюрье дез
Элегант».
— Эту даму зовут Клотильда де Лагурне?
— Вы ясновидящий?
— Почему вы мне это сразу не рассказали?
— Да потому что тут нечем гордиться. Сколько несчастных женщин я повидала — работниц, портних, вышивальщиц, служанок. У всех была трудная жизнь, я многое могла бы вам порассказать! Были и другие, из богатых — некоторые и дня в жизни не проработали! — но их тоже было жалко. Им захотелось капельку счастья, и я никого не осуждаю. Мы вляпались в неприятности, но судить нужно было не только нас, но и наших любовников и мужей: они нас обрюхатили и сами же посоветовали
избавиться… Но закон писан только для мужчин! Да, я побывала у Тома и не умерла. Разве что помучилась… самую малость.
Мими вдруг осознала, что плачет, и принялась сердито утирать слезы.
Виктор попытался найти слова утешения — и не смог.
— Как долго вы оставались у Гаэтана?
— Я продержалась год, а потом нашла место в одной мастерской, делала бумажные цветы для шляп, а в бумаге содержится свинец. Работницы там надолго не задерживались — заболевали и умирали. Хозяин мог спасти много жизней, если бы позаботился об их здоровье, он не хотел терять часть прибыли. Когда я поняла, что меня ждет, ушла и стала натурщицей, зарабатывала неплохо. Потом встретила Мориса, он попросил меня ему позировать и хотя он был беден, как церковная крыса, я согласилась. Со временем мы сошлись. Жизнь у нас была нелегкая, но я не жаловалась, потому что Морис был мил со мной. Делал для меня все что мог, хоть и посматривал на сторону. Он мужчина, а вы все… Но теперь я сыта его фокусами по горло и хочу стать респектабельной дамой.
— Вы не знали молодую женщину по имени Софи?
— У Лулу была подружка, они вместе росли, кажется, ее звали Софи.
— Софи Дютийёль, Клерсанж или Гийе?
— Клерсанж, да, именно так: Софи Клерсанж, она была хорошенькая, тоже работала у Гаэтана и едва там не погибла.
— Каким образом?
— Все из-за ночной работы. Сидишь десять часов над шитьем, не имеешь ни минуты отдыха, устаешь, как собака, глаза устают от газового освещения, зимой мерзнешь, хочется свежего воздуха и свободы. Вы даже не представляете, каким потом и кровью создаются наряды для богатеев! И вот на часах семь тридцать, конец мучениям! Все надели шляпки, и тут нам объявляют: «Ночная смена». Четверть часа на легкий перекус — прямо в мастерской, на уголке стола. Мы скидываемся на хлеб и колбасу, кто-нибудь идет в лавку, едим всухомятку и вкалываем до полуночи, а то и дольше. А как потом добраться на Монмартр, в Батиньоль или Леваллуа? Омнибус уже не ходит. Фиакр не по карману. Идешь пешком по темным улицам. Как-то раз я попросила жандармов проводить меня, так они сказали, что честные девушки в такой час сидят дома, а не шляются по городу.
— Вы не утолили моего любопытства. Как случилось, что Софи Клерсанж едва не погибла?
— Говорю же, из-за ночных смен! Однажды вечером неожиданно заявилась инспекторша по труду. Софи не было восемнадцати, и ее спрятали в шкафу. Инспекторша была в дурном настроении, они со старшей мастерицей начали ругаться, и мы потихоньку смылись, а про Софи забыли. Мастерица спохватилась только рано утром, и ей пришлось врать доктору, а тот даже не был уверен, что сумеет спасти Софи. Потом патрон вызвал ее к себе и…
— Ришар Гаэтан?
— Собственной персоной. Что там с ней произошло, догадаться нетрудно.
— Не понимаю…
— Ну… Да ладно вам! Не притворяйтесь. Он откупился и… нужно продолжать?
— Вы потом ее видели?
— Софи? Да, на процессе. Не знаю, что с ней стало дальше. А нет, вспомнила! В нее влюбился какой-то старик-американец, и она уехала с ним за океан.
— А Луиза?
— Нашла работу на улице Абукир, я уже говорила. Мы с ней встречались раз в две недели, ходили вместе потанцевать. Летом ездили в Ножан, ели жареную картошку, катались на лодке по Марне.
— У Луизы была семья?
— Ее мать умерла, когда Луизе исполнилось двенадцать, но ей повезло: нашелся благодетель, устроил ее белошвейкой.
— Недавно Луизу наняла на работу некая американская подруга. Это может быть Софи Клерсанж?
— Почем мне знать. Мы с Лулу последний раз виделись за месяц до ее смерти. Так Софи Клерсанж в Париже?
— Похоже на то.
— Думаете, ее возвращение и убийство Лулу как-то связаны?
— Может, и так. Пойдемте.
— Куда это?
— Морис убит горем. У него есть недостатки, но он вас любит. Почему вы покинули улицу Жирардон?
— Мы поссорились.
— Он очень переживает.
— Правда? Бедный мой котик!
— Последний вопрос: вам что-нибудь говорит слово «Анжелика»?
— Не знаю… Так называют цукаты из листьев дягиля…
Таша сняла трубку. Звонил Жозеф.
— Это твой зять, — сообщила она Виктору. — Что ему от тебя опять нужно? Когда наговоритесь, приходи в мастерскую.
Виктор взял трубку, но прежде чем ответить Жозефу, дождался, пока Таша выйдет во двор.
Жозеф сообщил, что Софи Клерсанж спешно выехала из гостиницы, но он сумел выяснить, что она вернулась на улицу Альбуи.
— Отлично, Жозеф, вы подали мне идею. У вас есть карандаш? Записывайте.
В городе, пятница 23 февраля
Дорогая мадам, нам необходимо обменяться некоторыми сведениями, речь идет о вашей безопасности. Будьте в полдень в буфете Восточного вокзала. Наденьте шляпу без вуалетки и приколите к платью белую розу.
— Положите записку в конверт, напишите на нем фамилию Клерсанж и завтра, как можно раньше, передайте малышке-горничной. Всё, возвращается Таша, — шепнул Виктор и повысил голос: — Сколько раз вам повторять, Жозеф! Завтра утром я заскочу к мадам Альбуи. Если мсье Герен спросит про книгу о путешествиях «Синий китаец», скажете, что я надеюсь договориться с продавцом. Увидимся завтра, в магазине.
Пятница 23 февраля
Настенные часы в зале Восточного вокзала отсчитывали секунды, тут стоял непрестанный ровный гул голосов. Носильщики в каскетках и халатах, подпоясанные ремнями с логотипом Восточной железной дороги, сражались с чужаками за груды багажа. По мраморной лестнице беспрерывно стекал поток пассажиров. Виктор занял наблюдательный пост на террасе буфета. Он мог назначить встречу с Софи Клерсанж в более спокойном месте, но решил, что на вокзале легче укрыться от любопытных взглядов. Позиция оказалась удобной: весь огромный зал лежал перед ним как на ладони, у хромого не было шансов остаться незамеченным.
Корантен Журдан шел быстро, насколько позволял ему костыль, стараясь не потерять в толпе объект слежки. Его сирена дважды скрывалась из виду, но он догонял ее, энергично работая локтями. Она вошла на террасу буфета и оглядела посетителей, стараясь держаться как можно незаметней. Корантен Журдан прибавил шагу. Он сильно хромал, и с трехдневной щетиной на щеках, в покрытой засохшей грязью одежде выглядел, как старый забулдыга. Миновав билетные кассы, он остановился перед газетным киоском. Какой-то мужчина подошел к сирене и начал что-то шептать ей на ухо. Это тот самый тип из книжной лавки! Неужели Софи расскажет ему о происшествии в Ландемере? Что делать? Пространства для маневра не оставалось. Разве что… Да, у Корантена есть козырь: третий соблазнитель.
Софи направилась к стоявшему в отдалении столу, поправила белую розу в бутоньерке и сняла перчатки. Виктор внимательно оглядел ее: изящная брюнетка среднего роста с вьющимися волосами и смуглым лицом. Очень соблазнительная. Колец на пальце нет — ни обручального, ни венчального. Он подвинул ей стул и сел сам.
Софи Клерсанж посмотрела ему прямо в глаза.
«Выскочка, — подумал он, — высокомерная, полная презрения к окружающим. Хочет произвести впечатление. Ладно, начнем издалека».
— Надеюсь, мы правильно поймем друг друга, мадам, — сказал он спокойным тоном и улыбнулся. — Не буду ходить вокруг да около: вам угрожает опасность, вы напуганы, и я предлагаю вам помощь.
— Да как вы смеете? Думаете, я приму помощь от совершенно незнакомого человека?
Виктор продолжил, не повышая голоса:
— Ради вашей же безопасности будет лучше, если вы воспримете мое предложение всерьез.
— Вы начитались романов, мсье не-знаю-как-вас-там.
— Вы попали в точку, мадам, я книготорговец, мое имя Виктор Легри, и я успешно расследовал немало уголовных дел. Вот мои рекомендации.
Он протянул ей стопку газетных вырезок, и она внимательно их просмотрела.
— Это не объясняет ваше поведение. Я не нуждаюсь в помощи, и мне нечего опасаться.
— Буду с вами откровенен, мадам, и жду от вас того же. Меня заинтересовала смерть одной вашей знакомой, Луизы Фонтан, она была убита — задушена.
— Знаю. Некто — возможно, это были вы — сообщил об этом госпоже Герен, не потрудившись проявить хоть капельку деликатности. Луиза была моей подругой детства, и ее гибель меня очень опечалила.
— Мадам Герен, между тем, отрицала, что знает Луизу.
— Она хотела сначала поставить в известность меня. Я не желаю быть замешанной в эту историю.
Виктор положил на столик пачку сигарет и поднял глаза на собеседницу. Она смотрела на него с насмешкой.
— Луиза жила у вас, на улице Альбуи?
— Верно.
— Почему вы скрыли этот факт от полиции?
— Я встретилась с вами из чистого любопытства, мсье, потому что была заинтригована. Да, когда-то я общалась с Луизой Фонтан, но мы не виделись три года. Она была без работы, и я оказала ей гостеприимство, что совершенно естественно, согласитесь. Можете на меня донести, полиция вряд ли найдет в моих действиях злой умысел.
«Ты лжешь, крошка, — подумал Виктор. — Работа у Луизы была, и ты уговорила ее уволиться».
— Не пытайтесь обмануть меня, мадам, — сказал он, пораженный самообладанием Софи. — Мне многое о вас известно, и, думаю, не мне одному. Так что давайте начнем с начала. Вы работали на улице Пэ, не так ли? В «Кутюрье дез Элегант».
— Зачем спрашивать, если ответ вам известен?
— Как ваша фамилия по мужу и что вы делаете в Париже?
Она покраснела от гнева, но на вопрос ответила:
— Мой муж Сэмюель Мэтьюсон умер полгода назад. Он владел апельсиновыми плантациями в Калифорнии. Я уладила там все дела и решила вернуться во Францию, потому что скучала по дому.
— Где вы были в вечер убийства Луизы?
— Дома, на улице Альбуи, и у меня есть свидетели.
Виктор закурил, не спросив у нее разрешения.
— Я не сообщил вам одну деталь. Мне известно, что в ноябре 1891 года вы были обвиняемой на процессе некоей Констанс Тома вместе с Луизой Фонтан и Мирей Лестокар.
— Мирей Лестокар? Кто это? Да, меня судили. Но оправдали, как и всех остальных.
— Кто был отцом вашего ребенка? Ришар Гаэтан или барон де Лагур…
Он не договорил, но в этом и не было нужды.
— А вы сами сколько любовниц бросили, не озаботившись их положением?
— Ришар Гаэтан и барон де Лагурне убиты.
— Вы подозреваете меня? Ошибаетесь. Все знают, что Ришар Гаэтан вел себя со всеми работницами как феодал, а барон де Лагурне вечно торчал в кулуарах домов моды, Оперы и Фоли-Бержер!
— Что вам известно о Ришаре Гаэтане?
— Только то, что написано в колонках светской хроники. Он был закройщиком в магазине готового платья, потом стал портным в доме моды «Ла Рив» на улице Мадлен.
— Полагаю, название «Черный единорог» вам знакомо?
— Все слышали об этом обществе. Его основали Ришар Гаэтан, барон Эдмон де Лагурне и Абсалон Томассен.
— Великий Абсалон из Зимнего цирка?
— Да.
— Как Гаэтан добился известности? Дом моделей на улице Пэ упал ему в руки с неба?
— В 1888 году, в «Ла Рив», он познакомился с Абсалоном Томассеном: тот вернулся из Индии, куда ездил учиться у местных акробатов. Ришар Гаэтан мечтал сместить Уорта, и сноровки ему хватало, а вот фантазии — нет. Абсалон Томассен согласился отдать ему свои эскизы экзотических костюмов, сделанные во время странствий. Ему не было равных по части акварельных набросков и выбора тканей. Ришар Гаэтан создал платье по эскизам Томассена, следуя его советам… Довольно, с меня хватит!
— Продолжайте.
— Ладно, будь по-вашему… В августе 1889-го, на приеме у персидского шаха — среди приглашенных были президент Республики, послы и сливки парижского общества — появилась госпожа Клотильда де Лагурне. Ее выход был впечатляющим — в роскошном туалете от Гаэтана из синей с золотом парчи. Это «Платье цвета времени» было навеяно сказкой Шарля Перро «Ослиная шкура» и произвело сенсацию. Имя Гаэтана передавалось из уст в уста. Баронский титул де Лагурне обеспечил дому моды «Кутюрье дез Элегант» успех. Помню, как Томассен однажды сказал: «Надеюсь, я не стану ослом, который вместо навоза производил блестящие на солнце экю». Я достаточно ясно выразилась?
— Вовсе нет.
Она покачала головой и невесело рассмеялась.
— У вас есть сборник сказок Перро, господин книготорговец? Беднягу осла принесли в жертву, его прикончили. И вы еще считаете себя опытным сыщиком! Все ваши предположения не имеют ничего общего с действительностью. Подумайте сами — их было трое, теперь остался один. Истинным создателем моделей был Абсалон, но он не получил ни гроша: Гаэтан поспешил «застолбить участок».
— Вы подозреваете Томассена?
— Швейная мастерская — то же самое, что большая семья: чтобы не потерять работу, приходится хранить секреты.
Такую гипотезу Виктор не рассматривал, поэтому следующий вопрос задал не сразу:
— Расскажите о хромом мужчине, который следует за вами из одного отеля в другой.
Взгляд Софи Клерсанж-Мэтьюсон на мгновение затуманился, но она быстро взяла себя в руки.
— Хромой? А разве это не один из ваших подручных? Откуда мне знать, тот ли вы, за кого себя выдаете?
— Вы, кажется, раздражены?
— Раздражена? Да вы наглец! Врываетесь в мою жизнь, копаетесь в моем прошлом… Вам больше нечем заняться?
Она не сводила с него глаз, довольная произведенным впечатлением.
— Прощайте, господин книготорговец, мне пора.
— Подождите, мадам… — Виктор решил выложить козырной туз. — Известно ли вам, что драгоценная коллекция единорогов барона де Лагурне была варварски уничтожена?
— Какое мне до этого дело?
— Злоумышленник оставил на зеркале надпись: «В память о брюмере и ночи мертвых».
— Напоминает реплику из мелодрамы!
— Послание на зеркале было подписано именем Луиза.
— Все это чушь, мистификация! Луиза погибла за неделю до барона.
Софи произнесла эти слова совершенно невозмутимым тоном, но лицо ее стало мертвенно-бледным.
Виктор взял ее за руку.
— Вам что-нибудь говорит имя Анжелика?
Она вырвалась и исчезла в толпе, забыв на столике перчатки.
Выйдя с вокзала, Софи Клерсанж-Мэтьюсон сделала над собой усилие и справилась с гневом. Нужно бежать, выкинуть этот разговор из головы. Ей не о чем беспокоиться, все устроится, иначе и быть не может.
На улице Фобур-Сен-Мартен было шумно, но звуки доносились до нее как будто сквозь вату. События принимали опасный оборот. Внезапно Софи всё поняла, и у нее перехватило дыхание. Она прислонилась к стене, потрясенная очевидностью происходящего. Никому нельзя доверять. На бумаге ее план выглядел безупречным, на деле все вышло совсем не так, и события начали развиваться сами собой.
Старик-инвалид на костыле обогнал Софи, свернул на улицу Реколле и пошел следом за сплавлявшейся по реке барже. Корантен Журдан смотрел на баржу и размышлял о прожитой жизни, которая была так похожа на волнующуюся воду канала Сен-Мартен. В каком незнакомом порту он бросит якорь?
Виктор толкнул дверь магазина и тут же оказался на поле боя: Кэндзи схлестнулся с багровой от гнева Эфросиньей. Отступивший — от греха подальше! — к камину Жозеф наблюдал за происходящим, кусая губы, чтобы удержаться от смеха.
— Значит, Зульма заваривает чай лучше меня? — кричала Эфросинья. — Не уточните, в чем именно она меня превосходит, мсье Мори? Может, скажете, куда должен смотреть носик вашего чайника — на север, юг, запад или восток? Или чайные листья следует собирать в полнолуние? И уж будьте так любезны, откройте мне тайну: вы предпочитаете сливки от нормандских коров или от беррийских?!
— Пусть с молоком пьют англичане, — ровным тоном ответил Кэндзи.
— Ах так? Виновата, вы пьете а-ля рюс, как княгиня Фифи Максимова! Сколько сахара? Один или два куска?
— Мне кажется, вы сегодня в дурном настроении, мадам Пиньо, — констатировал Кэндзи, устраиваясь за столом.
— Есть от чего! Эта притворщица Зульма Тайру посягнула на составление меню! Хотите, чтобы она вас отравила? Ну что же, я умываю руки!
— Не драматизируйте, мадам Пиньо, вы отсутствовали, и я всего лишь попросил ее вскипятить воду.
— Не имеет значения, это моя епархия!
— Что тут стряслось? — спросил Виктор у Жозефа.
— О, ничего серьезного! Зульма поспешила проникнуть на кухню, когда мама ушла на рынок. Вы встретились с Софи Клерсанж?
— У нас состоялся весьма содержательный разговор. Я снимаю шляпу перед этой женщиной, у нее стальные нервы: она наговорила много чего, но не ответила ни на один мой вопрос.
— Вы ее подозреваете?
— Думаю, она в любом случае замешана в этой истории. Ее мотивы очевидны.
— Она чудо так хороша!
— Жизнь часто нас удивляет, Жозеф. Внешность обманчива. Она вдова, живет под фамилией Мэтьюсон и потеряла самообладание всего один раз — когда я упомянул о надписи на зеркале в доме Лагурне.
— Ух ты… Тайна «Мэт» раскрыта! Брикар был прав: слышится не так, как пишется! Мы точно установили, что между тем процессом об абортах и убийствами существует связь. Ноябрь 1891-го… Брюмер, ночь мертвых… Хорошее название для романа… И все же проблема остается, патр… Виктор. Почему убили Лулу?.. Она слишком много знала? Была нежелательной свидетельницей? Вся эта история дурно пахнет. Может, уступим право разгадать шараду инспектору Лекашеру? Я не хочу оставить своего будущего сына сиротой.
— Неужто вы готовы полюбить мещанский уют, Жозеф?
— Не смешите, патрон, я устал быть сторонним наблюдателем в этом деле! А какова роль хромого?
— Госпожа Софи Клерсанж-Мэтьюсон уклонилась от ответа на этот вопрос.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Суббота 24 февраля
За окном рассвело. Заспанный Корантен Журдан выбрался из постели и бросил взгляд в выщербленное зеркало. На него смотрел усталый человек с трехдневной щетиной на щеках. Он собрался с силами, налил в тазик воды из кувшина, схватил помазок, поднес его к лицу и вдруг замер.
«Я несчастный Бен Ганн. Три года я не разговаривал ни с одним человеком».
[447]
Корантен сознавал, что его удел — одиночество. Он покачал головой, чтобы избавиться от наваждения, чувствуя себя одновременно актером на сцене и зрителем в зале: ни тому ни другому сюжет пьесы не нравился. «Возвращайся домой», — сказал он себе. Он мог сколько угодно уговаривать себя — но желание довести дело до конца было сильнее. Он, как герой Достоевского, попал в безвыходную ситуацию и не ждал ничего хорошего. В его одержимости было нечто загадочное: он хотел разорвать порочный круг, собрать вещи и вернуться домой, но не мог — сначала нужно было найти третьего мерзавца.
Крики бегущих вниз по лестнице ребятишек оглушили Корантена. Улица внизу под окнами оживала, начинался новый день. Торговцы открывали лавки, хозяйки отправлялись за покупками, шли на работу мужчины. Простой люд жил привычной, нормальной жизнью, в которой ему, Корантену Журдану, не было места.
Кучер не желал возвращаться на улицу Бельвиль, но щедрые чаевые убедили его, и Жозеф мысленно поблагодарил Виктора, велевшего ему нанять фиакр. Дорога была забита бродячими торговцами, Жозеф крутил головой по сторонам, разглядывая квартал. Он был разочарован: это местечко с его прачечными, травяными аптеками, галантерейными лавками, слесарными мастерскими и мелкими магазинчиками ничем не отличалось от других районов, населенных простым людом. Надежда Жозефа увидеть что-нибудь новое и необычное вроде Американского квартала
[448] не оправдалась.
Пыхтя, как омнибус маршрута «Бельвиль — озеро Сен-Фарго», он вскарабкался на вершину холма, где тянулась двумя шпилями к небу церковь Святого Иоанна Крестителя.
Перед стрельчатым порталом здания, выстроенного по образцу святилища XIII века, человека в красных сабо и синем кушаке не оказалось. Жозеф справился о нем у мастера по склейке фарфора на Эншевальской аллее, и тот махнул рукой в сторону Палестинской улицы.
Жозеф обогнул школы, о которых говорил ему Сильвен Брикар, и попал на улицу Солитер, но сориентироваться не сумел и спросил дорогу у двух молоденьких прачек с корзинами белья. Они рассмеялись ему в лицо и убежали. Следуя указаниям, полученным от глуховатой старухи, которая плела сиденья для соломенных стульев, и стоявших у бистро подмастерьев, он наконец попал на улицу Ла Виллетт, где пухлощекая консьержка в фартуке в горошек и с забранными в большой пучок волосами направила его в заканчивающийся тупиком переулок. Ему показалось, что он попал в какую-то заморскую страну, но это была явно не Америка. Жозеф поднялся по лестнице в четыре ступени и увидел перед собой сколоченные из досок лачуги, разделенные ручейками грязных сточных вод. Обитатели этих, с позволения сказать, домов, были, наверное, самыми сирыми и убогими из всех парижан. Оборванные ребятишки носились между домами, петухи и куры выискивали корм, лаяли собаки, мычала корова. Воинственный петух напал на Жозефа и несколько раз пребольно клюнул его в лодыжку, так что тому пришлось искать спасения в первом же дворе. У колонки закоченевшие от холода женщина и две девочки накачивали воду в ведро, чтобы напоить корову, пегую нормандку.
— Ваша корова просто красавица, — заметил Жозеф.
— Она наша спасительница, без ее молока мы с малышками умерли бы с голоду.
— Вода хорошая?
— Уж получше, чем в сернистом источнике на улице Атлас! Ту мы берем только для полива огорода. Налить вам стаканчик?
— Спасибо, я не хочу пить. Не знаете, где живет Сильвен Брикар?
— Миллионер? В конце прохода, сразу увидите: самый большой дом, каменный, на засовах и замках — дядюшка Брикар страсть как боится воров.
Корова стояла неподвижно, шустрый петух осмелел и решился снова напасть на Жозефа, но девочки отбили атаку и загнали наглеца в курятник.
— Думаю, вы преувеличиваете его богатство, ведь он торгует черствым хлебом, — пробормотал Жозеф, посматривая на закрывавших дверцу курятника девочек.
— Да он в золоте купается, уж будьте уверены, — возразила женщина. — Вообще-то он человек неплохой. Часто выручает нас с тех пор, как моего Теодюля уволили из мастерской и он вынужден подрабатывать в порту на разгрузке и истопником на вокзалах. Вчера Сильвен принес нам целый мешок зачерствевших хлебцев. Мы размачиваем их в молоке, и выходит очень даже вкусно. Булочник и угольщик в кредит отпускать не хотят, а я заложила уже почти все, что было.
— Значит, он добрый малый, этот Брикар.
— Как посмотреть… — И женщина поведала Жозефу, что у Миллионера есть замок в Берри, куда он вскорости уедет и будет жить там в свое удовольствие.
— По трудам и честь, Брикар надрывается на работе, а лишних ртов у него нет. — Женщина взглянула на дочек.
Жозеф распрощался со словоохотливой кумушкой и пошел вниз по улице.
— А тетка была права, это не дом, а чистой воды форт, — пробурчал себе под нос Жозеф, глядя на бетонный куб с железной дверью.
Стучать пришлось долго: хозяин явно разглядывал незваного гостя в глазок.
— А, это вы, — прошамкал Сильвен Брикар. Он высунул голову за дверь, убедился, что Жозеф пришел один, и только тогда впустил его.
— Вы чего-то опасаетесь?
— Осторожность не помешает, миром движет зависть.
В доме аппетитно пахло выпечкой. Жозеф представил себе печь с марципанами и пряниками, сглотнул слюну — он был сладкоежкой — и достал из кармана завернутую в мятую бумагу книгу.
— Это заказ мадемуазель Софи Клерсанж — вернее будет называть ее Мэтьюсон. Помните, вы назвали мне первый слог ее фамилии? Так вот, я узнал остальное!
Сильвен Брикар почесал седеющую голову. Одет он был по-домашнему — в блузу, заплатанные штаны и старые сапоги — и весь выпачкался в муке.
— А мне она зачем? Отнесите ее в гостиницу!
— Мадемуазель Клерсанж выехала «по-английски», никому ничего не сказав.
— В таком случае, доставьте книгу в кондитерскую.
— В какую именно?
— «У Синего китайца», что на улице Винегрие. Хозяйка — вдова Эрманс Герен.
— Мой патрон рассердится, я обещал ему обернуться по-быстрому.
— А у меня, знаете ли, хлеб в печи, так что выметайтесь отсюда и катитесь на улицу Винегрие! По правде говоря, тамошняя хозяйка не слишком меня жалует, может и выгнать. Что вы хотите — возраст, к старости у женщин портится характер. А что за книга, роман?
— «История преступления» Виктора Гюго.
— А, Гюго! Как-то раз меня из-за него целую ночь продержали в участке. Мы студентами схлестнулись с полицией, власти ведь запретили играть пьесу «Рюи Блаз».
[449] Подрались, попинали друг дружку. В пьесе и впрямь были смелые строки:
Приятный аппетит, сеньоры!
О, прекрасно!
Так вот, правители Испании несчастной!
Министры жалкие, вы — слуги, что тайком
В отсутствие господ разворовали дом!
[450]
К великой досаде Жозефа, продекламировав отрывок из пьесы, Сильвен Брикар вознамерился вернуться к своей выпечке. Нужно было немедленно «взбодрить» разговор.
— Эти стихи по-прежнему актуальны. По правде говоря, шишки, которые нами правят, все так же обирают народ… Ну и память у вас, мсье, вы наверняка были очень молоды, когда заучивали эту роль!
Миллионер поддался на лесть.
— У меня врожденный актерский талант. Нужно было поступить на сцену, мог бы играть любовников и мерзавцев. Я тогда вкалывал у кондитера, зарабатывал гроши и был влюблен в продавщицу. Ей было всего восемнадцать — просто милашка и вовсе не задавака. Но она предпочла мне моего дружка. Такова жизнь, ничего не поделаешь.
— Как ее звали?
— Эрманс.
— Как хозяйку «Синего китайца»?
— Это она и есть, только потолстела, да морщин у нее теперь прибавилось.
— Она вышла замуж за вашего друга?
— Спрашиваешь! Он успел ее обрюхатить, а потом — малышке был всего месяц — его забрили. Вперед, в Седан! Война хороша в патриотических куплетах, как послушаешь, так прослезишься, а подранят на поле боя — вмиг протрезвеешь. Я-то поступил, как наши «неподкупные» министры, спрятался у матери в Бордо и затаился, пока все не улеглось.
— А ваш друг?
— Сгинул в заварухе, с концами сгинул. Хотел сравняться с Вельпо, но погиб.
— Вы женаты?
— Шутите? На свете полно женщин, если бы я на всех женился… Ладно, мой мальчик, мне пора собираться, время первого тура.
— Можно мне с вами?
— Я думал, вас ждет патрон.
— Подождет. К дьяволу всех хозяев вместе взятых!
— Вот это по-нашему! Но имейте в виду: хожу я быстро, так что ноги у вас завтра будут ныть. Посидите здесь, я переоденусь.
Через несколько минут Брикар появился в своем нелепом черно-сине-красном наряде и надвинутом на брови цилиндре. Он погрузил в тележку корзины с «освеженным», подрумяненным товаром, заботливо укутал толстым одеялом, и они отправились в путь.
Час спустя обессиленный Жозеф плелся далеко позади похожего на бульдога торговца. Тот совершил несколько выгодных сделок, хорошо заработал и распродал почти весь товар. Можно было не сомневаться, что вскорости Сильвен Брикар пристроит к своему «дворцу» еще одно крыло.
— Пойдем выпьем, мой мальчик, я угощаю! — предложил Миллионер. — Могу себе это позволить!
Они завалились в кабачок, где хозяйка подала им две кружки пива, бросая томные взгляды на торговца хлебными корками.
— Ей не я нравлюсь, а мои деньги! — фыркнул Сильвен.
— Вам в голову пришла грандиозная идея. Торговать черствым хлебом — отличное ремесло, — ответил Жозеф, отогреваясь. — Зависишь только от себя, никому не кланяешься.
— О да, я свободен, как ветер. Я завел свое дело сразу после войны, когда в семьдесят втором вернулся в Париж. Работы в кондитерской для меня не нашлось. Хозяин, Марсель Герен, тогда только-только женился на Эрманс. Она, само собой, ко мне охладела. Беззаботная молодость миновала! Потом папаша Герен дал дуба, оставив после себя только долги, и Эрманс пришлось заложить лавку. Мы с ней случайно встретились на Центральном рынке, и она принялась жаловаться мне на жизнь, ну, я и поплыл. Выкупил лавку, оплатил ее ремонт и обновление и собственноручно раскрасил новую вывеску — Эрманс непременно хотела, чтобы кондитерская называлась «У Синего китайца».
— А почему синего?
— В честь ее отца, который умер в 1860 году в Поднебесной, на берегах Янцзы, Синей реки! Денег я потратил немало, но Эрманс утешил, и мы стали жить вместе, как настоящая семья. Так что Софи мне вроде как дочь.
— Но почему она носит фамилию Клерсанж, если ее мать — мадам Герен?
— Это девичья фамилия Эрманс, Марсель Герен отказался удочерить малышку.
— Вы больше не живете вместе?
— Можно подумать, вы собрались писать мои мемуары! Мы с Эрманс прожили вместе десять лет, когда плутовка решила наставить мне рога. Тут уж я не выдержал и отчалил. Но мы остались друзьями, так тоже неплохо.
— А что это за процесс, на котором вы помогли Софи?
— Гнусное было дело! Правосудие возмутилось тем, что женщины — богатые и, главное, бедные — посмели восстать против нежеланного материнства. Я защищал Софи и горжусь этим, обо мне даже в газетах писали!
Брикар достал растрепанный блокнот с вклеенными в него вырезками. Его имя фигурировало в числе свидетелей защиты рядом с именами миссионера, покровителя сирот, и молодой швеи, утверждавшей, что видела, как изнасиловали ее подругу.
— Ну, а теперь мне предстоит второй рейс, так что я отправляюсь домой. Ваше здоровье, мой мальчик! — воскликнул Сильвен Брикар и залпом допил свой стакан.
Жозеф последовал его примеру, и у него все поплыло перед глазами. Он пожал руку Миллионеру, выбрался на улицу, шатаясь добрался до улицы Ла Виллетт, остановил фиакр и велел ехать на улицу Винегрие.
«Надо ковать железо, пока горячо. Расспрошу эту мадам Герен. Она утаила от нас, что Софи Клерсанж — ее дочь, значит, покрывает ее или даже сама в чем-то замешана».
Алкогольный дурман перенес его на поле боя, где чудовищных размеров петух по имени Вельпо гнался за гнусным Зандини, переодетым нормандской коровой.
— Кончайте вопить, приехали! — объявил кучер, дергая Жозефа за рукав.
Тот расплатился, забыв о чаевых, и кучер грубо выбранил его.
«Синий китаец» светился на унылой улице Винегрие, как фонарь в ночи. Лепнина, мрамор и зеркала создавали утонченное обрамление для выставленных на прилавках разнообразнейших лакомств. Сидевшая за кассой хозяйка в черном кружевном чепце склонилась над вязаньем. Жозеф порадовался, что в лавке нет покупателей, и толкнул дверь. Зазвенел колокольчик, Эрманс Герен подняла простосердечное, как у постаревшей куклы, лицо. Ее голубые глаза моргнули, словно она вернулась в реальный мир откуда-то издалека.
— Что желаете, мсье?
— Мне нужен подарок для жены, она ждет ребенка, и ей все время хочется сладкого. Что вы мне посоветуете?
— Я наберу для вас ассорти. Пралине, помадку и берленго.
[451] Ей нравится мята?
— Кажется, да.
— Тогда положим еще мятные пастилки и маршмеллоу. И несколько фиалковых конфеток. Когда вы ждете?
— Что? — удивился Жозеф, завороженный вазой с карамелью.
— Роды.
— Не раньше июля.
— Имя уже выбрали?
Эрманс Герен задавала вопросы не из интереса, а из соображений профессиональной вежливости.
— Если будет девочка, то Эванджелина, а если мальчик — Сагамор.
— Это христианские имена? — удивилась кондитерша.
— Мои тесть и теща — американцы. Боже, какой же я болван, забыл про цукаты! У вас они есть? — спросил он.
— Цукатами торгует пирожник.
— Моя матушка собралась печь торт, и если я не добуду для нее цукаты…
— Мне очень жаль, мсье, но у меня они кончились. Больше ничего не желаете?
— Да, это все, а за драже для крестного отца я приду потом.
— Вы живете в нашем квартале? — спросила мадам Герен, отсчитывая сдачу.
— В прошлом месяце переехали на бульвар Мажента. Там немного шумно, но зато очень удобно. И передайте привет вашей дочери Софи от моей жены.
Удар был нанесен так внезапно, что Эрманс Герен на мгновение утратила невозмутимость. Она почти сразу взяла себя в руки, но, когда ответила Жозефу, голос ее звучал неуверенно:
— Вы ошибаетесь, у меня нет дочери.
— Ну как это нет? Старик Сильвен был трезв, когда дал мне ваш адрес. А моя супруга — давняя подруга вашей Софи.
— Повторяю, мсье, это ошибка.
— Понимаю, вам не хочется признаваться из-за шумихи вокруг «процесса детоубийц», но, раз уж мы заговорили о прошлом, моя сладчайшая половина тоже была в числе обвиняемых. Так что мы с вами в одной лодке.
Побледнев как полотно, Эрманс дрожащей рукой тщетно пыталась убрать под чепчик невидимую прядь.
— Кто вы? — прошептала она.
— Друг хромого.
Она покачала головой.
— Оставьте меня в покое, уходите.
— Вы приютили свою дочь Софи, мадам Герен, признайте это. Мы знаем, почему она вернулась из Америки. Передайте ей это. Спасибо за конфеты! — произнес он и помахал пакетиком, перевязанным розовой шелковой ленточкой.
«Патр… Виктор будет мной доволен, я провел допрос на высшем уровне!» — похвалил себя Жозеф, шагая к омнибусу.
Его надежды, вопреки ожиданиям, не оправдались. Виктор выслушал доклад в подвале книжной лавки и недовольно нахмурился.
— Вы разворошили муравейник, теперь все всполошатся — вдова, ее дочь, хромой и бог знает кто еще. Вы поступили крайне необдуманно!
— Так я и знал! Вскочил ни свет ни заря, помчался в Бельвиль, выудил у Миллионера первоклассные сведения, а вы…
— Признаю, вы добыли ценнейшую информацию, — с натужной улыбкой признал Виктор. — Браво, Жожо.
Жозеф счел похвалу шурина слишком скупой и решил подняться к Айрис. Он пообещал Кэндзи, что через пять минут вернется в магазин. Наверху он столкнулся с Зульмой, которая боязливо отступала к лестнице под натиском Эфросиньи. Мадам Пиньо гневалась. Держав одной руке нож, в другой морковку, она грозно рычала:
— Можете на меня жаловаться, мне все равно, здесь я командую! Если понадобится, я молотком вобью эту истину в вашу дурацкую башку!
Жозеф поцеловал мать, надеясь ее успокоить, и решил от греха подальше покинуть кухню, но на пороге обернулся и спросил:
— Тебе, случайно, ничего не говорит слово Вельпо?
Эфросинья выронила морковку.
— Ты смеешь обзывать собственную мать старой шкурой?
[452] Иисус-Мария-Иосиф!
Жозеф поспешил смыться. Когда он вошел в спальню, Айрис незаметно спрятала под подушкой тетрадь, в которой записывала сказку о стрекозе и бабочке.
— Я закончила печатать третью главу «Букета дьявола», — сообщила она мужу.
Оставшийся на складе Виктор мысленно подводил итоги.
— В бессвязном рассказе Жожо было нечто принципиально важное, но что? Миллионер участвовал в процессе вместе с миссионером, покровителем сирот. Мирей Лестокар тоже говорила о человеке, который заботился о детях и пристроил Лулу на работу белошвейкой… Кто говорил тебе, что работал в африканской миссии?.. Отец Бонифас! Да, и он же защищал Луизу Фонтан. Чертов кретин, почему я раньше о нем не подумал?
— Виктор, вы не знаете, куда мы поставили «Политические портреты» Ипполита Кастийя? — крикнул сверху Кэндзи.
Виктор поднялся в зал и откопал связку томов под произведениями Мармонтеля. Кэндзи не терпелось сбыть с рук залежавшиеся книги, и он принялся соблазнять парочку рантье, которые жаждали за небольшую плату составить библиотеку — не для чтения, а для красоты и престижа. Тома в кожаных переплетах как нельзя лучше подходили для этой цели.
Когда спустился Жозеф, Виктор отвел его в сторонку и шепнул на ухо:
— Я ухожу, извинитесь за меня перед Кэндзи, придумайте что-нибудь… Мне нужно на улицу Монжоль. Ваша информация навела меня на кое-какие мысли, придется снова побеседовать с отцом Бонифасом.
— А я что буду делать? Бить баклуши?
— После обеда отправитесь на разведку в Зимний цирк и раздобудете адрес Абсалона Томассена.
— Велосипед не возьмете?
— Нет.
«Зимний цирк… Отличное место действия для моего романа, — подумал Жозеф, затосковав по своему литературному детищу. — Так что там с Вельпо? Кто он — путешественник? Ученый?»
Он уже собрался заглянуть в словарь, но его подозвал Кэндзи.
Резкие порывы ветра гнали по небу свинцовые облака, но квартал Монжоль выглядел празднично. Свет горящих за стеклами керосиновых ламп отбрасывал золотые блики на узкие улочки, провонявшие жареной селедкой, алкоголем, табаком и нечистотами. На темном, защищенном от ветра перекрестке улиц Монжоль и Аслен ватага сорванцов стреляла из рогаток по пустым бутылкам, звенело разбитое стекло, разлетались в стороны осколки. По тротуару вдоль жалких домишек и пользующихся дурной славой гостиниц в ожидании субботних клиентов из Ла Виллетт и Бельвиля прохаживались проститутки в сопровождении сутенеров. Одна из них сделала знак Виктору: это была Марион, он видел ее с ребенком на руках у отца Бонифаса.
— Вы вернулись?
Виктор не успел ответить — за его спиной раздался визгливый голос:
— А ну-ка, отвали, этот красавчик мой!
Виктор повернулся. Перед ним стояла Моминетта в обтягивающем шерстяном платье с большим вырезом. Ее глаза были жирно подведены, губы накрашены яркой помадой. Марион и не подумала уступать.
— Только тронь, я позову на помощь! — взвизгнула она.
Виктор примиряющим жестом развел девиц в стороны.
— Я здесь не для… того. Мне нужен отец Бонифас.
Женщинам стало стыдно, они переглянулись и отступили к темно-красной стене «Отель дю Бель Эр»: точь-в-точь неистовые вакханки с греческой амфоры.
— Он пошел навестить Жирафу. — Марион указала пальцем на гостиницу «56 ступеней» — чтобы добраться до нее, надо было подняться по трем лестницам улицы Аслен.
Виктор не понял, как такое огромное животное могло протиснуться на этот Двор Чудес. Моминетта догадалась, о чем он подумал, и пояснила:
— Это прозвище Жозефины Пегрэ, она длинная, как голодный день, и худая как палка!
— С тех пор, как сутенер променял ее на молоденькую гибкую Равиньольшу, она шатается без дела и ничего не ест. Если так пойдет и дальше, скоро станет совсем прозрачной, — добавила Марион.
Виктор попрощался с девицами и поспешил уйти, чтобы не привлечь внимания сутенеров. Тяжело пыхтя, он быстрым шагом прошел по улице и начал подниматься по ступеням отеля мимо сводников, фальшивых калек и нескольких безработных.
Услышав звучное «Можно!», он вошел в убогое жилище: всю обстановку составляли таз — его явно использовали для самых разнообразных нужд, и набитый морскими водорослями тюфяк на полу, на котором лежала прикрытая несвежей простыней женщина с изможденным лицом. В ноздри Виктору ударил резкий запах, и он тут же расчихался.
— Простите, мсье… забыл ваше имя, я переборщил с уксусом Бюлли, борюсь с клопами, но пока безрезультатно, они тут повсюду, — сообщил отец Бонифас, отходя от больной.
— Ничего, — успокоил его Виктор, прикрывая нос платком. — Меня зовут Виктор Легри.
— Да, конечно, теперь я вспомнил, вы сообщили мне о смерти Лулу.
— Именно по этому поводу я и решил вас снова побеспокоить. Во время расследования я выяснил, что Лулу жила у свой давней подруги на улице Альбуи, они когда-то вместе работали.
— Я этого не знал.
— Я также выяснил, что эта подруга, Софи Клерсанж, и Лулу были обвиняемыми на процессе, а вы выступали свидетелем защиты.
Отец Бонифас наклонился, чтобы вытереть женщине губы, и медленно распрямился, морщась от боли.
— Поясница ноет, сил моих нет. Да, все точно, это был процесс против мамаши Тома. Мне хотелось помочь несчастным, особенно Лулу, я потом пристроил ее работать белошвейкой.
— Странное отношение к абортам — для священника.
— Возмущение общественным лицемерием не есть оправдание греха. Меня учили состраданию. Я долгое время жил в Африке. Жизнь там сурова, здесь она гнусна.
— Лулу — это уменьшительное от Луизы?
— Я всегда знал эту девушку как Лулу. Когда я подобрал ее, свидетельства о рождении при ней не было. — Отец Бонифас открыл слуховое окно, чтобы хоть немного проветрить помещение. — Уверен, наш милосердный Господь ни за что не осудил бы девушек, ставших жертвами мужской похоти и жестокости.
— Простите мне мое любопытство, отец, но где вы учились медицине?
— Учился? — Отец Бонифас расхохотался. — По книгам и на практике, уважаемый, ни одного официального диплома у меня нет.
— Разве закон не запрещает…
— …попрошайничанье, бродяжничество, проституцию, детоубийство, аборты, самоубийство. Он много чего запрещает. Я же, по мере своих скромных сил, пытаюсь врачевать беды. Если нищета губит человека, нужно протянуть ему руку помощи, разве не так? — Отец Бонифас с насмешкой взглянул на Виктора. — Значение имеют только упорство и опыт, — бросил он. — Я хотел помогать ближнему. Мечтал стать хирургом, делать трепанации черепа… Но мои родители были бедны, мне рано пришлось начать вкалывать, потом я уехал и оказался на другом берегу Средиземного моря.
— Это случилось после войны 70-го?
— Нет, намного раньше, мне повезло — я не участвовал в той бойне.
— А вот Сильвен Брикар уверял, что знавал вас в те времена.
— Сильвен Брикар? — Отец Бонифас закрыл окно и почесал щеку. — Решительно, память стала совсем никудышная, имя Брикар ничего мне не говорит.
— Это тем более странно, что он тоже свидетельствовал на том процессе. Брикар был любовником Эрманс Герен, а она ведь, кажется, — мать Софи Клерсанж.
Отец Бонифас покачал головой.
— Сожалею, мсье Легри, но я и правда не помню этих людей. Что вовсе не означает, будто я их никогда не встречал. Стареть чертовски неприятно. Возможно, в конце концов я вспомню, так что не стесняйтесь спросить снова. А теперь я должен сделать еще одну попытку накормить Жозефину — она ничего не ела со вчерашнего дня.
Виктор понял, что дальнейшее присутствие в этой жалкой
комнатушке бессмысленно, откланялся и, минуя улицу Монжоль, добрался до улицы Боливар. Он собирался зайти за Таша в «Ревю бланш» и отвести ее пообедать в ресторан, но сначала нужно было позвонить в магазин и кратко пересказать Жозефу разговор с отцом Бонифасом. Необычный человек… Чистосердечный. Всегда готовый помочь тем, кто ему доверился. Но делать хирургические операции, не имея врачебного диплома… Бред какой-то! Кому верить? Ему или Сильвену Брикару? Рядом с Виктором остановился фиакр, он сел на скамью, сделал кучеру знак трогаться и подумал: жаль, что сейчас он не может помочь Жозефу. Главное, чтобы тому удалось поговорить с Великим Абсалоном…
Забыв о желудке, бунтовавшем после приготовленной Эфросиньей дорады с турецким горохом, Жозеф любовался ротондой Зимнего цирка, украшенной двумя фризами с барельефами во славу искусства верховой езды. Гнусный Зандини тоже едва не свернул шею, разглядывая стоявшую слева от входа бронзовую амазонку. Он отвлекся всего на мгновение, но Кармелла успела раствориться в толпе прохожих на бульваре Тампль. В животе у Жозефа громко заурчало, но он презрел эти звуки и подошел к двери дирекции двух цирков, что на улице Крюссоль. Слуга с внешностью императора Августа, которому Жозеф отрекомендовался журналистом, пригласил посетителя в маленькую гостиную, попросил подождать, очень скоро вернулся и провел его в кабинет господина Франкони. Директор восседал за огромным столом, на зеленом сукне лежал ворох пожелтевших афиш. Он жестом пригласил незваного гостя сесть в кресло красного дерева, подпер подбородок руками и сделал страдальческое лицо, давая понять, что готов к самым нелепым вопросам.
— Я не отниму у вас много времени, мсье, мне всего лишь нужно встретиться с Абсалоном Томассеном, — пояснил Жозеф, чем несказанно порадовал директора.
— Он завтра возвращается с гастролей по провинции и утром будет у меня. Мы должны обговорить последние детали вечернего представления. Вам лучше всего отправиться домой к Абсалону — на улицу Мартир, 2.
Виктор Франкони явно надеялся, что обрадованный посетитель немедленно исчезнет, но Жозеф словно прирос к стулу, не обращая внимания на досаду собеседника. Не каждый день удается встретиться с директором цирка, нужно расспросить его и выведать секреты, которые могут пригодиться в писательском деле.
— Читатели «Пасс-парту» жаждут узнать подробности закулисной жизни артистического мира. Не будет ли дерзостью с моей стороны попросить вас поведать детали будущего номера великого Абсалона? Наши подписчики — и особенно подписчицы — обожают этого гениального акробата.
— Вы правы, акробат он великолепный. И все же рискую разочаровать его поклонниц: я не знаю никаких деталей, Абсалон со мной не откровенничает. Наша звезда весьма капризна — этого не пишите! Взять хотя бы его контракт: костюмы должна была заказывать дирекция. Так вот, он настоял на изменении этого пункта: ему самому нравится играть в кутюрье! Да, Абсалон талантлив, но публика начинает уставать от его опасных прыжков, она жаждет чего-нибудь новенького. Наши несчастные львы и лошади ей уже тоже наскучили. Трудно соперничать с мюзик-холлами! Вот вам «Мирлитон», взгляните сами: «Олимпия» обещает зрителям Белони, Мариетту и их попугаев-акробатов, а еще стрелка кабальеро Гарсиа с ассистентом — псом по кличке Вильгельм Телль!
— Вам нужна Анни Оукли! Но ее — увы! — уже нанял Буффало Билл.
[453] Она так управляется с карабином, что сам Ситтинг Балл прозвал ее Ватанайя Чичилия — «Та, что никогда не промахивается»!
— Браво, молодой человек, вы отлично владеете языком сиу, — насмешливо заметил директор. — Но я вряд ли соберусь в ближайшем будущем на берега Миссисипи, где, по слухам, имеет огромный успех плавучий цирк.
— Жаль, — совершенно серьезно отвечал Жозеф. — Можно мне — для репортажа — одним глазком заглянуть за кулисы?
— Да хоть двумя, если пожелаете! — воскликнул Виктор Франкони, мечтавший как можно скорее закончить разговор.
Чтобы попасть к артистическому входу, требовалось пересечь двор. Директор проводил «журналиста» до дверей реквизиторского цеха и оставил одного.
Жозеф шел по узкому проходу мимо вонючих клеток, где дремали хищники, над головой у него раскачивались трапеции и кольца. Неожиданно тигр с грозным рыком бросился на прутья решетки. Жозеф ринулся в коридор, где резвились ребятишки и разминались наездницы в трико. На ковровой дорожке китайские жонглеры в кепи и куртках репетировали пантомиму. В красно-золотом стойле два английских клоуна резались в домино. На одном были пышные панталоны и камзол конюха, на другом — шелковый костюм фисташкового цвета, затянутый в талии, и маленький заостренный колпачок. Жозеф подошел к ним.
— Вы знаете Великого Абсалона?
«Пышные панталоны» пожал плечами, давая понять, что не понимает. «Колпачок» произнес на ломаном французском:
— Слыхал, он очень… very good, but we… лучше! — Он подмигнул в сторону своего партнера, без предупреждения вспрыгнул ему на плечи, оттолкнулся и перелетел через дверцы стойла на арену, где выдал каскад прыжков на зависть обезьянке. Партнер поймал его, и они сделали несколько виртуозных кувырков.
— Школа коверных… — сообщил, пытаясь отдышаться, «Колпачок». — Настоящий акробатика!
«„То, что гимнасты вытворяют с помощью своих тел, сын мой, вы должны сотворить разумом“, говорил Барбье д’Оревильи, — напомнил себе Жозеф в омнибусе. — Он был чертовски прав, однако если я буду пользоваться чернильницей так же, как эти двое скачут по манежу, получатся одни только кляксы!»
Неприветливый консьерж дома номер 2 по улице Мартир пробурчал, что мсье Томассен часто отсутствует, а возвращается, как правило, в неурочный час, что неудивительно для человека, который проводит жизнь, болтаясь на веревке. Но в данный момент мсье Томассен отсутствует.
Жозеф обещал вернуться в магазин сразу же после того, как оценит — якобы! — партию книг у букиниста. Разочарованный неудачей с Абсалоном, он побежал к омнибусу: тот остановился, пропуская повозку с надписью «Перевозки Ламбера».
Корантен Журдан считал фиакры: это помогало забыть о ледяном ветре, гуляющем в окрестностях церкви Нотр-Дам-де-Лоретт. Желтый фиакр с кучером в белом котелке и светло-бежевой куртке стал девятнадцатым, повозку молочника, мчащегося во весь опор по улице Сен-Лазар, он не засчитал. Двадцатым номером прошла фура Компании мини-экипажей с кучером в зеленой куртке и кожаном картузе. Ну когда же тот паяц вернется наконец в претенциозное здание, которое выбрал для своего проживания? Как там было сказано на афише — «Абсалон, король акробатов и акробат королей»? Жалкий шут!
При виде омнибуса, следующего по маршруту «Пигаль — Винный рынок», который с лязганьем катил по рельсам в конце улицы Мартир, сердце Корантена сжалось. Он дважды видел, как кучер впрягал пристяжную лошадь, чтобы помочь двум першеронам втащить тряский вагон на Монмартр. Корантена ужасала страшная участь парижских лошадей. Порочность людская воистину безгранична — объявляют себя защитниками животных, а сами мучают их, эксплуатируя в хвост и в гриву. Взять хотя бы этих пристяжных: почему бы не взять и не отменить движение омнибусов по крутым холмам? Пусть пассажиры карабкаются вверх на своих двоих! Корантен вспомнил своего Флипа и разозлился еще больше. И хотя судьба животных никак не сопрягалась с тем, что он задумал, гнев укрепил его решимость. Он должен во что бы то ни стало преуспеть — во имя любви к Клелии, которую погубило лицемерное общество, ради…
Из подъехавшей двухместной кареты вышел нарядный денди в визитке и клетчатых брюках, прервав размышления Корантена. Это был Абсалон Томассен, Корантен узнал его по тонким усикам и бородке. За хозяином следовал слуга с чемоданами. Они вошли в подъезд дома под номером 2.
Корантен Журдан едва сдержал порыв броситься следом за ними. Нельзя пугать этого жалкого скомороха раньше времени. Нужно дать ему время расслабиться, а потом войти через черный ход и довести задуманное до конца.
А пока он будет считать — нет, не фиакры, а, для разнообразия, ноги прохожих. Пара мышино-серых ботинок с квадратными носами. Пара лакированных, итого — четыре. Еще одна пара в засохшей грязи — шесть. Два грубых растрескавшихся башмака — восемь. Пара легких туфелек, явно не по погоде. Два ямщицких сапога…
Абсалон Томассен аккуратно поставил цилиндр на столик рядом с кроватью, после чего с наслаждением переобулся в подбитые мольтоном
[454] домашние туфли. Закрыв за собой дверь квартиры, он испытал облегчение, но глухая тревога его так и не оставила. Она поселилась в душе Абсалона, как только он узнал из газет об убийстве Эдмона де Лагурне и Ришара Гаэтана. Только в своей огромной четырехкомнатной квартире он ощущал покой и чувство безопасности, которых ему так недоставало во время долгого пребывания в Шантийи: там, в старом семейном пансионе, где жили тени прошлого и горькие воспоминания, он оттачивал новый сложнейший номер.
Абсалон закрыл глаза и мысленно представил опасные трюки, которые ему удалось просчитать с точностью до секунды. На следующее утро в Зимнем цирке начнутся репетиции, он добьется успеха и станет звездой нового сезона.
Вошел слуга, разложил на кровати любимый халат своего господина и доложил, что отправляется за продуктами.
Абсалон Томассен снова погрузился в раздумья и принялся ходить по гостиной, украшенной восточными коврами и мебелью. Он рассеянно погладил ладонью декоративное наргиле.
[455] В прессе упоминалось о послании, оставленном в тайном кабинете Гаэтана, где тот хранил свою коллекцию кукол. Оно было подписано именем Анжелика. Что это, месть какой-то женщины? Вполне вероятно, особенно если учесть склонности Ришара. А убийство Лагурне и вовсе могло быть делом рук какого-нибудь злокозненного шутника. Да, два убийства последовали одно за другим, но это просто совпадение, а вовсе не заговор. Значит, Абсалона сие никак не касается, он даже остался в выигрыше, став единственным председателем «Черного единорога». Нужно навестить Клотильду, лично выразить ей соболезнования и выяснить подробности обстоятельств смерти ее мужа. Ни одна газета ни словом не обмолвилась о том, что коллекции единорогов нанесен ущерб. Насколько Абсалон помнил, в тайной комнате хранились еще и очень редкие старинные манускрипты и трактаты. Бедняжке Клотильде эти ценности совершенно неинтересны, и она наверняка за гроши их ему уступит. Абсалон не сомневался, что баронесса отдаст в его полное ведение не только эзотерическое общество, но и свои прелести. Он может жениться на ней, у него достаточно средств, чтобы расплатиться с кредиторами покойного барона и даже выкупить его титул. Барон Абсалон Томассен… Звучит красиво.
Он достал из портфеля наброски, сделанные во время добровольного заточения в Шантийи. Три рисунка особенно нравились ему: костюм со стразами, который он наденет для исполнения прыжка ангела, ярко-красные с серебром костюмы в псевдокавказском стиле для наездников и платье индийской заклинательницы змей из расшитого шелка для выступающей в «Фоли-Бержер» Налы Дамаянти. Рисунки дополнят коллекцию, которую он хранит в кладовой, переделанной под кабинет.
Какой-то шум привлек его внимание.
— Это вы, Леопольд? — окликнул он.
Ответом ему был шум улицы. Абсалон забеспокоился и прошел в длинный коридор, в конце которого, рядом с комнатами слуг, находился его кабинет.
Он вошел и с трудом удержался от крика. Словно пунцовый дождь пролился на папки с рисунками, на пришпиленные к стенам эскизы, на два манекена в переливающихся туниках, на блокноты и тетради с акварельными набросками жонглеров, клоунов и храбрых наездников.
Абсалон тронул указательным пальцем корешок папки и с отвращением понюхал его. Кровь. Он прошел к окну и выглянул наружу. Какой-то человек вышел из двери черного хода и, тяжело прихрамывая, бросился наутек. Абсалон хотел было крикнуть: «Держите его!», но сдержался: слишком поздно. Он повернулся и только тут заметил на отливающем синевой каминном зеркале сделанную белым мелом надпись:
Ты позволил погубить семя.
Готовься к неприятностям!
Луиза
— Какое семя? Какая Луиза? Кто такая Луиза? — пролепетал Абсалон срывающимся голосом.
У него, как и у всех, были любовницы. В памяти всплыли имена: Катрин, Джорджина, Алиетта… Шотландская укротительница… как ее звали, ах да, Хелен Мак-Грегор. Софи, Филомена, Сесиль… Но ни одной Луизы в его прошлом, насколько он помнил, не было.
…Жозеф подхватил первый ставень и попрощался с Виктором. Мадам Баллю, стоявшая на посту под козырьком подъезда, рассеянно поприветствовала его, когда он шел мимо нее вниз по улице в сторону набережной Малакэ, и снова обратила взгляд на стоявший на другой стороне фиакр.
«Сначала двуколка, теперь коляска! Что им всем от меня нужно?»
Давешнее оскорбительное замечание Эфросиньи все еще звучало у нее в ушах: «Бедняжка Мишлин, вы уже не в том возрасте! Зачем мужчине преследовать вас?»
— И почему это, скажите на милость, мужчина не может мной заинтересоваться? Неважно, сколько мне лет! Женщина способна соблазнить мужчину в любом возрасте! Эта бывшая зеленщица просто задирает нос с тех пор, как ее сын женился на дочери патрона, и корчит из себя буржуазку. Меня преследуют — и точка. И мне это нравится, — пробурчала мадам Баллю себе под нос и скрылась в привратницкой, решив, что не помешает выпить глоток хорошего портвейна, оставшегося от ее покойного супруга Онезима. Достойная женщина не видела, как фиакр медленно тронулся с места.
Погруженный в свои мысли, Виктор шел мимо кафе «Потерянное время», когда к его ногам упала белая роза. Он стремительно обернулся. У тротуара стоял фиакр. Дверца открылась, и женский голос окликнул его:
— Садитесь, мсье Легри, мне нужно с вами поговорить.
Он замер в нерешительности.
— Я одна. Не бойтесь, я вас не заколдую!
Виктор вспрыгнул на подножку.
— Добрый вечер, мадам Клерсанж… или Мэтьюсон? Это похищение? Здесь не Дикий Запад!
— Мне не до шуток, мсье. Садитесь. Не знаю, почему вы так упорно меня преследуете, но умоляю — перестаньте докучать моей матери. Сегодня после обеда ваш приспешник…
— Ответьте на один вопрос: почему вы лжете? Мне известно, что это вы убедили Лулу бросить работу на улице Абукир. С какой целью, позвольте спросить?
В Софи была очаровательная смесь невинности и дерзости. Она молчала, пустив в ход весь арсенал улыбок и взглядов из-под ресниц и не переставая играть перчатками. Даже опытному мужчине нелегко было перед ней устоять.
— О, мсье Легри, вы единственный, к кому я решилась обратиться! — воскликнула она. — Вы обещаете не вмешиваться, если узнаете мою тайну?
— Возможно. Мне не терпится услышать…
Он замолчал на полуслове, не уверенный в том, что поступает правильно. Софи прерывисто вздохнула и постучала в окошечко, давая знак кучеру.
— Закройте дверцу, мсье Легри, мы немного покатаемся, — прошептала она.
Виктор отвернулся к окошку. Он знал, что Софи все точно рассчитала и внимательно и холодно наблюдает за ним из-под ресниц.
— Бедняжка Лулу! — произнесла она. — Во всем виновата я одна. Это может показаться невероятным, но поверьте, я говорю правду. После смерти моего мужа Сэмюеля Мэтьюсона я решила отомстить двум людям, укравшим у меня молодость, и записала в дневнике свой план. Я хотела отплатить Ришару Гаэтану и Абсалону Томассену их же монетой. Первый изнасиловал меня, второй бросил и прогнал прочь, узнав что я беременна.
— А третий? Барон де Лагурне?
— Он спал с моей лучшей подругой Лулу, и она тоже забеременела. Я хотела испортить им репутацию, но не планировала убивать.
— Насколько я знаю, Абсалон Томассен еще жив!
— И надеюсь, доживет до глубокой старости.
Виктор вздрогнул. Странно было слышать эти слова от женщины, чья честь была так жестоко поругана. Софи смотрела на него с тревожным ожиданием.
— Позвольте рассказать вам мою историю без прикрас и умолчаний, — попросила она, — не хочу, чтобы вы сомневались в моей искренности. План был прост. Я предложила Лулу поселиться у меня, на улице Альбуи, все ей рассказала, и она согласилась участвовать. Я убедилась, что все три негодяя живут по прежним адресам, написала Гаэтану: «Я в Париже, если хотите избежать неприятностей, выполняйте данные в письме указания», и подписалась «Анжелика».
— Почему Анжелика? И что за указания вы ему дали?
— У него была мания — давать своим жертвам ласковые прозвища. Я была Анжеликой, других он звал Мирабелла, Шукетта, Клементина, Вишенка, Брюньон, Амандина… Настоящий безумец! Мы с Лулу были очень похожи — за исключением цвета волос. Оставалось перекрасить ее в брюнетку, и она вполне могла сойти за меня. Мы выбрали день и назначили Ришару Гаэтану встречу в безлюдном месте. Нам было необходимо выманить его из дома, чтобы я могла действовать спокойно. Лулу выступит в роли меня, и он ничего не заметит. Она встретилась с ним в ротонде Ла Виллетт, а я отправилась в его дом на улицу Курсель. Отослала под каким-то предлогом лакея, вошла в тайную комнату, где он хранил коллекцию кукол, и от души позабавилась.
— То есть все разгромили?
— Да. А потом написала предупреждение на стене — хотела, чтобы он знал, кто нанес удар. Надумай Гаэтан подать жалобу, никто бы не связал имя Анжелика со мной.
— Что именно Лулу должна была сказать Гаэтану?
— Что откроет всем, кто на самом деле создает модели для его дома мод, и весь Париж будет над ним смеяться. Это была всего лишь игра, мы не собирались никого убивать! Я вернулась на улицу Альбуи и стала ждать возвращения Лулу. На следующее утро в газетах напечатали о девушке, задушенной на пустыре в Ла Виллетт. Я все поняла и очень испугалась. Негодяй! Думаю, он запаниковал, когда Лулу назвала его обманщиком, и задушил ее, приняв за меня.
Софи промокнула слезы. Виктор слушал и взвешивал все «за» и «против». Ему хотелось поверить ей, но он сомневался, потому что не любил слишком дерзких женщин. Возможно, все дело в ее внешности чувственной брюнетки и высокомерно-снисходительной манере поведения. Куда подевалась его хваленая проницательность? Нет, в женщинах он ценит сдержанность и скромность.
— На месте преступления был второй человек, — тихо произнес он, — хромой, мне это достоверно известно.
— Клянусь, я не знаю, кто это. Я много страдала, мсье, а страдание способно толкнуть человека на опасную стезю, но вы должны мне поверить: я непричастна к убийствам: кто-то узнал о моих намерениях и привел план в исполнение, на что я сама никогда бы не осмелилась.
— Вы наверняка с кем-то поделились.
— Мой план знала только Лулу, но она погибла раньше, чем убили барона де Лагурне и Ришара Гаэтана.
— Тогда как вы объясняете эти…
— Моя голубая тетрадь, личный дневник… Кто-то мог прочесть его без моего ведома.
— Кто именно? У вас есть предположения?
— В январе шхуна, на которой я плыла во Францию, потерпела кораблекрушение. Меня спас какой-то мужчина. Я провела в его доме всего один день и почти ничего не помню. Возможно, он прочел мой дневник. Монахини в Юрвиле отказались назвать его имя. Позже я виделась с ним в «Отель де л’Ариве». Он назвался моим спасителем, и я ему поверила. Этот человек был в ужасном состоянии, на него напали у дверей моего номера. Он сказал, что хочет защитить меня, и убедил укрыться на улице Альбуи. В тот же вечер убили Ришара Гаэтана.
«Почему незнакомец, которого она встретила при столь романтических обстоятельствах, вдруг превратился в поборника справедливости? — подумал Виктор. — Кто она, эта темноволосая красотка: сообщница, преступница, лицемерка?»
— Кто еще из вашего окружения мог иметь доступ к дневнику? — спросил он.
— Вскоре после приезда в Париж я заболела воспалением легких и много дней металась в горячке. Меня навещал друг матери.
— Как его имя?
— Сильвен Брикар.
— Приходил только он?
— Нет, конечно, регулярно бывали врач и мама, но они вне подозрений.
— Мать способна на все ради своего ребенка.
— Вы с ума сошли!
— Вы правы, мы уходим в сторону. Забудем о вашем дневнике, этой таинственной голубой тетради. Вчера, в разговоре со мной, вы предположили, что Томассен был бы рад видеть своих компаньонов мертвыми.
— Совершенно верно, к тому же, он должен был знать о существовании Лулу. А ее ведь никто не опознал.
— И быть в курсе преступления Ришара Гаэтана.
— Смехотворная мысль! Гаэтан никогда бы не доверился шантажисту.
— Надо же, вы и об этом умолчали. Значит, Томассен шантажировал Гаэтана?
— Это очевидно. Как вы думаете, почему «Кутюрье дез Элегант» существует столько лет? Итак, мсье Легри, что вы решили?
— Я должен подумать. Свяжусь с вами позже. Я выйду здесь.
Фиакр остановился на углу моста Конкорд.
— Я могу вас отвезти…
— Благодарю вас, я хочу размять ноги.
Он шел по мосту на другой берег Сены, пинал носком ботинка камешки и напряженно размышлял.
— Чистой воды небылицы, — бормотал он себе под нос. — Эта женщина морочит мне голову.
Его быстрый, цепкий ум прокручивал разные варианты развития событий, он перебирал имена тех, кто мог прочесть личный дневник Софи Клерсанж, где она якобы изложила свой оригинальный план, говорил сам с собой, умолкал, рассуждал снова и снова.
— Мать, мадам Герен — возможно, Сильвен Брикар, что тоже вполне вероятно. Хромой: какой у него мотив? И почему две разных подписи: Анжелика и Луиза? Не понимаю. Жозеф прав: предоставим это дело Лекашеру… Нет, слишком рано, остается еще Томассен. Он замешан в убийстве? Или сам потенциальная жертва? Нужно встретиться с ним как можно скорее.
На улице Риволи Виктор свистом подозвал свободный фиакр.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Воскресенье 25 февраля
Как высвободиться из объятий Таша, не разбудив ее? Виктор осторожно пошевелился и тут же замер: дыхание жены участилось, она что-то тихо пробормотала во сне. Шелковистые простыни обвивали их тела. Он спустил ноги на ледяной пол и оглянулся: Таша спала и видела сон, содержание которого он никогда не узнает. Ее тело вздрагивало, влажные губы шевелились, словно она вела с кем-то диалог.
Виктор торопливо оделся и написал ей покаянную записку: он вынужден уйти из дома, у него деловая встреча, о которой он забыл ей сказать, но обещает вернуться еще до полудня. Если задержится, придется придумать какую-нибудь отговорку.
Он прихватил с собой горбушку хлеба и яблоко. Угнездившаяся в глубине
его гардероба кошка, громко мурлыкая, облизывала своих котят. Она проводила хозяина, тихонько мяукнув ему вслед.
Улица Фонтен медленно стряхивала с себя ночное оцепенение. Редкие прохожие брели по тротуару, сгибаясь под порывами ветра. «Сегодня воскресенье, и ты мчишься в цирк, совсем как в детстве, — сказал себе Виктор. — Но ты всегда ненавидел клоунские эскапады, над которыми хохотали другие мальчишки, они казались тебе вульгарными и даже опасными…»
Абсалон Томассен заперся в гримерке, надел сценический костюм, нанес на лицо крем и загримировался. На репетиции долгожданного номера должны были присутствовать директор Зимнего цирка, несколько машинистов, любопытствующие собратья по цеху и молодой акробат Василий, ученик Томассена.
В ротонде пахло опилками, навозом и пылью. Привычный запах помог Абсалону расслабиться, противный комок под ложечкой сразу же исчез. Но когда он снова поднял глаза к зеркалу и вгляделся в свое отражение, то почувствовал, как возвращается терзавший его всю ночь страх. Ужасное воспоминание об залитых кровью рисунках и надписи на трюмо удавкой стискивало горло, мешая дышать. Он сделал глубокий вдох, шумно выдохнул через рот и почувствовал нестерпимую жажду. Но ни дыхательные упражнения, ни глоток свежей воды не помогли ему успокоиться.
В дверь постучал Василий: директор Франкони начал проявлять нетерпение. Абсалон сделал последнюю попытку прогнать из головы все мысли, как это делают пловцы перед прыжком в воду, но не сумел избавиться от ощущения, что с ним вот-вот случится удар.
Виктор без труда проник в цирк, прокрался к лестнице, которая вела к скамьям под конным фризом, и выбрал место у самой арены, чтобы оказаться как можно ближе к Абсалону Томассеном, когда тот закончит номер.
Свет свисающих из-под свода люстр освещал только нижнюю часть зала и арену, над которой реквизиторы натягивали страховочную сетку. Колосники оставались в тени, из которой выступали лишь кресла первых рядов с белыми деревянными спинками и красными бархатными сиденьями.
Человек во фраке и котелке уселся в одно из них. Виктор предположил, что он и есть директор, о котором говорил Жозеф. Потом его внимание переключилось на арену, над которой крутился на тросе артист, больше напоминавший марионетку, чем человека. «Странно, что не звучат фанфары», — подумал Виктор. Акробат с набеленным лицом зажимал зубами прицепленную к тросу пробку и крутился все быстрее и быстрее, его украшенное стразами трико сверкало разноцветными отблесками, превращаясь в огненную черту. Постепенно вращение замедлилось, акробат замер и перехватил трос мускулистой рукой, отведя его в сторону. В тот же момент молодой ассистент с силой толкнул к центру две трапеции, и они начали раскачиваться. Великий Абсалон находился метров на двенадцать выше. Когда первая из трапеций оказалась перпендикулярно полу, акробат нырнул в пустоту, ухватился за нее и снова полетел, потом мгновенно перехватил руки, сделал полуоборот и оказался лицом ко второй скользившей к нему трапеции. Он раскачался, выбросил тело вперед и на мгновение замер. В воздухе что-то мелькнуло, черный шар врезался ему в затылок, и Абсалон Томассен рухнул в страховочную сетку. Зал замер в изумлении, кто-то закричал, началась паника. Виктор вскочил, обшаривая взглядом трибуны, увидел метнувшийся к выходу силуэт и кинулся в погоню, расталкивая артистов и машинистов сцены. Он выбежал на бульвар Фий-дю-Кальвер, где оставил велосипед у будки контролера фиакров, и успел заметить хромого: тот вскарабкался на сиденье двуколки с надписью «Перевозки Ламбера» и послал лошадь в галоп.
«Хромой! Значит, это он», — подумал Виктор, подпрыгивая на сиденье велосипеда по булыжнику мостовой.
Погода, на его счастье, стояла сухая, экипажей было немного, и он не терял повозку из виду. Она свернула налево в первую же улицу и покатила в сторону бульвара Ришар-Ленуар.
Знает ли хромой, что за ним следят? Похоже, нет. Убийца пытается скрыться с места преступления, что вполне закономерно. Шлюзы моста Жеммап мелькали мимо один за другим, но натренированный глаз фотографа машинально отмечал детали, достойные быть запечатленными на пленке: хлопающее на ветру белье на веревке, шарманщик, ругающий пса, задравшего ногу на его инструмент, военный в красных брюках, обнимающий полногрудую дамочку.
Двуколка свернула на улицу Эклюз-Сен-Мартен. Виктор, стараясь держать дистанцию, обогнул тележку угольщика и съехал в водосточный желоб. Метров через двадцать у велосипеда лопнула задняя шина. Виктор чуть не задохнулся от злости, решил искать помощи на почте и тут заметил паренька лет двенадцати — тот стоял, сложив на груди руки и привалясь спиной к стене, и с любопытством наблюдал за происходящим.
— Эй, парень, хочешь заработать пять франков?
— Надо подумать.
— Половина сейчас, остальное — когда вернешься.
— Откуда?
— Видишь двуколку «Перевозки Ламбера», что застряла на перекрестке? Беги за ней следом, а если остановится, запомнишь название улицы, вернешься к почте и скажешь мне. Поторопись!
Мальчуган зажал в кулаке монетки и стартовал со скоростью, удивительной для столь юного создания. Виктор подумал, что вряд ли снова его увидит: даже если предположить, что мальчишка захочет получить остаток денег, преследование хромого может увести его аж до самого Пантена, если не дальше. Еще пять франков — так недолго и разориться — помогли ему уговорить торговку скобяным товаром присмотреть за его велосипедом.
«Нужно немедленно вызвать Жозефа, пусть даже ситуация выглядит безнадежной».
Кэндзи в крайнем раздражении повесил трубку. Когда же графиня де Салиньяк запомнит, что по воскресеньям книжный магазин закрыт? Дама, которую он втайне от Жозефа тоже называл «бабищей», жаждала сию же минуту получить книгу о воспитании, которую не единожды заказывала. «Она так настойчива, потому что сама не получила никакого воспитания», — подумал Кэндзи, поднимаясь к себе. Его дочь и зять еще спали, а может, просто нежились в постели. Эфросинья — благодарение Небу! — отправилась со своей товаркой по Центральному рынку в театр Шатле на представление «Сокровища раджей», избавив Кэндзи от своего присутствия.
Он лег в горячую ванну, расслабился телом и душой и попытался представить, как Джина раздевается в его холостяцкой квартирке на улице Эшель, для которой идеально подошли подобранные ими шторы. Вот сейчас упадет последнее препятствие из тончайшего батиста, и он увидит корсет на китовом усе, облегающий бедра и приподнимающий грудь (он уже успел украдкой полюбоваться глубокой ложбинкой в магазине на Бульварах!). В дверь постучали. Он решил не отвечать. Стук повторился. Кэндзи кинул на пол махровое полотенце, надел халат и открыл дверь.
— Сегодня воскресенье, — рявкнул он в лицо Жозефу. Тот был полностью одет и почему-то выглядел озабоченным. — Что-то случилось? Айрис?
— Я промучился всю ночь. Как одержимый. Вы, случайно, не знаете, кто такой Вельпо?
— Вы что, издеваетесь?
— Да нет, что вы, клянусь, у меня и в мыслях ничего такого не было. Я просто не решился идти среди ночи на склад, а вы ведь ходячая энциклопедия, вот я и подумал…
Польщенный Кэндзи сдержал раздражение.
— Он был знаменитым хирургом, специалистом по трепанации черепа. Почему, черт побери, вы им интересуетесь?
— Это для моего романа. Премного вам благодарен.
— Тогда ответьте на звонок, — буркнул Кэндзи и закрылся в ванной, совершенно уверенный, что снова звонит графиня де Салиньяк.
Жозеф медленно спускался по винтовой лестнице. Его мысли были заняты не имеющим решения математическим уравнением. Звонила Таша, она была недовольна и исполнена подозрений. Неужели обязанности книготорговца действительно обязывают Виктора отлучаться из дома в воскресное утро? В полумраке торгового зала перед мысленным взором Жозефа возник Зимний цирк. Он кашлянул и прикинулся несведущим, а потом крикнул — так, чтобы было слышно на другом конце провода:
— Да, дорогая, уже иду! Извините, мадам Таша, меня зовет Айрис.
Не успел он положить трубку, как раздался новый звонок. Это был взволнованный до крайности Виктор.
— Я уже час не могу дозвониться, у вас все время занято! Вы меня слушаете? На Абсалона Томассена покушались во время репетиции, он ранен, возможно, даже умер. Я проследил за нападавшим, это хромой. Мне пришлось выйти из игры — я проколол шину и… Подождите.
Жозеф услышал, как его шурин что-то с кем-то обсуждает. Голос у его собеседника был высокий и визгливый.
— Мальчишка довел его до улицы Бюрнуф, — возбужденно сообщил Виктор, — это рядом с улицей Монжоль! Бегу туда, присоединяйтесь.
— Улица Монжоль? Не там ли живет… — Туман рассеялся, и уравнение явилось Жозефу во всей своей красе. — Виктор! Думаю, я нашел…
Но тот уже повесил трубку.
— Черт возьми! — воскликнул Жозеф. — Никогда меня не дослушает! Если я не вмешаюсь с револьвером, этот шут попадет в переделку… Куда он его подевал?
Жозеф помнил, что после батиньольского расследования
[456] застукал Кэндзи, когда тот прятал оружие в один из ящиков бюро. Он начал обыскивать ящики один за другим, с трудом сдерживая желание вывалить их содержимое на пол. В конце концов пистолет обнаружился под книгой счетов за 1890 год. Жозеф схватил его, волнуясь, как новичок во время первой в жизни перестрелки. Одно плохо — он не умеет обращаться с этой игрушкой. Ну почему нельзя на время превратиться в гнусного Зандини, который так ловко владеет оружием!
— Будет драчка, — прошептал он, словно эти простые слова могли наделить его храбростью и меткостью.
Жозеф отодвинул засов, надеясь, что ни один вор не воспользуется моментом, чтобы стянуть несколько книг, пригнулся и выскользнул на улицу, не потревожив колокольчика.
Айрис переживала кошмар наяву. Она стояла на верхней ступеньке лестницы и слышала часть разговора, а потом, не в силах двинуться с места, наблюдала за поисками Жозефа и его поспешным бегством. Она уже некоторое время догадывалась, что ее муж и Виктор ведут расследование, но не хотела вмешиваться. Как же теперь исправить ошибку? Она босиком, прямо в ночной кофте и юбке, подбежала к телефону и назвала телефонистке номер. Таша ответила почти сразу, и, выслушав Айрис, страшно разозлилась:
— Так я и знала! В день моей выставки любовница Ломье произнесла в разговоре с Виктором загадочные слова. А Жозеф выдал себя, назвав мне адрес убитого кутюрье. Они на улице Монжоль? Где это?
— Таша, Жозеф взял папин пистолет…
— Кто это тут покушается на мое оружие? — поинтересовался Кэндзи, незаметно подойдя к Айрис со спины.
Она вздрогнула и выронила трубку.
— Жозеф. Боже мой! А что, если их обоих ранят?
— С кем ты говоришь?
— С Таша.
Кэндзи отобрал у дочери трубку.
— Таша, это Кэндзи. Я предупрежу полицию. До свиданья. — Он посмотрел на дочь. — Улица Монжоль, ты уверена?
Айрис кивнула. Кэндзи набрал четырехзначный номер.
— Мадемуазель, соедините меня с кабинетом инспектора Лекашера, бульвар Пале, семь, это вопрос жизни и смерти. — Кэндзи ждал, нервно постукивая кончиками пальцев по краю бюро. — А ты, детка, возвращайся в постель и думай о ребенке, — велел он Айрис. — Алло, инспектор Лекашер? Кэндзи Мори у аппарата.
Виктор добрался до улицы Монжоль быстро. Он надеялся, что ноги его больше не будет в этом сомнительном квартале, и вот теперь снова бежал по грязным тротуарам в сторону улицы Бюрнуф. На глаза ему попались два сорванца: они пытались попасть из рогаток в голубя. Виктор пришел в негодование.
— Как вам не стыдно!
— А что такого, мсье, мы тренируемся. Отец Бонифас рассказывал нам о Давиде и Голиафе! Это из Библии!
Виктор побежал дальше, пока не заметил двуколку с надписью «Перевозки Ламбера»: он был на месте. Постучал в дверь, но ему не ответили. Он повернул ручку и вошел. В приемной не было никого, кроме прелестной голубоглазой девчушки с одноногой куклой, с которой они познакомились, когда Виктор впервые посетил это сомнительное местечко.
— Ты видела отца Бонифаса?
— Ну да, он ужас как спешил, снял сутану и закрылся вон там — в комнате, где нас лечит, а другой как ударит, и вломился, но отец Бонифас выпрыгнул в окно, а тот тоже прыгнул и едва челюсть не своротил, нога-то у него хромая.
— Куда они побежали?
Девчушка пожала плечами.
— Они мне не сказали.
Обескураженный Виктор полез в карман.
— Вот, держи, купишь себе конфет, — сказал он и протянул девочке последнюю монетку.
— Ой, спасибо, мсье. На вашем месте я бы сходила в грот.
— В какой грот?
— На холмах Шомон. Когда легавые устраивают облаву, отец Бонифас велит нам прятаться в гроте, — пояснила она, перебирая грязными пальчиками волосы куклы. — Это хорошее укрытие, с водопадом. Летом там здорово купаться. А зимой никто туда не ходит, только бандиты разбираются друг с другом, потому что легавые…
Она подняла глаза и увидела, что ее собеседник исчез.
Корантен Журдан был близок к цели: не зря он уже много недель рыскал по залитому дождем, грязному городу. Нога смертельно болела, но он не останавливался ни на секунду. Тот, за кем он гнался, был немолод и грузен, но передвигался на редкость шустро. Этот человек стремительно преодолел лестницу на улице Аслен и помчался по улице Боливар. Ногу свело судорогой, и это заставило Корантена остановиться. Он перевел дыхание и ринулся влево.
Незнакомец намного опередил его и продолжал бежать, ни разу не обернувшись. Корантен ускорил шаг и увидел, как тот перепрыгнул через решетку на пустырь. Тяжело дыша, прижав локти к телу, Корантен устремился следом. Пока он путался в высокой траве и спотыкался на камнях, здоровяк исчез из виду. Корантен выругался, поскользнулся и полетел вперед, едва успев выставить руки, чтобы смягчить падение. Потом с трудом поднялся на ноги, взобрался на горку и увидел озерцо, окруженное валунами, на вершине которых был сооружен маленький храм в греческом стиле. Чуть ниже начинался металлический мостик. Корантен словно оказался далеко от Парижа. Незнакомец испарился. Где его теперь искать? Он мог как спрятаться где-то поблизости, так и уйти дальше.
«Ты где-то там, — думал Корантен, — ты измотан не меньше меня. И не рассчитывай, я не отступлюсь».
Он опустился на скамейку, чтобы дать себе передышку, и стиснул зубы, пытаясь отвлечься от ноющей боли в ноге. Отступиться, почти добравшись до цели, означало бы нарушить данное себе слово, а он поклялся довести дело до конца, чего бы это ему ни стоило. Значит, нужно наплевать на боль и обследовать весь парк с упорством, которое когда-то помогало ему справляться с волнами.
Тяжело хромая, он обошел вокруг озеро с утками, потом взобрался на поросший кедрами холм. Заросшая мхом тропинка привела его к пустующему ресторанчику. Расставленные среди деревьев бронзовые скульптуры словно следили за его передвижениями. Внезапно в воздухе разлетелся сноп искр: из туннеля выкатился локомотив, волоча несколько вагонов. Ну вот: беглец наверняка воспользовался кольцевой железной дорогой.
Оказавшись на верху каменной арки, Корантен вдруг увидел вход в искусственный грот: в заросший папоротниками овраг низвергался водопад, тут стоял влажный полумрак, с потолка свисали гроздья сталактитов, создавая впечатление сказочной пещеры. Лиловый верхний свет отбрасывал светлые блики на стены колодца, где с выступов свисали лианы и торчали корни. Глаза постепенно привыкали к полумраку. Справа раздался какой-то скребущий звук, рядом как из воздуха материализовалась темная фигура, и Корантен инстинктивно, не глядя, парировал удар. Цепкие руки обхватили его за пояс и оттолкнули. Корантен бешеным усилием вырвался, повернулся лицом к противнику, но удар кулаком тут же отбросил его к шероховатой стене. Он упал. Враг сдавил сильными руками его шею, но он выгнул спину и высвободился, не собираясь сдаваться.
Вокруг гостиницы «Бухарест» прохаживались жрицы любви и сутенеры с бандитскими рожами. Гнусный Зандини обменялся с ними парочкой сомнительных шуток, достал нож и принялся небрежно ковырять в зубах. Жозеф молился только об одном: как можно скорее разыскать Виктора и сообщить, о чем он догадался. Он ощупал лежавшее в кармане оружие и, поклявшись дорого отдать свою жизнь, наконец собрался с духом и спросил у наименее отвратительной из девиц:
— Я ищу улицу Бюрнуф…
— На что она тебе сдалась, малыш? Тут вовсе не хуже! Ну разве он не милашка, девочки?
Она погладила его по щеке. Жозеф отшатнулся и покраснел как рак. Девицы окружили его, подмигивая и пытаясь украдкой прикоснуться к спине.
— Всегда мечтала приласкать горбуна! Может, наконец повезет! — выкрикнула одна и вцепилась Жозефу в плечо.
— Не раскатывай губы, Чарлина, «буфера» у тебя такие, что красавчик в койке не уместится! — взвизгнула другая.
— Не слушай их, — посоветовала третья, — надушились, разрядились, рожи размалевали, а приглядеться — отрава отравой!
— Заткнись, Ринсетта! Сама-то ты не сильно корячишься, все больше дрыхнешь!
Беседа принимала опасный оборот, дамы распалились, каждая тянула несчастного Жозефа к себе, и он боялся, что его разорвут на части. Толстяк с красным шарфом на шее решил вмешаться.
— Довольно, девочки, этот господин тут не ради ваших прекрасных глаз, оставьте его в покое!
Жозеф удивился, когда девицы, пусть и нехотя, но подчинились, и испугался, что попал из огня да в полымя.
— Вот что, паренек. Мы с тобой раздавим бутылочку — ты платишь! — а потом сыграем в бонто.
[457] Но чтобы без фокусов — сдается мне, что ты нечист на руку. Я — Огюст Баландар, старьевщик, пират и печник. А ты кто будешь?
— Жо… Жозеф Пиньо, книготорговец.
— Привет, Жожо, ты мне нравишься, готовь деньги, заплатишь за красненькое.
Жозеф покорно полез в карман за монеткой — он был слишком хорошо воспитан, чтобы отказать, но тут раздалась трель свистка, и все вокруг пришло в волнение.
— Легавые! — крикнул кто-то, и тротуар мгновенно опустел. Девки, сутенеры, прочая шантрапа и даже случайные прохожие — все предпочли смыться, лишь бы не иметь дела с представителями власти.
Жозеф не сильно расстроился, когда его несостоявшийся собутыльник сиганул через ограду палисадника, скрываясь от облавы. Обрадовавшись, что его не облапошат в бонто, он выхватил пистолет и начал размахивать им, как если бы в одиночку отбил пиратскую атаку.
Чей-то голос с иронией произнес у него за спиной:
— Будьте осторожны, мсье Пиньо, с этим пугачом нужно обращаться аккуратно. Если он заряжен… — Инспектор Лекашер с задумчивым видом поглаживал обшитые шнуром петлицы своего доломана.
Его подчиненные тем временем пытались изловить сутенеров. Звенело разбитое стекло, в воздухе летали табуретки и стулья. Полицейские оскальзывались на объедках, злобно рычала собака, беззубая седая старуха вопила, потрясая над головой суковатой палкой. И только Лекашер сохранял полную невозмутимость.
— Итак, мсье Пиньо, не желаете ли объясниться? Думаю, должно было случиться нечто из ряда вон выходящее, чтобы мсье Мори попросил меня немедленно вмешаться. Он заявил, что вы и мсье Легри якобы находитесь в смертельной опасности. Где, кстати, ваш товарищ?
Жозеф спрятал, оружие и, проигнорировав вопрос инспектора, Принялся приглаживать растрепанные белокурые волосы.
— Вы, часом, не онемели, мсье Пиньо?
Голубоглазая девочка протиснулась между дерущимися, подошла к Лекашеру и сообщила, раскачивая за волосы одноногую куклу:
— А я знаю, куда они пошли.
…Виктору казалось, что сердце у него вот-вот выскочит из груди, и он горько сожалел о своем велосипеде. Интересно, если его хватит удар, устроят ему пышные похороны? Кто придет
поплакать над гробом? Таша, конечно, Кэндзи, Жозеф, Айрис… Кто еще?..
Вопреки опасениям, до грота он добрался живым, только ноги дрожали от напряжения. Виктор прищурился и различил вдалеке две расплывчатые фигуры: один человек лежал на земле, другой не давал тому подняться, поставив ему ногу на грудь. Виктор собрал последние силы, ринулся в драку, замахнулся для удара, не попал, ему двинули в челюсть, он вцепился обидчику в волосы и дернул что было сил. Противник пошатнулся, но успел еще раз ударить, после чего тяжело шлепнулся на землю и уже не встал. Губы у него распухли, глаз заплыл, рубашка была разодрана в клочья.
— Я вас узнал! — крикнул Виктор.
Отец Бонифас распрямился, его лицо побагровело от ярости, но, к своему удивлению, Виктор разглядел на нем иронию.
— Кто бы мог подумать, мсье Легри! О, да у вас кровь идет из носа, я, кажется, перестарался. — Он кивнул на лежащего без чувств человека. — Не беспокойтесь, он скоро очухается, я его только оглушил. Нечего было путаться у меня под ногами! Самое забавное, что я даже не знаю его имени.
— Возможно, Ламбер, так написано на его тележке. Итак, пастух своих овец, будущий царь Давид — это вы?
— Я вас не понимаю…
— «И опустил Давид руку свою в сумку, и взял оттуда камень, и бросил из пращи, и поразил филистимлянина в лоб»,
[458] — процитировал Виктор.
— Браво, мсье Легри, вы отлично знаете Ветхий Завет.
— Мой батюшка был весьма строг в вопросах религиозного воспитания.
— Как давно вы меня подозреваете?
— С недавних пор. Я встретил ватагу мальчишек, сражающихся с голубями. Вы прирожденный учитель фехтования.
— Тут нет моей заслуги, я вырос в деревне. — Без сутаны отец Бонифас выглядел моложе. — Я очень любил Лулу, она была моей протеже. Я знал, что она и Софи играют с огнем, но и вообразить не мог… — Его голос звучал спокойно, даже обыденно.
— В вас есть что-то, чего я не могу разгадать, — сказал Виктор.
— Я должен был предвидеть, что мне не победить хорошего шахматиста в этой партии. Вы, без сомнения, лучше меня разбираетесь в природе человека, мсье Легри. Наверное, жаждете узнать мои мотивы? — Отец Бонифас широко улыбнулся, но Виктор понял: у лжемиссионера есть какой-то план. — Эрманс Герен попросила у меня совета. Во время болезни Софи Клерсанж она поддалась искушению — прочла ее дневник — и встревожилась. Я счел, что речь идет о шутке, о желании взять реванш. К тому же не мог поговорить с Софи, не нарушив тайну исповеди доверившейся мне женщины. Кто знал, какой ужасный оборот примут дальнейшие события.
— Так вы знаете мадам Герен! А ведь утверждали обратное!
— Мне требовалось время, чтобы помочь Томассену исполнить последний трюк! Эрманс Герен мой друг, мы сблизились во время процесса 1891 года. Она позвала меня, когда Софи заболела, все-таки я врач, хоть и без диплома, да ведь ставить горчичники — невелика наука. Во всем виноваты вы, мсье Легри, ничего бы не случилось, не расскажи вы мне об убийстве Лулу. Именно вы разворошили муравейник. Я не знал, кто из троих негодяев совершил то гнусное злодеяние, и убрал их всех, чтобы уберечь Софи. С Лагурне я оплошал, видно, утратил навык, но в конце концов все вышло так, как я задумал.
— Но вы — слуга Господа… Как вы могли дойти до такой крайности?!
— Все мы Божьи твари, мсье Легри. Вот вы — умный человек, а тоже судите по внешности. Чтобы усыпить бдительность простых смертных, достаточно надеть сутану!
— Так вы не священник!
У вас есть дети, мсье Легри?
— Нет… То есть, пока нет.
— Наступит день, когда вы поймете, что отеческая любовь способна толкнуть человека на преступление. Я не увлекаюсь цитированием, но питаю слабость к Лактанцию,
[459] этому «христианскому Цицерону». Знаете, что он написал более полутора тысяч лет назад? «Некоторые люди, весьма немногочисленные, начали прибирать к своим рукам все, что было жизненно необходимо человечеству… они возвысились над всеми остальными и стали отличаться от них одеянием и оружием».
Отец Бонифас смотрел победителем.
— Мне надо было выжить. Война разлучила меня с женой и дочерью, и между нами выросла темная, глухая стена. Все годы изгнания я мечтал только об одном — увидеть их снова. Пусть морализаторствуют те, кто творит неправедное правосудие, надев маску законника.
Пока они вели тихую беседу у входа в грот, Корантен Журдан очнулся и встал на четвереньки. Опустив голову, постоял так несколько секунд, потом медленно распрямился и отступил в темноту.
— Но почему вы подписали послание в комнате барона именем Луиза? — спросил Виктор.
— До чего же вы педантичны, мсье Легри! Таков был план Софи, и я в точности ему следовал. Я знал, что она хочет уничтожить сокровища этих милых господ под псевдонимом «Анжелика», но не мог угадать, с кого девочка решит начать, вот и прикрылся именем «Луиза», чтобы замести следы.
— А как вам удалось проникнуть на улицу Варенн?
— Это было просто. Я отрекомендовался кузеном приходского кюре и сказал, что пришел соборовать барона. Он указал мне, где находится ключ от тайного кабинета.
— Полагаю, в доме Ришара Гаэтана вы действовали так же?
— Нет, мне помешала полиция.
— А у Томассена?
— Это было рискованно и заняло много времени. Я открыл дверь черного хода цирка отмычкой. В тот момент, когда я уносил оттуда ноги, появился этот… Куда он подевался?
Они обернулись: грот был пуст.
— Он не мог далеко уйти, — пробормотал отец Бонифас.
— Не думаю, что стоит тратить время на его поиски! — раздалось совсем рядом. На них холодно взирал окруженный свитой полицейских инспектор Лекашер, а из-за его широкой спины торжествующе улыбался Жозеф.
— Я все понял, когда вы позвонили, пат… Виктор! Студент-медик плюс Вельпо плюс трепанация равно отец Бонифас! Изящная формула, правда? Священник — родной отец Со…
Виктор грозно взглянул на Жозефа, и тот замолчал.
— С вами мы побеседуем в префектуре, господа, — объявил инспектор Лекашер, кинув в рот горсть карамелек. — Вперед!
На отца Бонифаса надели наручники и усадили в тюремную карету.
Голубоглазая девчурка замерла перед входом в грот, укачивая на руках одноногую куклу.
— Их было трое…
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Четверг 1 марта
— Я бы сейчас охотно выпил коньяку, — объявил Виктор.
— А я ограничусь вашим любимым коктейлем. Вермут с кассисом, пожалуйста, побольше кассиса и поменьше вермута, — попросил Жозеф, обращаясь к хозяйке «Потерянного времени».
Виктор попросил его как можно подробнее рассказать, какие показания он дал в полиции.
— Говорю же вам, я целиком и полностью подтвердил ваши слова! Не беспокойтесь, я быстро выучил урок!
— Вы упоминали про Лулу?
— Да, и сказал, что ничего на нее не нарыл. Остается надеяться, что ни Мирей Лестокар, ни этот, как его… Ганаш не опровергнут мои показания.
— Гамаш. Его фамилии Гамаш. Им нет никакого резона это делать. Мими боится полиции, Альфред Гамаш рискует потерять работу, а Мартен Лорсон и вовсе будет вести себя тише воды, ниже травы. Итак, вы все взяли на себя?
Жозеф с притворно сокрушенным видом поднял стакан.
— Я пожертвовал собой. Заявил Лекашеру, что прочел в газете, в разделе криминальной хроники, сообщение об убийстве молодой женщины у заставы Ла Виллетт. Детали этого дела были необходимы мне для нового романа, и я против вашей воли вовлек вас в расследование. Но вам ничего не удалось разнюхать, и тогда я переключился на несчастный случай с бароном де Лагурне в Булонском лесу… Словом, всему виной моя дурацкая привычка делать вырезки из газет!
— Значит, вы по собственной инициативе вели расследование в эзотерических кружках, связанных с «Черным единорогом», — заключил Виктор, потягивая коньяк.
— Угу. Слушайте дальше. Мы пошли на похороны барона, но ничего полезного я там не выведал, и интерес к убийствам заставил меня обратить внимание на историю с кутюрье Ришаром Гаэтаном. Приятели-журналисты держат меня в курсе событий, и я раньше, чем полиция, узнал, что этот тип отправился в мир иной не без посторонней помощи.
— Полагаю, вы решительно отрицали, что посетили дом номер 43-бис по улице Курсель?
— О да! Зато я поведал Лекашеру, как обнаружил, что этот самый Гаэтан был напрочь лишен творческого таланта, а модели на самом деле создавал его друг Великий Абсалон, и предложил вам отправиться в Зимний цирк и побеседовать со знаменитым акробатом. Так вы и оказались там в тот самый злополучный для Томассена день.
— И погнался за человеком, который тюкнул его по затылку, то есть за отцом Бонифасом, а тот привел меня в квартал Монжоль, куда я вызвал на помощь вас.
— Лекашер устроил мне такой разнос!..
— Мне тоже досталось, хотя только благодаря нам ему удалось схватить преступника. Из нас вышла славная парочка лжецов, Жозеф.
— Что да, то да, только ведь правда может завести далеко — даже в тюрьму. Но что будет с нами, если Сильвен Брикар или Эрманс все-таки расколются?
— Брикар — тертый калач, он никогда не скомпрометирует себя, чтобы не лишиться кругленькой суммы пенсионных выплат. Вдова будет защищать свою дочь Софи, а та, я уверен, предпочтет остаться в стороне.
— А хромой?
— Скорее всего, он любовник Софи, по части тайн эта дамочка даст нам сто очков вперед.
— Вы забыли о баронессе Клотильде!
— Вовсе нет, — возразил Виктор. — Она не дала согласия ни на вскрытие мужа, ни на обыск в особняке. Видимо, ее не волнует, как умер барон, и она хочет мирно доживать свой век в обществе сына и заветного шприца в кругу семьи невестки, которая готова оплачивать ее долги.
— Значит, дело закрыто! Да уж, повезло с нами отцу Бонифасу! Мы умеем запудрить людям мозги!
— Надо отдать ему должное — он ни словом не обмолвился о нашей роли в этом деле.
— Но ведь мы скрыли подробности убийства Лагурне!
— Незачем добивать отца Бонифаса. Я понимаю его мотивы.
— Вечно у вас убийцы оказываются правы! Вы и впрямь странный человек: сначала загоняете их в угол, а потом только что не оправдываете! Этот старик прикончил троих!
— Он защищал дочь, которую любит, хотя не растил и не воспитывал, и хочет, чтобы она была счастлива. Я нанял для него одного из лучших адвокатов. Тот сумеет растрогать публику, заявив, что, узнав о смерти Лулу…
— Эта версия не пройдет, — перебил его Жозеф, — ведь никто не востребовал тело девушки с крашеными волосами!
— …Узнав об убийстве Лулу, — невозмутимо продолжил Виктор, — за которой скрытно наблюдал, наняв для этой цели типа из квартала Монжоль, отец Бонифас решил применить ветхозаветный закон: око за око, зуб за зуб.
— А вы умеете подать факты! Что-то мне расхотелось пить. — Жозеф отставил стакан — у него и от нескольких глотков закружилась голова. — Уф, хорошо… Можно наконец вернуться домой, к тихой и спокойной семейной жизни.
— Воля ваша, а мне нужно нанести последний визит.
— Кому?
— Мадам Герен. Я, конечно, записной лжец, но при этом редкий педант. Некоторые детали этой истории остались невыясненными, и кондитерша может меня просветить.
Жозеф колебался не больше пяти секунд: он догнал Виктора на набережной Малакэ.
— Шикарный горошек по пять су за ливр!
— Куча салата за восемь су! На выбор!
— Э-ге-гей! Вы только взгляните, какая картошечка! Купите пять кило — получите котелок масла!
Прилавки тянулись вдоль улицы Ланкри по обе стороны мостовой. Жозеф с вожделением вдыхал запахи жареных каштанов и ванили. Из шарманки лились звуки мелодии из оперетты «Дочь тамбурмажора»,
[460] какой-то старик, держа подмышкой два альбома с золотым обрезом, яростно бранился со старьевщиком:
— Десять су за Поля Феваля?!
[461] Да это чистое безумие!
— Побереги красноречие! Сам знаешь, больше откладывает вовсе не тот, кто больше зарабатывает!
«Нужно запомнить это выражение, пригодится для следующего романа, — подумал Жозеф. — Нет ничего лучше таких вот подслушанных диалогов!»
— Прибавьте-ка шагу, — поторопил его Виктор. — Мы должны застать птичек в гнездышке.
Но когда они добрались до улицы Винегрие, их ждало разочарование.
— Закрыто. Никого… — констатировал Жозеф, кивнув в сторону «Синего китайца».
— Что ж, тогда отправимся на улицу Альбуи.
Они долго звонили в дверь, прежде чем створка окна на первом этаже приоткрылась. Вид у Эрманс Герен был враждебный.
— Чего вам надо? Мало того, что уже натворили? — буркнула она.
Виктор снял шляпу и незаметно ткнул локтем Жозефа, чтобы тот последовал его примеру.
— Мадам Герен, — начал он, — мы здесь, чтобы принести вам свои извинения. Произошло досадное недоразумение. Мы бы очень хотели побеседовать с вашей дочерью Софи.
— Ее здесь нет. Уходите!
— Я настаиваю, мадам. Я нанял знаменитого парижского адвоката мэтра Массона защищать отца Бонифаса. Все расходы, разумеется, беру на себя.
Эрманс Герен только еще больше нахмурилась.
— Мадам Герен, нас направил к вам отец Бонифас. Он рассказал нам про дневник. Прошу вас, впустите нас, это очень важно. Клянусь: ни вы, ни ваша дочь не будете втянуты в судебное разбирательство.
— Почему я должна доверять вам? — бросила она.
— Вот письмо от мэтра Массона, и другое, от отца Бонифаса, его почерк вам знаком… У полиции нет против него ни одной реальной улики, одни лишь подозрения. Он совершил ошибку, признав, что убил Ришара Гаэтана и Абсалона Томассена.
— Что ему грозит?
— Учитывая обстоятельства, присяжные наверняка будут к нему снисходительны. Ни вас, ни вашу дочь свидетельствовать не заставят, ваши имена не будут звучать на процессе. Мы — лишь посредники. Но ваши анонимные показания помогут отцу Бонифасу.
Эрманс Герен несколько секунд смотрела на листки в руках Виктора, потом закрыла окно и распахнула дверь.
Они вошли в тесную гостиную, где мирно тикали мраморные часы. Хозяйка жестом пригласила их устроиться на козетке, а сама присела на краешек глубокого кресла.
— Все же странно, знаете ли, — произнесла она, постукивая пальцем по конвертам, — когда больной сам просится в больницу. Это дурной признак.
— Не будьте пессимисткой, мадам. Расскажите нам все.
— Вас и вправду интересует история моей жизни?
На нее неожиданно нахлынули воспоминания: вот ей семнадцать, она наивная, восторженная девушка… Эрманс машинальным движением схватила вязанье, спицы замелькали в ее руках.
— Я почти не знала своего отца, он умер, когда мне было восемь лет. У матери на руках осталось пятеро детей. Друг отца Марсель Герен, кондитер из Латинского квартала, дал мне работу продавщицы — у него была еще одна лавочка на улице Винегрие. В молодости не боишься никакой работы, но и развлекаться умеешь. Мы с компанией друзей встречались по вечерам и веселились от души. Я встретила Жюльена Колле, красивого двадцатилетнего парня. Его лучшим другом был Сильвен Брикар, служащий с улицы Винегрие. Он тоже за мной ухаживал, но я выбрала Жюльена. Он хотел стать врачом, но был беден и ночами учился сам, по книгам, а днем работал у стеклодува. В конце 1869 года мы стали жить вместе. Я забеременела. Софи родилась через несколько дней после начала войны с Пруссией. Жюльен завербовался…
Вязанье напоминало лохмотья с обтрепанными рукавами.
— Я получила от него всего одно письмо, перед капитуляцией императора. А потом ждала, тоскуя, — год, другой… Он исчез. Так что, когда Марсель Герен сделал мне предложение, я согласилась. Он позволил Софи жить с нами, но удочерить ее не захотел — надеялся, что я рожу ему наследников. В марте 1873-го с Марселем случился апоплексический удар, и я осталась вдовой с кучей долгов. Пришлось продать квартиру, лавку в Латинском квартале и заложить магазин на улице Винегрие. Выручил меня Сильвен Брикар. Он нашел нам скромное жилье в проезде Дюбай. Я его не любила, но нуждалась в защите и заботе. По Жюльену я траура не носила, потому что продолжала надеяться. Всегда продолжаешь надеяться, если нет никаких доказательств смерти.
Вязанье ожило и зашевелилось, словно потягивающийся после сна кот. Спицы в руках Эрманс так и мелькали.
— Софи исполнилось двенадцать лет, пора было подумать о ее образовании, и я отправила дочку в монастырь в Эперноне. Там жил один из моих братьев. Мне тяжело было расставаться с Софи, но что уж тут поделаешь… Жила я экономно и со временем сумела скопить на садовый домик на улице Альбуи. Как-то раз, утром, мне принесли письмо. Речь в нем шла о Жюльене, меня приглашали на свидание. Я было решила, что это чья-то злая шутка, но все-таки пошла. Я не сразу узнала ожидавшего меня мужчину, так он изменился. Располневший, в белой миссионерской сутане. Но это был он, мой Жюльен. Он сказал, что долго колебался, прежде чем связаться со мной, — не хотел нарушать мирное течение нашей с Софи жизни. Прошло тринадцать лет, и вот он стоял передо мной, мой Жюльен! Все вмиг вернулось — близость и страсть… Оказалось, что он дезертировал, отправился на юг, в Марсель, нанялся коком на рыболовное судно и добрался до Алжира. Там он прожил целый год, работал, где придется, и мечтал вернуться в Париж, чтобы разыскать меня. Но из-за Коммуны и того, что случилось потом, возвращаться во Францию было опасно. Жюльен решил затаиться где-нибудь в захолустье. Часть пути он проделал вместе с одним миссионером, который направлялся в пустыню. Однажды того священника — его звали Анри Бонифас — укусила змея. Жюльен пытался его спасти, но не преуспел — отец Бонифас умер. И тогда мой Жюльен решил: он наденет сутану и станет другим человеком. Никто его за это не упрекнет, ведь отец Бонифас был одинок как перст.
Эрманс Герен подняла вязанье, встряхнула, как тряпичную куклу, положила на колени и разгладила ладонями.
— Жюльен добрался до миссии и не нашел там никого, кроме чернокожих рабов. Он остался с ними, построил больничку, жил там и работал. Прошло много времени. Однажды появились французские солдаты, и Жюльен узнал от них об амнистии. Он решил поехать во Францию и взглянуть на дочь, не объявляя ей, кто он. Жюльен поселился в квартале Монжоль, там живут люди нелюбопытные. Он посвятил себя беднякам и детям. Мы встречались у него. Брикар меня бросил — не знаю, из ревности или ему просто надоела такая жизнь.
Вязанье соскользнуло на пол, но Эрманс не стала его поднимать.
— Когда в 1891-м судили Софи и ее подружку Лулу, Жюльен, ну, то есть отец Бонифас, давал свидетельские показания. Сильвен ни о чем не догадался, а Софи так и не узнала, что этот священник — ее отец. Он же лечил ее, когда она заболела после приезда из Америки. Приходил в гражданском платье и осматривал ее. Потом я прочла дневник моей девочки и ужасно испугалась. Я рассказала все Жюльену, он тоже его прочел и сказал, что все это чепуха, но он проследит, чтобы наша дочь не натворила глупостей. Вот только Софи и Лулу его опередили и…
— Дневник у вас?
— Да. Но я вам его не отдам.
Виктор напустил на себя безразличный вид, а Жозеф опустил глаза, словно его внезапно заинтересовали узоры на ковре.
— Вокруг Софи и вас, мадам Герен, все время ошивается какой-то человек, он хромой, — тихо произнес Виктор. — Какова его роль в этой истории? Он тоже читал дневник?
Кукольно-голубые глаза Эрманс блеснули.
— Очень может быть, — ответила она. — Иначе зачем бы ему следить за Софи? Похоже, это он спас ей жизнь.
— А можно хотя бы взглянуть на дневник? Ведь именно с него все и началось.
— Нет, это личное.
— Мадам, я чувствую свою ответственность, больше того, отчасти даже вину в том, что произошло. Разумеется, вы не обязаны показывать дневник, можете сжечь его прямо сейчас, но мне очень важно узнать правду, ведь именно я заварил всю эту кашу, пусть и ненамеренно.
Эрманс Герен бросила на него насмешливый взгляд, подхватила юбки, на удивление резво взобралась на стул, пошарила на буфете и спрыгнула на пол с голубой тетрадью в руке.
— Возьмите, господа, но, когда будете читать, помните: у каждого есть тайны, а жизнь похожа на пряжу — одна петля лицевая, другая изнаночная.
Она протянула Виктору потрепанную школьную тетрадку: некоторые странички были скреплены заколками для волос. Виктор пристально взглянул на мадам Герен и кивнул. Она успокоилась и добавила:
— Это я уговорила Софи завести дневник, сказала — так будет легче разобраться в своих чувствах. Моя дочь похожа на отца, такая же импульсивная, и я надеялась уберечь ее от беды… На тех страницах, что скреплены, — ее размышления о себе, они не имеют отношения к интересующему вас делу. Можете читать вслух, мсье, чтобы он тоже слышал. — Эрманс кивнула на Жозефа.
Виктор так и поступил. Первые страницы тетради были вклеены совсем недавно.
1893.
Я начинаю с конца.
30 июля
Облака напоминают большие белые волны. У подножия горы растут апельсиновые рощи, в воздухе стоит цветочный аромат. Такой покой… Эта тишина утоляет мою печаль. Я потеряла друга. Где ты, Сэм? Плывешь в вечерней синеве между двумя мирами?
2 августа 1893
Наконец-то все закончилось. Я выслушала приличествующие случаю соболезнования, похороны были пышными и торжественными, как того хотел Артур Мэтьюсон. Я мужественно перенесла встречу с родственниками Сэма, нацепившими маски вселенской скорби (вообще-то, они всегда так выглядят!). Дорогой Сэм, если бы ты нас видел, этот маскарад тебя бы очень повеселил.
4 августа
Я больше не могу оставаться одна в этом огромном доме, пусть Мэтьюсоны распорядятся им как хотят. Я не возьму отсюда ничего — все самое важное останется у меня в сердце. Касательно квартиры на Риджент-стрит и денег, что хранятся в Лондоне, нужно телеграфировать мистеру Осборну и условиться встретиться с ним в Саутгемптоне.
Первая заколка скрепляла тонкую стопку листочков с описанием событий, датированных летом 1889 года. Почерк Софи слегка изменился.
Июль 1889
Маме удалось купить маленький домик на улице Альбуи. Торговля у нее идет ни шатко, ни валко, и я решила пойти работать, чтобы не сидеть у нее на шее. Мама предлагала, чтобы я помогала ей в магазине, но мне хотелось независимости, и она сдалась. Меня взяли подручной мастерицы к «Кутюрье дез Элегант», что на улице Пэ. Я очень старалась, ведь сестра Жанна всегда говорила: «Добиться успеха гораздо труднее, чем попасть на Небо». На небо мне плевать! Я хочу жить, хочу влюбиться — и не так, как принцесса Клевская или госпожа Бовари.
20 сентября 1889, улица Альбуи,
моя комната, девять вечера
Сегодня во второй половине дня, выходя со склада, я столкнулась с мсье Томассеном, он компаньон мсье Гаэтана. Он мне улыбнулся и приподнял шляпу, словно я клиентка, а не мастерица. Я покраснела и убежала. Он такой красивый, такой элегантный!
22 сентября
В пять часов я подстроила так, чтобы старшая мастерица мадемуазель Валье послала меня на склад. Я надеялась увидеть мсье Томассена. У меня все получилось, но я так растерялась, что даже не сумела улыбнуться в ответ. Я дрожала, сердце у меня колотилось, как сумасшедшее. Он догнал меня на верхней ступеньке лестницы, где я намеренно уронила рулон ткани, и сказал, что будет ждать меня вечером в фиакре у выхода из мастерской. Он отвез меня на улицу Альбуи и попросил позволения увидеть снова. Я не спала всю ночь.
25 сентября
Мсье Томассен попросил меня называть его Абсалон. Я на такое никогда не осмелюсь. Мама ни о чем не догадывается, мы с ним встречаемся в фиакрах.
10 октября
Я сказала маме, что у нас будет ночная смена и я останусь в мастерской, а сама поехала к Абсалону на улицу Мартир.
Дальше снова шли скрепленные страницы, за ними следовала запись:
2 ноября 1889
Мне грустно. Абсалон уезжает на несколько недель. Вчера вечером Лулу ночевала у нас, на улице Альбуи. Я все ей рассказала. Она умоляла меня быть осторожной и рассказала, что на самом деле модели создает не Ришар Гаэтан, а Абсалон, только это секрет.
8 ноября
Я в отчаянии. Позавчера у нас снова была ночная смена. Неожиданно заявилась инспекторша по охране труда, и меня спрятали в шкафу. На следующий день меня вызвал мсье Гаэтан. Я вошла в его красивый будуар. Села. Он угостил меня сластями и сказал, что я аппетитнее миндальной тарталетки с цукатами. Потом налил в два стаканчика зеленого ликера и захотел со мной чокнуться. Ликер был крепкий и терпкий. Мсье Гаэтан положил мне на колени конверт. Сказал: «Купишь себе каких-нибудь милых пустячков». У меня кружилась голова. Он становился все настойчивее, шептал, что, если я буду с ним мила, меня не уволят. Я слышала, как девушки собираются и выходят из мастерской, а папаша Мишон проверяет, погас ли огонь в печах. Я встала. Мсье Гаэтан как-то странно посмотрел на меня, подошел и повалил на диван. Я начала кричать, но он зажал мне рот ладонью и взял силой. С тех пор я все время плачу.
25 ноября 1889
Что будет, если я откроюсь Абсалону?
30 ноября
У меня задержка на три недели.
15 декабря
Мсье Гаэтан угрожал мне, что если я не приду к нему на улицу Курсель, меня уволят. Пришлось пойти — мне нужна работа. Он показывал мне свою коллекцию кукол. Этот человек — одержимый, он мне отвратителен.
20 декабря
Все еще ничего. Уже почти шесть недель. Нужно решиться и сказать Абсалону.
22 декабря
Абсалон больше не хочет меня видеть. Никогда. Он наговорил мне ужасных вещей, сказал, что я наивная дура, что таких, как я, полным-полно на улицах — выбирай любую. Я была просто уничтожена. Плакала, умоляла его простить меня. Он запретил мне приходить к нему на улицу Мартир и сказал, что уезжает — далеко, очень далеко, на другой конец света.
10 января 1890
Я не ем и не сплю. Я даже не знаю, кто отец. Я пошла к Лулу на улицу Абукир, и она сразу заметила, какой у меня похоронный вид. Я рассказала ей все. Она меня утешила: «Восемь недель — это еще не катастрофа. Только поклянись, что будешь молчать, это очень серьезно, понимаешь? У меня могут быть неприятности с полицией. — Лулу помолчала и добавила: — Когда женщины по разным причинам не хотят или не могут позволить себе иметь ребенка, они делают аборт. Я и сама делала, в прошлом году. Хочешь, помогу?» Я согласилась. Мне было очень страшно, но я не колебалась. Когда мы пришли к Констанс Тома, я целый час не могла заставить себя лечь на кровать. Мадам Тома велела мне зажать зубами платок, чтобы соседи не услышали криков. Лулу держала меня за руку. Было очень больно.
Виктор пропустил скрепленные листки и перешел к чтению следующего отрывка.
Ноябрь 1891
Какой ужасный процесс! Газеты только об этом и пишут. Крестный Лулу, он бывший миссионер, сказал все что думает, не стесняясь, и его речь произвела на всех очень сильное впечатление.
Один американский господин прислал мне цветы прямо перед тем, как должны были объявить приговор. Его зовут Сэмюель Мэтьюсон, он владелец апельсиновых плантаций, очень предупредительный, но пожилой и мог бы быть моим отцом, которого я, кстати, никогда не видела.
Нас оправдали. Но моя репутация запятнана навсегда, и теперь у меня случаются такие сильные мигрени, что я готова биться головой об стену, только бы стало легче.
Снова «запретные» страницы, и дальше:
10 января
Сэмюель хочет на мне жениться и увезти далеко-далеко, в Калифорнию.
Еще несколько пропусков — и наконец исписанная фиолетовыми чернилами страница.
Сан-Франциско, гостиница
20 ноября 1893 года
Завтра я сяду в поезд и отправлюсь в долгое путешествие по Соединенным Штатам. Я снова чувствую себя живой. Говорят, деньги дают все. Это правда, и я сведу счеты с тремя негодяями. Я хочу испортить им жизнь. Они пройдут через это, один за другим: Абсалон Томассен и Ришар Гаэтан заплатят за то, что сделали со мной, барон Эдмон де Лагурне — за то, как поступил с Лулу. Я готова действовать, план продуман до мелочей, Лулу согласна. Мы уничтожим то, чем они больше всего дорожат. Хотела бы я посмотреть на их лица, когда они увидят учиненный нами разгром! На время «боевых действий» Лулу переселится на улицу Альбуи. Вот как мы поступим…
Последние страницы, к великому разочарованию Виктора, были вырваны. Ни слова о хромом. Он протянул тетрадь Эрманс Герен и сказал, кивнув на печку:
— Сожгите ее!
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Суббота 3 марта
Жозеф прижался к Айрис. Она спала, свернувшись калачиком. Накануне они проговорили до поздней ночи. Объяснения, извинения, обещания никогда больше не подвергать себя опасности, прощение, утешения, ласки…
— Разумно ли это… — прошептал он, когда она укрылась в его объятиях и начала покусывать ему мочку уха.
— Доктор Рейно говорит, что никакого риска нет, — конечно, если мы будем осторожны.
Жозеф хотел было сказать, что тогда не стоит с ним заигрывать, но решил промолчать, чтобы не обидеть Айрис.
Ему так хотелось поваляться в постели подольше! Но увы, он торжественно пообещал Кэндзи доставить срочные заказы и был намерен сдержать слово. Тесть ясно дал понять, что теперь Жозефу придется изменить свое поведение.
— Летом вы станете отцом. Неужели вы хотите, чтобы ребенок осиротел, не научившись произносить слово «папа»? А моя дочь, о ней вы подумали? Мое терпение на исходе. Во время последнего расследования вы с Виктором вели себя как последние безумцы: гонялись за прохвостом, переодетым в священника, и угодили в лапы полиции, причем где вас взяли — в бандитском притоне! Отличная реклама для книжной лавки, одним из совладельцев которой вы вот-вот станете!
— Все это чудовищное недоразумение, я всего лишь собирался обследовать живописный квартал Монжоль, а… Что вы сказали?
— Мы станем компаньонами — вы, я и Виктор. Он на этом настаивает. Я долго колебался, но теперь мне совершенно ясно, что вразумить его не удастся. Остается надеяться на ваш здравый смысл. Следующей осенью мы наймем нового приказчика, и плевать, во сколько это нам обойдется.
— Клянусь, вы не пожалеете о таком решении! — вскричал Жозеф, задыхаясь от восторга.
Вечером он поцеловал жену в лоб и поведал ей:
— Я начну с дамочек: Салиньячка прочтет-таки наконец свою книгу о воспитании. А потом, дорогая, ты только представь, я заберу у издателя Фаскеля сборник статей о Риме и доставлю его Эмилю Золя лично в руки!
Когда имя знаменитого писателя слетело с его уст, Жозеф нахмурился. Как совместить литературное творчество с управлением книжным магазином? Айрис, конечно, поможет ему, но большую часть времени ей придется посвящать их наследнику.
— Тот, кто хочет, сможет, — пробурчал Жозеф себе под нос и направился в туалетную комнату.
Айрис что-то пробормотала во сне и перевернулась на другой бок.
Час спустя она проснулась, подняла руки над головой, ухватилась за прутья спинки кровати и сладко потянулась. Ребенок слабо шевельнулся, подавая знак, что тоже пробудился. Она проголодалась сильнее обычного. Дверь распахнулась, и на пороге появилась хмурая Эфросинья с тяжелым подносом в руках.
— Будете завтракать в постели? Тогда я подоткну вам подушки.
— Спасибо, не надо, я уже встаю. Вы чем-то расстроены?
— Разве может быть иначе, когда мой мальчик заставляет меня так волноваться?! В его возрасте и положении драться с бандитами в квартале, где живут одни только бродяжки, а потом — вот ведь ужас! — угодить в полицию. Его фотография наверняка появится во всех газетах!
— Зато скоро выйдет его новый роман «Кубок Туле». Вы можете гордиться своим сыном!
— Гордиться! Ну да, конечно, его романы издают, и многие именно поэтому покупают «Пасс-парту». Но что подумают читатели, если узнают, что автор побывал под арестом и у него был при себе пистолет?
— Я уверена, всем понравится его храбрость, и его сочинения будут пользоваться еще большим успехом.
— Какая же вы легкомысленная! А ведь могли стать вдовой! Я уже не говорю, что было бы со мной, потеряй я сына! — Щеки Эфросиньи раскраснелись, в глазах блестели слезы, она ломала руки, совсем как героиня «Сокровища раджей» в сцене, где ту связывают и ведут на костер.
— Но ведь Жозеф с нами, он жив и здоров. Он обещал мне угомониться и впредь заниматься только писательством.
— Его романы… Вздор! Пусть лучше займется вами и малышом!
— Или малышкой. Мне кажется, это будет девочка. И я уверена — Жозеф успокоится, как только она родится.
— Вы оптимистка. А я думаю, они с мсье Виктором неисправимы. Иисус-Мария-Иосиф, ох, как же тяжел мой крест! Хотите еще тостов?
Айрис покачала головой.
— Тогда я побегу, мне нужно успеть сходить за покупками, пока Зульма убирает у мсье Мори. Вернусь и проверю, как справилась эта недотепа!
— Ты выглядишь франтом! У тебя свидание? — спросила Айрис у завтракавшего на кухне Кэндзи. Он облачился в белую шелковую рубашку, шерстяные брюки, двубортный жилет и серый галстук. Кожаные ботинки были начищены до блеска, он надушился лавандовой водой.
Кэндзи поставил чайник и пиалу на соломенную подставку, торопливо надел замшевые перчатки и взял свою любимую нефритовую трость.
— Я назначил кое-какие встречи в кабинете на Правом берегу. А ты прелестно выглядишь.
На Айрис было просторное платье фиалкового цвета с ярко-лиловой отделкой.
— Меня беспокоит, что ты слишком много работаешь, — заметила она.
— В этом доме хватает других причин для беспокойства!
Кэндзи перекинул через руку черный редингот и попытался проскользнуть мимо Айрис, но она ему не позволила:
— Папочка, тебе не стоит переутомляться. И, кстати говоря, не я одна беспокоюсь. Таша тоже переживает за свою мать.
— А я нахожу, что эта дама чудесно выглядит. Ей не дашь ее лет, она похожа на старшую сестру своей дочери! — пылко воскликнул Кэндзи.
— Вот как! Значит, вы недавно виделись?
— Да, на вернисаже на улице Лаффит.
Айрис была потрясена. Она уже некоторое время догадывалась, что между ее отцом и Джиной возникла симпатия, но считала, что в возрасте старше тридцати пяти лет любовь невозможна, тем более плотская. Разве мужчина с седеющими висками и лицом, на котором уже появились первые морщинки, способен внушить желание почтенной матери семейства? Неужели и он испытывает к Джине глубокое чувство? Айрис хотелось признаться отцу, что она в курсе их связи и не одобряет ее, но она сдержалась и только произнесла со значением:
— Не могу представить, что мне когда-нибудь тоже исполнится пятьдесят.
— Если это выпад в адрес мадам Херсон, то ей всего сорок восемь.
— Это начало старости.
— Спасибо, дорогая, ты, наверное, забыла, что мне вот-вот исполнится пятьдесят пять!
— Ты мой отец — это совсем другое дело.
— Открою тебе один секрет: твой отец — такой же человек, как и все остальные. И если внешне я изменился, то душой по-прежнему молод.
Айрис вдруг испугалась и прижалась к нему.
— Жизнь мчится во весь опор… Я не хочу стареть…
— Оставь свои страхи в гардеробной, — улыбнулся Кэндзи. — Когда Земля совершит сотню оборотов вокруг Солнца, ты, я и все, кто нам дорог, станут призраками в замке иллюзий, избавленными от забот и танцующими под музыку, недоступную слуху живущих. Вот почему бессмысленно думать о будущем. Я предпочитаю наслаждаться прекрасными мгновениями настоящего и никому не причинять боли. Тебя что-то смущает?
Кэндзи мягко отстранил дочь. На его лице читалась добрая насмешка, и он выглядел таким счастливым, что Айрис не решилась ответить.
— Спустись вниз, твой брат на посту до полудня, а потом отправится к жене, на улицу Фонтен. Надеюсь, к тому времени вернется Жозеф.
Кэндзи решил выйти через заднюю дверь, чтобы не встречаться с Виктором, чье поведение сурово осуждал. Однако ему не удалось избежать косого взгляда мадам Баллю, натиравшей ступени лестницы. После ссоры с Эфросиньей она ополчилась на всех родственников бывшей подруги. Кэндзи так торопился, что поскользнулся — к великой радости консьержки: она свято верила, что способна сглазить человека.
Джина спешила подняться по лестнице, пока ее не заметил кто-нибудь из жильцов. В тесной квартирке еще пахло свежей краской, поэтому, невзирая на холод, она распахнула окна. Прикосновение к шторам вызвало в ней чувственный отклик. Она повернулась и застыла, глядя на девственно-белую постель.
Наверное, она сошла с ума…
«Имей ты хоть каплю здравого смысла, унесла бы отсюда ноги, пока не поздно! Не снимай шляпку! Беги!»
Но Джина не стала слушать внутренний голос. Она бросила подаренную ей Таша шляпку с вишенками на тулье на столик и пригладила волосы. Интересно, что ею движет — любопытство или желание сблизиться наконец с внимательным и предупредительным мужчиной, пусть даже он может уделять ей всего один день в неделю? «Не выдумывай. Именно ты поставила условием вашей связи такое расписание свиданий. Правда, возражал он недолго и не слишком энергично…»
Джина вспомнила ключевой момент из своего прошлого, пережитый в Одессе. Она выходила из книжной лавки на Ришельевской, прижимая к груди папку с репродукциями Рембрандта. В дверях она столкнулась с Пинхасом и выронила папку. Он поднял папку, одобрил ее вкус и уговорил отправиться с ним в парк — выпить минеральной воды. Вечером они слушали концерт на открытом воздухе, а потом он взял экипаж и отвез Джину на Молдаванку, в дом тети Клары. Неделю спустя Пинхас сделал ей предложение. Она любила в нем художника, но характер у него был тяжелый — резкий и непредсказуемый.
Теперь все было иначе. Не стоит терзаться сомнениями: Кэндзи очень приятный человек, а решение на сей раз будет принимать она.
Джина сняла атласное покрывало цвета слоновой кости и поправила завернувшийся уголок простыни, на которой они с Кэндзи будут обнимать друг друга. Она попыталась представить себе эту сцену, и перед ее мысленным взглядом тут же возникли насмешливые глаза Кэндзи.
— Мой микадо! Как удачно, что мы встретились, я как раз собиралась тебя навестить.
— Рад вас видеть, дорогая! Вы в Париже проездом?
Хотя Кэндзи был серьезно увлечен Джиной, он все равно испытал приятное волнение при виде Эдокси Аллар, в прошлом Фифи Ба-Рен, а теперь княгини Максимовой. Они столкнулись на улице Риволи, под аркадами, когда Эдокси выходила из магазина с красивыми коробками в обеих руках.
— Пока не знаю, — ответила она. — Россия мне наскучила. Это не страна, а настоящий ледник. Как же там тоскливо! Я захандрила, и доктор прописал мне путешествие за границу. Сам видишь, как я ужасно выгляжу!
Цвет лица у княгини был изумительный, и бежевая шубка с воротником-пелериной ей очень шла. Кэндзи сказал, что тоска ее только красит.
— Ты все такой же льстец, негодник! Проводишь меня?
— Увы, меня ждут…
— Держу пари, у тебя свидание! Что ж, я никогда не была собственницей. На случай, если тебе интересно, я остановилась в гостинице «Континенталь», на улице Пастильоне, три. Мои апартаменты выходят окнами на сад Тюильри, тебе там понравится, мой микадо.
Он поцеловал ей руку и направился в сторону Пале-Рояль: ему не хотелось, чтобы Эдокси видела, куда он пойдет.
Она отдала покупки лакею, села в фиакр и, когда экипаж тронулся, почему-то пожалела, что не проследила за Кэндзи.
— Ничего, рано или поздно я все выясню, — пробормотала она себе под нос, зевнула и подумала, что отлично проведет время с франтом, которого подцепила накануне в Мулен-Руж. Как бишь его зовут? Амори де Шамплийё-Марей. Имя дурацкое, зато бумажник пухлый, глупо было бы не воспользоваться.
Она вышла на улице Лепик, где молодой хлыщ на родительские деньги снял уютную квартирку.
Морис Ломье торопливо карабкался вверх, мысленно проклиная крутой склон. Ему не терпелось сообщить Мими радостную новость: Жорж Оне не только щедро заплатил за картину, но и представил ему своих друзей — супружескую пару, которая недавно переехала в особняк в долине Монсо и пожелала заказать свои портреты «в рост» — чтобы производить впечатление на гостей. Глупцы, что тут скажешь, зато с деньгами. Впрочем, женушка очень даже недурна. Грудь небогатая, зато «круп» хорош. Судя по игривому взгляду, которым она одарила Ломье, на сеансах им скучать не придется.
И он замурлыкал куплет собственного сочинения:
Я богат
И хорош,
Я — артист,
Так-то вот!
Он ворвался в мастерскую с возгласом:
— Мими! Мы в порядке! — и тут же заметил записку, придавленную стаканом:
Котик!
Я у твоего друга Легри, хочу его поблагодарить. Целую миллион раз!
Твоя курочка
Ломье, не снимая ботинок, повалился на кровать и закурил. Дым от сигареты рисовал под потолком эротические извивы, достойные кисти Рафаэля.
— Надеюсь, я вас не разбудила?
— Не беспокойтесь, это моя рабочая одежда.
Таша приняла разряженную Мими в старой блузе и с распущенными волосами.
— Могу я повидаться с вашим мужем?
— Его нет дома, — сухо отрезала Таша.
— А когда он вернется?
— Виктора сейчас допрашивает полиция, мадемуазель, причем по вашей вине. Возможно, его даже арестуют.
— Черт возьми! Это уж слишком!
— Согласна.
Мими нервно теребила ленточку на пакете, не зная, на что решиться. Потом протянула подарок Таша.
— Это для него… в благодарность за Лулу. Вы тоже попробуйте, шоколад хороший — швейцарский, не какая-нибудь дешевка! Ладно, прощайте. Передайте мсье Виктору, что Мирей Лестокар очень ему благодарна. И еще — если его засадят, я принесу ему апельсинов.
Устыдившись своей вспышки, Таша спряталась в алькове. Она заметила немой укор на лице Андре Боньоля. Бывший метрдотель умел выражать свои чувства, не разжимая губ. Высокий рост, внушительная лысина, закрученные кверху усы и раздвоенная борода делали его похожим на министра, но за этой величественной внешностью скрывался человек, которому женщины внушали страх. Зато он обожал готовить и заниматься домом.
Таша бросила критический взгляд на предназначенные для Айрис
иллюстрации акварелью. Удалось ли ей угадать настроение прелестной сказки «Стрекоза и бабочка», которую молодая женщина написала для своего будущего ребенка? Как жаль, что Айрис не дала прочесть рукопись ни мужу, ни брату! Увы, она, как и большинство женщин, считает, что не способна писать так же хорошо, как мужчины… «Я уговорю ее продолжать и добиться, чтобы сказку издали. Да, пожалуй, у меня получилось. Надеюсь, Айрис останется довольна».
Таша завернула рисунки в бумагу и подошла к Андре Боньолю.
— Хочу попросить вас об услуге. Нужно доставить этот пакет моей золовке, только ни в коем случае не входите через книжный магазин, позвоните прямо в квартиру. И возьмите фиакр…
— Мы исполним ваше поручение, мадам, как только заправим этот салат, — величественно кивнул Андре Боньоль.
Он ожидал увидеть лично мадам Пиньо, но его встретила веснушчатая девушка с огромными светло-карими глазами.
— Вы… вы кто? — запинаясь, спросила она.
— Ну что за дурочка! Подите прочь, Зульма! Чем могу служить, мсье? — жеманно поинтересовалась Эфросинья, приветливо улыбаясь.
— Мадам Легри поручила нам передать это ее золовке лично в руки.
— Нам? — завертела головой Зульма. — Кому это — нам? Здесь есть кто-то еще?
— Это такая манера выражаться, дурында. Доверьтесь мне, мсье, я все передам мадам Айрис, я ее свекровь.
Андре Боньоль лишь молча поджал губы.
— Ну что же вы, давайте пакет!
— Мадам Легри дала нам задание, и мы будем вам признательны, если вы поможете нам его исполнить, — с непреклонным видом изрек он.
— Ах, значит, вы нам не доверяете! Беги, зови мадам, растяпа, а я возвращаюсь к плите! — сдалась Эфросинья.
Зульма, не сводя с посетителя завороженного взгляда, сделала глубокий реверанс и на цыпочках удалилась. Вскоре к Боньолю вышла Айрис.
— Зульма сказала, что у вас для меня посылка от Таша?
Он с почтительным поклоном передал ей сверток, и Айрис, с трудом сдержав смех, ушла к себе.
Так и не вышедшая из благоговейного транса Зульма обмахивала метелкой стулья в гостиной и повторяла про себя: «Вот она, значит, какая, любовь с первого взгляда!». А Эфросинья на кухне пыхтела от злости:
— Вернусь домой и первым делом опишу в дневнике этого надутого холуя!
Айрис с восхищением рассматривала акварели Таша, в которых преобладали зеленый и голубой цвет. Ее книга получится такой же прекрасной, как те, что создавали мастера Средневековья, и она будет каждый вечер читать ее своей малышке. Услышав шаги Жозефа, Айрис поспешно спрятала иллюстрации под матрас, туда, где лежала тетрадь.
— Дорогая, он говорил со мной, как с равным, сказал, что я должен продолжать, и даже согласился, чтобы я подарил ему экземпляр романа с посвящением!
— Кто «он», любимый?
— Господин Золя! Когда я уходил, меня осенило: «Букет дьявола» закончится так: подлеца Зандини сошлют на каторгу в Тулон, а красавица Кармелла переоденется стражником и освободит его. Зандини влюбится в Кармеллу, откажется от намерения убить ее, и они вместе уплывут в Аргентину.
— Чудесно! Это достойно «Рокамболя»!
[462]
Супруги занялись каждый своими делами. Айрис решила написать вторую сказку — про ослика, который мечтал участвовать в дерби, а Жозеф думал о том, что зря не сделал свою героиню Кармеллу рыжеволосой красавицей наподобие Таша. Он почему-то вдруг вспомнил свою первую любовь — Валентину де Пон-Жубер, но тут же спохватился и решил написать Эмилю Золя. Увлекшись сочинением вступления, он не замечал, как чернила с ручки капают на бумагу, оставляя кляксы.
Мишлин Баллю метала громы и молнии. Этот тип с жандармской рожей затоптал грязными ботинками только что вымытую лестницу! Она постучалась в дверь к Пиньо и, когда на пороге появилась Эфросинья, начала горько сетовать на наплевательское отношение к ее труду и больной спине.
— Этот мерзкий бородач поднялся к вам!
— Лакей? Редкий болван! Они с нашей недотепой Зульмой — та еще парочка!
Повосклицав «вы сами это сказали» и «навязались же на мою бедную голову эти глупцы», достойные дамы помирились. А получив приглашение вместе читать по вечерам новую главу из романа Жозефа, мадам Баллю только что в объятия Эфросинью не заключила.
К моменту, когда Виктор вошел в квартиру, Таша уже успела переодеться и накрыть на стол. Она наградила мужа долгим поцелуем, а потом призналась, что отвратительно повела себя с Мими.
— Бедняжка разорилась на шоколад. Ты совсем вскружил ей голову.
— Да ты ревнуешь! Как мило, что на сей раз не я, а ты поддалась этому недостойному чувству.
— Твои прегрешения все равно куда хуже. Ты когда-нибудь прекратишь заговаривать мне зубы и вешать лапшу на уши? Лгун, обманщик!
— Мы не так долго женаты, чтобы ты устраивала мне сцены, дорогая.
Таша переключила внимание на Кошку, перетаскивавшую свое потомство из гардероба Виктора в туалетную комнату:
— Давай, давай, прячься, ты всегда так делаешь. Тебе повезло — ты не живешь со спесивым самцом, который относится к тебе, как к мебели! — воскликнула она.
Виктор обнял жену и прошептал ей на ухо:
— Кого мы облагодетельствуем нашими пушистиками?
— Инспектор Лекашер вполне достоин получить одного в подарок…
— Не уверен.
— А Рауль Перо?
— Рауля мы, пожалуй, сумеем уговорить, черепаха у него уже есть… Кто еще приходит тебе на ум?
— Кандидатов хоть отбавляй: Андре Боньоль, Мирей Лестокар — она нам обязана, мадам Баллю, Эфросинья, хозяйка «Потерянного времени»…
— Неужто на свете так много кошатников? Невероятно! В любом случае, надеюсь, это больше не повторится.
— О чем ты?
— О массовом нашествии хищников на наш дом.
— Придется что-нибудь придумать, — ответила Таша, покусывая ноготь большого пальца. — Бедная Кошка, будем запирать ее в «горячие» денечки.
— А как мы узнаем об их наступлении?
— Когда придет время, попробую тебе объяснить, — хихикнула Таша.
ЭПИЛОГ
Жильятт пулей вылетел из дверки кошачьего лаза во двор и долго принюхивался к сухому воздуху. Короткие ливни задержали приход весны, но она уже вовсю готовилась вступить в свои права. У подножия стены расцвел одуванчик. Жужжал какой-то жук. Бархатистый мох зазеленел на соломенной крыше, где кот проложил себе тропу на конек. В окруженном изгородью саду, на низкорослых кривых яблонях, набухли почки. А главное — вернувшийся домой хозяин трудился без устали, как пчела.
Да, работы Корантену Журдану хватало! Нужно было подрезать виноград и плющ на фасаде дома, убрать навоз, в котором с упоением копошились куры, вычистить конюшню и побелить в доме стены: сквозь растрескавшуюся штукатурку уже проглядывала обрешетка и желтая глина. Все эти хлопоты на время спасали его от мыслей о пережитом в Париже, однако воспоминания все равно возвращались, терзая душу.
Очнувшись после схватки в гроте, он укрылся за валуном и снова лишился чувств. Из забытья его вывели взволнованные голоса. Он открыл глаза, увидел перепуганную кормилицу с двумя малышами и с трудом поднялся на ноги. Отряхнул пыль с картуза, поднес ладонь к лицу и по ужасу в глазах женщины и детишек понял, что ссадины кровоточат.
— Ничего страшного, все пройдет, — пробормотал он, вернулся к пустому гроту и намочил платок в ручье, чтобы обтереть лоб и щеки.
Нужно, не заходя за вещами, бежать на вокзал и садиться в первый же поезд на Шербур, ведь полиция может обвинить его во всех убийствах, которые он не сумел предотвратить. Увидеть на прощанье свою сирену? Показаться ей избитым, в синяках, в грязной изодранной одежде, и прочесть на ее лице безразличие, насмешку, даже подозрения? Нет, это было выше его сил. Он вырвет ее образ из сердца, как поступил с Клелией, и не станет думать о ней при свете дня, а ночью… что же, пусть теперь в сновидениях ему являются обе.
Когда он приехал, матушка Генеке встретила его встревоженным кудахтаньем. В хорошеньком же виде он возвращается из столицы! Она настояла на том, чтобы смазать кровоподтеки маслом, и выместила гнев на мисках и котелках. Корантен едва дождался, пока она уйдет, чтобы принять ванну.
Утром он очистил от плесени гранитный желоб у колодца. Потом пообедал вареным мясом с хлебом, запил еду сидром, засучил рукава, поплевал на ладони и уже собирался продолжить свои занятия, как вдруг услышал стук колес. Он узнал серую кобылу папаши Пиньоля. Неужели старик собрался наконец починить кровлю? Двуколка остановилась возле калитки, из нее вышла женщина, кровельщик подал ей большой баул из жаккардовой ткани и махнул кнутом на прощание.
Корантен приставил ладонь козырьком ко лбу. Она шла к нему, закутанная в широкий плащ из темного бархата, с накинутым на голову капюшоном. Остановилась в двух шагах, опустила баул на землю и замерла.
Он не мог сдвинуться с места: на мгновение ему показалось, что воображение сыграло с ним злую шутку. Но это действительно была она — живая и возмутительно прекрасная.
— Мы так и будем тут стоять? Я продрогла до костей. И проголодалась.
Он поспешно подхватил ее баул.
Они вошли в дом, где в очаге догорал огонь. Софи Клерсанж обвела взглядом комнату.
— Значит, вот где вы обитаете? Настоящая берлога! Ну что же вы, подбросьте дров, согрейте гостью!
Не говоря ни слова, Корантен подложил в очаг поленья и через трубочку из бузины начал раздувать огонь. Когда пламя разгорелось, он подошел к двери, задвинул засов, приткнул к кошачьему лазу перевитые соломой ветви дрока и повернулся к Софи. Она стояла у огня, даже не сняв плаща, только откинула на плечи капюшон.
— Чего вы хотите? — тихо спросил он.
— Забрать синий камешек — если он у вас.
Корантен подошел к посудному шкафу, где среди трубок и кисетов стояла потускневшая серебряная коробочка для пилюль, и достал оттуда кабошон.
— Так я и знала, — прошептала она. — Но зачем?..
— Зачем я его сохранил?
— Зачем вы последовали за мной в Париж? Почему пытались предотвратить преступления?
— Я прочел голубую тетрадь. То, что вам пришлось вынести, задело меня за живое, потому что когда-то давно одна дорогая моему сердцу женщина погибла в результате аборта.
Он запустил пальцы в волосы, не в силах справиться с нахлынувшими чувствами. Гостья внимательно слушала. Он уставился невидящим взглядом на медный чайник и глухим голосом продолжил свой рассказ:
— Я поселился рядом с домом, где вы нашли убежище. Я знал, что вы задумали, опасался за вас и оказался прав. К несчастью, я опоздал: женщину, которая надела ваше платье и выкрасилась в брюнетку, задушили. Я видел, как она упала, как убежал убийца — но был не в силах пошевелиться. Я был уверен, что это вас задушили практически у меня на глазах. Какая-то неведомая темная сила высосала из меня всю энергию, и я отчетливо сознавал: вы погибли, все кончено.
Он поднял на нее глаза и вздохнул:
— Но я отказывался в это поверить. В убийстве, которому я не успел помешать, было столько странного и непонятного, что я растерялся. Признаюсь, увидев лицо задушенной женщины, я к своему стыду, испытал невероятное облегчение. Вы придумали нелепый, ребяческий план и не могли управлять событиями. Я попытался переиграть убийцу, но не сумел: он все время на шаг опережал меня.
— Неужто вы и впрямь считаете, что потерпели поражение? Эти трое заслужили такую участь. Я жива и здорова. Но вы не ответили на мой вопрос.
Он удивился и шагнул к ней.
— Я только что рассказал вам…
— Вы рассказали, что сделали, но не объяснили, почему. Странно так стараться ради незнакомой женщины.
— Я… В вашей судьбе много общего с участью Клелии…
— Когда я пришла в себя в Юрвиле, монахини рассказали, что меня нашел на пляже какой-то мужчина, отнес к себе и вернул к жизни…
Она погладила кровать под балдахином, покрытую стеганым одеялом, похлопала ладонью по пухлым подушкам в белоснежных наволочках.
— От меня пахло алкоголем…
Он слегка отстранился.
— Вы были такой беспомощной, такой нежной…
— Я была совершенно голой.
— Я должен был действовать без промедления, вы могли умереть от переохлаждения и были совершенно истощены.
— Почему вы не выразились яснее, когда в гостинице уговаривали меня немедленно съехать?
Она стояла так близко, что он мог бы до нее дотронуться.
— Не осмелился. Вы… Я боялся отказа.
Он подумал о Клелии. И эта мысль напомнила ему, какую горечь он испытал в тот день, когда понял, что она его не любит.
Софи Клерсанж смотрела на него с напряженным вниманием, словно пыталась ответить себе на какой-то очень важный вопрос.
— Вы были неправы, — прошептала она наконец.
— Неправ?
— Именно так, капитан. Думаете, я потеряла голову? Ошибаетесь.
— Не могу в это поверить, — отвечал он, — вы такая красивая, очень красивая, а…
Он замолчал.
— Очень мило с вашей стороны, капитан, — мягко произнесла она. — Мы с вами потерпели кораблекрушение, плывем на плоту и молимся, чтобы нас вынесло на сушу… Я пыталась забыть вас, но не сумела.
Он взял ее ладони в свои, но она вытянула руки, удерживая его на расстоянии.
— На этот раз мы поменяемся ролями, капитан. Мы наконец-то достигли неизвестной земли. Вас вынесло на берег. Вы без сознания, и я буду вас спасать. Но сначала воспользуюсь тем, что вы беспомощны, — так же, как вы поступили со мной.
Он не стал противиться, когда она расстегнула ему жилет, сняла и бросила на пол. Потом настал черед холщовой рубашки. Сабо он скинул сам. Она расстегнула ему брючный ремень из дешевой шерстянки. Он стоял с обнаженным торсом и не шевелился. Она улыбнулась — едва заметно, с оттенком торжества. Он наклонился и порывисто обнял ее. Они не могли насытиться друг другом, их губы снова и снова сливались в поцелуе. Они упали на кровать, он начал раздевать ее, а она дрожащими от нетерпения пальцами пыталась справиться с завязками его кальсон…
Жильятт пребывал в недоумении: его лаз снова был закрыт. Он мяукнул и поскребся в дверь. К нему подошла матушка Генеке с двумя корзинами в руках.
— Ну что, кот, домой не пускают? Небось, наказали за обжорство?
Она заглянула в замочную скважину.
— Надо же, у него гости. О! — Ее бросило в жар. Она распрямилась, потирая поясницу, снова посмотрела, проверяя, не ошиблась ли, и со смехом бросила коту: — Они там играют в зверя о двух спинах! Можешь злиться, сколько хочешь, но закончат эти двое не скоро! Пойду-ка я, отнесу припасы на конюшню.
Жильятт уселся и принялся вылизывать шкурку. Матушка Генеке бросила на него взгляд через плечо и проворчала:
— Лапа торчит выше уха! Не пройдет и трех дней, как снова зарядит дождь…
ПОСЛЕСЛОВИЕ
1894, год всех опасностей
В начале 1894 года Земля находится на самом отдаленном расстоянии от Солнца, то есть на расстоянии 150 997 километров вместо обычных 146 900 километров — сантиметрами астрономы пренебрегли. Изменила ли разница в 4 миллиона километров лицо мира? Никак, ибо год 1894-й будет таким же бурным, как предыдущий. Доказательство тому: в Париже женщины одерживают новую победу. Сенат во втором чтении голосует за их право участвовать в суде присяжных, а парижская мэрия предоставляет некоему концессионеру монополию на установление в общественных местах будок-уборных, доступа к которым до того слабый пол не имел. Мужчины же больше не смогут облегчаться бесплатно.
Положение женщины, тем не менее, не меняется. В замужестве она настолько бесправна, что даже не может свободно распоряжаться своим заработком. За ней признают право на труд, но не на вознаграждение за этот труд! Муж на совершенно законных основаниях может прийти к окошечку кассы и положить себе в кошелек зарплату своей благоверной.
Однако все это мелочи по сравнению с драматическими событиями грядущих двенадцати месяцев.
10 января в Африке, в Судане, город Тимбукту занят полковником Жоффром. Взятие этого таинственного города, где в 1828 году побывал Рене Кайе, а в 1853-м — немец Барт, вызвало небывалый энтузиазм: «Мы должны увековечить память об одном из величайших политических событий века», — писал «Магазен Питтореск». Ему вторит «Иллюстрасьон»: «Взятие Тимбукту обеспечит будущее Черного континента. Группа французских храбрецов, чьи имена останутся неизвестны большинству их соотечественников, совершила высочайший воинский подвиг, который дает нашей стране гораздо больше, нежели дискуссии политиков».
20 марта управление всеми французскими колониями, за исключением Алжира, переходит от Министерства военно-морского флота новому государственному органу — Министерству колоний.
В первую половину 1894 года во французском обществе сеют ужас покушения анархистов. Они исповедуют идеологию, близкую взглядам Прудона и Бакунина, которые ратовали за равенство и свободу путем ликвидации частной собственности и правительства, считая то и другое орудиями подавления. После разрыва с социалистами в 1879 году у этих идеалистов начинает преобладать доктрина «пропаганды действием», являющаяся, по сути своей, не подлинным анархизмом, но, тем не менее, насильственным методом борьбы. Горстка людей совершает покушения и теракты, некоторые интеллектуалы и представители художественной богемы одобряют такую форму протеста.
5 февраля на гильотине казнен Огюст Вайян, взорвавший 9 декабря 1893 года в Бурбонском дворце бомбу, начиненную гвоздями.
12 февраля взрыв в кафе «Терминюс» уносит жизни семнадцати человек. Террориста зовут Эмиль Анри. Он блестяще учился, получил степень бакалавра и был принят в Высшую Политехническую школу. Эмиль Анри заявляет, что он совершеннолетний и готов нести ответственность за свои действия. На суде он сказал следующее: «Мне говорили, что социальные институты основаны на справедливости и равенстве, а я видел вокруг одну только ложь и надувательство. […]Буржуазия должна понять, что те, кто страдал, наконец устали от своих страданий. […] Разве дети предместий, медленно умирающие от анемии из-за того, что им не хватает даже хлеба, не невинные жертвы? А женщины, работающие из последних сил в ваших мастерских за сорок су в день и благодарные Богу уже за то, что нищета не вынуждает их выйти на панель? А старики, которые трудились на вас всю жизнь, а когда обессилили, очутились на свалке или в больнице для бедных?»
19 февраля в комиссариат приходит письмо, где некий Роберти сообщает о намерении покончить с собой. Полицейские приезжают в меблированные комнаты на улице Сен-Жак, 69, взламывают дверь, и происходит взрыв. Итог: один убитый, один раненый.
20 февраля похожий теракт происходит в доме номер 47 в предместье Сен-Мартен. Специалисты обезвреживают бомбу на месте.
15 марта бельгийский анархист Пауэле, которому приписывают два вышеупомянутых теракта, погибает при взрыве бомбы, подложенной им в церковь Мадлен.
4 апреля взрывом в ресторане «Фуайо» тяжело ранены два посетителя, один из них, поэт Лоран Тайяд, теряет глаз. Когда Огюст Вайян бросил бомбу, Тайяд воскликнул: «Что значит гибель нескольких поколений рода человеческого, если благодаря ей утверждается индивидуум? Разве это важно, если последствия благотворны?»
27 апреля в Парижском Дворце правосудия начинается процесс над Эмилем Анри, «человеком, у которого руки по локоть в крови», пишет о нем в газете «Матен» Гастон Леру. Эмиля Анри приговаривают к смерти и казнят 21 мая. На следующий день «Жюстис» публикует статью Жоржа Клемансо «Гильотина»: «Мы идем по ночному Парижу, где гуляют девицы, чьи лица бледны от газового света, и припозднившиеся бездельники в поисках приключений. Мне не по себе в этом странном мире. Небо аспидного цвета с волнистыми облачками, тусклое, мертвенно-бледное. Дует ледяной ветер, сухой и резкий. И вот мы уже на улице Шато д’О, перед огромной статуей Республики во фригийском колпаке. Она держит в руке оливковую ветвь, якобы несущую людям мир. А как же нож гильотины? Почему она не держит в другой руке его? Я мысленно кричу ей: „Лгунья!“. А перед мэрией Фобур Ледрю-Ролен театральным жестом протягивает нам урну для всеобщего голосования: „В этом наше спасение“. — Конечно, друг мой, только вот наша жизнь слишком коротка, чтобы ждать так долго. Тебе и самому знакомо двадцатилетнее ожидание».
24 июня президент Сади Карно приезжает в Лион на открытие Всемирной выставки и празднование годовщины битвы при Сольферино. Город украшен флагами. Президент отправляется в Гран-театр на гала-концерт. Его коляска медленно едет мимо выстроившихся рядами людей. К коляске приближается человек и, выкрикнув: «Да здравствует революция!», тут же исчезает в толпе. Девять сорок вечера. На черном сюртуке президента расплывается большое пятно. Сидящий рядом генерал Вуазен осознает, что произошло. Кучер подхлестывает лошадей, чтобы как можно быстрее попасть к префектуре. Удар кинжала попал в печень и перерезал полую вену, врачи бессильны. Доктор Понсе делает операцию. Тщетно. Вскоре после полуночи Сади Карно умирает. Арестованный при попытке к бегству убийца восклицает: «Пусть теперь мне отрубят голову, это ничего не изменит!» Толпа готова линчевать преступника. Его зовут Санто Джеронимо Казерио, он уроженец Ломбардии, ему двадцать один год. Эмигрант, работал булочником. «Я стал анархистом в 1891 году, в Риме, после суда, где обвиняемые сидели в клетке, как дикие звери. Тогда я поклялся совершать покушения на важных шишек. Я хотел убить президента Карно за то, что он отказал в помиловании Вайяну».
На следующий день после смерти Сади Карно толпа громит и грабит магазины итальянцев. Начинаются демонстрации, люди кричат: «Долой Италию! Объявим ей войну!»
Большинство обеих Палат в качестве преемника Сади Карно видит Жана Казимир-Перье. 27 июня 457-ю голосами из 851-и его выбирают президентом Республики. Социалисты и радикалы находятся в оппозиции. Они заявляют, что новый президент, главный акционер шахт Анзена, является ставленником капитализма и реакции. Парламентская фракция социалистов выступает с обращением: «Парламент, состоящий из сторонников буржуазного центра и сенаторов-ретроградов, только что избрал президентом Республики Казимир-Перье, человека, связанного с реакционерами-орлеанистами… Мы от вашего имени реагируем на это скандальное голосование так: „Долой реакцию!“».
28 июля правительство, пользуясь негодованием граждан, спровоцированным убийством Карно, добивается от парламента принятия новых законов, «направленных на подавление анархистских выходок». В действительности же эти законы ужесточают введенные год назад ограничения свободы прессы, позволяют приговаривать к тюремным срокам за подстрекательство к краже и убийству и передают дела о нарушении закона о печати из суда присяжных в исправительный суд. Он имеет право приговаривать к пожизненной ссылке без лишения прав (уголовные суды такой приговор не выносят) и налагать запрет на публикацию судебных отчетов в газетах. Судьи могут не делать разницы между анархистами и социалистами, которые из опасения, что «предательские» законы будут использоваться для обуздания оппозиционной прессы, начинают бурную кампанию протеста. Жорес восклицает: «Вы хотите проявить суровость при подавлении бунтовщиков, так будьте же суровы и в отношении коррупционеров и взяткодателей! […]. Вы должны ясно показать стране — и сделать это в письменном виде! — что коррумпированного политика и бунтовщика-анархиста судят одинаково строго и по одним и тем же законам. Только в тот день, когда продажный политик и совершивший убийство анархист отплывут на каторгу на одном корабле, можно будет говорить о двух взаимодополняющих аспектах одного социального порядка».
Казерио судили в Париже, 2 августа, его интересы представлял старшина коллегии Дюбрей: ни один адвокат не согласился защищать этого человека. Казнили осужденного 16 августа в тюрьме Сен-Поль.
Несколькими днями раньше, 6 августа, в суде Сены состоялся «процесс тридцати». Правительство решило нанести решительный удар, объединив в одну «преступную» группу всех, кто — в большей или меньшей степени, тем или иным образом — мог быть связан с пропагандистами: «Одни подстрекают к преступлению словом или пером, другие его исполняют». Перед присяжными предстали: редактор и член правления «Ла Револьт» Жан Грав, лектор-анархист Себастьян Фор, редактор «Ревю анархист» Шарль Шатель, управляющий «Л’Ан-деор» Луи Мата, служащий Военного министерства, художественный критик и сотрудник «Ревю бланш» Феликс Фенеон, а также арестованные за грабеж Ортиз и Черикотти и другие.
Обвинение развалилось, 12 августа жюри присяжных оправдало всех подсудимых, за исключением Ортиза и Черикотти, которые получили пятнадцать и восемь лет каторжных работ.
В августе 1894 года покушения и террористические акты прекращаются. Руководители анархистских газет — а их насчитывается около шестидесяти — никогда не одобрявшие «пропаганды действием», призывали анархистов вступать в профсоюзы и бороться за новый социальный порядок легальными методами. 23 сентября, на Шестом профсоюзном конгрессе в Нанте, по предложению Аристида Бриана принято положение о всеобщей забастовке.
23 августа, ровно через год после выхода в свет романа «Малыш», не имевшего успеха у читателей, Жюль Верн публикует «Удивительные приключения дядюшки Антифера» форматом в одну двенадцатую листа. Второй том появится в продаже 19 ноября. В начале месяца в издательстве Шарпантье и Фаскеля выходит новый роман Эмиля Золя «Лурд», первый из трилогии «Три города». За ним последуют «Рим» и «Париж».
В октябре 1894 года население Парижа составляет 2 миллиона 424 тысяч 705 человек, живущих в 82 тысячах домов, то есть по 31 тысяче 89 человек на один квадратный километр. Плотность населения во французской столице больше, чем в любой из европейских. В Париже зарегистрировано 200 тысяч безработных (официальная цифра на январь 1894 года). Они соглашаются на любую работу, отчаянно пытаясь заработать хотя бы четыре су. Очередь в дворники нескончаема, ждать «метлу своей мечты» приходится невыносимо долго. Не менее востребованы профессии фонарщиков и расклейщиков афиш. Любая работа хороша, когда пояс затянут туже некуда и нужно кормить семью, но на беду, претендентов так много, что трудоустроить всех физически не возможно. Мужчины разгружают корабли в доках, перетаскивают багаж на вокзалах, идут в чернорабочие. Летом ночи коротки, и, если удается в четыре утра получить работу на Центральном рынке, это большая удача. Зимой — другое дело: безработные раздают на улицах проспекты, грамотные нанимаются в рекламные агентства надписывать адреса на конвертах. Манной небесной становятся снежные заносы: на расчистку улиц нанимают работников обоего пола. Самое страшное, когда нет вообще никакой работы: долг булочнику, долг угольщику, сегодня не обедаем, да и завтра, наверное, тоже… Последний отчаянный шаг — закладная, а потом наступает день, когда человек не может заплатить за жилье, и его семья оказывается на улице. «Хотя в большинстве бедных кварталов дома по-прежнему непригодны для нормальной жизни, их владельцы не постыдились поднять квартирную плату, как это сделали в богатых районах. […] Жажда наживы столь велика, что не стесняется рядиться в одежды филантропии. В Париже появляется так называемая „программа дешевого жилья“, которая призвана оказать помощь беднякам, предоставляя им чистые, оборудованные всем необходимым для жизни дома».
[463] Один из павильонов Всемирной выставки 1889 года был посвящен жилью для рабочих. Однако по мнению Жюля Симона
[464] программа дешевого жилья никогда не будет осуществлена. «Истина, — писал он в газете „Фигаро“ 16 марта 1894 года, — заключается в том, что в дешевых домах есть только самое необходимое, а плату за них взимают весьма высокую, что повышает их доходность на 3,5–4 %». О домовладельцах Жюль Симон выразился так: «Они становятся благодетелями лишь потому, что им это выгодно». 30 ноября 1894 года законодательство облегчает финансирование дешевого жилья. Инвесторы получают налоговые льготы, благотворительные общества могут принимать участие в финансировании.
В первые две недели сентября разворачивается шпионский скандал, который надолго разделит Францию на два враждующих лагеря. Уроженец Эльзаса Альфред Дрейфус, штабной офицер, еврей по национальности, арестован за передачу Германии секретных документов, касающихся безопасности страны. Обвинение основано на некоей записке, именуемой «бордеро» и адресованной полковнику фон Шварцкоппену: тот порвал ее и выбросил в корзину вместе с другими ненужными бумагами, откуда записку выудила завербованная французской контрразведкой горничная. Вот содержание бордеро: «Мсье, я не имею от вас известий, мне не назначена встреча, но я счел нужным сообщить вам несколько интересных сведений: 1. Описание гидравлической тормозной системы двигателя объемом 120 л/мин и хода его испытаний. 2. Заметки о войсках прикрытия (новым планом будут внесены некоторые изменения). 3. Сведения о новом порядке формирования артиллерийских частей. 4. О Мадагаскаре. 5. Проект Устава полевой артиллерии (14 марта 1894 г.). Последний документ крайне трудно достать, я смогу держать его у себя всего несколько дней. Министерство разослало по подразделениям строго ограниченное количество экземпляров, обязав каждого офицера вернуть их после учений. Итак, если вы хотите изучить интересующие вас моменты, а потом вернуть документ мне, я сделаю выписки, но могу скопировать его полностью и отослать копию вам. Вскоре я отбуду на маневры». Виновного ищут в штабе: нет сомнений, что записка написана офицером. Полковник Фабр узнает почерк капитана Дрейфуса. Он сообщает об этом вышестоящему начальнику генералу Гонза, тот докладывает генералу де Буадеффру, который, в свою очередь, информирует военного министра генерала Мерсье. Министр консультируется с майором Дюпати де Кламом: тот якобы обладает знаниями в области графологии. Но де Клам страдает болезненной шпиономанией и антисемитизмом: он заявляет, что Альфред Дрейфус виновен. Для пущей уверенности министерство привлекает к расследованию эксперта-графолога Банка Франции Гобера. 13 октября тот представляет заключение, в котором говорится о явных расхождениях между почерком, которым написано бордеро, и рукой капитана Дрейфуса. В тот же день повторная экспертиза поручается Альфонсу Бертильону, который возглавляет службу криминалистического учета в префектуре полиции и не имеет навыков подобного исследования. Бертильон изучает почерки, пользуясь изобретенной им самим системой. Вечером 13 октября он подает рапорт, в котором утверждает, что «почерки полностью идентичны».
Морис Палеолог
[465] в «Хронике дела Дрейфуса» описывает свою встречу с президентом Республики Казимир-Перье. Тот поинтересовался его мнением: «Что вы думаете о Бертильоне?» — «Его очень уважают в префектуре полиции. Говорят, он изобретателен, проницателен, но немного чудаковат». — «Он не просто чудаковат, а совершенно безумен! Я до сих пор нахожусь под впечатлением от общения с ним. Он битых три часа доказывал, что Дрейфус сам подделал свой почерк, когда писал бордеро. Казалось, передо мной сбежавший из Сальпетриер или Вильжюиф пациент…»
Тем не менее, генерал Мерсье отдал приказ арестовать капитана Дрейфуса, что и было сделано 15 октября. Подозреваемого препроводили в тюрьму Шерш-Миди. Расследование поручили майору Дюпати де Кламу, заведомо убежденному в виновности Дрейфуса. Он приказал обыскать дом задержанного и угрожал его супруге, заявив несчастной женщине, что ее муж арестован за худшее из преступлений и что вина его доказана. Никаких улик при обыске не нашли. Обвинение основывалось исключительно на бордеро. Назначили трех новых экспертов. Ни один не согласился с мнением других. «Подобное расхождение в результатах экспертиз никак не подкрепляет обвинение, создается впечатление, что делу вот-вот будет дан задний ход
[466]».
Утечки, между тем, продолжаются, пресса неистовствует. 29 октября газета Эдуара Дрюмона «Ла Либр Пароль» («Свободное слово») дает броский заголовок на первой полосе: «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА. АРЕСТ ОФИЦЕРА-ЕВРЕЯ АЛЬФРЕДА ДРЕЙФУСА».
Все, что относится к армии, свято. В воздухе витает мечта о реванше. Поражение 1870–1871 гг. и потеря Эльзаса и Лотарингии в сознании граждан могли быть только результатом предательства. Теория заговора будоражит общественное мнение. К гипертрофированному патриотизму добавляется менее благородное чувство — антисемитизм. Его используют в политических целях все чаще, он отравляет все классы общества и подогревается прессой. Каждой день продается от миллиона до полутора миллионов газет.
Эдуар Дрюмон сделал антисемитизм своим коньком. Его газета «Ла Либр Пароль» (основана в 1892 г.) придерживается ультранационалистических взглядов и опирается на ненависть к евреям. Газета «Ла Круа», имеющая католическую направленность (основана в 1883 г. ассомпционистами
[467]), не стесняется называть себя «самой антиеврейской газетой Франции».
Напомним, что в те годы евреев во Франции не больше 80 тысяч, то есть 0,02 % населения, и больше половины живут в Париже. Во всем офицерском корпусе, насчитывающем 40 тысяч человек, 1 % евреев, то есть не более 300 человек.
Травлю инициирует генерал Мерсье. 17 ноября он дает интервью «Матен», 27-го — «Фигаро», и в обоих случаях заявляет, что виновность офицера Дрейфуса не вызывает сомнений.
Таким образом, общественное мнение сформировано еще до начала процесса. Начинается разнузданная антисемитская кампания. В стороне от всеобщей истерии остаются немногие. К их числу принадлежит Сен-Жене (Эмманюель Бюшерон), военный хроникер «Фигаро». 19 декабря он пишет: «Во Франции сорок тысяч офицеров: этот капитан просто один из них. […] Будь он католиком или вольнодумцем, в его поступке усмотрели бы один из тех отдельных чудовищных случаев, какие происходят во все времена, и назавтра заговорили бы о чем-нибудь другом. […] А сейчас в стране только и разговоров, что об одном человеке и его предательстве, и все потому, что он — еврей».
В тот же день, 19 февраля, капитан Дрейфус предстал перед закрытым заседанием военного суда, где ему зачитали обвинение: «Господин капитан Дрейфус обвиняется в том, что в 1894 году по преступному умыслу вступил в сношения с одним или несколькими агентами иностранных держав и с целью предоставить им средства для совершения вооруженного нападения либо начала войны против Франции передавал им секретные документы. Обвинение, выдвинутое против капитана Дрейфуса, основано на деловом письме, написанном на бумаге „плюр“, не подписанном и не датированном, удостоверяющем, что конфиденциальные военные документы были переданы агенту иностранной державы. […] Доскональное изучение почерков всех работающих в Генеральном штабе господ офицеров позволило установить, что почерк капитана Дрейфуса весьма схож с почерком, каким написано вышеупомянутое деловое письмо».
Александр Зеваэс в «Истории Третьей Республики. 1870–1926» пишет: «Оправдательный приговор был более чем вероятен, и военный суд склонился бы именно к такому решению, если бы в совещательной комнате во время обсуждения не появился порученец Военного министра с папкой, которая хранилась в Генеральном штабе и не была предъявлена ни обвиняемому, ни его адвокату. В папке находился документ, где имелась следующая фраза: „Я виделся с этим негодяем Д.: он передал мне для вас двенадцать крупномасштабных карт“. Документ решил дело: еврей был осужден, публично разжалован из офицеров и отправлен на Чертов остров. Конец первого акта трагедии».
Во время суда над Дрейфусом правительство страны готовится послать войска на Мадагаскар. В 1868 году Франция признает главу Хова (класса внутри туземного общества) королевой Мадагаскара. В 1883–1884 гг. правительство Жюля Ферри, руководствуясь экономическими интересами и под влиянием католических священников, «конкурировавших» с английскими миссионерами-протестантами, направило к берегам острова экспедицию, что позволило занять порт Таматава, Маджунгуз и Диего-Суарес. В тот момент в Тонкине шла война, и начать еще одну операцию было затруднительно. В 1885 году было подписано соглашение, устанавливавшее власть королевы Ранавалуны III. Стороны по-разному интерпретировали статьи договора, что вызвало череду конфликтов. Правительство Хова создало собственную армию и заняло откровенно антифранцузскую позицию. В 1891 году французский резидент Шарль ле Мир де Вилье потребовал прекращения приготовлений к войне. 27 октября Хова объявили Франции священную войну. 23 ноября министр иностранных дел Габриель Аното ставит на голосование вопрос о выделении кредита в 65 миллионов франков и решает послать на остров экспедиционный корпус под командованием генерала Дюшена.
Незадолго до Рождества, в воскресенье 9 декабря, иллюстрированное приложение к «Пти журналь» (№ 212) пишет: «В скором времени начнется военная кампания против Мадагаскара, и весь мир признает, что мы не агрессоры и не руководствовались ни завоевательским духом, ни жаждой наживы, однако чувство собственного достоинства не позволяет нам терпеть нападки заморских дикарей. Что подумал бы мир, не прояви Франция твердость и не отомсти она за оскорбление? Мадагаскарцы грубо нарушили взятые на себя обязательства, затем дерзко отвергли предложения о примирении, а теперь, если верить сообщениям, шумно протестуют против присутствия на острове наших соотечественников. Они имеют наглость заявлять, что наши солдаты едят сердца Хова — тот еще деликатес! Раздаются призывы к священной войне. Об этом кричат на всех углах, пророча победу над „испорченной“, по их словам, расой. Наши солдатики очень скоро сумеют доказать, какое это жестокое заблуждение».
Несколько дней спустя «Журналь де Фам» — его главным редактором была Мария Мартен — опубликовал в № 36 письмо одной из своих читательниц: «Будь я депутатом, не стала бы голосовать ни за гибель четырех-пяти тысяч французов, ни за уничтожение пяти-шести тысяч мадагаскарцев. Нет, не проголосовала бы — ни за гибель десяти тысяч человек, ни за пустую трату шестидесяти пяти миллионов франков. Если бы мадагаскарцы не захотели меня больше видеть, я поставила бы свой шатер в другом месте и оставила в покое честь французского флага».
1894-й — особый год. Современники не подозревают, что присутствуют при поворотном моменте Истории. По их ощущению, все происходит, как и в предшествующие годы с их радостями, несчастьями, смертями, открытиями и рождениями.
В тот год русский царь Александр III умирает в собственной постели, передав трон сыну Николаю II. Уходят из жизни глава Парнасской школы Леконт де Лилль, композитор Эмманюель Шабрие, писатель Роберт Льюис Стивенсон и художник Гюстав Кайбот. Последний завещает свою коллекцию полотен импрессионистов государству, что вызывает в обществе ожесточенные споры. Они продлятся до 1896 года, когда Консультативный комитет национальных музеев получит право сделать выбор, кому передать коллекцию.
По инициативе барона де Кубертена собравшиеся в Сорбонне представители двенадцати стран принимают решение возродить Олимпийские игры.
В армии окончательно принимают на вооружение пушку калибром 75 мм.
Японцы воюют с китайцами, сюзеренами Кореи. В самой Корее находят золото, медь и уголь.
В Париже повсеместно внедряется канализация, начинается строительство моста Мирабо.
Ученик Пастера доктор Пьер-Эмиль Ру завершает создание вакцины от крупа — тяжелой формы дифтерии, поражающей маленьких детей. Удается снизить смертность с 63 % до 24 % и исключить проведение трахеотомии. «Острый скальпель больше не вонзится в горло обожаемого существа: один подкожный укол в бедро, даже не слишком болезненный, и через несколько мгновений мерзкие пленки рвутся, исчезают, воздух начинает проходить в горло, ребенок делает вдох, он спасен».
[468]
В киоски поступает первый номер «Автомобильного движения». Первый этап гонки «Париж — Руан» со скоростью 21 км/час выигрывает паровой автомобиль фирмы «Де Дион Бутон», «Пежо» занимает второе и третье места на машине с бензиновым двигателем. Паровой трамвай начинает регулярно курсировать по маршруту «Париж — Арпажон». В январе, на Велосипедном салоне в зале Ваграм, публика восхищается новейшим велосипедом «Валер», в котором «для движения используются одновременно руки и ноги». С весны до осени хорошо раскупаются велосипедные костюмы. Девушка из богатой семьи катается в корсаже, панталонах до щиколотки из крепированного синего шелка, каскетке из того же материала, гетрах, белых перчатках и кожаных сапогах. Мещаночка надевает шевиотовую юбку оранжевого цвета, черные чулки, белые перчатки и канотье, украшенное голубиными крылышками. Дама зрелого возраста предпочитает серо-бежевый пиджак, широкие темно-синие шевиотовые панталоны, черные шелковые чулки, английские лакированные туфли и белую тирольскую шляпу. Аристократка наряжается в корсаж, повязывает шейный платок в стиле Марии-Антуанетты, натягивает белые замшевые перчатки, пышные брюки, открывающие ноги в лиловых шелковых чулках и ботинках из русской кожи на шнуровке. Распутница не стесняется демонстрировать свои формы, ее не смущают нескромные взгляды: обтягивающее трико, болеро серо-стального цвета, пышные рукава, очень короткие черные сатиновые бриджи, жемчужно-серые чулки и лакированные лодочки.
Главный инженер Адмиралтейства сэр Эдвард Рид хочет проложить туннель под Ла-Маншем с помощью двух стальных труб и электрических локомотивов.
Клод Дебюсси заканчивает прелюдию «Послеполуденный отдых фавна». Дворжак пишет симфонию «Из Нового света», Габриель Форе — Первый ноктюрн, Густав Малер — Вторую симфонию. Меломаны присутствуют на представлениях «Фальстафа» и «Отелло» Верди и «Тайс» Жюля Массне. Антуан ставит в Свободном театре «Кукольный дом» Генрика Ибсена. Верлен избран «принцем поэтов».
Любители литературных новинок выбирают между «Мортиколь» Леона Доде, «Последними опытами критики истории» Тэна, «Красной лилией» Анатоля Франса, «Рыжиком» Жюля Ренара, «Песнями Билитис» Пьера Луиса, «Пять су Лавареда» Поля д’Ивуа и «Концом света» Камиля Фламмариона. Владеющие английским упиваются «Книгой джунглей» Редьярда Киплинга. Выходит последний — посмертный — том «Капитала».
Моне пишет «Руанский собор», «Таможенник» Руссо — «Войну», Тулуз-Лотрек создает
«Альбом Иветт Жильбер» с шестнадцатью литографиями; Вюйар — декорации для Натансона, а Мюша — афишу для пьесы Викторьена Сарду «Жисмонда», в которой блистает Сара Бернар. Роден лепит «Граждан Кале», органист, дирижер, педагог, музыкальный критик и публицист Венсан д’Энди основывает «Схола канторум».
[469]
Пока разворачиваются эти события, на свет появляются будущие писатели, кинематографисты, фотографы, правители, актеры и ученые. Их зовут Джозеф фон Штернберг, Жан Ренуар, Луи-Фердинанд Селин, Дэшил Хэммет, Жак-Анри Лартиг, Эдуард VIII Английский, Мари Марке, Жан Ростан.
* * *
Процесс об абортах, описанный в этом романе, проходил в ноябре 1891 года. Дело слушалось в суде присяжных округа Сены. Пресса широко освещала ход заседаний. В газетах развернулась полемика: демографическое положение страны ухудшается, ежегодная рождаемость во Франции в два раза ниже, чем в Германии. Главными причинами такого положения дел называют проституцию — за честную работу женщинам слишком мало платят, что приводит у многочисленным случаям детоубийства и абортам. Аборты — это «проказа, разъедающая наше современное общество и ведущая к падению рождаемости», пишет на своих страницах «Ла Патри». В Париже аборты делают ежедневно, в провинции дело обстоит не лучше. Аборт — обычная практика не только в гражданском, но и в законном браке, и поражает все классы, но более всего — пролетариат. «Закон? Когда он обрушивается на тех, кто производит аборты, или на их сообщников, они чаще всего отделываются несколькими месяцами тюремного заключения. Вот вам и закон! Он неэффективен, а значит, необходимо действовать более жестко и сурово применять наказание».
Но «Ла Патри» в своей обличительной статье не упоминает о том, что женщинам, особенно представителям низших классов, закрыт доступ к образованию. Не пишет она ни о высокой смертности детей до пятимесячного возраста, ни о нищете, ни о низких зарплатах. И лишь журналистка Северин выступает от имени лишних людей: «Общеизвестно, что священный во время родов плод тут же становится ничтожной частичкой мыслящего, трудящегося, сознательного человечества! Досадно, когда девушка гибнет в нищете, старик умирает от голода, а юноша в расцвете лет лишается ног под колесами поезда или получает в живот осколок снаряда, но это присуще любой развитой цивилизации, подобные смерти неизбежны. Пагубно и достойно осуждения приближать час освященной смерти, укорачивать отмеренный свыше срок, убивать в материнской утробе девочку, покуда она сама не стала матерью, старика — до тех пор, пока он еще способен трудиться, юношу, который еще даже не начал работать! Поступать так — значит покушаться на кладовую войны, расхищать запас нищеты, обеспечивающий равновесие общественного процветания. Приходится признать, что сирые и убогие тоже имеют право на неповиновение, на отступничество, что они могут предпочесть страданию небытие…».
Клод Изнер
«Встреча в Пассаже д’Анфер»
Осень, и снова — осень. Осень крадется тихо.
Песни осенней скрипки ветер зовут и холод.
Мы закрываем шторы, мы переводим стрелки.
Листья ложатся наземь — антигоны и филомелы…
Хрупкие их останки сжигает могильщик-дворник.
«О бедный Йорик!» — смерти легло дыханье
Изморозью на стеклах…
Жюль Лафорг. Воскресенья.
Нашей мужественной Мари-Франс Жиро
Памяти нашего дорогого друга Ива Жибо
Клодине и Фабьену Лезаж, нашим давним соратникам по ассоциации «Эскло»: «Мы добирались туда пешком… и ночевали в лесу, под деревом»
Артисту Алену Манжено
Всем нашим дорогим и любимым
Благодарим Франсуазу и Мишеля за то, что позволили нам использовать название их книжного магазина «Эльзевир» в Монтрее
ПРОЛОГ
Эта планета не раз сталкивалась с небесными телами, которые миллиарды лет вращались вокруг Солнца. От нее откалывались куски и устремлялись в открытое космическое пространство.
Однажды осколок весом в несколько тонн отделился от остальных. Гравитационные поля планет, чей путь он пересекал, влияли на траекторию его полета. Космические тела из пояса астероидов, расположенного между орбитами Юпитера и Марса, врезались в гигантский осколок, и он дробился на осколки поменьше. Таким образом, когда по окончании странствия длиною в двадцать миллионов лет осколок достиг одной небольшой планеты, он весил уже не более полутоны. Летя навстречу новому препятствию, он ворвался в атмосферу Земли, где и распался на части. По мере приближения к поверхности Земли его скорость уменьшалась, и последнюю часть пути он летел практически вертикально.
Жаркой августовской ночью 1895 года он рассыпался метеоритным дождем над лесом Монморанси.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Лес Монморанси, среда, 14 августа 1895 года
От земли шел пар. Легкий ветерок освежал подлесок, где пахло грибами, влажной травой и мятой. Растянувшись на траве перед своей хижиной, Жеробом Дараньяк глядел на небо поверх крон каштанов. Внезапно он понял, что мешает ему заснуть. Жеробом оперся на локоть. Что-то должно произойти, интуиция его никогда не обманывала. Ослепленный светом луны, он поначалу ничего не мог различить. Потом увидел, как на небе появился ослепительно яркий огненный шар. Он непрерывно уменьшался, как будто таял. Жеробом пригляделся. Нет, это ему не примерещилось. Шар исчез, но оставил в небе широкий, похожий на столб дыма след, изгибающийся, словно сказочный исполинский змей. Который, в свою очередь, постепенно тускнел, пока не распался на отдельные клочья.
Поместье Гюго Мальпера в Домоне
На веранде при свете свечей, обмахиваясь веерами, сидели две дамы. Внезапно воздух заискрился. Искры не были красно-желтыми, как от углей, они носились вокруг серебристым вихрем.
— Ой, что это? Они кусаются?
— Да это же не комары, а светлячки.
— Терпеть не могу всех этих насекомых…
— Сюзанна, ты заметила, что сегодня вечером нас собралось только девятеро из тринадцати? — воскликнула высокая худощавая молодая женщина с пучком на затылке.
— Ошибаешься, Ида! Ты забыла про нашего гостеприимного хозяина! — возразила ей собеседница, полноватая блондинка в кружевной мантилье. — Нас осталось десять: Эмиль Легри и твой отец уже на небесах.
— Должен быть кто-то еще один!
— С чего ты взяла?
— Потому что я все отлично помню, хотя в семьдесят шестом году, когда этот чудак Эмиль Легри создал ассоциацию, мне было всего тринадцать. А ты старше на восемь лет.
— Что ты говоришь! На целых восемь лет? Не может быть!
— Так и есть! Отец хотел, чтобы я завершила музыкальное образование, а мои уроки сольфеджио оплачивал месье Легри. Поэтому я должна была присутствовать на ваших собраниях. Как же скучно мне было сидеть в пыльной, пропахшей плесенью книжной лавке этого плешивого старика и слушать ваши нескончаемые разговоры!
— Плешивого? Ты про кого это?
— Про Эмиля Легри, про кого же еще!
— Неужели тебе было тогда всего тринадцать? Не могу в это поверить! Ты была выше меня на целую голову и отлично пела.
— Ну да, я была высокой для своего возраста. Думаешь, мне хотелось петь в начале каждого заседания ассоциации этот дурацкий гимн?
Как маяк Александрийский
Шарль Фурье ведет по жизни…
— Страшно подумать, сколько лет прошло с тех пор! И ведь мы не становимся моложе…
— Говори за себя! У меня еще вся жизнь впереди!
— Ну, знаешь, голубушка…
— Спокойствие, дамы, спокойствие, давайте хотя бы на время забудем о ссорах, — вмешался жизнерадостный господин с очень широкими бедрами, появляясь на веранде.
— Вы правы, Виржиль, мы замолкаем.
Гюго Мальпер был не в духе: почти все гости прибыли с опозданием и набросились на угощение так, будто перед этим постились не меньше месяца. Теперь, насытившись, они подобрели и готовы были, забыв о взаимной неприязни, обниматься со слезами на глазах.
— Лицемеры! Конечно, брюхо себе набили, теперь можно и вспомнить про «дорогого Эмиля Легри», — ворчал он, шагая по аллее между фруктовыми деревьями.
Эта традиция возникла в 1880 году, через три года после кончины их благодетеля: они устраивали торжественный ужин, и перед десертом один из членов ассоциации должен был произнести речь в память об Эмиле Легри. На этот раз пришел черед Эвариста Вуазена. Он уже сделал большой глоток шампанского, очевидно, для храбрости, но Гюго Мальпер потребовал сделать перерыв, сказав, что ему надо срочно сходить на псарню, проведать собаку, у которой болят зубы.
— Господа пока могут сыграть партию в бильярд, а дамы, угощаясь мадерой, записывать результаты!
Все охотно согласились. На самом деле собаки были совершенно здоровы — Гюго Мальпер просто не мог дождаться момента, когда гости наконец уедут, и хотел от них немного отдохнуть. В свое время именно он, питая теплые чувства ко всем, кто был, как и он сам, преисполнен благодарности по отношению к Эмилю Легри, предложил проводить эти ежегодные встречи здесь, в своем поместье в окрестностях Домона, и назначил памятной датой тот самый день, когда познакомился с Эмилем. Но теперь эти люди не вызывали у него ничего, кроме раздражения. Он уже давно собирался отменить ежегодную пирушку, да только все не решался объявить об этом.
Гюго Мальпер толкнул узкую створку загона, обогнул колодец и пошел вдоль ряда вольеров. Питомцы встретили его нестройным лаем. У Гюго была тридцать одна собака: кобели и суки, чистокровные и беспородные, молодые и старые. Их объединяло то, что все они остались без хозяев и заменили Гюго детей — его супруга Каролина погибла сразу после свадебного путешествия в Бретань.
Проведав собак, Гюго не спешил возвращаться к гостям: он постоял немного, глядя на свой маленький замок, копию дворянской усадьбы XVI века, возведенный во времена Второй Империи по чертежам его деда. Чересчур много башенок и столько окон, что ни одна прислуга в доме не задерживается… Последняя, мадам Бонефон, осталась в услужении у Мальпера только потому, что нашла компромисс: она мыла половину окон осенью, а другую весной.
— Куда он запропастился, этот Апорт! — воскликнула Ида. — Вечно он занят своими собаками! А на кухне дожидаются два торта-безе с лимоном, да и суфле с ромом скоро наверняка опадет.
— Ты же знаешь, Гюго обожает животных. Только не вздумай назвать его этим прозвищем в глаза — он его терпеть не может!
— А что такого?! Я же не обижаюсь, когда меня зовут Восьмушкой!
[470]
— Тебе это подходит! В отличие от меня: думаешь, приятно, когда тебя называют Ни-То-Ни-Се?
— Кстати, я забыла, а какие прозвища у остальных? — поинтересовалась Ида. — Я восемь лет не посещала эти ваши собрания, а сегодня приехала только ради тебя.
— Так заведи записную книжку! Смотри: вон тот старик, такой упитанный, что стоит у камина, это Виржиль Сернен. Редкий бабник, что, впрочем, не помешало ему сделать шестерых детей. Его жена, бедняжка, родами и умерла. Ну, дочерей-то он уже всех замуж пристроил. И теперь, несмотря на постоянные боли, изображает Дон Жуана.
— Боли? А что с ним такое?
— Почечные колики. Приступы случаются у него каждые три-четыре месяца. А прозвали его Мухоловкой!
— Почему?
— Он — любитель земноводных. У него в ресторане стоят аквариумы со всякими ящерицами и змеями… Тьфу, какая гадость!
— О, а вон та пара мне знакома! Это Рен и Лазар Дюкудре! Они держат магазин игрушек, и прозвали их Юлой и Волчком. А старикашка с волосами желтоватого цвета… погоди, как его… Ах да, Максанс Вине!
— По прозвищу Макс Большое Ухо. Он глуховат и вечно пристает ко всем цитатами из Марка Аврелия… Ну вот, а остальных-то ты вспомнила, наконец?
— Не всех.
— Я не собираюсь их перечислять! О, посмотри на того чудака, прямо Плакса Жан!
[471]
Выплывшая из-за облака луна осветила большой парк, вдалеке переходящий в лес. Собеседницы заулыбались. На самом деле они неплохо относились друг к другу, возможно потому, что редко виделись и не были соперницами.
Максанс Вине показался в проеме двери, ведущей на террасу.
— Вот вы где! Вас все ищут. Необходимо ваше присутствие.
— Мы тут дышим свежим воздухом. Апорт вернулся?
— Нет. Партия окончена. Эварист считает, что нам надо снова собраться в столовой.
— Зачем? Он все-таки намеревается произнести свою нудную речь?
Дамы неохотно поднялись и направились в комнату, где стояли крепкий стол и скамьи, на которых расселись приглашенные.
— А кто такой Эварист? — шепотом спросила Ида у подруги.
— Неужели не помнишь? Его прозвали Гриб, потому что он работает на ферме, где выращивают шампиньоны. Рыжий такой, ему около пятидесяти.
— Нет, не припоминаю, видно, мы с ним редко встречались!
— А где Максанс? — воскликнул тщедушный человек с редкими волосами и бледно-рыжими бакенбардами, перебирая стопку выцветших листов бумаги.
— Мы его не ели, Деода.
— Кто такой этот Деода? — спросила Ида у подруги.
— Ты меня совсем замучила, Ида. Деода Брикбек, или Гринвич, служит в обсерватории. Кстати, его сердце свободно!
— Нет уж, лучше остаться старой девой, чем выйти за такого замуж, — пробормотала Ида, усаживаясь рядом с пышной Рен Дюкудре.
— Кстати, я отлично помню, что на похороны Эмиля Легри приехали не все. Не было Юлы, Волчка и Поршня, — заявила Сюзанна.
— Сюзанна, оставьте это ребячество, давайте называть друг друга по именам, — заявил один из гостей, несмотря на морщины, выглядевший моложаво и одетый в элегантный костюм с галстуком.
— Послушайте, Донатьен, мне кажется, вы забываете, что эти прозвища придумал не кто иной, как Эмиль. Кстати, себя он называл Кавардаком.
[472] Я понимаю, вам не по душе прозвище Поршень, тем не менее, именно благодаря связям Эмиля вам досталась должность заместителя начальника Западного вокзала.
Лазар Дюкудре, он же Волчок, коротышка, похожий на сахарную голову, к которой приделали козлиную бородку, бросил на говорившего недовольный взгляд.
— Ну конечно, ведь именно поршень
[473] приводит машину в движение, — с намеком заметила Сюзанна.
Донатьен Вандель побледнел и отвернулся.
— Да ладно тебе, — проворчала Ида. — Скорей бы все это закончилось! Я проголодалась… Чем он там занимается, этот Гюго?
Гюго Мальпер обошел все вольеры, удостоверился, что у питомцев полные миски, и задержался около своей любимицы, Пишетты,
[474] толстой спаниелихи, похожей на кувшин.
— Ах, если бы ты знала, Пишетта, как мне осточертели эти паразиты! — прошептал он, почесывая собаку за ухом.
В соседнем вольере жалобно заскулила такса.
— Тихо, Эдип! Я зайду к тебе в другой раз, а сейчас мне, увы, придется вернуться к гостям.
Донатьен Вандель умирал от скуки. Он согласился принять участие в этой церемонии только ради своей сестры Бернадетты, которая мечтала о том, что его повысят, и из заместителя начальника он станет начальником вокзала. «Поезжай, Донатьен, и постарайся понравиться господину Мальперу, тогда он окажет тебе протекцию». И Вандель поехал, скрепя сердце.
Он взглянул на Эвариста Вуазена, который готовился произнести речь, и снова погрузился в мысли о брошюре, которую недавно нашел у букиниста. Ее напечатало в Льеже в 1870 году издательство «Вайан Гарман», и в ней излагалась программа поставки спальных вагонов для европейских железнодорожных компаний. Этот ценный исторический документ должен был пополнить коллекцию Ванделя, в которой уже были модель железнодорожного состава Марклина и вагона Пульмана, а также номер «Монд иллюстрэ» за 1870 год с изображением интерьера спального вагона. Один из отставных служащих подарил ему комплект фотографий: там были и почтовый вагон, и переход через пути, и стрелка, и железнодорожные знаки, и станционное здание, и туннель. У Донатьена Ванделя была заветная мечта — купить билет в спальный вагон «Восточного экспресса» и, забыв о службе и семье, отправиться куда-нибудь далеко-далеко…
Эварист Вуазен, сидевший на противоположном конце стола, начинал терять терпение. Ему хотелось налить себе стаканчик, но он не решался. Вуазен стыдился своего потертого выходного костюма, стоптанных ботинок, давно не стриженной рыжей шевелюры, в которой уже появились седые пряди. Он чувствовал себя не в своей тарелке, не подозревая, что на самом деле финансовое положение присутствующих немногим лучше, чем его собственное. «Нет, вы только гляньте на этих дармоедов, им бы только пыль в глаза пускать! — думал он. — А та толстуха, вся в рюшах, чего она все время на меня пялится? Черт возьми, у меня совсем в глотке пересохло!».
Он уже протянул руку к бутылке, когда наконец появился хозяин дома, крепкий пожилой мужчина с седеющей бородкой и закрученными кверху усами. Гюго Мальпер был чуть ли не единственным близким другом Эмиля Легри, и когда тот решил объединить своих подопечных в ассоциацию «Подранки», поддержал это начинание.
Собравшиеся смотрели на него с уважением и даже робостью, словно ученики на учителя.
— Где Максанс? — спросил он.
— Где-то в доме, — пробурчал Эварист.
— Тогда начнем без него, — распорядился Гюго. — Кухарка, мадам Бонефон, волнуется за суфле с ромом.
Эварист собрался с мыслями и начал речь:
— Мы бесконечно благодарны тебе, дорогой Эмиль Легри! Ты объединил реки наших жизней в мощный поток, и мы оплакивали тебя, стоя над гробом, не замечая ливня, который…
— И правда, Лазар, в тот день лило как из ведра! — шепнула соседу Сюзанна. — Я чуть не схватила воспаление легких!
Лазар Дюкудре очнулся от дремоты.
Метеорит приближался, оставляя на небе дымящийся след. Не сводя с него глаз, Жеробом Дараньяк встал. Судя по траектории, метеорит должен был упасть в болото в паре километров от его хижины.
Жеробом прижался спиной к стволу каштана. Неужели ему наконец повезло, и он своими глазами увидит падение небесного тела, которое, по мнению колдунов, обладает необыкновенными целебными свойствами… Безудержная радость охватила его, он глубоко вздохнул и бросился в заросли кустарника.
— О небесный гость, я заполучу тебя, и ты поможешь мне избавлять людей от страданий!
Максанс Вине не хотел слушать путаную речь Эвариста Вуазена. Он предпочел ознакомиться с хозяйской библиотекой. Будь на то его воля, он бы вместо журналов с рассказами о животных и пособий по лесоводству собрал здесь совсем другие книги.
— Каким же невеждой надо быть, чтобы засунуть бесценные философские труды на самую верхнюю полку! — бормотал он себе под нос. — Это просто возмутительно!
Максанс взял с полки первый попавшийся журнал.
— «Каждый двенадцатый житель Франции держит собаку», — прочитал вслух он. — Ну да, а наш хозяин держит их столько, что портит всю статистику.
Эмиль Легри видел в Гюго Мальпере продолжателя своего дела. Но тот быстро разуверился в том, что можно изменить человеческую природу к лучшему, и стал настоящим мизантропом.
Максанс Вине не получил высшего образования и набирал багаж знаний самостоятельно. Он свято хранил бесценный подарок Эмиля Легри, потрепанный экземпляр «Размышлений» Марка Аврелия, чье учение помогало ему переносить превратности судьбы. Повернувшись лицом к окну, он воскликнул:
— «Не заблуждайся доле; не будешь ты читать своих заметок, деяний древних римлян и эллинов, выписок из книг, которые откладывал себе на старость»!
[475]
Вдруг он увидел в темном небе нечто, похожее на красноватый металлический шар. Несмотря на плохой слух, Максанс ясно различил нарастающий гул, заглушавший даже лай собак. Максанс вздрогнул. Странный свет озарил горизонт.
— Так поднимем же бокалы в память о нашем духовном наставнике Эмиле Легри, который, без всякого сомне…
Речь Эвариста Вуазена прервала ворвавшаяся в комнату мадам Бонфон:
— Господа, на помощь! Небо падает нам прямо на голову!
Все бросились к окнам и увидели светящийся шар, который перемещался с востока на запад, оставляя за собой пылающий след. Несколько взрывов прогремели один за другим. Двумя секундами позже раздался оглушительный свист, как если бы работала огромная турбина, слабый свет упал на каштаны в саду и почти тотчас же погас, зато на горизонте все ярче разгоралось желтоватое зарево.
— Метеорит! — выкрикнул Деода.
— Вы уверены?
— Абсолютно! Я изучал описание подобного явления в архивах обсерватории!
— Он упал где-то у монастыря святой Радегонды.
— Пойдемте, посмотрим! — предложил Виржиль Сернен.
— И не вздумайте! Мы сделаем это завтра на рассвете, — отрезала Рен Дюкудре.
— Вы собираетесь исследовать каждый кустик в лесу? — спросил Гюго Мальпер.
— Именно так.
— Но это же смешно!
— Я намерен поэкспериментировать с методом пеленгации, то есть определением местонахождения предмета, — объявил Деода Брикбек. — Мне понадобятся карандаш и бумага.
— Нужно совсем потерять рассудок, чтобы пытаться разыскать что бы то ни было посреди болот и дремучего леса!
«Проклятье! Теперь они еще долго не уберутся отсюда!» — подумал Гюго Мальпер. Он сделал над собой усилие и произнес:
— Как пожелаете. Я скажу кухарке, чтобы она приготовила корзины для пикника.
Чтобы накормить и разместить у себя этих людей, он был вынужден нанять дополнительную прислугу, которая помогала мадам Бонефон убирать комнаты и готовить еду. Лишь когда его надоедливые гости усядутся в поезд, он вздохнет с облегчением.
— Надеюсь, вы загадали желание? — проговорил он, с трудом скрывая вздох сожаления.
— Еще бы! Не каждому повезет увидеть падение метеорита! — воскликнул Виржиль Сернен.
— Что же вы надеетесь найти? — поинтересовался Донатьен Вандель.
— Камни из далекой таинственной Вселенной.
— Камни? Скорее, камешки! — проворчал Донатьен. — На вашем месте я бы поостерегся ползать по кустам: у вас опять могут начаться колики.
— Я не нуждаюсь в ваших советах! — пробурчал тот в ответ.
Дверь распахнулась. Мертвенно-бледный Максанс Вине стоял на пороге, сжимая в руке «Размышления» Марка Аврелия.
— Знак! Это Эмиль нам подал знак! — возвестил он, воздев указательный палец к потолку.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Пятница, 15 августа
На соломенном тюфяке лежал, прерывисто дыша, ребенок с распухшей шеей. Мать сидела рядом, придерживая на его воспаленном лбу влажное полотенце. В освещенном дверном проеме возникла высокая фигура. Женщина повернулась к мужу:
— У нас нет выбора, визит доктора нам не по карману, придется идти за мецем.
[476] Говорят, этот добрый человек творит чудеса и лечит бедняков бесплатно.
Мужчина нахмурил брови.
— Он колдун. Я уверен: то, что произошло сегодня ночью, его рук дело.
— Даже если он нам не поможет, хуже уже не будет!
— Это еще неизвестно…
— Ты хочешь, чтобы наш малыш умер?! — в отчаянии воскликнула женщина и склонилась над ребенком.
Ее муж взглянул на сына и вышел.
Он бежал, не останавливаясь, через болота, не замечая пения птиц и жужжания насекомых, сливавшихся в причудливую мелодию. Заслышав его тяжелые шаги, заяц шмыгнул в заросли папоротника.
Хижина меца стояла под высоким каштаном у зернового склада недалеко от так называемого Охотничьего замка — здания XII века с четырьмя массивными башнями, куда парижане любили приезжать на пикники. Жеробом Дараньяк работал угольщиком, иногда помогал бочару из Монлиньона. Питался он в основном дичью — зайчатиной, фазанами и куропатками, а еще грибами и лесной ягодой. К нему часто приходили за помощью издалека, и он принимал пациентов прямо на лугу, у пруда, заросшего лилиями, над которыми кружились стрекозы, а в плохую погоду — в своем бревенчатом домишке. Невдалеке располагалось небольшое поле гречихи, и красные тряпки, привязанные к деревьям, должны были отпугивать косуль.
Приблизившись, мужчина увидел разлетающиеся искры. Мец стучал долотом по предмету, лежавшему на наковальне.
Жеробому было около сорока. Он был высок, с черными вьющимися волосами и чисто выбритым лицом, которое можно было бы назвать красивым, если бы не зигзагообразный шрам на виске, полученный от одного ревнивого мужа — из-за той истории Жеробому пришлось уехать из родного Лимузена. Он был добрая душа и охотился только для того, чтобы утолить голод, а от пациентов принимал плату продуктами. Вот и теперь отец больного ребенка посулил ему дюжину яиц и два кочана капусты, если он вылечит малыша.
— У меня есть кое-что очень действенное, но это средство можно использовать только один раз.
Жеробом Дараньяк взвесил блестящий металлический предмет на руке. Конечно, жаль было с ним расставаться, но появление мужчины Жеробом воспринял как знак Провидения. Он верил в силу природы и знал целебные свойства диких растений и камней, но не переоценивал себя, считая лишь орудием, осуществляющим волю Всевышнего. Мысленно произнеся молитву, Жеробом повернулся к мужчине:
— Я готов. Веди меня.
Они двинулись через болота в обратном направлении. Солнечные блики плясали на тропинке, вдоль которой росли кусты ежевики. Когда они проходили мимо замка, стая голубей взмыла в небо, громко хлопая крыльями.
Склонившись над малышом, Жеробом осторожно ощупал отек. Потом послюнявил палец, начертал на груди ребенка какие-то знаки и плотно прижал к его распухшей шее металлический предмет, бормоча:
— Семь горестей, семь радостей, семь гордостей, семь печатей на книгах прорицателей, семь цветов радуги, семь нот в музыке… Семь, вещее число.
Через несколько минут он весь покрылся испариной, ощущая, как болезнь ребенка перетекает в магический предмет, а затем через руку проникает в его собственное тело. Если родители будут четко следовать его указаниям, ребенок скоро поправится.
— Это очень сильное средство, — сказал он, вручая им металлический предмет. — Я совершил магический ритуал, теперь это будете делать вы: слово в слово, жест за жестом, иначе болезнь не остановить.
Мать сжала сына в объятиях и радостно вскрикнула:
— Кажется… Похоже, он очнулся!
Она смотрела на меца с благоговением.
— Надо верить всему, сомневаться во всем и ничего не отрицать, — важно произнес Жеробом. — Возьми этот предмет, женщина, я доверяю его тебе. Слушай и запоминай. — Он прошептал ей что-то на ухо, затем отстранился и добавил вполголоса: — Ты понимаешь, что означает держать рот на замке?
— Да.
— Уверена?
— Да.
— Тогда приступай немедленно.
И Жеробом ушел.
Суббота, 17 августа, утро
— Время идет, а ваш экземпляр «Путешествия молодого Анахарсиса»
[477] все еще не продан. Вы не готовы с ним расстаться? — Посетитель поправил монокль и удалился.
— Звучит не очень-то оптимистично, — заметил Кэндзи Мори, надел очки и вернулся к своим каталожным карточкам.
— Если вы полагаете, что это потенциальный клиент, то глубоко ошибаетесь. Он слишком мрачно настроен и к тому же без гроша, — парировал Жозеф Пиньо, сердито поглядывая на Юрбена, уже третьего подручного, нанятого за последние шесть месяцев.
Кэндзи искоса посмотрел на зятя. Зачем Виктор решил сделать Жозефа компаньоном? Он был хорош на своем месте.
Несмотря на увлечение техническими новшествами, Кэндзи Мори был консервативен и не любил перемен. А Жозеф умудрился выжить из лавки уже двух служащих.
Раздражение мешало Кэндзи сосредоточиться. Он был не в восторге от союза Жозефа с Айрис, так как желал для дочери лучшей партии, но смирился с ее выбором, когда узнал о том, что она беременна. Увы, родилась девочка, а он мечтал о внуке. Айрис и Жозеф поселились в бывших комнатах Виктора — тот тоже женился и теперь появлялся в лавке лишь изредка… Одним словом, поводов для раздражения у Кэндзи хватало. В том числе и постоянное присутствие Эфросиньи Пиньо.
Он снял очки, покрутил их в руках и убрал в ящик, не в силах больше слушать, как Жозеф громко отчитывает служащего:
— Зарубите себе на носу, Юрбен: работая в книжной лавке, вы обязаны знать имена писателей и годы издания всех книг, а еще быть всегда вежливы с покупателями. Кроме того, вы должны предлагать им книги, о каких они и не слышали!
«Он унаследовал ужасный характер от своей матери, — подумал Кэндзи, собирая свои карточки, — и этот Юрбен здесь тоже долго не продержится. Кстати, интересно, кем приходится мне Эфросинья Пиньо?»
Жозеф же, наблюдая за подчиненным, на самом деле завидовал ему, так как Юрбен очень ловко упаковывал книги в оберточную бумагу. Самому Жозефу это никогда не удавалось: то бумага рвалась, то бечевка запутывалась.
— Это все, на что он способен. При этом не может перечислить даже поэтов Плеяды! Это же надо было умудриться — заявить мадам де Камбрези, что Мариво — автор «Совращенной поселянки»! Хорошо еще, что старая карга и сама в литературе ничего не смыслит, она убеждена, что «Лжец»
[478] — это комедия Мольера! — пробормотал Жозеф. Еще один промах — и он уволит этого тупицу, который, к тому же, похоже, нечист на руку.
Его размышления прервало появление месье Шодре, аптекаря с улицы Жакоб.
— О, месье Пиньо, какое удивительное происшествие! Я видел все собственными глазами!
— Что вы видели?
— Позавчера я был в Монморанси, у моей сестры, мы праздновали ее серебряную свадьбу, была ночь, и звезды сыпались с неба дождем!
— Скоро, наверное, ни одной не останется, — с иронией заметил Кэндзи, с грохотом задвигая ящик стола.
— Не шутите, месье Мори, ведь это плохой знак, предвещающий войну, а может, и конец света. Так написали в газете. А вы как думаете?
— Что это души летят из чистилища в рай, — пробурчал Кэндзи.
— Надо же, а я все проспал! — расстроился Жозеф.
Пока он расспрашивал аптекаря, Кэндзи, покусывая карандаш, прислушивался к топотанию маленьких ножек на верхнем этаже. Внучка Дафнэ, которой недавно исполнился годик, занимала в его сердце особое место. Поначалу крики младенца приводили Кэндзи в ужас, но как только малышка впервые улыбнулась ему, сразу стала для него ангелом, пусть и с черными как смоль волосами и миндалевидными, чуть раскосыми глазками. Увидев первые неуверенные шаги и услышав первый лепет внучки, Кэндзи мгновенно превратился в ее покорного раба, не лучше бабки Эфросиньи, которая, коверкая слова и сюсюкая, громко восторгалась проделками малышки.
— Ради всего святого, мадам Пиньо, разговаривайте с ребенком на нормальном французском! — умолял Кэндзи, но Эфросинья его не слушала. Избавиться от нее можно было, лишь напомнив, что пора готовить ужин, или предложив проследить за тем, чтобы служанка Зульма Тайру не ушла домой, не закончив работу.
— Верно! Эта негодяйка только и думает о том, как бы улизнуть к своему голубку!
Речь шла о почтенном чопорном Андре Боньолье, слуге Виктора и его супруги Таша, который уже давно ухаживал за Зульмой Тайру, не решаясь признаться в своих чувствах, из-за чего девушка постоянно пребывала в рассеянности и била посуду. Эфросинья бранила ее на чем свет стоит, но иногда меняла гнев на милость и давала ценные советы.
К счастью, Кэндзи занимали не только проблемы домочадцев — он наслаждался идиллией в отношениях с Джиной Херсон, матерью Таша Легри, и проводил выходные в холостяцкой квартирке на улице Эшель, где переживал самые восхитительные моменты своей жизни. Он и не предполагал, что после смерти Дафнэ Легри способен испытывать подобные чувства.
— Вы слышали, месье Мори, — обратился к нему Жозеф, — Хосе-Мария Эредиа
[479] раздобыл на набережной оригинальный экземпляр «Мыслей» Паскаля всего за два су!
— Жаль, что мы его упустили! Впрочем, ничего удивительного: ведь Виктор занят фотографией, а вы — своими газетными вырезками! — И Кэндзи указал на стойку, где лежал свежий выпуск газеты «Фигаро».
— Неужели вам не интересно узнать, что произошло вчера ночью в лесу Монморанси! Вот послушайте! — И Жозеф прочитал:
Удивительное событие посеяло панику в окрестностях деревни Домон. Метеоритный дождь обрушился на руины храма святой Радегонды. Местные жители утверждают: им казалось, что на небе две луны.
Кэндзи не слушал Жозефа. Он силился выкинуть из головы Эдокси Аллар, княгиню Максимову, до замужества танцевавшую в «Мулен Руж» под именем Фифи Ба-Рен. Она позавидовала успеху Лианы де Пужи,
[480] гастролировавшей в России в 1894 году, и стремилась добиться того же на парижских подмостках. Кэндзи навестил Эдокси на прошлой неделе в ее квартире на авеню Опера, и с тех пор соблазнительный образ бывшей любовницы преследовал его, при этом, как ни странно, не затмевая чувств к Джине.
Жозеф продолжал рассуждать о метеоритах:
— С десятого по четырнадцатое августа они падали по всей Англии, от Стратфорда-на-Эйвоне до Бристоля. Один наблюдатель насчитал целых двадцать шесть!
— Надеюсь, он получит за это медаль. А вы уверены, что он не перебрал лишнего? — заметил Виктор Легри, входя в лавку.
— Вам смешно! Но я согласен: метеоритный дождь не предвещает ничего хорошего!
— Боитесь конца света? Но Персеиды
[481] в середине августа каждый год освещают наши ночи, в этом нет ничего сверхъестественного.
— Так или иначе, эту вырезку я сохраню. — Жозеф аккуратно вклеил заметку в свой знаменитый блокнот, где коллекционировал описания всевозможных необыкновенных происшествий.
— Эти три заказа нужно доставить сегодня? — спросил Юрбен.
— Нет, в воскресенье после мессы! — с иронией воскликнул Жозеф. — Разумеется, сегодня! Вы уже должны быть в пути!
— Но покупатели живут в разных концах города: один — на улице Тюрбидо в Третьем округе, другой — на улице Дюрантон в Четвертом, а третий — в Сен-Манде.
— Поезжайте на омнибусе!
Юрбен ушел, а Виктор едва удержался, чтобы не напомнить Жозефу о том, что тот в свое время вел себя точно так же, как новый служащий.
Книжный магазин опустел, и три компаньона погрузились каждый в свои мысли.
Кэндзи грезил о граммофоне. Он видел рекламу в «Иллюстрасьон» и планировал приобрести новейшее техническое устройство к Рождеству.
Виктор силился понять, почему фотографии обнаженной Таша — сколько же красноречия ему понадобилось, чтобы убедить ее позировать! — не получились такими, как он рассчитывал. Возможно, он добавил слишком много соды в проявитель. В его мечтах эти снимки оживали. Одна знакомая описала ему презентацию кинематографа братьев Люмьер, которую те провели 22 марта для членов национальной промышленной комиссии, и Виктор сразу понял: это будущее фотографии. Как бы ему хотелось увидеть «Выход рабочих с фабрики»… Он закрыл глаза и представил себе фильм, главная героиня которого была похожа на Таша.
Жозеф же обдумывал сюжет очередного романа с продолжением. Предыдущий, «Букет дьявола», печатавшийся несколько месяцев в газете «Пасс-парту», имел у читателей успех, а затем вышел отдельным изданием у «Шарпантье и Фаскель». Когда Жозеф узнал от Айрис — ему плохо давался язык Шекспира, — о том, что Шерлок Холмс погиб в смертельной схватке с профессором Мориарти у Рейхенбахского водопада, ему стало казаться, что жанр криминального расследования оказался в глубоком кризисе. Получится ли у него написать детектив? Если нет, то к какому жанру обратиться? Он пролистал «Юность Лагардера»
[482] и почесал в затылке. Взяться за приключения? Написать роман плаща и шпаги? Нет, нельзя бесконечно эксплуатировать тему горбуна, даже если являешься экспертом в этом вопросе.
[483] Ах! Лагардер! Быть его alter ego! «Но я же не владею шпагой, — сказал себе Жозеф, — а значит, прощайте дуэли в сумерках на склоне перед замком замка Келюс-Таррид!» А может, попробовать написать что-то в духе Жюля Верна или даже Альбера Робида?
[484] Создать роман не хуже, чем «Машина времени» некоего Г. Дж. Уэллса, который Айрис читает в английских газетах, описывая потом мужу конфликты между элоями и морлоками, происходящие в 802701 году. И вдруг Жозефа осенило: а что если ему написать о том, как гигантский метеорит упал прямо на Париж?
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Вторник, 22 октября
— Который час? — пробормотал молодой человек, развалившийся на перине.
Девушка приводила в порядок прическу, зажав во рту шпильки для волос. Воткнув в волосы последнюю, она показала локтем на грязное окно.
— Уже полдень. Давай-ка, пошевеливайся! Мне пора бежать на работу, — сказала она, завязывая мятую ленту бантом на пастушьем посохе.
Кора работала в «Пивнушке для холостяков» на улице Сен-Северен с пятнадцати лет. Ее приняли туда, поставив условие: никому не признаваться в том, что она еще несовершеннолетняя. Она и ее товарки должны были ублажать мужчин в специальных комнатках в подвале или в малой гостиной, где свидание стоило втрое дороже, так как клиентам в дополнение к пастушке полагались еще вишневая настойка или тминный ликер. По окончании рабочего дня Кора обслуживала постоянных клиентов. Эрик Перошон был из их числа, и поскольку она ему симпатизировала, он иногда оставался у нее на ночь.
Молодой человек облегчил карман своего сюртука, выудив оттуда последние монеты, и, насвистывая, спустился по лестнице. После того как умер отец, Эрику приходилось несладко — денег, которые давала мать, ему не хватало. Промучившись так некоторое время, он решил, что пора потрясти дядюшку Донатьена: тот все равно лежит без движения, и деньги ему не нужны.
Эрику Перошону было двадцать три года и, пользуясь своей привлекательной внешностью, он соблазнял женщин самого разного круга. Молодой человек бы уверен, что надо брать от жизни все, и не собирался следовать примеру покойного отца, который всю жизнь честно трудился, чтобы обеспечивать семью. «Разве это жизнь, если надо на рассвете вылезать из постели, а вечерами считать, сколько удалось продать молотков, задвижек, метелок и кухонной утвари?» — рассуждал Эрик, которому вовсе не улыбалась перспектива стать хозяином мелочной лавки. Он терпеть не мог семейные обеды, во время которых все разговоры сводились к дежурным фразам вроде: «Передай мне масла!» или замечаниям относительно того, что некоторые идиоты не умеют распоряжаться своими деньгами. Запираясь у себя в комнате, юноша взахлеб читал приключенческие романы, представляя себя то капитаном Немо, то Чакасом, то Лагардером, то графом Монте-Кристо, то бароном де Сигоньяком.
[485] Эрик мог бы стать бунтовщиком, но был для этого слишком расчетлив, а потому притворялся порядочным молодым человеком. «Кто ждет, тот дождется», — рассуждал он. Отец оплатил его обучение в Школе архитектуры на бульваре Монпарнас, но юноше занятия быстро наскучили, и он решил, что гораздо приятнее посещать театры, балы и дам с сомнительной репутацией. Каждое утро Эрик повторял, как заклинание: «Завтра будет лучше, завтра будет лучше». Он твердо верил, что блестящее будущее уготовано ему судьбой.
Тут все было фиолетовое — обои, обивка софы и двух вольтеровских кресел, стоящих перед сервантом, заставленным английским фарфором с фиолетовым узором, — даже скатерть на столе, и та была фиолетовой. Мрачная комната.
Донатьен Вандель был парализован и лишен дара речи, поэтому не мог сказать о том, что, возможно, ему стало бы лучше, если бы в комнате сменили декор. Он проклинал себя за то, что поддался на уговоры сестры. Четыре года назад она явилась к нему в слезах, оплакивая своего супруга Жан-Поля. Донатьен Вандель тогда был заместителем начальника вокзала. Он рассудил, что сестре нужно о ком-то заботиться, и предложил ей с сыном Эриком переехать к нему. Увлеченный работой, он не сразу заметил, что Бернадетта быстро превратила его строгую холостяцкую квартиру в бонбоньерку. Да и потом не протестовал, радуясь тому, что может уделять больше времени племяннику, к которому питал отцовские чувства. Вандель видел Эрика знаменитым архитектором, который, возможно, превзойдет самого Гюстава Эйфеля.
Эрик появился на улице Депар ровно в полдень. «Дядя сейчас обедает. Присутствовать при этом — поистине пытка!» — подумал он и предпочел уединиться в своей комнате. К несчастью, по пути туда он столкнулся с матерью, сгибавшейся под тяжестью корзины с продуктами.
— У тебя сегодня нет занятий? — спросила она.
— Два преподавателя схватили инфлюэнцу. А ты сегодня занимаешься благотворительностью?
— Нет, я отложила это на завтра. У нас закончились продукты, а служанка вчера вечером сказала, что ее мать сломала руку, и я отпустила ее домой.
— Сиделка у дяди?
Бернадетта Перошон кивнула. Она никак не могла поверить в то, что брат никогда не оправится, и его неподвижно лежащее тело казалось ей куклой. Она отвела больному самую светлую из комнат и делала все возможное, чтобы обеспечить ему необходимый уход. Однако в глубине души, не признаваясь в этом даже самой себе, Бернадетта испытывала смутное удовольствие, став единоличной хозяйкой дома, — она расценивала это как восстановление справедливости. В юности она жила под строгим надзором родителей, затем по указке мужа. И хотя брат вовсе не был тираном, жизнь с ним под одной крышей означала зависимость. И вот наконец в пятьдесят два года Бернадетта обрела полную свободу действий. Эрик по большей части отсутствовал, а она делала что хотела: могла с аппетитом съесть краюху теплого хлеба или даже пирожное с кремом, а могла часами стоять перед зеркалом, примеряя новое платье… А как приятно было следить за сиделкой! Правда, тут Бернадетту ждало разочарование — пожилая некрасивая женщина атлетического телосложения ухаживала за Донатьеном безупречно и не давала никаких поводов для подозрений в воровстве. Вот и сейчас она упорно пыталась просунуть в сомкнутые губы своего подопечного ложечку
рубленого мяса.
— Он все привередничает, упрямец, но я не отступлюсь! Не хотите мяса, месье Вандель? Тогда будем есть суп.
После короткой борьбы сиделке удалось влить в горло несчастному бульон из поильника. Правда, он чуть не захлебнулся, но она с силой хлопнула его по спине и, убедившись, что дыхание восстановилось, вытерла ему губы.
— Как он сегодня? — спросила Бернадетта.
— Так и зыркает на меня. Но я знаю, он меня очень ценит.
Заметив блеснувшую в глазах брата ненависть, Бернадетта Перошон с сомнением покачала головой. Она поправила ему одеяло и взбила подушку.
— Ему надо отдохнуть. Я закрою ставни.
— А как же компот?
— Оставьте его на полдник.
— В таком случае могу я отлучиться? Мне надо размять ноги, — спросила сиделка, которой на самом деле хотелось выкурить трубочку.
— Да-да, конечно. А я пока займусь корреспонденцией, мне надо написать пару писем.
…«Небо явно ко мне благоволит!» — сказал себе Эрик, бесшумно входя в дядину комнату. Там никого не было, больной спал. «Ну же, не стесняйся, — подбадривал себя юноша, — ощупай каждую складку одежды, подними крышки вазочек, проверь секретер, и ты наверняка разживешься хотя бы несколькими купюрами».
Донатьен наблюдал за племянником из-под прикрытых век. Он испытывал бессильную ярость, не имея возможности сопротивляться бесцеремонной сиделке, но то, что происходило сейчас у него на глазах, поразило его до глубины души. Похоже, Эрик ведет разгульную жизнь… Что ж, почему бы не обчистить дядюшку-инвалида, доживающего последние дни? Ничего, пусть парень развлекается, пока может, на учебе это не должно сказаться, утешал себя Донатьен. Он прикрыл глаза и дал волю воображению, мчась на полном скаку за неясной тенью, все быстрее и быстрее… чтобы отомстить!
Отправившись из Гранвиля в 8 часов 45 минут, экспресс № 56 миновал станцию «Версаль Рив-Гош» и, изрыгая серый дым, помчался в направлении путепровода.
Машинист Гийом-Мари Пелерен велел кочегару Виктору Гарнье подбросить угля в топку, чтобы быстрее преодолеть последние два километра до станции, соединяющей западную линию с кольцевой железной дорогой. Он считал своим долгом прибыть к месту назначения вовремя и, опоздав на вокзал Монпарнас хотя бы на пять минут, очень бы расстроился.
Начальник поезда Альбер Марьетта с легким беспокойством отметил, что скорость превысила пятнадцать километров в час, но доверился опытному машинисту, работавшему в компании уже девятнадцать лет. Марьетта смотрел на мелькающие за окнами дома и думал о том, что никогда не узнает о привычках их обитателей. Когда состав проехал мимо высокого здания с изображением огромной упаковки детского питания «Фосфатин Фальер», беспокойство начальника поезда возросло — в этом месте поезд обычно замедлял ход, но сегодня этого не произошло. Паровоз подтвердил его опасения протяжным свистом — экспресс несся с недопустимой скоростью.
Альберт Марьетта нажал на тормоз Вестенгаузена, а кочегар тем временем лихорадочно забрасывал в топку песок. Но было уже поздно — потеряв управление, поезд на всех парах мчался к вокзалу.
Стоявший на перроне железнодорожник бросился прочь, его примеру последовали пассажиры. Платформа опустела за несколько секунд.
На Реннской площади
[486] недалеко от буфета под навесами-маркизами стояли трамваи линии «Бастилия — Монпарнас» и «Монпарнас — площадь Звезды». Чуть в стороне, между улицей Ариве и улицей Депар, в просторном крытом помещении толпились пассажиры, ожидающие прибытия омнибусов до Ванва и Менильмонтана. Пожилая пара с плоскими плетеными корзинками поднималась по ступеням, мужчина с тростью помогал жене. Они опустились на сиденья и задремали. По счастью, лошади, запряженные в вагон трамвая, вовремя услышали страшный грохот, встали на дыбы и рванулись вперед, спасая пассажиров от неминуемой гибели.
Паровоз сошел с рельсов, проскочил на полном ходу через зал ожидания, пробил стену, вылетел на Реннскую площадь и упал с десятиметровой высоты вниз. Падая, он задел заднюю часть трамвая маршрута «Монпарнас — площадь Звезды», оторвал у него подножку и уткнулся носом в землю, напоминая огромное доисторическое животное, упавшее в пропасть. Тендер и первый багажный вагон отлетели в сторону, второй багажный, почтовый и десять пассажирских чудом удержались на краю зияющей в стене вокзала пробоины.
Снаружи собирались зеваки, на вокзале служащие спешили на помощь пассажирам, среди которых, к счастью, не оказалось тяжело раненых. Машинисту и кочегару удалось выпрыгнуть на подъезде к тупику.
В этой катастрофе была лишь одна жертва: Мари-Огюстин Эгийяр, мать двоих детей, которая подменяла мужа в киоске, пока он запасался вечерними газетами, получила смертельный удар по голове зольником
[487] безумного поезда.
От удара здание на улице Депар дрогнуло. Большая фарфоровая ваза упала на пол, от потолка, уже давно потрескавшегося под двойным слоем фиолетовой краски, откололись два больших куска штукатурки и обрушились прямо на голову Донатьену Ванделю. Эрик бросился к дяде, схватил простыню и стал вытирать ею усыпанное побелкой лицо несчастного. Тот едва дышал. Почти улегшись на него, Эрик различил слабый шепот:
— Я могу… я хочу…
— Ты говоришь! Ты выздоровел!
Эрик не знал, радоваться ему или скрипеть зубами. Он, конечно, рассчитывал на дядюшкино наследство, но в глубине души считал Донатьена славным человеком, не заслуживающем такой жалкой участи.
— Я позову маму! — воскликнул он.
Сильные пальцы впились в его руку.
— Нет-нет, я должен тебе сказать… времени мало…
Донатьен дико выпучил глаза и дернулся от приступа ужасной боли. Его голова горела в огне.
— Сокровище… Забери его, это из-за него я пострадал. Запиши, поторопись, конец близок… Отомсти за меня!
Не найдя карандаша, Эрик прижал ухо к губам умирающего, у которого уже почти не осталось сил говорить. Он произносил какие-то бессвязные обрывки слов, и Эрик разобрал только что-то про 15 августа, двуличность и — несколько раз — слово «сокровище». Потом прозвучали имя и адрес. Эрик повторил их несколько раз, чтобы запомнить. Пальцы, вцепившиеся в его руку, разжались, и Донатьен Вандель испустил дух.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Среда, 23 октября
«В нашей памяти, этом антикварном магазине впечатлений и идей, мы обнаруживаем иногда, неожиданно для самих себя, старое забытое воспоминание, которое позволяет нам заново пережить какое-нибудь событие далекого прошлого».
Прочитав это высказывание Мопассана, напечатанное в газете «Галуаз» в 1881 году, Кэндзи Мори невольно вспомнил эпизод из своей юности, затерявшийся в дальних уголках сознания. Стоял жаркий июльский день, он гулял по улицам японского города Кобе со своей кузиной Кумико. Их внимание привлек торговец сладостями. На его передвижном лотке лежали горкой сухие стебли тростника и мизу аме, тесто на основе рисовой муки. Торговец создавал из них для каждого ребенка по желанию зверей, птиц, бабочек или цветы. Кэндзи спросил Кумико, что она хотела бы получить, и девочка, помедлив, выбрала дракона. Оторвав от тростника липкую фигурку сказочного животного, она завернула ее в бумагу и сказала, что сохранит на память. Кэндзи думал о том, что теперь Кумико, наверное, уже красивая солидная дама. Интересно, остался ли у нее тот дракончик из рисовой муки…
Его воспоминания прервали пронзительные женские голоса: он узнал Матильду де Флавиньоль, Рафаэль де Гувелин, Хельгу Беккер, консьержку Мишлин Баллю и, конечно же, Эфросинью. К ним примешивались и мужские — Жозефа и Виктора.
— Семьдесят тысяч кило, какая громадина! — говорил Жозеф.
— Йа-йа, это ужасно, почему же тормоз не сработал?! — Судя по немецкому акценту, это была Хельга Беккер.
— Виноват машинист. Говорят, он действовал вопреки правилам, установленным на вокзале Монпарнас: он должен был начать торможение заранее, — заявила Рафаэль де Гувелин.
— Он не мог маневрировать, — возразила Хельга Беккер. — Представьте, что вы едете на велосипеде по мокрой дороге, скользите и… хлоп! Месье Легри, а вы знаете, что в Лондоне женщинам скоро разрешат появляться в брюках в отелях и ресторанах?
— О! Месье Легри, скажите, что вы об этом думаете, — пропела нежным голоском Матильда де Флавиньоль, уже много лет питавшая слабость к Виктору — без всякой надежды на взаимность.
— Как сказал бы мой компаньон, в наши дни дамы сильнее покрыты нагаром,
[488] чем в незапамятные времена, но меньше, чем пенковые трубки или чайники.
— А я считаю, что показывать ноги неприлично, если хотите знать мое мнение! — высказалась Эфросинья.
Та, кого она пренебрежительно называла Тевтонкой, наградила ее презрительным взглядом, и мадам Пиньо мысленно произнесла в ее адрес гневный монолог о «немецких войсках», пообещав себе записать его в дневник.
— Реннская площадь выглядит просто ужасно! — продолжила тему Рафаэль де Гувелин. — Этот стоящий вертикально паровоз, повсюду обломки… Не представляю себе, как его будут поднимать. Но, надо отдать должное мэру, силы правопорядка были на высоте.
— Поезд пролетел через весь вокзал, и это просто чудо, что никто из пассажиров не пострадал. Если бы стена не обрушилась, вагоны сплющило бы об нее, и получилась бы братская могила, — заметила Матильда де Флавиньоль.
— Одна женщина все же погибла, — возразила ей Хельга Беккер.
— Что до меня, я никогда не соглашусь путешествовать на поезде! Все эти новейшие изобретения мне до лампочки, от них одни неприятности! — заявила Мишлин Баллю и удалилась в свою каморку.
— Ну, уж вам-то точно ничего не грозит, — пробормотал Жозеф. «А что, если вставить в будущий роман не только историю о гигантском метеорите, обрушившемся на Париж, но и произошедшую накануне железнодорожную катастрофу?», — задумался он, но Рафаэль де Гувелин не дала ему сосредоточиться.
— Месье Пиньо, я хочу просить вас об одолжении. Скоро ваша очаровательная малышка будет спать в кроватке, и…
— Ну, да, Айрис собирается переделать бывший кабинет Виктора в детскую.
— Когда это произойдет, не будете ли вы столь любезны и не продадите ли мне эту восхитительную плетеную колыбель из ивы, которую ваша супруга украсила сатином и тюлем?
Жозеф удивленно посмотрел на Рафаэль де Гувелин. Неужели она согрешила, в ее-то возрасте?
— Мои дорогие малыши будут довольны, если у них будет такая колыбель, вся в кружевах и бантиках.
— Ваши дорогие малыши?!
— Мальтийская болонка и шипперке.
Виктор закашлялся, чтобы не расхохотаться, и поспешно скрылся в хранилище. Там он с удивлением обнаружил Кэндзи.
— Скоро они уберутся? — тихо спросил тот.
— Понятия не имею. Боюсь, их визит затянется надолго.
— А Юрбен, когда он вернется?
— Этого я тем более не знаю.
— А вы в курсе, что Жозеф снова дал объявление о том, что нам требуется служащий? Я было его пожурил, но он сказал, что хочет найти работника, который говорил бы по-английски, знал историю литературы и умел вести бухгалтерские книги.
— Зачем? Мне кажется, Юрбен весьма успешно справляется со своими обязанностями, — заметил Виктор.
— А еще я хотела бы побеседовать с вашей супругой, — не отставала от Жозефа Рафаэль де Гувелин. — Мне нужен ее совет: я вяжу крючком ошейники для моих милашек, в них вплетены бубенчики, и застегиваются они на крючки. У меня никак не получается это сделать!
Жозеф сообразил, что это отличный предлог скрыться.
— Подождите меня здесь, я сейчас все для вас узнаю! — И он поспешно взбежал по ступенькам наверх.
Айрис была раздосадована. Она надеялась спокойно закончить сказку «Божья коровка без пятнышек», но ее постоянно отвлекали. Сначала Эфросинья, костерившая на чем свет стоит немку и велосипеды, потом Жозеф, едва сдерживавшийся, чтобы не выставить вон этих кумушек. Увидев, в каком он состоянии, Айрис поняла, что должна его успокоить, и они вместе склонились над колыбелью, где щебетала маленькая Дафнэ.
Жозеф собирался поговорить с женой о переезде. Ему хотелось, чтобы они жили отдельно от Кэндзи и Эфросиньи, и он уже не раз заводил об этом разговор, но Айрис уклонялась от ответа, и он понял: она еще не готова расстаться с отцом.
«Ничего, я подожду: уверен, этот момент когда-нибудь наступит», — сказал себе Жозеф, собираясь с духом, чтобы спуститься вниз.
Айрис закрыла за ним дверь на задвижку и вздохнула с облегчением. Она открыла ящик секретера, где хранила тетради со своими сказками, иллюстрации к которым рисовала Таша, и погрузилась в мечты о том, как отец ей подарит пианино, и она будет играть для дочери. Потом она уселась за стол и вернулась к сказке.
Никто не звал в гости божью коровку по имени Ледибед, потому что на ее спинке не было ни одного пятнышка — в отличие от других божьих коровок.
— Она согласна меня принять? — бросилась к Жозефу Рафаэль де Гувелин.
— Сейчас Айрис пеленает ребенка. Приходите завтра.
Рафаэль де Гувелин обиженно удалилась, фрейлейн Беккер и Матильда де Флавиньоль последовали ее примеру.
На улице уже темнело, и Жозеф зажег светильники с колпачком Ауэра,
[489] которые заказал для лавки Кэндзи, обожавший всяческие технические новшества.
Пламя восковых свечей в четырех подсвечниках рисовало на потолке причудливые тени. Сгорбившись в вольтеровском кресле рядом с безжизненным телом брата, Бернадетта Перошон стонала, закрыв лицо ладонями. Ей было очень стыдно, но она не могла выжать из себя ни слезинки. Возможно, она слишком много их пролила, оплакивая мужа? И теперь не столько горевала по Донатьену, сколько злилась на него. Он оставил ее! Ушел, даже не успев исповедоваться. Оставил ли он завещание? И что в нем написал? Есть ли у него какие-то деньги? Или ценности? «В любом случае, — успокаивала себя женщина, — мы с Эриком его единственные наследники». Конечно, ей будет не хватать брата, но она надеялась, что еще успеет насладиться обеспеченной старостью.
Сиделка тоже расстроилась. Здесь, у Ванделей, ей было совсем неплохо, а теперь придется искать нового пациента, и кто знает, какие там будут условия. Как же она ненавидела эти лицемерные стенания у тела покойника! Женщина украдкой взглянула на Эрика. Кажется, он уже успокоился. Когда она вошла, парень был в шоке. Но как только доктор подтвердил, что Донатьен Вандель отправился к праотцам, на лице молодого человека появилось обычное насмешливое выражение. И слава богу, сиделка не вынесла бы, если бы он последовал примеру своей мамаши.
Эрик испытывал смешанные чувства: отвращение перед смертью и смутное ощущение утраты. Он закрыл глаза и сосредоточился на последних словах Донатьена. Дядя упомянул о каком-то сокровище. Скорее всего, это был бред умирающего. Разве можно представить, чтобы респектабельный чиновник, заместитель начальника вокзала, закопал где-то сундук, полный драгоценностей и дублонов? Или дядя имел в виду что-то другое? Эрик подавил зевок и решил дождаться оглашения завещания.
Суббота, 26 октября
Когда нотариус закончил читать завещание, Эрик окончательно убедился в том, что богатые американские дядюшки — миф. Донатьен Вандель оставил все свое имущество сестре Бернадетте. Речь шла о квартире на улице Депар, включая мебель, белье, кухонную утварь и прочее. Что касается Эрика, то он стал обладателем коллекции миниатюрных железнодорожных составов, с любовью расставленных дядюшкой в стеклянном шкафу.
Лежа в своей комнате, Эрик погрузился в мрачные размышления. Его ждет нищета! Затем, развивая неясную мысль, посетившую его во время посещения нотариуса, он пришел к уверенности, что история с сокровищем, возможно, все же имеет какой-то смысл.
Юноша прокрался в дядюшкин кабинет: единственный уголок в квартире, обустроенный по вкусу Донатьена, — стены там покрывали афиши с изображением полуобнаженных танцовщиц.
Дядюшка часто приговаривал: «Лови удачу за хвост: не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня!». Эрику Перошону был по душе этот девиз. Он подошел к стеклянному шкафу, отодвинул в сторону миниатюрные поезда, резким движением оторвал покрывавшую полки материю и обнаружил под ней двенадцать тысячефранковых купюр. Да это целое состояние! Матери он про свою находку ничего не скажет. Однако то ли это сокровище, о котором говорил дядя? Видимо, все-таки нет, ведь Донатьен явно пытался сказать, что сокровище у него похитили. Мало того, просил племянника отомстить…
Эрик долго раздумывал, прежде чем у него созрел план действий.
Где — ему было известно.
Когда — зависело только от него самого. А вот как — это уже совсем другой коленкор…
ГЛАВА ПЯТАЯ
Понедельник, 28 октября
Жозеф стоял у прилавка и, забыв про кофе, задумчиво смотрел на хмурую дождливую улицу. Крупные капли дождя, похожие на слезы, струились по стеклу и стекали на тротуар.
«Сегодня к нам вряд ли зайдет хоть один покупатель, я мог бы спокойно отправиться спать…».
Одна из витрин книжной лавки «Эльзевир» была отдана на откуп детективным и приключенческим романам: тут были и «Комната преступления» Эжен Шавет, и «Обезглавленная» Фортюне Дю Буасгобея; и книги Пьера Заккона, и «Пять су Лавареда» Поля д’Ивуа,
[490] изданный в прошлом году, а также несколько романов Роберта Льюиса Стивенсона и Артура Конан Дойля на английском языке. На самом видном месте красовались «Странное дело Анколи» и «Кубок Туле», произведения Жозефа Пиньо. Мужчина в потертом котелке и клетчатом костюме, не обращая внимания на ливень, с интересом изучал витрину. Жозефа это удивило: неужели его романы уже настолько популярны, что читатели готовы прийти за ними даже в непогоду. Он вышел на порог.
— Вижу, месье ценит книги.
Посетитель вздрогнул от неожиданности.
— Детективы — моя страсть, — признался он.
— Правда? Приятно встретить единомышленника! У вас есть любимые авторы?
— Я… эти я все прочитал, кроме вон тех двух, — пробормотал мужчина.
— Тех, что лежат на возвышении? Их написал я.
— Что вы говорите?! Какая честь для меня — побеседовать с живым писателем!
— Так заходите же в лавку, не то схватите инфлюэнцу!
Мужчина замялся, но все же вошел в помещение магазина, оставляя на полу мокрые следы.
— Шерлок Холмс был бы счастлив идти по вашему следу, если бы вы были преступником, — заметил Жозеф, поспешно вытирая пол, пока Эфросинья ничего не заметила. Сейчас он был в лавке один, но не стоило испытывать судьбу. Он подвел посетителя к стеллажам, посвященным детективным историям.
— Рекомендую. Если вам доставит удовольствие полистать…
Мужчина замялся и смущенно пробормотал:
— Я бы предпочел купить… ваши книги с автографом.
Жозеф покраснел от удовольствия.
— С удовольствием подпишу их для вас! Надо сказать, они имеют успех.
Он подбежал к письменному столу Кэндзи, погладив в порыве чувств бюст Мольера, стоявший на каминной полке, уселся в кресло и вынул из кармана на груди вечное перо.
— Как ваше имя?
— Симеон Дельма.
Жозеф расписался на форзаце.
— Не закрывайте сразу, пусть чернила высохнут. Итак, вы читали Стивенсона и Конан Дойля. Вы говорите по-английски?
— Да, я провел год в Кембридже. Сколько я вам должен?
— Три с половиной франка умножить на два, будет семь.
Симеон Дельма сунул руку в карман пиджака и высыпал на ладонь монеты. Их было всего четыре.
— Мне очень жаль, я не взял с собой наличные. Отложите для меня эти книги, я вернусь за ними в конце дня. В котором часу вы закрываетесь?
— В половине седьмого. Пожалуйста, возьмите их, я вам доверяю.
— Нет-нет, вдруг мне что-нибудь помешает прийти. До вечера, месье Пиньо, я постараюсь быть здесь около шести.
Симеон Дельма вежливо приподнял шляпу. Открывая дверь, он посторонился, чтобы пропустить Юрбена, который влетел в лавку со всех ног.
— Как вам не стыдно! — набросился на него Жозеф. — Вы чуть не сбили с ног этого господина! Вам надо на центральном рынке овощи грузить, а не книги продавать!
— Мсье Пиньо, месье Шодре просил передать, что он в ярости оттого, что ваши политические очерки неполные!
— Во-первых, они не мои, а Эжена де Мирекура.
[491] А во-вторых, месье Шодре имел удовольствие пролистать книгу, а я сделал ему скидку! И вообще, это не повод, чтобы налетать на других клиентов. Впредь будьте осторожнее!
Юрбен, опустив голову, шмыгнул на свое место за прилавком и раскрыл книгу заказов.
Виктор любил проводить время в фотолаборатории, которую устроил в бывшей столовой на улице Фонтен. Перепланировку решила сделать Таша — они все равно обедали у нее. Таким образом, Виктор получил в свое распоряжение просторное помещение, где можно было удобно разместить аппаратуру. Из кухни сюда провели воду и оборудовали кран над керамической раковиной.
Слева от раковины находился бак с проявителем, а справа стояли в ряд снабженные этикетками флаконы с химикатами и лежал корнцанг, с помощью которого Виктор извлекал из ванночки негативы. На окне висели плотные шторы. Еще в комнате была печь с дымоходом. На столе стояли весы, фонарь со сменными стеклами красного и желтого цвета и керосиновая лампа.
Виктор ласково погладил фотокамеру со штативом, которую подарила ему Таша на годовщину их знакомства в июне 1889 года. Вопреки предсказаниям некоторых их общих знакомых, его чувство к ней не слабело, а с каждым годом лишь росло, обретая глубину и новые краски.
Виктор любил бродить по Парижу и запечатлевать повседневную жизнь ее обитателей, особенно ремесленников и рыночных торговцев, а еще женщин и детей. Он видел в этом свое предназначение: ему хотелось увековечить представителей профессий, которые, возможно, скоро безвозвратно уйдут в прошлое. В фотографии Виктора привлекало то же, что и в криминальных расследованиях: ему хотелось уловить и рассмотреть непримечательные на первый взгляд детали.
Он задержал взгляд на фотографии обнаженной Таша. Изгибы ее тела пробуждали в нем желание.
А я изменился, вдруг понял Виктор. Когда-то он был ветреником. Но, влюбившись в Таша, узнал, что такое чувство собственника. Женитьба ничего не изменила, он по-прежнему ревновал супругу, хотя со временем научился сдерживать эмоции.
Виктор решил заняться проявкой снимков. Он стал готовить раствор, но выяснилось, что закончилась сода, и настроение у него сразу испортилось.
Таша тем временем сражалась у себя в мастерской с огромным панно, изображающим всадницу на мчащейся галопом лошади. Она отложила палитру, сказав себе, что ей никогда не сравниться с Лотреком, и наклонилась, чтобы погладить Кошку, которая, громко мурлыкая, терлась об ее ноги.
— Тебе хорошо, Полукисточка, ты довольна жизнью: целыми днями только спишь, набиваешь себе брюшко, да еще и погуливаешь, если не запереть тебя дома. Что, я не права? Ну да, конечно, бедняжка, в прошлом году у тебя отобрали котят и раздали чужим людям! И все равно я тебе завидую: у тебя есть потомство… Моя сестра Рахиль беременна, а у нас с Виктором по-прежнему нет детей. Хотя… возможно, это к лучшему…
Таша потянулась и села в одно из кресел в стиле Генриха IV, стоящее рядом с канапе эпохи Регентства. Эту мебель Виктор купил в еще 1890 году. Больше всего Таша нравилась двуспальная кровать, стоящая в нише. Когда пружины стонали, не выдерживая бурных любовных утех, супруги перемещались в спальню к Виктору, хотя Таша было там не слишком уютно. Странно, как это они, такие разные люди, могут любить друг друга! Наверное, это возможно только благодаря взаимному уважению.
Таша пролистала альбом с набросками иллюстраций к сказкам Андерсена. Ей заказал их один бельгийский издатель, и она взялась за работу, так как ее картины не продавались. Несмотря на успех выставки, организованной в 1894 году «Ревю бланш», ни один коллекционер не приобрел ее картин. Таша отдавала себе отчет в том, что работами женщин-художниц интересуются куда меньше, чем произведениями их коллег-мужчин, но ее все чаще посещали сомнения. Стоит ли ей продолжать заниматься живописью? Виктор считал, что да. Но холсты, рамы и краски стоили дорого, поэтому Таша бралась за любую работу: она рисовала иллюстрации к книгам и карикатуры для газет, особенно для «Пасс-парту», где когда-то начинала, а еще раз в неделю давала вместе с матерью уроки акварели. Она придирчиво оглядела эскиз к сказке «Русалочка», который считала лучшим, и вдруг подумала, что и сама, подобно Русалочке, приносит себя в жертву — только не любви, а независимости. Таша вспомнила, как рисовала весной театральный задник для «Театр Либр». Столько самоотверженного труда — и такая смехотворная плата! Ей часто приходилось жертвовать интересными предложениями в пользу денежных. Вот и теперь она обдумывала предложение сэра Реджинальда Лимингтона, близкого друга английского писателя Оскара Уайльда, судебный процесс над которым вызвал в мае много кривотолков. Речь шла о том, чтобы сделать четыре декоративных панно для украшения одной из гостиных парижского особняка Лимингтона. Таша склонялась к тому, чтобы взяться за это — и на этот раз не только для того, чтобы покрыть свои расходы. Она надеялась раз и навсегда избавить Виктора от безосновательной ревности и доказать ему, что ничто не разрушит их брак.
— Идиотка! Ты вся — сплошное противоречие! Любишь мужа, но несмотря на его недовольство, все равно встречаешься с друзьями-художниками. Да, но не сидеть же круглосуточно в четырех стенах, правда, Кошка? Иначе дойдет до того, что я буду скучать даже по бездельнику Морису Ломье!
Таша отдалилась от всей этой братии, когда дело Дрейфуса вызвало во Франции всплеск антисемитизма. Был он виновен или нет, художники Форен и Каран д’Аш
[492] яростно выкрикивали расистские лозунги. После ссылки Дрейфуса на Чёртов остров они поутихли, однако Таша не торопилась возобновлять с ними знакомство и ограничивалась общением с братьями Натансонами.
[493] Она слишком серьезно пострадала от глубокой ненависти русских к евреям, чтобы испытать подобное снова, причем в стране, которая казалась ей образцовой с точки зрения соблюдения прав человека и гражданина. А ее отец Пинхас, опасаясь репрессий, вообще перебрался в Нью-Йорк…
Таша вздохнула и сунула альбом с набросками в стопку эскизов. Кошка мяукнула.
— Ты права, пора принимать решение. Я соглашусь на предложение сэра Реджинальда.
…Человек в клетчатом костюме и потертом котелке появился в книжной лавке «Эльзевир» за двадцать минут до закрытия. Жозеф, просияв, вышел ему навстречу.
— Вы пунктуальны, месье Дельма! Ваши книги упакованы.
— Я должен вам три франка, вот они. Я тут подумал… и принес вам своего Конан Дойля. У меня оказалось два экземпляра, они не совсем новые, зато это первое английское издание.
— Как мило с вашей стороны! Я как раз изучаю английский, и мне будет очень полезно почитать Конан Дойля в оригинале. Пойдемте, поговорим в задней комнате, здесь нам могут помешать, — предложил Жозеф, увидев в дверях внушительную фигуру Эфросиньи.
Кэндзи тем временем поспешил на помощь милой барышне, которая искала сентиментальные новеллы. Он проигнорировал взгляд Эфросиньи, пристально изучавшей его волосы, изменившие цвет благодаря патентованному средству «Нигритин», и притворился, что не слышит ее жалоб на служанку Зульму Тайру:
— Эта негодяйка не прибрала за собой на кухне! Это ей даром не пройдет!
Неизвестно почему в магазин рекой хлынули покупатели. Их голоса действовали Виктору на нервы — он злился на Таша, которая объявила, что в ближайшие несколько недель будет выполнять какую-то важную работу, и ей, возможно, придется ночевать в особняке сэра Реджинальда Лимингтона на улице Фезандри! Виктор возмутился: да кто такой этот проходимец, чтобы навязывать ей свое общество? Таша заметила, что заказчик — настоящий денди, который высоко ценит ее талант. Он попросил расписать стены его дома мифологическими сюжетами. Виктора такое объяснение не удовлетворило, и он весь день кипел от злости и ревности.
Вот почему, когда Мишлин Баллю подошла к нему, он встретил ее враждебным взглядом. Но смутить консьержку было невозможно, и Виктор сдался, согласившись ее выслушать.
— Позвольте мне занять мансарду на шестом этаже! Я бы припрятала там свои фарфор и столовое серебро на случай, если лишусь работы. Надо быть готовой ко всему… Глядите-ка, помяни лихо, и оно тут как тут: вот и гадюка Примолин, во все бочки затычка! — Консьержка оттеснила Виктора к комнате в глубине лавки и шепнула: — Ей нельзя доверять. Так что, вы согласны пустить меня в мансарду?
Виктор молча кивнул.
— Очень мило с вашей стороны! Вот только есть одна загвоздка… там все заставлено мебелью, а еще такой огромный сундук, ну, знаете, тот самый, в котором ваш покойный дядюшка хранил свои вещи… Он занимает так много места!.. Я позволила себе заглянуть в него одним глазком и увидела там только старые счета и какие-то бумаги. Если бы вы разрешили мне выкинуть хотя бы часть из них, я бы смогла положить туда мой фарфоровый кофейный сервиз, ну, и несколько салатниц, их подарил мне мой покойный супруг Онезим…
— Хорошо, я разберу сундук.
— Когда именно?
Симеон Дельма с любопытством наблюдал за этой сценкой. Жозеф счел своим долгом вмешаться:
— Не обращайте внимания, месье Дельма, это наша консьержка, она всегда говорит очень громко… — Жозеф спохватился, что не представил своего нового знакомого. — Виктор, это месье Дельма, один из моих преданных читателей. Месье Дельма, Виктор Легри — мой шурин и компаньон. Могу ли я показать месье Дельма наши книги?
— Безусловно, — сказал Виктор и вновь повернулся к консьержке.
— Вы застали меня врасплох, мадам Баллю, — пробормотал он.
— У вас ведь найдется завтра часок, я же не бог весть чего прошу! Я положу ключ рядом с Лафонтеном… — не отставала мадам Баллю.
— Это Мольер.
— Ох, какая разница, у обоих были парики и оба сочиняли рифмы! — не смутилась она.
— Доброй ночи! — буркнул измученный Виктор и бросился вон из магазина.
— Нет, все-таки странный он человек! Что я, не имею права попросить о незначительном одолжении? Я тут, между прочим, день и ночь надрываюсь, пока кое-кто спит с курочками в обнимку!
— А вам не приходило в голову, мадам Баллю, что если курочка оставит гнездо, мы останемся без омлета на завтрак? — шепнул ей Кэндзи.
— Боже, да тут не только месье Легри, тут все как один чокнутые! — взвизгнула консьержка, посчитав себя оскорбленной.
— Не удивляйтесь, месье Дельма, такие перебранки у нас дело обычное, — сказал Жозеф обескураженному посетителю.
Симеон Дельма кивнул:
— Да-да, мне такое хорошо знакомо. Я вырос в большой семье. Мы иногда так шумели, что консьержка являлась выяснять, в чем дело.
Жозеф испытывал к новому знакомому все больше симпатии.
— Может, останетесь отужинать с нами? — предложил он. — Моя супруга была бы счастлива…
— Нет-нет, я не хочу вам докучать.
— Не отказывайтесь, вам даже идти никуда не придется, наша квартира тут, над лавкой, на втором этаже. А если вам нужно предупредить супругу…
— О нет, я не женат.
— Тогда решено.
Жозеф попрощался с Кэндзи и повел своего гостя в квартиру.
Кэндзи одарил улыбкой барышню, которой помог выбрать романы Зенаиды Флерьо, препоручил ее заботам Юрбена и тоже удалился.
Виктор охотно последовал бы примеру обоих компаньонов, но один из клиентов, щеголеватый блондин, настаивал, чтобы ему нашли трактат Витрувия «Об архитектуре». Виктор разозлился на Жозефа, который оставил его одного на поле боя, и отправился на поиски. Перебирая книги, он уронил несколько томов на пол, вышел из себя и заявил покупателю, что опаздывает на очень важную встречу.
— Какое счастье, что именно сегодня вечером маман ушла к подруге играть в «желтого гнома»,
[494] да и тестя нет дома. Поужинаем чем бог послал, месье Дельма, а потом обсудим проблемы детективного жанра! — сказал Жозеф, усаживая гостя за стол.
Айрис с первого взгляда понравился этот молодой человек, краснеющий по любому поводу. Он вовсе не был привлекателен, крупный нос и растрепанные бакенбарды придавали ему сходство с совой, но зато какой эрудит! Разговор крутился в основном вокруг литературной карьеры Жозефа, которая была под угрозой из-за отсутствия вдохновения.
— До сего момента я довольствовался тем, что описывал в романах уголовные расследования, в которых нам с моим шурином, месье Легри, довелось принимать участие…
— Реальные преступления?! — воскликнул Симеон Дельма.
— Ну да. Правда, мы расследовали их как сыщики-любители. Но, тем не менее, наши имена даже попали в газеты! — не удержался от хвастовства Жозеф.
— Не слушайте его, месье Дельма! Они ввязывались в опасные приключения, не думая о своих близких! — воскликнула Айрис и прибавила дрожащим голосом: — И рисковали жизнью. Но теперь, став отцом, Жозеф поклялся мне, что будет иметь дело с преступниками только на страницах своих книг. Не так ли, милый?
— Конечно, к тому же ничего интересного в последнее время не случается, — пробурчал Жозеф. — Да и работы у меня прибавилось с тех пор, как я стал компаньоном.
— А ты не хочешь продолжить работу над «Бурной жизнью улицы Висконти»? — предложила Айрис.
— Да, это… Это старая история.
— Какой там сюжет? — поинтересовался Симеон Дельма.
— Это исторический роман о знаменитостях, которые жили или работали на этой улице: Бальзак, Делакруа, Энгр, Расин… а еще преступник Луи Алибо, которого отправили на гильотину за покушение на Людовика-Филиппа Первого.
— А что, если вам написать роман о том, как призрак Алибо появляется на улицах столицы и вновь совершает убийства?
Жозеф даже перестал жевать.
— У вас… У вас светлая голова! Какая гениальная мысль! У меня в голове уже рождаются повороты сюжета!
— Спасибо вам, месье Дельма! — подхватила Айрис. — Муж ходит расстроенный вот уже несколько недель…
Послышался детский плач, и она, извинившись, вышла.
— Я так вам признателен, — повторил Жозеф и вдруг задумался: — Послушайте, а вы не хотели бы поработать у нас в лавке? О, я, конечно, понимаю, это не слишком почетная должность… Чем вы зарабатываете на жизнь?
Симеон Дельма смущенно признался, что дает частные уроки:
— Право, я не знаю… У меня ведь совсем нет опыта…
— Глупости! Да, вы знаете в двадцать раз больше, чем этот тупица Юрбен! Что до упаковки книг, это несложно, я сам — ас этого дела. Признайте, ведь это намного лучше, чем возиться с мальчишками-сорванцами!
— Но ваш Юрбен… Ведь из-за меня он потеряет работу…
— Он? Вы ошибаетесь. Его отец — комиссионер на рынке Ле Аль, он легко подыщет сыну другое место.
— Что ж, тогда я, пожалуй, подумаю над вашим предложением. Оно выглядит весьма соблазнительным.
— Отлично! Хотите, мы прямо сейчас спустимся в лавку, и я введу вас в курс дела?
— С радостью.
Айрис была рада за Жозефа. Наконец-то он снова почувствует вкус к жизни! Да и ей тоже будет по легче: завтра же она отправит Эфросинью прогуляться с малышкой в Люксембургский сад, а сама сядет за сказку о божьей коровке без пятнышек…
Четверг, 31 октября
Виктор понял, что мысли о Таша мешают ему сосредоточиться, и решил отвлечься, выполнив просьбу Мишлин Баллю.
Почему все предметы имеют привычку исчезать именно тогда, когда становятся нужны? Виктор отлично помнил, что консьержка положила ключ от мансарды возле бюста Мольера, но там его не оказалось. И в голову ему снова полезли мысли о Таша и Реджинальде Лимингтоне.
— Что-нибудь удалось продать? — бросил он Жозефу.
— Симеон Дельма повез две книги графине де Салиньяк.
— Ага, значит, вы-таки добились своего: прощай Юрбен, привет Симеону!
— Месье Дельма подходит нам как никто другой, он образованный человек и даже говорит по-английски.
— И все же увольнять Юрбена без предупреждения было некрасиво.
— Между прочим, я заплатил ему отступные из собственного кармана.
— Какая щедрость!
— И месье Мори дал согласие…
— Он просто не хотел с вами связываться.
— Ну, знаете, с меня хватит! Не понимаю, чем нам навредит компетентный служащий!
Виктору надоело препираться, и он решил сменить тему:
— Скажите, не вашей ли матушке я обязан исчезновением ключа от мансарды?
Жозеф с негодованием возразил:
— Не рассчитывайте, что я смогу отучить ее от этой дурной привычки, она прячет мои бумаги, а потом уверяет, что ни к чему не прикасалась, призывая в свидетели своих Иисуса-Марию-Иосифа!
Виктор был в полном замешательстве:
— Если только это не Кэндзи…
— Месье Мори сейчас у себя, он занимается гимнастикой. Думаю, он будет не в восторге, если вы устроите ему допрос с пристрастием! Лично я склоняюсь к другой гипотезе: может, мадам Баллю сама взяла ключ?
Виктор покинул магазин и вошел в соседнее здание. Жозеф прав, чертова консьержка наверняка его опередила. Поднявшись на шестой этаж и пройдя по коридору, он увидел ключ в замочной скважине и резко толкнул дверь. Мансарда, освещенная скупым светом из слухового окна, была пуста, если не считать нескольких расшатанных стульев, множества шляпных картонок и распахнутого сундука, возле которого на пыльном полу валялась куча бумаг.
Виктор пришел в ярость. Ему хотелось в отместку устроить погром в комнате консьержки, но он заставил себя успокоиться. Чего он этим добьется? Только скандала и пересудов. То есть зря потеряет время.
Он опустился на колени, чтобы собрать разбросанные документы в папки и сложить в коробки, чтобы потом попросить Андре Боньоля доставить их на улицу Фонтен. Когда Виктор просматривал очередную пачку бумаг, его внимание привлек портрет, написанный углем. Он сразу узнал отца: его худощавое лицо, строго поджатые губы, бородку в стиле Наполеона III. Должно быть, дядюшка Эмиль нарисовал брата во время своего последнего визита в Лондон в 1866 году. Виктору тогда было лет шесть, и он хорошо помнил жизнерадостного круглолицего добряка Эмиля. Братья Легри были совершенно не похожи. Эмиль постоянно рассуждал о социальных реформах и всеобщей гармонии, и это раздражало его младшего брата. Виктор смущенно вспомнил о том, как мечтал тогда, чтобы его отцом был Эмиль.
Спускаясь вниз и увидев мадам Баллю, которая, стоя на четвереньках, терла щеткой пол второго этажа, он не удержался и едко заметил:
— Я запер мансарду и впредь буду держать ключ при себе. К вашему сведению, складывать и разбрасывать — не одно и то же. Всего хорошего.
Озадаченная консьержка распрямилась, потирая поясницу.
— О чем это вы? Как это «запер мансарду»?
И Мишлин Баллю погрузилась в печальные мысли о тяжкой судьбе честной и работящей вдовы, которую никто не понимает.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Четверг, 14 ноября
Эрик Перошон ликовал. Все шло так, словно сам дядя с небес руководил событиями. В списке было тринадцать имен, за исключением двух покойников — самого Донатьена и Эмиля Легри.
На следующий день Эрик нанял экипаж и, вооружившись драгоценным списком, поехал по первому адресу, выбрав его наугад. Ему нравилось приключение, в которое он ввязался. Оно будоражило больше, чем игра в карты на деньги. Эрик оделся как можно неприметнее, чтобы выглядеть, как обычный клерк. Увы, он потерпел фиаско — консьержка сообщила ему, что дама, о которой он спрашивает, переехала:
— Оно и к лучшему! Притворялась святошей, а сама водила к себе мужчин. Что до того, где она теперь обосновалась, мне о том неведомо!
Эрик решил сменить тактику. В течение нескольких дней он внимательно изучал объявления о сдаче жилья внаем, пока не отыскал подходящее — в пассаже д’Анфер, 20, на антресольном этаже
[495] за умеренную плату. 5 ноября он подписал договор аренды и прикрепил на дверь табличку с именем Гранден.
Затем сообщил матери, что его нанял на работу один архитектор, и переехал в эту квартиру. В его распоряжении были две комнаты: просторная — для приема посетителей, и другая, поменьше, где стояли кровать и ночной столик. Кухня ему была не нужна — обедать дома Эрик не собирался, поэтому решил использовать ее как гардеробную и туалетную. Приди сюда его подружка Кора, она бы немало удивилась, увидев на стене репродукцию «Клятвы Горациев»,
[496] да и мебель в стиле ампир тоже — кресла фирмы «Жакоб», секретер с откидной крышкой, бронзовые канделябры с позолотой и столик с гнутыми ножками. Впрочем, Коре здесь было нечего делать.
Окна квартиры выходили на улицу, но, поскольку располагались под карнизом верхнего этажа, пропускали мало света. Эрик решил эту проблему, повесив зеркало над отделанным изразцами камином. Он обставил приемную продуманно: шесть кресел, выстроившихся вдоль стен с обоями цвета слоновой кости в коричневую полоску, должны были внушать посетителю впечатление, что хозяин любит порядок. В буфете красного дерева красовались тарелки с золотой каемкой, похищенные Эриком из дома, — эта деталь была призвана придать помещению уют.
Теперь можно было приступать к выполнению задуманного. Эрик разослал по почте приглашения всем членам ассоциации «Подранки».
Двое из них сразу же нанесли ему визит: один утром, второй вечером. Эрик сообщил им о поручении, которое дал ему покойный месье Вандель. Они внимательно его выслушали, но отрицали, что им что-либо известно. Что это было — наивность, порядочность или подозрительность? Тем не менее, сто франков каждому развязали им языки: Эрик получил адреса всех остальных, настоящих и бывших членов ассоциации.
Пятница, 15 ноября
Виктор мрачнел с каждым днем. Он больше не мог противиться охватившей его ревности и уступил сомнениям. И хотя знал, что Таша никогда ему не изменит, испытывал какое-то нездоровое удовольствие, представляя себе, как это могло бы быть. Он не допускал и мысли о том, что ее может желать какой-то другой мужчина, но не мог не заметить: с тех пор как приняла предложение сэра Реджинальда Лимингтона, Таша словно расцвела. По вечерам, возвращаясь домой, она с жаром пересказывала мужу все, что обсуждалось в доме Лимингтона, в том числе историю Оскара Уайльда.
Виктора раздражало, что ей интересно с этими людьми.
«Что это со мной? Ведь мы с Таша уже шесть лет вместе, и мне давно пора перестать переживать по поводу ее знакомств», — думал Виктор, краем уха слушая болтовню Эфросиньи с фрейлейн Беккер, которая пришла в лавку за книгой доктора Рошблава «О велосипедном спорте, гигиене и болезнях».
— Больше всего мне понравился четвертый акт, когда Тафен Рагнель, дама коннетабля, обращается к воинам с речью и благословляет их на битву при Кошреле,
[497] — с жаром рассказывала фрейлейн Беккер. — Ах! Я никогда не забуду этот спектакль и буду вечно благодарна мадам де Салиньяк за то, что она достала мне билет!
— О какой пьесе идет речь? — поинтересовался Кэндзи, оторвавшись от своих карточек.
— Это «Мессир Дю Геклен», драма Поля Деруледа,
[498] которая идет в Театре «Порт-Сен-Мартен».
— Поль Дерулед? — пробурчал Кэндзи с ноткой раздражения. — Это, кажется, ему мы обязаны строками: «Все разворотим, черт возьми! Бомба и пушка всегда впереди!»
Цитата явно позабавила покупателя, только что расплатившегося за книгу в переплете из зеленой шагреневой кожи, которую упаковывал для него Симеон Дельма. Лицо покупателя — с резкими чертами, открытым лбом, усами и короткой рыжей бородой, показалось Виктору знакомым. Постоянный посетитель? Нет, тогда он бы вспомнил, кто это. Жаль, Жозеф ушел к аптекарю на улицу Жакоб за лекарством для Дафнэ, у которой резались зубки. И тут рыжий посетитель сам обратился к Виктору:
— Месье Легри?
— Да, к вашим услугам… Простите, я как раз пытался вспомнить…
— …Что продавали мою книгу в прошлом году? Она называется «Рыжик».
Виктор хлопнул себя ладонью по лбу.
— Ну, конечно! Вы — Жюль Ренар, мы познакомились с вами в «Ревю бланш»!
— Куда вы сопровождали вашу очаровательную супругу, которая, как и я, сотрудничает с братьями Натансон. Там были еще и Альфред Валлетт с Рашильдой, Реми де Гурмон
[499] и студент педагогического института Леон Блюм.
— Я читал его восторженную рецензию на ваш роман и полностью согласен с оценкой… «Не всякому посчастливится быть сиротой…»
[500]
Услышав эту фразу, Кэндзи бросил на Виктора возмущенный взгляд.
— Как вы можете говорить такое! Вам досталась лучшая из матерей!
— Я лишь цитирую горький афоризм месье Ренара, — пояснил Виктор. — Его героиня мадам Лепик напомнила мне моего отца, в романе «Рыжик» месье Ренар рассказал о своем детстве, о том, как его, несчастного, тиранила грубая бессердечная мать. Позвольте поинтересоваться, что вы выбрали?
— «Хронику царствования Карла IX» Проспера Мериме. Это для моего сына, ему всего шесть лет, но я считаю своим долгом позаботиться о том, что он будет читать.
Кэндзи подошел поприветствовать Жюля Ренара и выразить ему свою симпатию. Тот любезно улыбнулся:
— Таша рассказывала о вас, месье Мори. Скажите, а как вы относитесь к тому, что в Париже повсюду продают японские товары? Я говорю не о гравюрах, которые дороги сердцу любого художника, а об этих вычурных вазах и разноцветных ширмах…
— Подобные изделия, месье Ренар, — подобны искусственным цветам. Буржуа восклицают: «О, какие прекрасные пионы и хризантемы, прямо как настоящие!» А когда им попадается живой цветок, равнодушно топчут его ногами.
— Красивая метафора, возможно, я у вас ее позаимствую, — ответил Жюль Ренар, прощаясь.
— А это вы видели, Виктор? По-моему, не хуже. — Кэндзи схватил журнал «Нувель ревю» за февраль 1895 года, лежащий на его письменном столе среди наваленных в беспорядке газет. — «Глаза у него вместо сетей, и образы в них запутываются сами». Прекрасно, не правда ли? Покажите это Жозефу.
Виктор кивнул и взглянул на часы: шесть вечера, пора идти на свидание с Таша на улицу Пти-Шан в их любимое «Восточное кафе».
— Представляете, месье Легри, один немецкий врач, доктор Хениг, собирается усовершенствовать велосипед, чтобы на нем могли ездить даже инвалиды! — воскликнула Хельга Беккер, и Виктор поспешил скрыться.
Деода Брикбек снимал комнату с кухней в одной из пристроек дома по соседству с монастырем. Из окна ему видна была крыша приюта для детей и слепых, но Брикбека это мало интересовало — он предпочитал подглядывать за молоденькой служанкой, недавно поступившей на службу к двум старым дамам, которые обучали детишек сольфеджио и игре на арфе. Один из приятелей Деода, узнав об этом, воскликнул:
— Арфа — это так прекрасно!
— Ну да, на струнах можно сушить белье, — ухмыльнулся Брикбек.
Этим утром он украдкой наблюдал, как горничная чистит хозяйские ботинки. Ее руки, расставляющие на балконе несколько пар женских туфель, возбуждали его. А когда он услышал красивое сопрано, исполнявшее арию из «Трубадура»
[501] его волнение усилилось. Увы, приятный женский голос вскоре прервал взрыв хохота, и вскоре дом наполнился гулом, состоящим из звуков пианино, на котором кто-то разучивал гаммы, звона кастрюль, журчания канализации и криков попугая: «Жако! Кр-р-репкий кофе!».
Деода смочил расческу водой и провел пробор на жирных волосах. Отряхнув с плеч перхоть, он застегнул сюртук со стоячим воротником. Потом позавтракал бутербродом с сыром и стаканом остывшего цикория.
Он пересек двор и свернул на авеню Обсерватории. Обогнул здание приюта и, свернув на улицу Кассини, пошел в сторону родильного дома, который женщины называли «Бурб».
[502] Сквозь оголенные ветви каштанов виднелись купола обсерватории. Деода вошел в сводчатый вестибюль с широкой лестницей, подошел к шкафчику, открыл его своим ключом и, сменив котелок на фуражку, взял в руки метелку из больших перьев.
В его обязанности входило поддерживать чистоту в здании, и он считал свою должность достойной всяческого уважения. Если бы не он, скульптура Жана-Доминика Кассини, первого директора обсерватории и автора научных работ о Венере, Марсе и Юпитере, открывшего два спутника Сатурна, не блестела бы как новенькая. Деода ежедневно протирал ее кусочком замши, с грустью думая о том, что этот выдающийся человек почему-то незаслуженно забыт, и всех теперь интересуют лишь ветреные танцовщицы.
Затем Деода наводил порядок в кабинете нынешнего директора обсерватории, Феликса Тисрана. Часть окон кабинета выходили на Люксембургский сад, другие — на выложенную плиткой террасу. Затем Деода переходил в Зал меридиана, где находились бесценные оптические устройства: астрономические часы, грегорианский телескоп, теодолиты и другие. Если бы он не чистил их до блеска, ученые, возможно, не совершили бы многих открытий, ведь мельчайшая пылинка могла исказить картину звездного неба!
Деода относился к сотрудникам обсерватории с глубоким уважением и не обижался на них за то, что его не замечают. Он знал свое место и считал себя крошечным винтиком в огромном сложнейшем механизме обсерватории. На эту должность ему помог устроиться Эмиль Легри, и Деода был ему за это бесконечно благодарен.
Он прошел мимо просторного холла, где хранились многочисленные устаревшие устройства. Они находились под попечением коллеги Деода, Марселя Дюшомье, который, впрочем, выполнял свои обязанности спустя рукава и гораздо больше интересовался пышными юбками танцовщиц, чем большим телескопом Франсуа Араго.
[503]
В центральном зале третьего этажа Деода на минуту задержался у металлической линейки, вмонтированной в плиты пола. Она обозначала нулевой меридиан, пока в 1884 году его не сменил Гринвичский. Деода искренне восхищался этим небольшим местечком в окрестностях Лондона, ставшим в одночасье знаменитым, за что и получил от членов ассоциации, созданной Эмилем Легри, прозвище Гринвич.
Деода Брикбек завершил обход обсерватории, где среди многочисленных сокровищ находились меридианный круг Рейхенбаха и параллактический треугольник Гамбея.
[504] Установленным на возвышении метеорологическим оборудованием и бюро географических координат должен был заниматься Марсель Дюшомье.
Деода Брикбек переходил из одного помещения в другое. Он задумался так глубоко, что чуть не забыл подмести листья у подножия статуи астронома Леверрье.
[505]
В обеденный перерыв, зайдя перекусить в трактир на улице Фобур-Сен-Жак, он снова перечитал полученное накануне письмо. Некий месье Гранден приглашал его безотлагательно посетить контору в пассаже д’Анфер, поясняя, что речь идет о завещании, для выполнения которого требуется соблюдение определенных условий.
Деода Брикбек подозревал, что это какой-то шантаж, тем более, что имя завещателя в письме не упоминалось, да и адрес конторы наводил на мрачные мысли. Деода где-то читал, что пассаж д’Анфер в 1855 году стал местом убийства — извозчик по имени Коллиньон всадил пулю в висок своему седоку месье Жюжу, директору педагогического института в Дуэ. Мотивом убийства стало то, что Жюж пожаловался в городскую компанию наемных экипажей, что с него взяли на два франка больше положенного. Однако из дома внезапно выскочил толстый господин с густой бородой и в пенсне и запер дверь на засов, помешав убийце скрыться с места преступления. Толстый господин в пенсне был не кто иной, как Пьер Жозеф Прудон, автор ставшей крылатой фразы «Собственность — это кража». А имя извозчика стало нарицательным: коллиньонами с тех пор называли всех кучеров в цилиндрах с огрубевшими от ветра лицами.
Деода Брикбек решил проигнорировать приглашение месье Грандена. Разорвав письмо и развеяв обрывки по ветру на улице Фобур-Сен-Жак, он обрел утраченный душевный покой. Но когда в шесть вечера подошел к своему шкафчику, чтобы положить на место фуражку, Марсель Дюшомье тронул его за плечо.
— Какой-то бродяга только что принес для тебя письмо. Мне пришлось дать ему монетку!
Деода Брикбек взял конверт, но вскрыл его, только оказавшись на улице.
Привет, приятель!
Виржиль вчера выписался из больницы, где лечил свои почки. По этому поводу он приглашает нас всех к себе на поздний ужин в «Миротон де Терн». Мы хотим тебя видеть. И чтобы ты не улизнул, мы сложились и наняли для тебя фиакр: кучер заедет за тобой в семь вечера. Ему известно, куда тебя доставить, так что отвертеться тебе не удастся!
Подпись была неразборчивая, но Деода показалось, что он узнал почерк, и он улыбнулся. Не беда, если сегодня он ляжет спать попозже, грешно пропустить пирушку в честь выздоровления друга. Он смял письмо и выбросил в сточную канаву.
В семь часов экипаж стоял у его дома. Деода подтвердил кучеру адрес и, зябко поежившись, забрался внутрь. Усевшись на сиденье, он с удовольствием отметил, что жаровня стоит на полу, испуская приятное тепло. Ноябрь выдался сырой и предвещал раннюю зиму. Деода откинулся на спинку сиденья и прислонил подошвы к жаровне с горячим углем.
Угасающие лучи солнца осветили деревья в Люксембургском саду. Деода наблюдал в окно за неясными силуэтами прохожих в вечерних сумерках, потом, убаюканный покачиванием кареты, погрузился в мир фантазий. Он представлял себя молодым, красивым, открывшим новую планету и ставшим академиком.
Тряска вывела его из дремы. Было жарко, слишком жарко. Деода протянул руку, чтобы опустить стекло. Ручка не поддавалась. Он попробовал открыть другое, с левой стороны, и тоже безуспешно.
«Что это значит?»
Фиакр катил по широкой пустынной улице между каменных стен, за которыми виднелись очертания заводов, фабрик и каменоломен, затем под мостом мрачного вида.
«Мы же не туда едем! Куда он меня везет, этот кучер?»
— Вы сбились с пути! Ради бога, остановитесь! — закричал Деода.
Он чувствовал, как у него закружилась голова, тело отяжелело, в ушах загудело, перед глазами поплыл туман. Дышать становилось все труднее, а жаровня горела, заполняя окисью углерода тесный салон фиакра. Деода, теряя сознание, медленно сполз на пол.
Фиакр набирал скорость, оставляя улицу Толбьяк позади.
Таша набрала в грудь большой глоток воздуха, напрягла живот и снова выдохнула, тренируя брюшные мышцы. Вдалбливать искусство акварели в голову легкомысленным девицам, которые наверняка предпочли бы вместо урока пробежаться по магазинам, было для нее серьезным испытанием. Утешало лишь то, что она помогала матери, давая возможность привести в порядок свою квартиру или просто отдохнуть.
Таша сложила табуреты друг на друга, разогнулась и, упершись кулаками в бока, отклонилась назад, разминая поясницу. Потом прошлась по комнате, просматривая работы учениц, которые должны были скопировать один из видов Венеции кисти Феликса Зима
[506] с ее собственной копии, сделанной в Люксембургском дворце. Хорош был лишь один эскиз, выполненный Маргаритой Равийон, по-настоящему одаренной ученицей, но Таша знала, что и та вряд ли станет художницей: скорее всего, по воле отца выйдет замуж за какого-нибудь жалкого интенданта и будет заниматься дамским рукоделием.
Джина внесла самовар и поставила его на круглый столик между двумя мольбертами. На тарелке лежали ломти хлеба, виноград и сыр.
— Как твоя семейная жизнь? — спросила она.
— Отлично. Виктор идеальный муж, он само совершенство.
Бодрый тон дочери не убедил Джину. Ей хотелось спросить, когда Таша с Виктором планируют обзавестись детьми, но она боялась ранить дочь. Младшая сестра Таша, Рахиль, к концу года должна родить. Радость от того, что она станет бабушкой, боролась в Джине с желанием оставаться молодой в глазах Кэндзи.
Таша проницательно изучала лицо матери, и Джина покраснела, испугавшись, что та прочитает ее мысли.
— С тех пор как Айрис подарила ему внучку, Кэндзи остепенился. Я подозреваю, что у него теперь есть постоянная подруга, почти жена, ведь он в выходные не ночует дома. Говорит, что работает, но никто в это не верит.
Джина покраснела еще гуще. Слова дочери смутили ее, но в то же время успокоили.
Таша с невинным видом смахнула крошку с губы и наполнила чашки.
— Сегодня утром я получила письмо из Америки, — сказала Джина, — которое имеет отношение и к тебе. Пинхас за нас беспокоится. Он вложил в конверт вырезки из газет, которые получил от своего друга-француза. Взгляни.
Таша принялась разбирать каракули отца. Почитатель Томаса Альвы Эдисона, Пинхас сожалел, что тому пока не удается озвучить кинетоскопические фильмы.
…Это время придет. Публичных сеансов становится все больше. В мае Вудвилл Лэтем за плату показывал на Бродвее в Нью-Йорке фильм о боксерском поединке. Успех был огромный. Лэтем использовал эйдолоскоп, а Эжен Лост занят проблемой записи звука. Вы об этом слышали? А знаете, чем сейчас занимаются братья Люмьер? Мы с моим компаньоном Шоном О’Флаерти отсняли киноленту, предназначенную для эйдолоскопа,[507] на которой очень удачно получились ритуальный танец племени сиу и сцена в салуне. Только бы нас не опередили французы!
Таша рассмеялась:
— Я и не знала, что папа интересуется индейцами и боксом!
— Он непредсказуем.
Письмо заканчивалось размышлениями о судьбе евреев в Европе и в частности во Франции. Пинхаса тревожили последствия ссылки капитана Дрейфуса на Чертов остров и гнетущая тишина, последовавшая за всеобщей ненавистью. Он прислал жене и дочери смелую статью Жана Ажальбера, опубликованную в «Жиль Блаз», которая начиналась со слов: «То, что толпа, подобно стае диких зверей, упивается кровью, я еще могу объяснить. Но жестокость писателей и художников… я понять не в состоянии», и заметку социалиста Мориса Шарне, который писал с негодованием: «Закон, провоцирующий шовинизм в то время, когда в армии распространяется учение социалистов, не сослужит государству добрую службу».
Таша вернула письмо матери.
— Мне хорошо во Франции, тут, по крайней мере, нет царя.
Они перешли на другие темы: исчезновение Берты Моризо, поступление коллекции Кайботта в Люксембургский дворец и новые скульптуры Родена.
— Ты поедешь в Краков к Рахили? — вдруг спросила Таша. — Было бы хорошо, если бы ты была рядом с ней во время родов.
— Я и сама хотела, но ее муж — врач, ему это может не понравиться…
— Глупости! Вам с ним давно пора познакомиться. Я уверена, Милош Табор — очень приятный человек, во всяком случае, такое впечатление он производит на свадебной фотографии.
— Это правда, я могла бы поехать к Рахили в конце декабря и остаться в Польше до весны. А как поживает твоя подруга Дуся?
— Она решила эмигрировать в Америку, к тетке, которая живет в Нью-Йорке. Я дала ей адрес папы. — Таша натянула перчатки. — Мне пора. Мы с Виктором договорились поужинать вместе. — И она вышла, оставив после себя легкий аромат росного ладана.
Джина вернулась в свою квартиру и, усевшись у камина, прикрыла ладонями уставшие глаза. В ее сознании возникли смутные образы — сначала Пинхас, потом Кэндзи — такой нежный, заботливый, внимательный… С ним Джина забывала о возрасте. Они жили настоящим. Благодаря Кэндзи она испытала доселе неведомые наслаждения, они ощущали себя единым целым. Она скучала по нему и жаждала его прикосновений.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Суббота, 16 ноября
Литейная мастерская Пиа порадовала бы и бога Вулкана, если бы ему каким-то чудом пришлось оказаться на улице Сен-Мор, 85. Это было похожее на храм просторное прямоугольное здание с застекленной крышей и двумя рядами крытых галерей. В мастерской у жарко горящих печей суетились рабочие, пахло расплавленным металлом, грохотали механизмы, напильники скрежетали, раздавались мерные удары молота по наковальне, стонали кузнечные мехи, визжали сверла.
Максанс Вине разминал в пальцах песок, словно крестьянин, перебирающий горсть земли. Он знал все секреты производства и учил новичков, как правильно смешивать ингредиенты, необходимые для получения прочного металла, а когда извлекал готовое изделие из формы, его движения были точны, как у опытного кондитера.
Он решил передохнуть и вышел из здания, направляясь к многолюдной улице Фобур-дю-Тампль, где расположились торговцы овощами. Перед фасадом театра де ля Репюблик он увидел стражей порядка, задержавших карманника, и окружившую их толпу зевак. Жалкого паренька в лохмотьях, не церемонясь, затолкали в полицейский фургон. Эта сценка оживила в памяти Максанса другой эпизод. Когда ему было восемнадцать, он принимал участие в манифестации 1849 года. Несколько тысяч безоружных людей во главе с Ледрю-Ролленом и Виктором Консидераном
[508] двинулись из Шато д’О к Большим бульварам, скандируя: «Да здравствует Конституция!». Они дошли до Национальной школы искусств и ремесел, но войска остановили шествие и разогнали его участников, пустив в ход оружие. Если бы не вмешательство Эмиля Легри, который затащил его в свою книжную лавку на улице Сен-Пер, где он скрывался много недель, Максансу вряд ли удалось бы избежать ареста. Он вернулся домой с подарком, получив от своего спасителя книгу с изречениями императора Марка Аврелия. И с тех пор всегда находил в них поддержку.
Максанс Вине сел в омнибус и доехал до Лувра. Там он сделал пересадку и ехал еще долго, прежде чем добрался до улицы Фурно. Оставалось минут пятнадцать ходьбы до дома престарелых на улице Алезья, 134. Максанс купил у булочника ромовую бабу, которую собирался съесть на десерт, поужинав вермишелевой похлебкой.
Консьержка сделала ему выговор:
— Разве можно в вашем возрасте так много работать?! Поторапливайтесь, ваша похлебка остынет.
Работавшие в этом заведении женщины искренне заботились о своих подопечных, а Максанс Вине, как самый старший, был их любимчиком. Вежливый, аккуратный и трудолюбивый, он, без всякого сомнения, заслуживал того, чтобы государство обеспечило его жильем за один франк в день, впрочем, при условии, что он где-то работает.
Максанс направился в столовую. Большинство постояльцев уже поужинали и теперь играли в настольную игру, устроившись поближе к камину.
Максанс Вине поднялся на второй этаж, вежливо приветствуя встречавшихся по пути соседей. У него здесь не было близких друзей — за исключением Сиприена, изможденного человека лет пятидесяти, заработавшего в рудниках чахотку. Максанс хотел поделиться с другом ромовой бабой, но Сиприен отказался.
В крошечной комнатушке с трудом умещались кровать, стол, стул и шкафчик для одежды. Максанс с грустью оглядел свое жилище, красноречиво свидетельствующее о крушении всех надежд. А ведь когда-то он мечтал о домике в деревне с небольшим садиком, ласковой жене и детишках…
Он уселся на кровать и взял в руки любимую книгу, лежащую рядом на стуле. Она открылась на странице, заложенной ленточкой.
Никто не может лишиться ни минувшего, ни грядущего. Ибо кто мог бы отнять у меня то, чего я не имею? Настоящее — вот все, чего можно лишиться, так как только им и обладаешь.[509]
Эти строки успокоили его, и Максанс приступил к десерту, думая о том, как ему повезло: ведь многие старики остались на склоне лет бездомными. А ему еще и должность сохранить посчастливилось.
Он встал, сложил бумагу, в которую была завернута ромовая баба, и задумался, куда ее положить. Взгляд его упал на полученное недавно письмо с приглашением явиться в пассаж д’Анфер, 20. Адрес звучал настолько зловеще, что Максансу стало не по себе, и он поспешно засунул письмо между страницами журнала, который Сиприен нашел в мусорном баке.
Максанс уже собирался потушить керосиновую лампу и лечь в постель, когда в дверь тихонько постучали. Он приоткрыл ее.
— Ты? Черт, прошло уже три месяца! Каким ветром тебя принесло?..
— Мы решили не дожидаться лета, чтобы устроить попойку в честь Виржиля: он целый месяц провалялся в клинике со своими почками. А заодно помянем Донатьена.
— Ванделя? — удивился Максанс. Он недолюбливал этого высокомерного чиновника и общался с ним только из уважения к Эмилю Легри.
— Ты что, не в курсе? Донатьен умер месяц тому назад!
— Как умер?
— Я был уверен, что тебя об этом известили. Потолок обрушился ему на голову. Между нами говоря, я думаю, это лучше, чем лежать как овощ. Мир его праху. У каждого из нас своя судьба: одни умирают, другие выздоравливают, как Виржиль. Одним словом, наши решили погулять сегодня за счет Виржиля. Так как, ты едешь?
— Видишь ли… У меня был тяжелый день, я очень устал.
— Да ты что, приятель! Разве можно упускать возможность повеселиться и набить брюхо, особенно, когда угощает Виржиль!
Максанс, поужинавший пустой похлебкой и ромовой бабой, не смог устоять перед таким искушением. Он снова обул башмаки и натянул свой старенький сюртук. Приятели выскользнули на лестницу и прокрались к выходу.
— Надо задобрить консьержку — не хочу, чтобы меня выгнали отсюда за нарушение правил проживания, — сказал Максанс.
Он наврал женщине, что его брат тяжело заболел, и попросил дубликат ключа на случай, если вернется после полуночи.
Получив от его приятеля двадцать су, она согласилась.
— А вот это уже лишнее, — сказал ему Максанс.
— Ничего не поделаешь — этот ключик открывает любой, даже самый ржавый замок, — ответил тот. — Пойдем, я оставил экипаж неподалеку.
Они уселись на сиденье, чувствуя себя студентами, собирающимися покутить. Максанс даже позабыл о ревматизме, который мучил его день и ночь, не давая ни минуты передышки.
— Спасибо тебе, что вытащил меня! Жизнь прекрасна! — воскликнул он.
— Надо остановиться, здесь наверняка есть магазины, — заметил его приятель и дал знак кучеру. — Куплю бутылочку — негоже прийти с пустыми руками. Что-то тут холодно, давай, я включу тебе отопление, — сказал он и вышел.
Максанс Вине с наслаждением протянул подошвы к жаровне и вскоре задремал, вспоминая один из лучших моментов своей жизни. Как-то раз зимой, когда ему было семь лет, бабушка, продавщица воздушных шаров, которая воспитывала его после смерти родителей, привела его в кафе на Бульварах. Они уселись у камина, и, напившись шоколада со сладостями, Максанс уснул.
Он почувствовал легкую головную боль, потом стало трудно дышать, сердце забилось чаще. Максанс не мог бороться с охватившей его слабостью, все тело отяжелело, не было сил пошевелиться. Ему почудилось, что он очутился в печи, в которой плавят металл. Максанс попытался глубоко вдохнуть, но из груди вырвался хрип. Он закашлялся и стал искать на ощупь ручку дверцы. Она не поддавалась. Он застонал. Фиакр тронулся. Уже теряя сознание, Максанс подумал о том, что теперь он, наконец, встретится с императором Марком Аврелием.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Понедельник, 18 ноября
Жозеф был готов отдать что угодно за то, чтобы каким-нибудь чудесным образом очутиться в Патагонии, на Больших Зондских островах или на вершине Килиманджаро — неважно, где, лишь бы подальше от этих клуш. Он не спал всю ночь из-за криков Дафнэ, у которой резались зубки, а теперь был вынужден общаться с Олимпией де Салиньяк и ее тощей, похожей на козу приятельницей Бланш де Камбрези, которые перевернули всю лавку в поисках «Эйримаха», исторического романа Жозефа Анри Рони-старшего, написанного им в соавторстве с младшим братом Серафеном Жюстеном Франсуа, и «Осени женщины» Марселя Прево, при этом болтая без умолку о том, как независимы женщины в Соединенных Штатах и покорны в Японии.
Кэндзи отправился оценивать библиотеку на Бур-ля-Рен, Виктор скрылся в хранилище, и на растерзание дамам остались Жозеф и Симеон Дельма. Впрочем, последний являл собой образец ангельского терпения и общался с покупательницами с неизменной улыбкой на лице. Жозеф схватил газету и начал отступление к задней комнате. До него долетали обрывки фраз, но он открыл страницу с хроникой происшествий и больше ничего не слышал.
ДВЕ СТРАННЫЕ СМЕРТИ В ФИАКРЕ
У нас уже были заразные попугаи. Теперь появились фиакры-убийцы. Жаровни с углем стали причиной гибели Деода Брикбека, служащего Парижской обсерватории, и Максанса Вине, рабочего-литейщика, проживающего в богоугодном заведении Тиссран на улице Алезья. Двое мужчин были найдены мертвыми с интервалом в один день. Полиция подозревает, что это не несчастный случай, а преднамеренное убийство. Возможно, в Париже появился маньяк! Ведется расследование. Общественность призывает владельцев фиакров проверить качество жаровен. Пассажирам следует регулярно открывать дверцы, чтобы избежать удушья.
Жозеф, который всегда охотно пользовался этим видом транспорта, решил, что надо предупредить о грозящей опасности всех, и первым делом Виктора. Мелкими перебежками, чтобы его не заметили дамы, он двинулся к лестнице, ведущей в хранилище.
Виктор был не в восторге от появления Жозефа. Он сделал вид, что внимательно слушает подробное перечисление смертельных опасностей, подстерегающих пассажиров плохо проветренных фиакров, напевая про себя песенку собственного сочинения:
Он учил Брикбека играть на ребеке,
[510]благодаря греку,
который уехал в Мекку.
— Вы меня слушаете? — спросил Жозеф.
— Конечно, Жозеф. Кстати, как вы думаете, Брикбек пишется через «к», так же как и город?
— Ну да, в школе бедолагу наверняка дразнили «Брик-а-брак»!
[511]
— Среди многочисленных увлечений моего дяди Эмиля была и история старинных замков. Во время своего последнего пребывания в Лондоне он несколько раз упоминал о замке Брикбеков.
— А какое это имеет отношение к тому, что я вам только что прочитал?
— Никакого.
— Понятно! Вы заговорили про замки, чтобы от меня избавиться! — обиделся Жозеф и вышел из хранилища, бросив газету на картонную коробку.
Оставшись один, Виктор попытался припомнить детали того разговора с дядей. Замками-то Эмиль, конечно, интересовался, но вот о Брикбеке упомянул, как казалось теперь Виктору, лишь потому, что ему встретился в Париже некто, чья личность показалась забавной. Как же дядя его описывал… «Ему всего двадцать четыре года, но выглядит он гораздо старше, возможно, потому что волосы у него длинные и одет он неизменно строго, во все черное. В нем было что-то от персонажей Диккенса… этакий протестантский пастор».
Виктор развернул газету. Деода Брикбек. В тумане его воспоминаний словно замигал маяк. Деода Брикбек, Максанс Вине. Эти имена были ему определенно знакомы. Он машинально подчеркнул их карандашом и пометил на полях: «Проверить…». Где же он мог их видеть?.. Он щелкнул пальцами. Вот оно! Когда после смерти дяди он унаследовал книжную лавку, ему пришлось разбирать хранившиеся там старые счета, письма и другие бумаги. Всё, что было связано с дорогим сердцу дяди учением Шарля Фурье, Виктор сложил в сундук. Тот самый, о котором упоминала недавно Мишлин Баллю, и содержимое которого Виктор увидел на полу в мансарде.
«Прыжки на одной ноге… Одноногий… Хромоножка… Нет! Подранки!» — так Эмиль Легри назвал ассоциацию, среди членов которой были и Деода Брикбек, и Максанс Вине. Остальных Виктор не помнил и решил подняться в мансарду. Увы, для этого надо было пройти через магазин, где он тут же попал в лапы Бланш де Камбрези, которая, за неимением Марселя Прево, готова была удовлетвориться «Галилеей» Пьера Лоти.
[512]
— Я буду к вашим услугам через тридцать секунд! — пообещал ей Виктор.
Не сказав ни слова Айрис, которая качала на руках Дафнэ, он прошел к лестнице, ведущей на мансарду, открыл дверь и, споткнувшись о фарфоровую салатницу, с трудом устоял на ногах. Ругаясь на чем свет стоит, зажег свечу и склонился над сундуком. Тот был пуст.
— Дырявая голова! Я же сам попросил Андре Боньоля отнести на улицу Фонтен коробки с дядюшкиными бумагами!
Когда мадам Баллю вернулась с рынка, Виктор вручил ей ключ.
— Спасибо, месье Виктор, я разобрала подарки покойного Онезима, и теперь их осталось только отнести наверх. Правда, у меня сегодня так болит поясница…
Виктор проигнорировал эту завуалированную просьбу о помощи и, решив оставить велосипед в лавке, чтобы не столкнуться с покупательницами, отправился домой в фиакре. Причем, несмотря на холод, отказался воспользоваться жаровней.
Приехав домой, он сразу позвонил Жозефу.
— Куда вы подевались? — удивился тот.
— Извините, я опаздывал на важную встречу, и мне пришлось срочно уйти.
Вряд ли Жозеф ему поверил, но обещание быть завтра в лавке к открытию его успокоило.
Коробки из мансарды стояли в дальнем углу мастерской. Поскольку Таша не было дома, Виктор решил приступить к делу немедленно. Не сразу, но он отыскал реестровую книгу, правда, оказалось, что первая страница в ней отсутствует. Это заставило Виктора задуматься. Когда он по просьбе мадам Баллю поднялся в мансарду, там все было перевернуто вверх дном. Он подумал, что это дело рук консьержки, но вряд ли она вырвала страницу из реестровой книги Эмиля Легри. Не связано ли все это с подозрительной кончиной двух дядюшкиных знакомых? Внутренний голос нашептывал Виктору: «Ты ухватился за ниточку, ведущую к разгадке». Он взял в руки старую фотографию, датированную июнем 1876 года: на ней были запечатлены девятеро мужчин, две молодые женщины с бокалами в руках и совсем юная, но очень высокая девушка. Судя по всему, это и были члены ассоциации «Подранки». Жаль, что на фотографии не указаны их имена. И вдруг Виктора осенило! Он поспешно направился в свою фотолабораторию.
Переехав сюда, на улицу Фонтен, он решил украсить квартиру акварелями Констебля, портретами кисти Гейнсборо и рисунками Фурье, которые достались ему в наследство от дяди, и заказал для них новые рамки. И теперь припомнил, что заметил тогда на обратной стороне одного из рисунков какой-то список.
Виктор снимал их со стены один за другим и переворачивал. Удача улыбнулась ему на третьем рисунке. В левом верхнем углу, под дважды подчеркнутой надписью «Подранки» был длинный список имен.
— Ида Бонваль, Матюрен Бонваль, Сюзанна Воске, Деода Брикбек, Рен и Лазар Дюкудре, Гюго Мальпер, Виржиль Сернен, Эрнест Сорбье, Донатьен Вандель, Максанс Вине, Эварист Вуазен, — прочитал Виктор. — Итого дюжина, а сам дядюшка Эмиль тринадцатый, он, должно быть, всех и сфотографировал. Имена перечислены в алфавитном порядке. А вот адресов здесь, увы, нет. Но я помню, они были записаны в реестровой книге. Так… зато в статье, которую мне подсунул Жозеф, говорилось, что Деода работал в Обсерватории, а Максанс жил… Нет, не помню. Ничего, выясню это завтра же. Но мне, кажется, попадались еще какие-то бумаги, связанные с этой веселой компанией…
Виктор порылся в ящиках бюро и извлек оттуда коробку из-под печенья с красивой картинкой на крышке.
— Вот! Сюда я сложил открытки с приглашениями на свадьбы, крестины и похороны… Надо же, сколько людей уже покинули этот мир… Нашел!
Он вертел в руках маленький конверт, адресованный Эмилю Легри в книжную лавку на улице Сен-Пер, 18. Там стояла дата: февраль 1888 года. По всей видимости, отправитель не знал, что адресата уже нет в живых. Виктор вынул из конверта карточку с черной рамкой, на которой было написано всего несколько слов:
Мадам Жюльен Сорбье, урожденная Кате, и ее сыновья Жан и Мишель с прискорбием сообщают о кончине супруга и отца Эрнеста Сорбье. Похороны состоятся на кладбище Пер-Лашез….
— Сорбье… Это тот самый, которого прозвали Полька Пикет. И где же жил покойный? Вот: Париж, Двенадцатый округ, авеню Домесниль, дом 26.
— Привет, а вот и я! — раздался голос Таша. — Решил навести порядок?
— Нет, просто кое-что искал.
— Ты увлекся коллекционированием? — предположила она, проведя рукой в перчатке по рассыпанным перед ним карточкам.
— Я коллекционирую только женщин, дорогая, — улыбнулся Виктор.
— Что ж, тогда я — жемчужина твоей коллекции!
Виктору нечего было возразить — так хороша была Таша в шелковом серо-голубом платье с воланами и кокетливой шляпке в тон.
— Сэру Реджинальду несказанно повезло, — ревниво заметил он, — каждый день видеть такую красивую и элегантную женщину!
— Радуйся, мой заказчик уезжает в Лондон, чтобы привлечь внимание общественности к судьбе своего друга Оскара Уайльда, которого в скором времени собираются перевести из тюрьмы Уандсворт в Редингскую тюрьму. Несчастный совершенно сломлен. Это такая несправедливость — гениального поэта осудили за гомосексуализм, хотя многим другим это сходит с рук!
— Тебя в Лондон не пригласили?
— Зачем? Здесь, в Париже, я могу сделать гораздо больше. К примеру, воспользовавшись отсутствием сэра Реджинальда, планирую заняться «Наядой». Я хочу изобразить ее выглядывающей из-за скалы на фоне уплывающего вдаль парохода — объединить прошлое с настоящим.
— Продолжить серию «современные сюжеты, навеянные античностью»?
— Да. Хотя моему заказчику это вряд ли понравится. Его гость, Обри Бердслей, не одобряет мой стиль, и, поскольку он проведет на улице Фезандри ближайшие два дня, я не смогу там работать.
— Очень рад. Бердслей? Не он ли делал иллюстрации к «Саломее» Оскара Уайльда, вышедшей в свет в прошлом году? Я помню их — обнаженные рабы, порочные ангелы… Довольно откровенно.
— Но очень талантливо. Уистлер превозносит Бердслея до небес: тому всего двадцать три года, а он уже не раз выставлялся.
— Ты к нему неравнодушна?
— Перестань. Он был одним из любовников Уайльда, и на судебном процессе его тоже облили грязью. Их познакомил приятель сэра Реджинальда, Артур Симон, который издает «Савой», а Бердслей сотрудничает с этим журналом.
— Что ж, я благодарен ему за то, что он критикует твои произведения, и ты возвращаешься в лоно семьи! Но сорок восемь часов пролетят быстро…
Виктор притянул Таша к себе и с удовольствием вдохнул аромат ее любимых духов с ароматом росного ладана.
— А ты в мое отсутствие снова занялся разгадкой какой-то тайны? — прошептала Таша, кивая на карточки.
— Самая главная тайна для меня — это ты, мой обожаемый сфинкс.
— Ты увиливаешь, потому что я права! Ты лицемер, собственник и обманщик! Беда только в том, что я тебя безумно люблю…
Они разомкнули объятия и с нежностью посмотрели друг на друга. На самом деле оба оберегали свою любовь, и именно поэтому старались избежать разногласий.
— Дорогой, ты слышал что-нибудь о Уолтере Патере?
— Нет, а кто это?
— Английский эссеист, духовный наставник Оскара Уайльда. Он умер в прошлом году. У него есть такое выражение: «Главное — не результат, а процесс познания!»
— Согласен.
— Ты ведешь расследование, признавайся?
— Может быть, да, а может быть, нет.
— Значит, да.
Он засмеялся и прошептал ей на ухо:
— Ночами я принадлежу одной тебе, родная.
— Только ночами? Значит, ты больше не будешь фотографировать меня в костюме Евы?
Он расстегнул лиф ее платья, радуясь тому, что она не носит корсет.
— Пойдем в постель, — прошептал он.
— Готовь свою аппаратуру.
— К черту фотографию!
Забытая во дворе, Кошка заскреблась в дверь.
— И к черту представителей семейства кошачьих, — пробормотал Виктор, увлекая Таша в альков.
Вечер того же дня
— И это — псише мадемуазель Марс?
[513] Нет, это всего лишь его жалкая копия! Вас облапошили, как последнего простофилю!
— Мышоночек, ну вы же не собираетесь завладеть оригиналом графини де Ла Бинь?
— Не произносите при мне этого имени! Я ненавижу эту Вальтесс де Ла Бинь,
[514] кстати, на самом деле ее зовут Люси Эмили Делабинь.
— Но вы проявляете изобретательность, подражая ей.
Сюзанна Боске раздраженно мерила шагами будуар, где собиралась разместить свой трофей. Длинный подол ее платья из черного атласа, украшенного лиловыми шелковыми лентами, волочился по полу. Наконец, она успокоилась и склонилась над подарком, который преподнес ей Амори де Шамплье-Марей. В нем отразилось ее лицо, густо покрытое румянами и рисовой пудрой, которые должны были скрыть пятнадцать лет разницы между нею и любовником.
«Какой же он недотепа! Если бы не его деньги, я бы послала его ко всем чертям!»
Но Сюзанна была достаточно умна, чтобы держать при себе юного простофилю, предпочитавшего зрелых любовниц. Регулярные семейные сцены шли их отношениям только на пользу. Последнюю Сюзанна устроила позавчера, когда нашла под креслом альбом под названием «Невинные забавы инфанты» с фотографиями некой Фьяметты, выставлявшей напоказ свои прелести.
— Я узнала ее! Это Фифи Ба-Рен, ваша бывшая, танцовщица канкана, которая вышла замуж за русского князя! Вот значит, чем вы занимаетесь в мое отсутствие!
Амори Шамплье-Марейю понадобился час, чтобы успокоить Сюзанну и заверить в том, что она в его сердце — единственная.
«Со своим кривым носом и торчащими во все стороны вихрами он похож на птенца!» — тяжко вздохнула она.
Впрочем, разве важно, как он выглядит? Лишь бы давал ей возможность жить на широкую ногу. И все же ее небольшая вилла на улице Бель-Респи
[515] не шла ни в какое сравнение с особняком графини де Ла Бинь. Эта куртизанка в пятнадцать лет стала матерью-одиночкой, она якшалась со всякими бездарными мазилами. Ее особняк журналы описывали как построенный в стиле модерн, хотя на самом деле его стиль больше тяготел к Ренессансу. Вот почему Сюзанна, сгорая от зависти, заставила любовника потратить часть своего наследства на реставрацию «презренной лачуги», расположенной недалеко от площади Звезды.
— Я хочу вестибюль из белого камня, украшенный чучелами ибисов, столовую в средневековом стиле, а в моей спальне — кровать с балдахином, который держит в руках серебряная Венера. А еще должны быть веранда и живописный сад. А в моем будуаре будет стоять точная копия псише мадемуазель Марс!
— Но, мышоночек, это стоит целое состояние! Я же не принц де Саган!
[516]
— Вы — сахарный король, а это гораздо лучше. Ах, как я вас люблю! Мы с вами — две половинки одного целого! — промурлыкала Сюзанна, расправляя тонкое кружево на корсаже и прижимая любовника к пышной груди.
И Амори де Шамплье-Марей растаял.
— А зачем нам библиотека? — осведомилась она, разглядывая одну из стен гостиной, расположенной рядом с будуаром.
— Я хочу заполнить ее книгами в красивых переплетах.
— Для чего? Вы же их не читаете. Сами говорили, что не выносите такого бездарного времяпрепровождения, от которого к тому же портится зрение!
— Зато наши гости это оценят. Мы же будем принимать у себя весь Париж!
— Ну, что она там копается, эта растяпа? — Сюзанна бросилась к горничной, которая неуклюже расставляла в застекленном шкафу кофейный сервиз. — Смотрите, не разбейте! Этот сервиз мне достался от бабушки.
На самом деле, это был подарок Эмиля Легри, одного из первых любовников Сюзанны, который вывел ее в свет и оставил после себя волнующие воспоминания.
— А эта бездельница вообще читает газету! Право, мой друг, что за никчемных слуг вы наняли! Наверное, и тут сэкономили, как с этим зеркалом?
— Простите, мадам! — воскликнула служанка. — Просто тут такое написано, что кровь в жилах стынет! Два человека погибли в фиакре из-за жаровен! А мой отец служит в конторе, владеющей наемными экипажами!
Сюзанна взяла у нее газету и пробежала глазами статью. Два имени бросились ей в глаза: Деода Брикбек и Максанс Вине. В статье открыто намекали на убийство. Сюзанна едва не потеряла сознание, комната закружилась у нее перед глазами, пол уходил из-под ног. Она выронила газету и схватилась за спинку стула, чтобы не упасть.
— Мышоночек, что с вами? — бросился к ней Амори.
— Ничего, я, должно быть, простудилась. В этом доме такой холод!
— Лизон, скорее, нюхательные соли мадам! — крикнул Амори де Шамплье-Марей.
Он взял газету.
— О! Вас это напугало? Вероятно, это месть какого-нибудь уволенного служащего городской компании наемных экипажей. Не бойтесь, в нашем доме уже сложили камины, и я планирую еще установить калориферы, в которых циркулирует горячая вода… Скоро тут будет не просто тепло — жарко!
Сюзанна оттолкнула Лизон,
которая протягивала ей флакон с нюхательными солями. Сначала разочарование при виде жалкого псише в раме с пухлыми ангелочками. Потом потрясение, которое она испытала при виде статьи в газете…
— Какое счастье, что я не попросила вас купить мне ванну маркизы Паивы,
[517] вы бы притащили какое-нибудь корыто! Это жалкая лачуга! Здесь не хватает гобеленов, зеленых растений, всего не хватает! Который час?
— Половина пятого, мой мышоночек.
— Мне хочется прогуляться!
— Я могу вас сопровождать?
— Нет, вы отправитесь к флористу заказывать пальмы в горшках! — раздраженно буркнула Сюзанна и, тут же опомнившись, просюсюкала: — Мой сладенький, мой Момо. Я вас обожаю.
«Вот так, дорогая, — сказала она себе, — с тебя не убудет. Мужчины настолько глупы, что не способны распознать, когда их любят за деньги».
Но тревога, охватившая ее после того, как она увидела в газете знакомые имена, не отступала. Убиты! Что заставило полицию прийти к такому заключению? Сердце Сюзанны бешено колотилось. Начнется расследование, ее могут вызвать на допрос! Только усилием воли ей удалось немного успокоиться.
Она нацепила широкополую шляпу, разукрашенную бантами и перьями, сменила туфли на высоких каблуках на удобные ботики и, надев жакет с баской, накинула норковую пелерину.
Сидя в тильбюри,
[518] Сюзанна Боске прижимала к груди шоколадного пуделя Какао. Нет, ей опасность не грозит, ведь она не имеет к этой истории никакого отношения. И тут она вспомнила об ужасном происшествии с Донатьеном Ванделем. В тот летний день она вместе с двумя идиотами и Гюго Мальпером сопровождала несчастного к нему домой, в дом номер 5 на улице Депар. Вдруг Бернадетта Перошон ее запомнила? Поставит ли она в известность полицию? Вряд ли. Сюзанна поцеловала пуделя и решила отвлечься от тревожных мыслей, придумывая себе псевдоним, — собственное имя казалось ей чересчур простым. Почему бы не стать Эрмин де Комбре? Или Эрмангардой де Рокбрюн?
— Придумала! Афродита д’Анжьен! В конце концов, это мой родной город. Никто же не знает, что мои родители были колбасниками.
На город опустились сумерки, обыватели расселись на скамьях под деревьями вдоль Елисейских Полей. Зажигались фонари, освещая посыпанные песком дорожки, многочисленные лавки и магазины.
Сюзанне не терпелось поскорее попасть на улицу Марини, где ее должна была ждать в открытой коляске графиня Греффюль, урожденная Караман-Шиме. Они собирались посмотреть военный парад. В воздухе уже с раннего вечера стояла странная смесь запахов конского навоза и дамских духов, а экипажи всех мастей съезжались в предместье Сент-Оноре. Если бы Сюзанне, вернее, Афродите д’Анжьен, повезло чуть больше, ее бы заметили баронесса де Ротшильд, которая ехала в двухместной карете, запряженной двумя чистокровными лошадьми, или месье Луи Стерн, чей кучер в сапогах с отворотами подгонял хлыстом породистых гнедых лошадей. Дорога была запружена всадниками, повозками и даже велосипедистами. Когда тильбюри Сюзанны приостановилось перед особняком Паивы, Сюзанна прочла слова Эмиля Ожье,
[519] выбитые над входом: «Добродетель, как и порок, имеет границы».
А бесчестье? Есть ли у него границы? Сюзанна в ужасе представила, как к ней приближается отряд полицейских.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Вторник, 19 ноября
Строчки из газеты так и стояли перед глазами Эрика, сидевшего на скамье в сквере рядом с церковью Святой Троицы. Деревья шумели и гнулись под сильным северным ветром. Слышалось назойливое журчание фонтанов.
— Убиты. Деода Брикбек и Максанс Вине убиты, угорели до смерти, наглухо запертые в фиакрах…
Молодой человек совсем замерз и решил укрыться в одном из трактиров на улице Клиши. Он вошел в первое попавшееся заведение и сел за столик. Официант подошел к нему и принял заказ.
Эрик снова развернул газету и внимательно перечитал показания коллиньонов, которые везли Деода и Максанса. Их нанял какой-то человек, описать которого им было сложно, так как он был одет в длинное широкое пальто с капюшоном; он заранее обговорил маршрут и оплатил поездку. Кучеры понятия не имели о том, что происходило внутри фиакра. Они постоянно использовали жаровню, и до сих пор никаких проблем это не вызывало.
Официант поставил перед Эриком пикон
[520] с гранатовым сиропом. Юноша сделал глоток и вновь уткнулся в газету. Как следовало из доклада полицейских экспертов, в данном случае уголь в жаровнях был особенный, при его горении выделялось большее количество окиси углерода, чем обычно. Таким образом, преднамеренное убийство было налицо.
Эрик повертел в руках стакан. Кому понадобилось убивать этих несчастных? И почему это случилось именно с теми, кого он пригласил к себе в контору в пассаж д’Анфер? О предстоящем визите могли знать только двое, уже посетившие Эрика. Впрочем, они вполне могли рассказать об этом другим членам ассоциации. Но главный вывод из случившегося очевиден: если кто-то готов прибегнуть даже к таким жестоким методам, чтобы убрать двух пешек с шахматной доски, игра наверняка стоит свеч.
«Значит, сокровище, о котором упоминал дядя, не выдумка, а знатный куш, — думал Эрик. — Я был слишком наивен. Впредь надо действовать более осмотрительно!».
Он допил пикон и извлек из кармана лист бумаги, разрисованный карикатурами.
Устав ассоциации «Подранки»,
предназначение которой — создание фаланстера,
направленного на филантропию
Заседание первое
6 января 1876 года
Список присутствующих в алфавитном порядке:
1. Бонваль Ида, родилась в 1863 году, студентка и певица, по прозвищу Восьмушка, проживает со своим отцом Матюреном на улице Клиши, 24
2. Бонваль Матюрен, родился в 1838 году, водонос, по прозвищу Кап-Кап, отец Иды, адрес тот же
3. Боске Сюзанна, родилась в 1855 году, без профессии, по прозвищу Ни-То-Ни-Се, авеню Вагран, 63
4. Легри Эмиль, основатель, книготорговец, по прозвищу Кавардак, улица Сен-Пер, 18
5. Мальпер Гюго, родился в 1835 году, философ, друг собак, по прозвищу Апорт, Домон, замок Буа-Жоли
6. Вандель Донатьен, родился в 1837 году, служащий железных дорог, по прозвищу Поршень, улица Депар, 5
7. Вине Максанс, родился в 1831 году, рабочий литейщик, по прозвищу Макс Большое Ухо, сите Дюпон, 6.
Из-за невозможности приехать отсутствовали и уполномочили голосовать за себя:
8. Брикбек Деода, родился в 1846 году, служащий обсерватории, по прозвищу Гринвич, улица Данфер-Рошро, 83
9. Дюкудре Рен, родилась в 1844 году, коммерсантка, по прозвищу Юла, бульвар Бомарше, 13
10. Дюкудре Лазар, родился в 1843 году, коммерсант, по прозвищу Волчок, адрес тот же
11. Сернен Виржиль, родился в 1842 году, владелец ресторана, по прозвищу Мухоловка, улица Понсле, 2
12. Сорбье Эрнест, родился в 1833 году, учитель танцев, по прозвищу Полька Пикет, авеню Домесниль, 26
13. Вуазен Эварист, родился в 1845 году, разводит шампиньоны, по прозвищу Гриб, Карьер-Сен-Дени, дорога де Ла Крю, 11
То есть изначально их было тринадцать. Эмиль Легри и Донатьен Вандель умерли своей смертью. Деода Брикбек и Максанс Вине отравлены. Теперь их осталось девять. И один из них — убийца?
Эрик подозвал официанта и попросил принести перо и бумагу. Он написал:
Я побывал в конторе в пассаже д’Анфер, 20 по поводу дела, имеющего отношение к Донатьену Ванделю, о кончине которого не знал. А затем прочитал в газете о гибели Деода и Максанса в фиакрах от угарного газа. Полиция считает, что это были преднамеренные убийства. Мне стало страшно. Возможно, все мы теперь в опасности? Будьте начеку. Неужели один из нас убийца?
Эварист Вуазен
Закончив, Эрик снова развернул список и принялся помечать карандашом имена, приговаривая вполголоса:
— Эту записку я отправлю Бонвалю, Иде и Матюрену… Так, Боске Сюзанна… Надо найти ее новый адрес, но как? Мальперу Гюго я тоже ее пошлю.
В результате список стал выглядеть так:
Донатьен Вандель. Умер естественной смертью, но в августе в Домоне с ним произошел несчастный случай.
Максанс Вине. Убит.
Деода Брикбек. Убит.
Рен Дюкудре. Отправить записку.
Лазар Дюкудре. Отправить записку.
Сернен Виржиль. Отправить записку.
Сорбье Эрнест. В течение нескольких лет отсутствует на заседаниях. Убедиться в этом. Проверить прежде, чем отправить.
Вуазен Эварист. Послужит наживкой.
Эрик переписал текст записки четыре раза, рассовал листки по конвертам и надписал адреса получателей. Три письма он спрятал в портфель, четвертое в карман пальто. Заплатив по счету, молодой человек направился к дому 24 по улице Клиши.
Консьержки не было видно. Напрасно Эрик искал список жильцов. К счастью, в тот момент, когда он уже готов был сдаться и уйти, к дому подошла пожилая женщина с таксой на поводке. Она охотно ответила на вопрос Эрика.
— Ида? Конечно, я ее знаю. Когда она была совсем еще крошкой, я качала ее на коленях! Ида мечтала стать певицей и своего добилась. Фенуйяр, не тяни, ты же удавишься, глупая собака! О чем это я? Ах, да! Матюрен, Идин отец, отдал Богу душу пять лет назад. Бедняга, он выбивался из сил ради дочери, совсем себя не щадил! Он один Иду воспитывал, его жена умерла, когда малышке было три года. Славный был человек, он разносил клиентам воду из общественного источника. По двадцать литров в каждой руке, тридцать пять — сорок ходок в день, а ведь нередко ему приходилось подниматься на верхние этажи. И так с утра до вечера! Фенуйяр, прекрати! Слава богу, у них был друг, книготорговец, он им помогал… Но в семьдесят седьмом или в семьдесят восьмом он скончался, вот тогда Бонвалям туго пришлось… Пока Ида не начала зарабатывать, они едва сводили концы с концами!
— А вы не подскажете, как мне найти мадемуазель Иду?
— Сейчас у нее гастроли в провинции, не помню, где именно. Но путь, похоже, туда не ближний, я видела, как она уезжала, так вот, она взяла с собой два больших чемодана…
— А когда она вернется, не знаете?
— Обещала, что приедет к Рождеству. Извините, но мой Фенуйяр больше не вытерпит. Перестанешь ты тянуть, или нет, кретин!
И женщина удалилась. Эрик мысленно вычеркнул из списка Матюрена, взглянул на адресованное ему письмо и после краткого раздумья сунул его консьержке под дверь. Теперь — на почту.
Сермез-ле-Бен, в тот же день
В зеркале отражалось изможденное лицо с синяками под глазами и густым слоем кольдкрема на щеках. Порывистым движением Ида Бонваль провела пуховкой по лицу. Когда она красила губы, рука ее дрогнула, и помада оставила в углу рта алую полосу, похожую на рану. Ида вытерла ее кружевным платочком, но кружево зацепилось за серьгу, и Ида вскрикнула от боли, а на мочке уха выступила капля крови. Плохой знак, подумала Ида и поцеловала золотой кулон в виде трилистника, надеясь, что талисман поможет ей избежать несчастья. День заканчивался так же плохо, как начался.
Утром горничная принесла ей поднос с легким завтраком и свежими газетами. После вчерашнего спектакля Ида надеялась отдохнуть. Она с любопытством развернула газету. Театральные критики обычно публиковали рецензии сразу после премьеры, излагая личное мнение, которое в девяти случаях из десяти не совпадало с мнением публики. Ида надеялась увидеть в газете свое имя: она считалась известной оперной певицей. На этот раз она выступала в казино Сермез-ле-Бен, второй этаж которого был недавно переделан в концертный зал. Ида равнодушно скользнула взглядом по статье о пользе железистых источников и об архитектуре бювета,
[521] построенного в 1852 году по инициативе компании по водоснабжению и канализации. Ага, вот оно!
…Только до 28 ноября! «Маскотта» Эдмона Одрана[522] с божественной Идой Бонваль и великим Лучано Орвьетто, способными очаровать всех, кто любит оперетту.
Ида пила апельсиновый сок и жевала круассан, читая статью о Саре Бернар. Вдруг она заметила внизу страницы знакомые имена: Деода Брикбек и Максанс Вине. Прочитав о том, что они найдены мертвыми в фиакре и полиция подозревает двойное убийство, Ида чуть не подавилась.
Ну почему она отказалась от предложения открывшегося в августе казино Руайян, полагая, что не успеет разучить свою партию? Если бы согласилась на два спектакля «Корневильских колоколов»,
[523] ей бы не пришлось возвращаться в Париж. Ида впала в панику. Если ее вызовут в полицию, чтобы допросить в качестве свидетеля, карьера будет погублена!
Ида вспомнила слова своего импресарио, который постоянно предостерегал ее, призывая быть более осмотрительной: «Милочка, чтобы сделаться известной, надо быть знаменитой! Ты — не звезда, так что не задирай нос. Когда ты превзойдешь славу Эммы Кальве,
[524] мы вернемся к этому разговору».
Кретин! Она еще покажет ему, чего стоит! Вот выйдет на сцену «Опера Комик», и ему останется только утопиться в первой попавшейся сточной канаве.
Ее нервы были на пределе, и она принялась мерить шагами комнату, декламируя:
— «Артист не должен задерживать время начала спектакля, указанное в афишах и программках… Артист сам обеспечивает себя костюмами… В случае болезни артист не имеет права прерывать гастроли, если только не предоставит врачебное заключение, в котором значится, что он не может передвигаться…».
[525]
У Иды пропал аппетит, и ее партнер Лучано Орвьетто, которого на сама деле звали Гислен Лепля, немало удивился, когда за обедом она даже не прикоснулась к блюду из кролика. Он оставил вялые попытки поухаживать за ней и отправился к себе. Ида поспешила закрыться в своей комнате.
Был только один способ избавиться от тревоги: обратиться к Сюзанне Боске, которая сообщила ей по секрету («только тебе, моя козочка») свой новый адрес. Эта мысль Иду приободрила, и она продолжила гримироваться. Несколькими минутами позже она уже пела низким грудным меццо-сопрано партию в дуэте с баритоном Лучано Орвьетто:
Я так люблю моих индюшек…
Я так люблю моих барашков…
Когда они так нежно бормочут…
Когда они делают «бе-бе»!
[526]
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Среда, 20 ноября
Моя цыпочка, вы не просто медсестра, вы мой ангел-хранитель! А ваши глаза — прямо как два вулкана, ах, потоки лавы уже достигли моего сердца, я горю, вот-вот умру! Если вы сейчас же не скажете мне, что я прекрасен как Триумфальная Арка, я выброшусь из окна!
С голыми ногами, в одной рубахе, мужчина с красным лицом гнался за молодой испуганной девушкой через всю палату, а лежащие на койках пациенты давились от хохота. Но тут в дверях появился доктор со стетоскопом на шее и термометром в руке.
— Месье Сернен, немедленно успокойтесь и ложитесь в постель!
— Не уж! Я знаю, вы опять заставите меня пить этот травяной настой, я уже сыт им по горло! У меня ресторан простаивает, и если я останусь тут еще хотя бы на один день, рискую разориться!
— А ваши почки, вы о них подумали? Если мы не растворим камни, у вас может случиться очередной приступ колики!
— Что вы заладили: камни, камни! За один день, проведенный в вашей клинике, я теряю пятьдесят клиентов. А каждый из них заплатил бы мне в среднем по два франка за обед!
— Вы слишком трудный пациент, я отказываюсь вас лечить. В следующий раз выбирайте другую клинику!
— Лучше пришлите мне Симону, только она может со мной справиться. Я всегда питал слабость к брюнеткам.
Доктор пожал плечами и начал осматривать какого-то старика. Виржиль Сернен, ворча, снова улегся. Чаша его терпения была переполнена. Еще несколько дней в этом лазарете, и он отправится домой, независимо от того, поправится или нет. На самом деле гораздо больше, чем о состоянии дел в ресторане, он беспокоился о своих питомцах, которых держал в стеклянных аквариумах. Толстуха Маринетта обещала о них позаботиться, но он знал, какое отвращение ей внушают рептилии и земноводные. К ящерицам и саламандрам она относилась более терпимо, однако кормить их червями, мухами и другими насекомыми было для нее настоящей пыткой. А хуже всего были ужи, которые питались исключительно рыбой, жабами, лягушками и головастиками. И хотя она знала, что они совершенно безобидны, все равно боялась быть укушенной.
Пока была жива, о подопечных заботилась жена Виржиля, Люси. После ее смерти их некому было препоручить. И хотя у Виржиля были две любовницы, он скрывал от них, где находится, опасаясь, что они могут случайно столкнуться в его палате. Ивонне он написал записку, в которой сообщил, что уезжает отдыхать в Ньевр к тетушке. А Мелани считала, что Виржиль в Бордо — помогает кузену, который якобы оказался в трудном положении. Скрывшись таким образом от обеих женщин, Виржиль мог спокойно лечиться, но зато был лишен возможности получать известия о том, как идут дела в «Миротон де Терн», его ресторанчике на улице Понсле.
На самом деле был человек, на кого он мог положиться — Рен Дюкудре, но ему не хотелось ее беспокоить. Это была необыкновенная женщина, такие редко встречаются. Они пережили вместе незабываемые моменты, причем ни жена Виржиля Люси, ни муж Рен Лазар ничего не подозревали. В какой-то момент любовники даже собирались оставить своих законных супругов и сочетаться браком. Но Виржиль не смог устоять против новенькой брюнетки-официантки. Рен застукала их в подвале. Она давно свыклась с тем, что муж не хранит ей верность, но измена любовника — это было уже слишком. Рен бросила Виржиля, и с тех пор он сменил много любовниц, но ни одна не могла сравниться с этой удивительной женщиной — соблазнительной, остроумной и наделенной деловой хваткой. Виржилю горько было сознавать, что она по-прежнему живет с этим кретином Лазаром Дюкудре.
В палату вошла медсестра, толкая перед собой тележку с лекарствами. При виде нее Виржиль спрятался под простыню с головой.
— Ну же, месье Виржиль, будьте благоразумны! — воскликнула она. — Если вы не примете микстуру, мне достанется от доктора Гарро!
— Охотно верю! Я знаю, он только и делает, что бранит пациентов и персонал! Ладно уж, я выпью ваше пойло, но при одном условии: шепните мне на ушко ваш адресок.
Покраснев, девушка склонилась к его койке.
Виктору все сложнее было совмещать обязанности книготорговца и увлечение фотографией. Кончилось тем, что переговорив со своими компаньонами, он стал появляться в лавке «Эльзевир» через день. А когда сталкивался с какой-то тайной, не мог удержаться, чтобы не ввязаться в расследование, хотя знал, что снова придется вести двойную жизнь, а потом оправдываться перед Таша и Кэндзи.
В эту среду Виктор позвонил Кэндзи по телефону и сказал, что встречается с клиентом, который пригласил его оценить библиотеку, поэтому придет в лавку только после обеда. Примерно то же самое он наплел и Таша. Вышел из дома и почти сразу же сел в фиакр.
Когда они добрались до Лионского вокзала, там оказался затор из экипажей. Виктор расплатился и, выйдя из фиакра, окунулся в безбрежное море людей, которое раскинулось до самой авеню Домесниль, одной из рек, впадающих в это море; на ее берегах росли богатые дома буржуа, тут и там виднелись магазины, а совсем рядом — виадук вокзала. Улица выглядела довольно мирной, если не считать длинного мрачного здания тюрьмы, обнесенного высоким стенами со сторожевыми башнями по углам. За стенами располагались архивы, канцелярия суда, квартира директора и центральный корпус, от которого расходились шесть трехэтажных пристроек, разделенных внутренними двориками.
Глядя на тюрьму, Виктор задумался: где-то там сидят и убийцы, которых вычислил он. После завершения каждого расследования ему случалось испытывать смутное чувство вины, а иногда снились кошмары, в которых кто-то из тех, кого он поймал, мстил ему. Он понимал, что ни один из преступников не заслуживает сочувствия, и если бы остались на свободе, они совершили бы новые злодеяния. И все же, как он ни любил сам процесс охоты, результат был ему не по душе.
С этими мыслями Виктор подошел к дому 26 по авеню Домесниль. Медная табличка на стене гласила:
МАДАМ ЖЮЛЬЕН СОРБЬЕ
УРОКИ БАЛЬНЫХ ТАНЦЕВ
ВАЛЬС
ПОЛЬКА
ШОТЛАНДСКИЙ ТАНЕЦ
МАЗУРКА
Первый этаж, налево
Виктор позвонил, и вскоре за стеклянной дверью показался неясный силуэт. Женщина с седеющими волосами и грубыми чертами лица, одетая в шерстяное платье, вышла ему навстречу.
— Извините за беспокойство, мне нужно поговорить с мадам Сорбье.
— Это я. Моя помощница опаздывает. Вы хотели записаться? У нас мало мужчин, однако…
— Нет, я хотел поговорить о вашем супруге.
— Об Эрнесте? Но его уже семь лет нет с нами!
— Вы позволите мне войти? Меня зовут Виктор Легри, я книготорговец. Ваш муж был другом моего дяди Эмиля.
Услышав это, женщина нахмурилась и поджала губы. Затем достала из кармана очки с толстыми стеклами, нацепила их и принялась внимательно разглядывать собеседника.
— Что ж, проходите.
Она впустила Виктора в вестибюль, заставленный большими фарфоровыми вазами, и провела в просторную комнату, почти пустую, за исключением ковра на полу, пианино, танцевальных станков вдоль стен и зеркал напротив. В углу стояли несколько стульев, там хозяйка с гостем и уселись.
— Месье Легри много сделал для моего мужа. Когда стало ясно, что у Эрнеста больное сердце, он устроил ему консультацию у известного специалиста. Лечение было дорогостоящим, и мы никогда бы не смогли оплатить его без поддержки месье Легри, в то время у нас было всего несколько учеников, и мы едва сводили концы с концами…
Мадам Сорбье тяжело вздохнула.
— Ваш дядя был благородным человеком. Они познакомились с Эрнестом в одном кабачке в Латинском квартале, и у них завязалась дискуссия о Шарле Фурье. Потом, пропустив пару стаканчиков сидра, они решили сыграть в пикет. Отсюда и прозвище, которым Эмиль наградил моего мужа, узнав, что тот — учитель танцев.
— В восемьдесят восьмом году вы послали моему дяде извещение о смерти Эрнеста. Разве вы не знали, что Эмиль Легри умер десять лет назад?
Мадемуазель Сорбье невольно вскрикнула.
— Как?! Никто не сообщил нам!
— Странно, если поверить в то, что Эрнест и Эмиль были близкими друзьями и регулярно встречались!
— Да, так и было. Но однажды они поссорились и с тех пор больше не виделись. Мой муж был хороший человек, но очень обидчивый.
— А из-за чего они поссорились?
— Эрнест еще в юности стал атеистом. Но, несмотря на то, что я ревностная католичка, это не помешало мне его полюбить. А в 1875 году с ним произошло мистическое событие, которое произвело на него такое сильное впечатление, что он уверовал в Бога. А ваш дядя…
— Но Эмиль не был атеистом! — заметил Виктор.
— Он называл себя агностиком, и это приводило Эрнеста в негодование. Однажды их ученый спор перерос в ссору, и оба потеряли самообладание. И хотя Эрнест потом переживал из-за этой размолвки, он не был готов к примирению, и поэтому разорвал отношения с Эмилем. Когда у него случился инфаркт, я написала вашему дяде. А не увидев его на похоронах, подумала, что он не простил Эрнеста, и больше не пыталась с ним связаться. Отчего он умер?
— От чахотки. Туберкулеза легких. Я был рядом. Он держался мужественно. И взял с меня слово, что я сохраню его бумаги и гравюры, имеющие отношение к фурьеризму.
Виктор надеялся увидеть на лице мадам Сорбье хоть малейший признак того, что ей что-то известно об ассоциации. Но она и глазом не моргнула. Тогда он продолжил расспросы:
— А что послужило причиной инфаркта месье Сорбье?
— Мы думали, что это очередной сердечный приступ, но все оказалось гораздо серьезнее. Это было ужасно. Наш старший сын, Жан, стал давать уроки танцев вместо отца, чтобы младший имел возможность завершить образование: он учится на юриста. Я верю, что Эрнест — там, где он сейчас, гордится нами. Ах! Если бы вы встретились с ним раньше… Он превосходно танцевал, а в польке никто не мог с ним сравниться! Жан унаследовал талант от отца. А я аккомпанирую. Зоя, моя невестка, тоже работает с нами. Но мода на танцы меняется, и меня это беспокоит. Вот и теперь, этот новый танец, пришедший к нам из Аргентины, становится все более популярен, несмотря на свою вульгарность. Его называют танго. А уж канкан…
Виктор поднялся: он не испытывая ни малейшего желания обсуждать эту тему, так как отдавал предпочтение классическому балету. Он вспомнил выступление Фифи Ба-Рен, которое имел счастье лицезреть: оно вызывало эмоции, весьма далекие от эстетических.
…Когда Виктор появился в лавке, Кэндзи с облегчением передал ему бразды правления. Нанятый на неполный рабочий день Симеон Дельма уходил после обеда, и Жозефу предстояло самому доставить «Соединение и перевод четырех Евангелий» графа Льва Толстого Саломее де Флавиньоль. Кэндзи с радостью воспользовался возможностью отправиться на улицу Эшель и заказать знакомому трактирщику изысканные блюда, чтобы удивить Джину, которую пригласил на ужин.
Воспользовавшись тем, что Кэндзи пошел поцеловать на прощание Айрис и Дафнэ, Виктор спустился в хранилище и, взяв подшивку газет, стал просматривать некрологи. Его внимание привлекло объявление в черной рамке.
Мадам Бернадетта Перошон и ее сын Эрик выражают признательность всем тем, кто счел своим долгом присутствовать на мессе в соборе Нотр-Дам в субботу 16 ноября, через три недели после того, как Донатьен Вандель покинул этот мир.
— Донатьен Вандель… Донатьен… Он тоже был в списке членов ассоциации «Подранки»! — воскликнул Виктор.
Оставив газету на столе, он бросился наверх.
— Что-то случилось? — всполошилась Эфросинья, которую он едва не сбил с ног.
— Нет, — бросил Виктор на ходу.
— Чего ж тогда так нестись?! — недовольно пробурчала она.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Четверг, 21 ноября
Огромная мрачная туча нависла над набережными Сены. Виктор ехал на улицу Сен-Пер на велосипеде. Он почувствовал себя в безопасности, только добравшись наконец до книжного магазина «Эльзевир», где в это пасмурное, уже по-настоящему зимнее утро было тепло. Не успел он спрятать свой велосипед в кладовку, как хлынул ливень.
— Сегодня у нас вряд ли будет много покупателей, — заметил Симеон Дельма.
Кэндзи пробурчал что-то в знак согласия, занятый составлением своего драгоценного каталога.
— Жозеф еще не спускался? — спросил Виктор.
— Нет, — ответил Кэндзи и добавил: — Сегодня ночью всем нам досталось. Воистину, природа что-то не продумала, наделяя человека зубами: зачем младенцу терпеть столько страданий, когда они режутся, если к старости они все равно выпадут.
— Увы, изменить сие нам не дано, — заметил Виктор, направляясь к лестнице.
Он обнаружил Жозефа на кухне. Молодой отец сидел за столом, невидящим взглядом уставившись на чашку горячего кофе и, видимо, забыв о том, что собирался его выпить.
— Взбодритесь, у меня важные новости, — сказал ему Виктор. — Я буду ждать вас в хранилище, приходите туда, как только позавтракаете.
— О чем вы?! — воскликнул тот. — Я сегодня спал едва ли часа три. Нужен домкрат, чтобы поставить меня на ноги. А вы говорите…
— Перестаньте, в вашем возрасте вредно много спать. Жду вас внизу.
— Счастливец, — проворчал Жозеф, оставшись один. — У него нет детей!
Но любопытство уже разгорелось в нем, поэтому он одним глотком выпил кофе и тихонько, чтобы не разбудить Айрис и малышку, вышел.
— Как, и вы в подвал? — бросил на него подозрительный взгляд Кэндзи.
— Нам с Виктором там есть чем заняться.
Жозеф обошел кипы сложенных на полу книг, за которыми, прислонившись спиной к шкафу, стоял, уткнувшись носом в записную книжку, Виктор.
— Ну, и что за новость вы мне хотели поведать? Неужели гигантский метеорит рухнул прямо на Эйфелеву башню?
— Прежде всего, приношу свои извинения за то, что не отнесся с должным вниманием к хронике происшествий, которую вы мне читали.
— Да что это с вами? Приступ вежливости? — воскликнул Жозеф, но тут же спохватился: — О какой хронике происшествий вы говорите?
— Про двух мужчин, задохнувшихся в экипажах.
— Ах, этих! И для этого вы вызывали меня сюда? Надо полагать, то, что произошло с этими недотепами, вовсе не несчастный случай?
— Пока нельзя сказать наверняка. Тем не менее, кое-что наводит на размышления…
И Виктор начал обстоятельный рассказ о своем расследовании, начиная с реестровой книги Эмиля Легри и заканчивая визитом к мадам Сорбье, а потом поведал о мессе в память о Донатьене Ванделе.
Жозеф слушал его со все возрастающим любопытством, стараясь этого не показывать.
— Действительно, все это довольно странно. Но при чем тут я?
— Вы не хотите принять участие в расследовании?
Жозеф театральным жестом прижал руки к груди.
— Я теперь отец семейства!
— Не устраивайте спектакль, я не вхожу в число ваших преданных почитателей.
— Я всегда знал, что вы с пренебрежением относитесь к моему творчеству! — обиделся Жозеф.
— Неужели вам не интересно разгадать загадку? — продолжал уговаривать его Виктор. — Строить гипотезы, которые поначалу рушатся, как карточные домики, а потом постепенно обретать уверенность в своей правоте… А какой отличный может получиться сюжет для нового романа…
— Спасибо, сюжет у меня уже есть. Я начал писать новый роман, который вы наверняка проигнорируете, как впрочем, и предыдущие. Он будет называться «Месть призрака». И речь в нем пойдет о том, как один медиум вызвал духов, а требующий отмщения призрак Алибо материализовался и стал регулярно появляться на улице Висконти, сея среди обывателей страх и ужас. Впрочем, вам это совершенно неинтересно…
— Ошибаетесь. Я восхищаюсь вашим литературным даром, и, так как вы, под влиянием многословной Мельпомены…
— Под чьим влиянием?
— Я имею в виду музу трагедии. Так вот, я знаю — писательский труд нелегок, он требует самодисциплины и уединения, но ведь можно иногда и отвлечься?..
— Допустим, я соглашусь, но какова будет моя роль? Как всегда, второстепенная?
— Бросьте, в последнем расследовании
[527] мы были на равных.
— Да, но лавры, как всегда, достались вам.
— Значит, вы отказываетесь?
Виктор сделал вид, что собирается уходить, но Жозеф схватил его за рукав.
— Какой у нас план действий?
— Сегодня утром мне придется поработать в лавке: один букинист с набережной Конти, которому дал наш адрес Реми де Гурмон, должен доставить партию разрозненных книг, среди которых может попасться что-нибудь стоящее. А вы, если хотите, разузнайте подробности о Деода Брикбеке в обсерватории, это в нескольких минутах ходьбы от Люксембургского сада. Уверен, вы отлично справитесь.
— Тут, наверное, я должен щелкнуть каблуками и ответить: «Рад стараться, мой командир»?
Виктор улыбнулся.
— Как только вы вернетесь, я займусь Максансом Вине и Донатьеном Ванделем, они жили в одном районе.
— Знаете, что мне кажется? Вы спугнули крупную дичь. Тот, кто перевернул вверх дном нашу мансарду и украл список, не стал бы из-за пустяков подвергаться опасности быть застигнутым на месте преступления Надо расспросить мадам Баллю!
Возвращаясь в помещение лавки, Жозеф споткнулся о Симеона Дельма, разыскивавшего что-то под лестницей, ведущей в подвал, где были в беспорядке навалены сотни брошюр.
— Симеон, что вы ищете?
— Месье Шодре умолял разыскать для него недостающий том политических зарисовок Эжена де Мирекура.
[528]
— Оставьте это занятие. Месье Шодре — страшный зануда, а этой книги у нас все равно нет.
Марсель Дюшомье с сигаретой в зубах замечтался, представляя себе, как было бы здорово, если бы метла сама собой подмела вокруг статуи астронома Ле Веррье. Что за глупая идея пришла в голову его коллеге — взять да умереть в фиакре! И вот теперь изволь выполнять его обязанности в дополнение к собственным! Когда еще руководство обсерватории займется тем, чтобы нанять второго уборщика… Так что о бале Бюллье
[529] можно забыть. Что ж, остается только «Фоли-Бержер», где он любил поглазеть на симпатичные мордашки и откровенные декольте.
— Извините, что отвлекаю вас от работы, — раздалось у него за спиной. — Я журналист из «Пасс-парту». Что вы можете сказать о неком Брикбеке Деода?
— К вашим услугам! — воскликнул Марсель Дюшомье, с радостью отставляя в сторону метлу, на которую опирался. Молодой, немного сутулый репортер внушал доверие. Так почему бы не поболтать с ним про зануду Деода вместо того, чтобы выполнять обязанности этого самого Деода?
— Брикбек вечно читал мне нотации. А в день своей смерти долго выговаривал за то, что я отказался дать монетку бродяге, который передал ему письмо. Я не скряга, но не люблю сорить деньгами!
— А что было в том письме?
Марсель Дюшомье покачал головой и ухмыльнулся.
— Не знаю. Может, этот осел наконец подцепил какую-нибудь девицу! Он был закоренелым холостяком, и к тому же урод каких мало, но на вкус и цвет товарищей нет, разве не так?
— А ему часто писали?
Жозеф так прилежно конспектировал его слова, что, прежде чем ответить, уборщик подсказал:
— Я разрешаю вам упомянуть мое имя, меня зовут Марсель Дюшомье. Нет, это было впервые. Деода был настоящий отшельник. Только один раз уезжал на три дня куда-то за город встречаться с друзьями, дело было в августе.
— А куда именно, не знаете?
— Он не говорил, а я не спрашивал. Кто его знает, а вдруг он связался с какими-нибудь франкмасонами… Я не хочу иметь к этому никакого отношения.
— Я хотел бы побывать дома у месье Брикбека, не могли бы вы сообщить его адрес?
— Улица Данфер-Рошро, 83. Вот была бы потеха, если он охмурил какую-нибудь девицу!
— Постыдитесь! — хмуро заметил Жозеф. — Как вам известно, он никого больше не охмурит.
Консьержка дома на улице Данфер-Рошро меланхолично жевала табак.
— Меня в мои годы ничем уже не удивишь. Бывает, что и людей
высокого помета, которые в особняках живут, прирежет какой-нибудь мерзавец, сумевший пробраться к ним
под покрывалом ночи Чего ж удивляться, если скромного служащего укокошили в фиакре? Хотя, конечно, жалко его, слов нет.
Жозеф записывал, исправляя ошибки:
высокого полета, под покровом ночи.
— Вы считаете, что его убили, или это был несчастный случай?
— Коли не убили, зачем тогда полицейские облазили тут все четыре этажа? Когда я своим ключом открыла его комнату, там все было перевернуто вверх дном! Это точно ограбление, и вот что странно: у него ведь не было ни гроша, мебель дешевая, а одежда вся поношенная, как из лавки старьевщика, одним словом, нищета полнейшая.
— К нему приходил кто-нибудь?
— Нет, месье Брикбек был идеальный постоялец, ни собаки не держал, ни женщины у него не было, чистая душа. Никому не доставлял беспокойства.
— Получал ли он письма в последнее время?
— Только одно. Я, когда передавала ему, заметила, что там не было обратного адреса.
Поднявшись на четвертый этаж, Жозеф легко отыскал дверь Деода — она была опечатана. Он раздумывал, к кому первому из соседей обратиться с расспросами, когда одна из дверей открылась, и на пороге появилась седая женщина с блекло-голубыми глазами.
— Вы из полиции?
— Нет, я журналист. Собираю информацию о месье Брикбеке.
За спиной первой возникла вторая дама, ее точная копия. Они в полголоса посовещались и пригласили Жозефа войти.
В крошечной гостиной со стенами, обитыми розовой тканью, почти все пространство занимала арфа. У оттоманки стоял пюпитр с партитурой, между буфетом и шкафом втиснулись три стула, а стены сплошь покрывали множество семейных фотографий вперемежку с акварельными рисунками, изображающими сельские красоты. В примыкающей к гостиной комнатке виднелась кровать с покрывалом в цветочек.
Хозяйки, которые представились Жозефу как сестры Женепи, Прюданс и Клеманс, указали ему на оттоманку.
— Любите ли вы музыку, месье… — задала вопрос Клеманс.
— Пиньо, Жозеф Пиньо. О да, очень.
— А кто ваш любимый композитор? — продолжила перекрестный допрос Прюданс.
Жозеф заметил над буфетом портрет.
— Э-э… Моцарт.
— А Шуберта вы не жалуете? — с сожалением заметила Клеманс.
— Месье Брикбек тоже любил музыку? — Жозеф попытался повернуть разговор в нужное русло.
— Да мы с ним…
— …Особенно не общались.
— Он неохотно…
— …Сходился с людьми. Только здравствуйте…
— …И до свидания.
Если они так и будут изъясняться, я тронусь умом, подумал Жозеф, который уже устал вертеть головой, переводя взгляд с одной сестры на другую.
— Кроме того памятного вечера…
— …Когда он поехал куда-то после работы…
— …Мы даже подумали, что его срочно вызвали…
— …К постели больного родственника…
— …Но знали, что у него никого нет.
Жозеф решил, что будет вести беседу только с одной из сестер, и выразительно посмотрел на Прюданс. Но у него ничего не вышло.
— Он ведь всегда рано ложился спать.
— Мы подумали, что он под хмельком.
— …Когда мы услышали шум в его квартире, у меня началось сердцебиение…
— …А я начала задыхаться. Наша служанка Анаис уже ушла, она бы нам приготовила…
— …Целебный настой из трав. Мы были уверены, что это месье Деода, что он выпил и поэтому натыкается на мебель.
— Но это был вовсе не он, а грабители.
— Так сказали полицейские, они обыскивали его квартиру, а потом…
— …Задали нам кучу вопросов.
— Беднягу убили! Ах, куда катится этот мир, какие ужасные времена настают, если честных граждан сначала…
— …Убивают, а потом грабят!
— Напишите про это, а что касается нас…
— …Мы собираемся попросить…
— …Поменять нам замки и сделать…
— …Дополнительные засовы!
Когда Жозеф, пошатываясь, покинул, наконец, сестер Женепи, в голове у него шумело. Полученную информацию он решил проанализировать позднее.
«Будь я бандитом, мог бы десять раз прикончить этих простофиль, которые впускают в дом кого попало. Виктор прав, каждое новое расследование дает материал для романа».
Жозеф прошел по улице Данфер-Рошро до монастырского приюта. К нему бросился газетчик, размахивая свежим номером:
— Специальный выпуск! Два убийства в фиакре! Удушье было заранее спланировано!
Эта новость подтверждала версию Виктора.
«Черт побери, два покойника, а может и три, если считать Донатьена Ванделя! Да, в этом деле пока что все покрыто мраком!» — подумал Жозеф, листая «Пасс-парту».
Уткнувшись носом в газету, он дошел до авеню Обсерватории, которое десять лет назад расширили, чтобы провести Арпажонскую ветку железной дороги. Прежде чем перейти улицу, Жозеф предусмотрительно закрыл «Пасс-парту»: трамвай, запряженный лошадьми, ехал прямо на него.
Виктор трясся в седле велосипеда по неровной мостовой квартала Плезанс. Тут стояли приземистые дома с огородами, похожие на деревенские. На улице Дидо телега молочника, которую тянула старая кобыла в яблоках, преградила ему дорогу. Он добрался до заведения Тиссран, представился книготорговцем, другом месье Вине, и ему посоветовали обратиться к Сиприену Бретешу.
Странная смесь запахов капусты, керосина и мыла витала в пустынном в это время суток коридоре. Виктор уже дошел до поворота, когда его окликнул какой-то долговязый старик.
— Похоже, вы меня ищете. Я спускался, чтобы одолжить у мамаши Танше яйцо для штопки, проходите, мои хоромы тут.
Виктор окинул взглядом узкую комнату, где умещались только двуспальная складная металлическая кровать и деревянный сундук. Стены были обклеены иллюстрациями из журналов: сцены на пляже, строящие песочные замки мальчишки в матросских костюмчиках и соломенных шляпах с ленточками и девочки в платьях из органди. Таким, очевидно, была страна Эльдорадо, о которой мечтал обитатель этой комнаты. Войдя, он уселся на кровать. Виктор остался стоять, но хозяин похлопал рукой по ситцевому покрывалу рядом с собой.
— Садитесь, эта койка вполне заменит канапе, на каких сидят гости в высшем обществе. Я нарочно купил большую, ведь на кровати мы проводим добрую половину жизни.
— Неправда, только одну треть.
— Говорите за себя, я дрыхну часов двенадцать, иначе у меня голова потом кружится, а в моем возрасте это может иметь плачевные последствия.
Озадаченный Виктор внимательно разглядывал лицо старика, покрытое густой сеткой морщин.
— Допустим. Как думаете, что случилось с Максансом? В газетах пишут об убийстве.
— Меня допрашивали сегодня утром, и я сказал: «Он был безобиден как голубь, Макс Большое Ухо, грешно убивать таких».
— Откуда это прозвище?
— Макс Большое Ухо? Постойте, а вы сами-то кто такой? — насторожился Сиприен Бретеш.
— Мой дядя Эмиль Легри был другом Максанса.
— A-а, ну да, об этом Эмиле Макс мог говорить без конца. А раз уж вы член его семьи, вот вам моя рука. Я расскажу вам то, о чем никогда не узнает полиция. В тот вечер Макс ушел из дома не один, я не видел его спутника, но слышал, там был кто-то еще.
— Мужчина или женщина?
Сиприен Бретеш только молча надул щеки, что, должно быть, означало, что Виктор требует слишком многого.
— Ладно. Но вы не ответили на мой вопрос. Откуда это прозвище, Макс Большое Ухо?
— Во-первых, Макс обожал Аврелия и вечно цитировал его, а во-вторых — всегда прикидывался, что глуховат,
[530] если ему не хотелось иметь дело с каким-нибудь занудой.
Сиприен Бретеш порылся в сундуке и вытащил оттуда «Размышления» Марка Аврелия.
— Эта книга принадлежала ему? — спросил Виктор.
— Я успел стянуть ее вчера из его комнаты, пока там не начали делать уборку, и еще взял гравюру — на ней тот тип, что написал книгу. Оттуда выкинули все, кроме мебели, и уже вселился новый жилец, мне его рожа не нравится. А у вас книжная лавка? Вам не нужны журналы? Я подобрал целую пачку на улице Жергови.
— Вы очень любезны, но я продаю только книги.
— Дайте-ка ваш адресок, вдруг мне попадется что-нибудь стоящее. Я бы вам сбагрил и этот талмуд, но хочу оставить на память о товарище. Макс Большое Ухо был добрейшей души человек!
Виктор дал старику свою визитную карточку и, поблагодарив, ушел.
Он доехал до авеню д’Орлеан, затем, немного поразмыслив, свернул на авеню дю Мэн, боясь заплутать в районе бульвара Распай, пребывавшего в состоянии вечной стройки. Потом срезал путь по улице Гэте, где уличные торговцы предлагали по сниженной цене контрамарки в кабаре и в театр «Монпарнас», а перед трактирами, украшенными гербами Ренна и Сен-Мало, бретонцы в национальных костюмах продавали столичным кумушкам блины и свой фирменный крем-брюле с черносливом.
Наконец он добрался до дома номер 5 по улице Депар. Спрятав свой велосипед в кладовке, Виктор поднялся по лестнице и позвонил в дверь с табличкой «Вандель-Перошон». Ему открыла импозантная дама с пепельными волосами, в платье из изумрудной тафты, выгодно подчеркивающем грудь и бедра. Упоминание о родстве с Эмилем Легри снова произвело нужный эффект, и хозяйка без малейшего колебания пригласила Виктора в дом. Но, сидя в вольтеровском кресле с фиолетовой обивкой посреди комнаты, вызвавшей в его памяти воспоминания об отце, который обожал лиловые тона, Виктор скоро пожалел о том, что упомянул про дядю, так как это вызвало нескончаемый поток причитаний, которые он тщетно пытался остановить.
— Я совсем одна, понимаете, одна! Как же несправедлива жизнь, я не заслужила такой жестокой судьбы, мой муж умер, брат тоже, сын уехал в Лион работать у какого-то архитектора и не прислал оттуда еще ни одного письма. Служанка? Лентяйка и воровка! Стащила мои английские тарелки и выклянчила неделю отпуска под предлогом, что ее мать сломала руку! Да, ваш дядя был славный человек, должностью заместителя начальника вокзала мой брат обязан ему. Но при мысли о том, в каком состоянии вернула мне его в августе эта пиратская шайка, на собрания которой Донатьен постоянно ездил, — несчастный случай, как они утверждали, — во мне закипает гнев, и я…
— Вы говорите об ассоциации «Подранки»? — наконец смог вставить слово Виктор.
— Именно! Когда Донатьена привезли с их последнего собрания, он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. И после этого ни один из этих жалких субъектов не соблаговолил присутствовать на похоронах! Правда, у меня был адрес только Гюго Мальпера, у которого они как раз и собирались — в бумагах брата мне не удалось разыскать адреса остальных, — но он-то мог известить их! Никто не интересовался здоровьем Донатьена. За два месяца ни одного визита. Ничтожные людишки!
— Не могли бы вы рассказать поподробнее о том, что случилось в августе?
— Подробнее? Они привезли брата сюда и несли какую-то чушь про то, что в лесу Монморанси произошел несчастный случай, в результате которого с Донатьеном все это и приключилось. Он лежал тут парализованный, пока из-за крушения поезда ему на голову не обвалился кусок штукатурки. Это его и доконало… Вот вам подробности!
— Скажите, а кто именно доставил его домой из леса Монморанси?
— Гюго Мальпер, этот неотесанный мужлан, два грубияна, которые даже не представились, и с ними еще была женщина, она вела себя приличнее, ее звали Сюзанна Тайи или Фюте… нет, Боске. Кажется, мой брат питал к ней симпатию… Она — дама полусвета, вульгарная особа, такие нравятся мужчинам, ну, вы меня понимаете. Весной Донатьен рассказывал моему сыну Эрику — он очень любил его…
Рыдания прервали ее рассказ. Виктор терпеливо ждал, пока она успокоится, потом не выдержал:
— Итак, месье Вандель рассказал вашему сыну…
Бернадетта шумно всхлипнула.
— …Что у этой Сюзанны всегда были влиятельные покровители. Последний из них, Амори де Шамплье-Марей, унаследовал кругленькую сумму после смерти отца-сахарозаводчика. Сюзанна потребовала, чтобы любовник построил ей особнячок где-то у площади Звезды. Так вот, Донатьен шутил: «Сюзанна всегда любила сахар, но на этот раз она переборщила!»
— Вы знаете ее новый адрес?
— Нет, только Гюго Мальпера: Домон, замок дю Буа-Жоли.
Бернадетта повысила голос.
— Мой брат вечно приезжал оттуда весь в собачьей шерсти, потому что этот Мальпер коллекционирует собак, как сам Донатьен — миниатюрные модели железных дорог. Брат собрал их целую сотню, точные копии. Это настоящее сокровище, я храню их в банковском сейфе, уверена, они стоят целое состояние! Эти модели поставляли ему — кстати, они тоже состояли в ассоциации «Подранки» — супруги Дюкудуар… нет, Дюкудре, я их как-то видела мельком, женщина болтала о всяких пустяках, пока брат расплачивался с мужчиной. Наверняка, они тоже жулики, как и остальные.
— А чем они занимаются?
— Торгуют игрушками… Ох, как же мне одиноко… Не желаете ли со мной поужинать, дорогой месье? Я приготовила телячью голову под соусом…
Виктору едва удалось вырваться от Бернадетты Перошон. Уже проехав весь бульвар Монпарнас, он пожалел, что не попросил у нее разрешения посмотреть бумаги Донатьена Ванделя, — в них, возможно, были какие-то сведения о его друзьях. Приходилось довольствоваться тем, что рассказала его чудаковатая сестра.
Размышляя обо всем этом, Виктор не замечал ничего вокруг. И вдруг — сильный удар, лязг железа, резкая боль в правой руке, зажатой между рычагом тормоза и рулем. Очнувшись, Виктор понял, что врезался в медицинский трамвай. Санитар предложил ему помощь, но он отказался, предварительно удостоверившись, что все пальцы целы, и обвязал опухшую руку платком. У велосипеда пострадало переднее колесо, в голове у Виктора звенело. Ему пришлось возвращаться на улицу Фонтен пешком, толкая перед собой многострадальный велосипед и кляня себя за рассеянность. Сейчас Виктору было не до того, чтобы встречаться с Жозефом. Он решил пригласить помощника в кафе «Потерянное время» завтра утром. Они выпьют кофе перед открытием книжной лавки и обменяются добытыми сведениями.
Сейчас Виктору хотелось только одного — чтобы Таша была дома.
Сидя по-турецки под «Клятвой Горациев», Эрик Перошон массировал себе пальцы ног. Что только ни сделаешь, чтобы раздобыть нужные сведения, не вызывая подозрений! Сегодня, к примеру, он был вынужден целый день танцевать лансье,
[531] мазурку и шотландский танец в паре с неприятной тощей особой, которая до одури набрызгалась духами с запахом пачули. Это было тяжкое испытание!
Последний лучик света упал на украденную у матери тарелку с золотой каемкой. Он захохотал. Если бы она только видела его в компании этой… как ее имя… ах да, Зоя, невестка мадам Сорбье, аккомпаниаторши, которая стучала по клавишам, не жалея сил!.. Эрик не жалел для Зои улыбок и комплиментов относительно того, как грациозно она показывает ему фигуры танцев. Кружась с ним по устланному ковром паркету, она поведала историю своей жизни: пансионат в Версале, свадьба со старшим сыном Сорбье, несбывшиеся мечты, не оправдавшиеся надежды… Увы, в 1888 году ее свекор умер, оставив их в полной нищете, и Жану пришлось продолжить дело отца, которого называли Полька Пикет.
Когда пришло время оплачивать эти четыре незабываемых часа, Эрик выразил мадам Сорбье свое почтение и королевским жестом протянул две купюры по сто франков, заявив, что его отец задолжал покойному Эрнесту, и теперь он возвращает долг с процентами. Вдова остолбенела, молча глядя на него, а потом вскричала срывающимся голосом:
— Да что же такое происходит?! Вы — уже третий, кому ни с того ни с сего понадобился мой бедный Эрнест! Почему вдруг все стали им интересоваться? Сначала это приглашение в пассаж д’Анфер. Я туда поехала, но никакого месье Грандена там не нашла! Вчера меня посетил племянник месье Легри, теперь вы! Право слово, все будто помешались! Кто ваш отец?
Эрик молча, с достоинством поклонился и поспешил удалиться. Он узнал то, что хотел. Во-первых, Эрнест Сорбье отправился в мир иной, во-вторых, какой-то племянник Эмиля Легри тоже интересуется этим делом. Эрик чувствовал, что запахло жареным, и решил, что осторожность ему не повредит. Никто не должен знать о том, что месье Гранден живет в этой квартире.
Убедившись, что на лестнице никого нет, Эрик снял табличку с двери, выходившей на лестничную площадку. Затем прошел на кухню, налил в тазик воду из чайника, сел на табурет и, закатав брюки выше колен, с наслаждением опустил натруженные ноги в теплую воду. Переехать на улицу Верней? Нет, только не сегодня, он слишком устал. Он перекусит в молочной лавке мамаши Табар, а потом вернется сюда на ночлег. А завтра переберется к Коре — поживет там, пока все не уляжется. Эрик уговаривал себя, что все предусмотрел и поводов для беспокойства нет — ведь аренду квартиры в пассаже д’Анфер он оформил на вымышленное имя.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Пятница, 22 ноября
Было восемь часов утра. Небо затянуло, моросил дождя. Симеон Дельма открыл ставни книжной лавки, взял швабру, протер влажной тряпкой полы, а затем расставил стулья вокруг круглого стола у камина. Это была идея месье Мори — он стремился создать в лавке уютную атмосферу библиотеки. На верхней ступени винтовой лестницы показался заспанный Жозеф.
— Доброе утро, месье Пиньо, хорошо спали? — поприветствовал его Симеон Дельма.
— Я бы так не сказал. Скажите, ну, почему мы рождаемся беззубыми? Этой ночью я вставал к малышке Дафнэ три раза. А вот вы, месье Дельма, судя по всему, бодры и полны сил.
— Я всегда так боюсь опоздать, что приезжаю раньше времени. О, кто-то идет!
Снаружи у витрины стоял гостиничный лакей и подавал какие-то знаки. Симеон открыл ему дверь.
— У меня пакет для месье Мори. Надо, чтобы он расписался.
— Давайте мне, — сказал Жозеф.
— Разве вы — месье Мори? Мне сказали, он японец.
— Я его зять.
— Сожалею, месье. Мне велено отдать пакет адресату лично в руки.
— Симеон, будьте добры, позовите патрона, я не в силах, — простонал Жозеф, облокотившись на стойку.
Кэндзи зашнуровывал ботинки, когда в дверь его квартиры постучал Симеон Дельма. Он рассыпался в извинениях по поводу своего вторжения и попросил хозяина спуститься.
Расписавшись в получении и дав посыльному на чай, Кэндзи уселся за письменный стол, под любопытным взглядом зятя вскрыл пакет и, залившись краской, поспешно спустился в подвал.
— Да что это с ним такое?! — вскричал Жозеф. — У меня назначена встреча, мне надо уходить.
Кэндзи пересек хранилище, где возвышались горы книг, и прошел в бывшую лабораторию Виктора, где Жозеф теперь держал личные бумаги и энциклопедии. Укрывшись в этой маленькой комнатке, Кэндзи при свете газовой лампы рассмотрел содержимое пакета: там оказался надушенный конверт и фотоальбом, где Фифи Ба-Рен, под сценическим псевдонимом Фьяметта, представала во всей красе. Возбуждение охватило Кэндзи при виде этой роскошной женщины в легком неглиже. Он вспомнил про Джину и устыдился: нет, он должен хранить верность любимой. Кэндзи отложил альбом и поднял взгляд на старые пожелтевшие фотографии на стене: мадам Пиньо тянет руки к пухлому младенцу… А вот и сам Кэндзи, беседует с букинистом с набережной Малакэ… На другом снимке была изображена незнакомка в ратиновом пальто, пересекавшая Реннскую улицу…
Кэндзи решился распечатать конверт.
Мой дорогой микадо,
Ты — дрянной мальчишка, а ведь когда-то ты называл меня «моя кошечка». Неужели ты забыл свою подругу? С самой премьеры я напрасно ожидала, что ты придешь в театр. Почему ты избегаешь меня? Чем я провинилась? Приходи. Шлю тебе контрамарку. И не откладывай, спектакль идет только до начала декабря.
Эдокси,
а для своих Фифи Ба-Рен.
Кэндзи перечитал письмо еще раз, задумался на несколько секунд, а потом разорвал послание в мелкие клочки. Но контрамарку не тронул, напротив, сунул в карман. А альбом? Неужели его тоже придется уничтожить? Кэндзи схватил экземпляр «Фигаро», намереваясь завернуть в газету альбом с фотографиями бывшей любовницы. Он машинально пробежал глазами страницу — и увидел два имени, подчеркнутые карандашом. Кэндзи поднес газету к свету и прочитал:
Отопление фиакров становится смертельно опасным. Двое мужчин — Деода Брикбек, служащий парижской обсерватории, и Максанс Вине, рабочий-литейщик, проживающий в заведении Тисран на улице Алезья…
На полях была пометка:
«Проверить». Кэндзи без труда узнал почерк Виктора с характерной крышечкой над буквой «П». Так. Похоже, внимание Виктора снова привлекло необычное происшествие!
— Когда это случилось? — пробормотал Кэндзи, проверяя дату на газете. — 18 ноября, не так давно. Час от часу не легче. Интересно, Жозеф снова с ним заодно? Значит, оба моих компаньона играют в детективов. Неудивительно, что им не до торговли! Ну, ничего, я наведу здесь порядок!
Спрятав компрометирующий подарок Эдокси под стопкой журналов, Кэндзи поднялся наверх и стал перебирать карточки своего каталога. Но сосредоточиться ему не удавалось — поведение компаньонов возмущало Кэндзи. Он уже жалел, что обнаружил эту проклятую газету.
«Если они снова взялись за свое, прощай покой! Работать мне, очевидно, придется одному! Они просто издеваются надо мной!»
В глубине души Кэндзи прекрасно сознавал, что злится не столько на Жозефа и Виктора, сколько на себя самого — из-за Эдокси Аллар.
«Нет, я не пойду в театр, — подумал он. — И избавлюсь от контрамарки».
Он должен обуздать свои страсти, держать себя в руках.
— Простите, месье, вы хорошо себя чувствуете? — обратился к нему Симеон Дельма.
— Да. А почему вы спрашиваете?
— Вы покраснели, похоже, у вас жар.
— Нет, со мной все в порядке, просто тут слишком натоплено, — спокойно ответил Кэндзи. — А где Жозеф?
— Уехал.
— Куда?
— Не знаю, месье Мори, он очень торопился. Сказал, что вернется через час. Простите, могу ли я задать вам вопрос?
— Разумеется.
— Как давно существует ваша книжная лавка?
— Ее открыл за четыре года до моего рождения, в 1835 году, месье Эмиль Легри, дядя Виктора.
— А вы действительно родились в Японии?
— Да, в Нагасаки.
— Как бы мне хотелось туда попасть! Япония такая экзотическая страна!
— О, все изменилось, теперь это современная страна.
— Вы давно там бывали?
— Вот уже тридцать семь лет, как я уехал из Японии. В 1878 году мы с месье Виктором занялись книготорговлей. Судьба вертит нами, как ей вздумается… Вы верите в судьбу, Симеон?
— О нет, месье, я верю в свободную волю и считаю, что каждый несет ответственность за свои поступки.
— Вы меня заинтриговали, Симеон. Вот уже три недели, как вы работаете у нас, и я не перестаю удивляться, почему такой умный и образованный человек, как вы, не нашел себе более завидную должность.
— Здесь, среди книг, я в своей стихии. К тому же график удобный — вторая половина дня в полном моем распоряжении, и у меня есть возможность расти, развиваться. Я надеюсь, что когда-нибудь смогу заниматься тем же, чем и вы… Скажите, месье, а правда, что месье Виктор иногда расследует преступления?
— За ним такое водится. Но я не хотел бы продолжать эту тему.
Жозеф устало опустился на скамью в «Потерянном времени», выбрав ту, что поближе к печи, и заказал маленькую чашечку черного кофе и один круассан. Хозяйка заведения, приветливая немолодая женщина, в этот ранний час расставляла на стойке стаканы, готовясь угостить сухим белым вином матросов, грузчиков и других работяг.
Вскоре появился Виктор — с заспанным лицом и взъерошенными волосами. Жозеф встретил шурина угрюмым молчанием. Но потом заметил, что рука у Виктора забинтована, и не удержался от вопроса:
— Что случилось?
— Упал с велосипеда вчера вечером, ничего страшного. Велосипед пострадал больше, чем я. Мне, пожалуйста, то же самое, — сказал Виктор хозяйке, которая принесла заказ Жозефа.
— Что ж, тогда перейдем к делу. Скажите, зачем вы вытащили меня сюда в такую рань? Я с трудом соображаю, дочка плакала всю ночь… Вчера я побеседовал с коллегой Деода Брикбека, с его консьержкой и соседями. Тут есть от чего свихнуться, скажу я вам! Такое впечатление, что психов на свободе больше, чем в специальных учреждениях! Вот что я выяснил: прежде чем отдать концы в фиакре, Деода получил два письма, одно на работе, другое дома. Так что, думаю, вы не ошиблись: это было преднамеренное убийство. Честное слово, вы чуете преступления, как утечку газа!
— Это все?
— А вам мало? — возмутился Жозеф. — Хотя да, я забыл рассказать еще кое-что: каждое лето Деода Брикбек ездил на собрания куда-то в пригород Парижа. И, возможно, его квартиру обокрали — после того как он умер.
Виктор чиркнул спичкой и закурил сигарету.
— Ваш рассказ подтверждает то, что я узнал от Бернадетты Перошон, сестры Донатьена Ванделя. Собрания проходили в Домоне, в замке некоего Гюго Мальпера, и там присутствовали все, кому помогал мой дядя Эмиль, в том числе какая-то содержанка, как выразилась о ней мадам Перошон, Сюзанна Боске. А приятель Максанса Вине, которого я навестил в заведении Тисран, сообщил, что в вечер убийства его сосед покинул дом в сопровождении неизвестного лица.
— Таким образом, у нас намечаются три следа: кокотка, Дюкудре и все тот же господин из Домона, — подытожил Жозеф.
— Еще нам известно, что один из членов ассоциации «Подранки» служит на ферме, где выращивают шампиньоны.
— Нам еще только шампиньонов не хватало! Давайте поскорее составим план действий, мне скоро надо уйти, я должен успеть к открытию магазина. Я займусь супругами Дюкудре. Их магазин будет несложно найти. Но сегодня нам с вами придется оставаться в книжной лавке, у Кэндзи свидание.
— Мне кажется, в первую очередь необходимо заняться Гюго Мальпером. Все трое погибших были у него этим летом, и именно оттуда Донатьен Вандель вернулся парализованным, — пробурчал Виктор, кладя в блюдце несколько монет.
— Что ж, с удовольствием уступлю его вам. Домой — это ведь у черта на куличках!
Увы, Виктору и Жозефу пришлось забыть на время о своем расследовании. Несмотря на проливные дожди, в книжной лавке на улице Сен-Пер в эти дни было полно покупателей, выбирающих книги в подарок на Рождество.
Зульме Тайру поручили следить за цветной капустой. Овощи варились на медленном огне, и девушка почти справилась с задачей: ущерб был минимальный, только одна разбитая чашка и опрокинутая солонка. Но она никак не могла взять в толк: зачем на столе лежит корка хлеба? Зульма отправила ее в рот, мысленно поблагодарив Эфросинью.
— Вы глупы, как индюшка! Этот ломтик поджаренного хлеба надо было положить в готовое блюдо, а вы его слопали! Что стоите столбом, отрежьте еще кусок и обжарьте! Или думаете, я заставлю вас все выплюнуть?
— Слишком поздно, я уже проглотила, — виновато пробормотала Зульма.
Звонок в дверь прервал их перепалку.
— Откройте! — приказала Эфросинья.
На пороге стоял чопорного вида мужчина, поглаживая рукой подбородок.
— Мадемуазель Зульма, — прошептал он, слегка поклонившись.
— Мсье Андре! Какая…
— Зульма, про стирку вы, я вижу, уже забыли!
Девушка растерянно обернулась.
— Ну что за дура! Вам разве неизвестно, что простыни иногда стирают! А потом сходите, купите мне у месье Шодре русский мозольный пластырь.
Расстроенная Зульма бросила отчаянный взгляд на гостя и, взяв корзину с бельем, вышла на лестничную площадку. Проходя мимо Андре Боньоля, она ненароком задела его плечом, и он в смущении отпрянул.
— Ну, что же вы стоите на сквозняке, заходите, погрейтесь, — обратилась к нему Эфросинья, мило улыбаясь.
Поначалу она была настроена к слуге Виктора и Таша, который казался ей весьма заносчивым, довольно враждебно. Но когда он превратился в робкого воздыхателя Зульмы, молчаливо оказывая девушке знаки внимания, Эфросинья сменила гнев на милость. Более того, она решила, что и сама может составить юной служанке конкуренцию в борьбе за сердце Боньоля. А что такого — она несколько лет моложе него, а ее пышные формы вполне способны привлечь мужское внимание!
Андре Боньоль отважно принял приглашение. Когда-то он служил метрдотелем и в совершенстве владел искусством выражать чувства, не размыкая губ. Не так давно, в знак уважения к Феликсу Фору, избранному 17 января главой государства, Боньоль сбрил бороду и подстриг свои галльские усы, что сделало его еще импозантнее. Единственное, что раздражало в нем Эфросинью — это привычка употреблять местоимение «мы».
— Мы принесли послание от мадам Легри ее супругу.
Эфросинья притворилась, что не слышит. Вооружившись деревянной ложкой, она с важным видом помешивала в кастрюле. Андре Боньоль подошел ближе и с любопытством заглянул ей через плечо.
— Крестоцветные укрепляют нашу конституцию, — одобрительно заметил он.
Эфросинья осенила себя крестным знамением.
[532]
— Позвольте поинтересоваться, как вы собираетесь ее готовить?
— Кого? — не поняла мадам Пиньо.
— Вашу цветную капусту. Мы знаем превосходный рецепт. Когда капуста сварилась, мы раскладываем ее на блюде, посыпаем мелко натертым сыром, толчеными сухарями и растопленным маслом и ставим в печь. Лимонный сок и немного мускатного ореха придадут блюду особую изюминку.
Эфросинья в изумлении уставилась на него. Это была самая длинная речь из всех, какие он когда-либо произносил в ее присутствии.
— А я знаю, как приготовить испанский артишок под соусом бешамель, — жеманно протянула она.
Андре Боньоль смущенно кашлянул.
— Мы счастливы это слышать, но нам надо выполнить поручение, а потом сходить на рынок.
— В таком случае, ступайте, месье Легри в лавке. А потом зайдите, я плесну вам немного мадеры на дорожку. О! Будьте осторожны, смотрите, куда ступаете, эта ветреница Зульма рассыпала соль…
«Я буду ждать тебя в доме номер 33 на улице Фезандри», — повторял про себя Виктор, не выпуская из рук «Письма мессира Роже де Рабютена, графа де Бюсси
[533]», изданные в Амстердаме в 1752 году, которые он собирался всучить одному из покупателей, любителю старинных переплетов. Таша так спешила вернуться в дом этого дворянчика, что даже не нашла времени зайти в книжную лавку. Получив из рук Анри Боньоля ее записку, Виктор помрачнел. Таша могла бы воспользоваться телефоном, но предпочла написать ему. Почему?
Покупка состоялась, клиент ожидал, пока ему упакуют книги. В лавку спустился Кэндзи, благоухая лавандой, и окинул хозяйским взором свои владения.
Да уж, немало воды утекло с тех пор, как в 1877 году семнадцатилетний Виктор унаследовал от своего дядюшки Эмиля Легри этот магазин! Дафнэ была тогда еще жива и здорова, и Кэндзи был с ней счастлив. После ее кончины он не в силах был оставаться на Слоан-сквер и принял решение полностью сменить обстановку, уехать, посвятив себя новому делу. Ему пришлось использовать всю силу убеждения, на какую он был способен, дабы уговорить Виктора покинуть Лондон и обосноваться во Франции. Чтобы превратить скромную книжную лавку дяди Эмиля в популярный парижский магазин, понадобилось пять лет поездок из Парижа в Лондон и обратно: надо было составить ассортимент, упорядочить каталоги, ликвидировать товар в книжной лавке на Слоан-сквер, взять кредит в банке, обустроиться на улице Сен-Пер…
Если бы коммерцией занимался только Виктор, подумал Кэндзи, вряд ли бы из этого что-то получилось. Наверное, они все же приняли правильное решение, когда сделали своим компаньоном Жозефа. Он показал себя энергичным и преданным делу, за исключением разве что периодов, когда с головой уходил в сочинение очередного романа. А Симеон Дельма стал для них настоящей находкой: он умел ловко и быстро упаковывать книги, а кроме того, нередко подавал отличные идеи, к примеру, когда предложил поместить в центре одной из двух витрин издания Жюля Верна, Александра Дюма-отца, Поля д’Ивуа или Альфреда Ассолана
[534] в разноцветных обложках и с золотым обрезом. Многие родители в период рождественских праздников не могли устоять перед искушением приобрести своим юным отпрыскам книгу популярного писателя.
Кэндзи проверил карманы: портмоне на месте, шелковый носовой платок тоже, хронометр на цепочке приколот булавкой к петлице жилета. Эффектный галстук, завязанный большим бантом, украшал его шею, стрелка на брюках была безупречно ровной, в одной руке он держал перчатки, а в другой трость, увенчанную набалдашником в виде лошадиной головы, на голове красовался цилиндр, а пальто сидело точно по фигуре. Кэндзи спрятал в специальный футляр монокль, модную вещицу, которую взял с собой вместо очков. Он условился отобедать в «Прюнье» с Гастоном Пари
[535] из Французской академии и еще несколькими эрудитами из Общества книготорговцев, которые иногда приобретали у него редкие издания.
Когда Кэндзи предстал перед компаньонами, они дружно восхитились его элегантным видом и в душе позавидовали тому, что у него есть предлог сбежать с поля боя.
— У вас в карманах звенит, как у уличного торговца. Что вы там носите? — не выдержал Виктор.
Не удостоив его ответа, Кэндзи похвалил Симеона Дельма за идею с обновлением витрины, и тот покраснел от гордости.
Дафнэ спала, и Айрис воспользовалась этим, чтобы записать несколько фраз, пришедших ей на ум, пока она укачивала малышку. Ледибед, божья коровка без пятнышек, предпочла изгнание молчаливому презрению, которым окружили ее собратья насекомые. Пролетев над множеством лугов и полей, она достигла, наконец, волшебной страны, где все было молочно-белым, а других цветов не было вовсе. Божья коровка без сил опустилась на большой камень и заснула. Каково же было ее удивление, когда проснувшись, она обнаружила, что ее окружила толпа разнообразных букашек, которые хором воскликнули, что никогда не видели таких ярко-красных крыльев, как у нее, и тут же провозгласили Ледибед королевой.
— Дорогая, к столу! Маман приготовила нам филе лиманды
[536] с цветной капустой!
Айрис спрятала под матрас заветную тетрадь со сказками, иллюстрации к которым рисовала Таша, и присоединилась к мужу. Они редко обедали вдвоем, но сегодня Эфросинья ушла к мадам Баллю, к которой заглянул кузен Альфонс со своими друзьями, чтобы сразиться в «желтого гнома». Виктор отказался от обеда, сказав, что ему надо отдать в починку велосипед, поэтому он перекусит дома на скорую руку и к двум часам вернется. Зульма, разделавшись со стиркой и сбегав к аптекарю, получила поручение зайти к доктору Рено и пригласить его осмотреть Дафнэ после обеда. Когда служанка вернулась, у нее был такой измученный вид, что Айрис отпустила ее домой.
Ради того, чтобы побыть наедине с мужем, Айрис готова была оставить на время свою божью коровку.
— Помнишь наши первые свидания? Ты никак не решался открыться… — с улыбкой сказала она.
— Решила погрузиться в воспоминания? Можно подумать, что мы — пожилая пара!
— А что? Лет через двадцать у нас будет уже куча внуков!
— Не торопи события! Пока что мы — счастливые родители одной единственной крикуньи.
Жозеф наполнил тарелку жены и коснулся губами ее волос. Потом уселся за стол и начал без аппетита ковырять вилкой в тарелке.
— Терпеть не могу рыбу… Скажи, а ты не знаешь, где можно купить миниатюрную железную дорогу?
— Хочешь подарить ее Дафнэ на Рождество?
— Нет, я… Мне это нужно для романа, идею которого подсказал Симеон Дельма.
— Призрак Алибо интересуется паровозами?
— Я немного изменил сюжет. Один коллекционер миниатюрных железных дорог, проживающий на улице Висконти, нашел у старьевщика игрушечный паровоз, исторгающий настоящий дым. Однажды вечером огромное страшное облако поднялось над ним и превратилось в отвратительное злобное привидение…
Жозеф промокнул лоб салфеткой.
— Как такое могло прийти тебе в голову?
— Секрет… В этом и заключается мастерство писателя.
— Вернемся к Рождеству: я думаю подарить Дафнэ первую куклу, сейчас в продаже появились говорящие, они кричат «папа» и «мама».
— Отличная мысль, дорогая. И где же нам такую раздобыть?
— В «Лувре».
— Не лучше ли обратиться к частным торговцам, ну, не знаю, к Дюкудре, например?
— А кто это? — спросила Айрис в замешательстве.
— Известные коммерсанты, мадам де Салиньяк за них ручается.
— Где же находится их магазин?
— В том-то и дело, что я забыл. Думал, ты знаешь… Название улицы так и вертится у меня на языке…
— А еще у тебя рыба на подбородке. Я не пойму, ты что-то имеешь против «Лувра»?
— Доверься мне, магазин Дюкудре — это то, что нам нужно. И я придумал, как их разыскать! Нам поможет телефон.
Не успела Айрис сказать и слова, как Жозеф, чмокнув ее на ходу, помчался на первый этаж. Он покрутил ручку телефона и поднес трубку к уху, надеясь услышать на другом конце провода приятный голос, который помог бы решить его проблему. Агрессивный выкрик «алло» чуть не оглушил его.
— Мадемуазель, будьте так любезны! Скажите, можно узнать у вас адрес магазина игрушек?
— Я вам не справочное бюро!
— Ну, пожалуйста, помогите мне! Дело в том, что я собирался закупить крупную партию подарков для сирот. Разве можно оставить ребятишек без рождественских подарков!.. Будьте добры, я ведь не прошу невозможного!
— Хорошо, диктуйте имя по буквам.
— Дюкудре. «Д» как Деода, «Ю» как Юрбен, «К» как…
— Есть «Синий карлик», бульвар Капуцинов, 27, «Детский магазин» «Пассаж д’Опера», «Детский рай», улица Риволи, 156. Дюкудре я не вижу… Ах, нет, стойте, нашла, «Лошадка-качалка», бульвар Бомарше, 13.
— Мадемуазель, вы спасли мне жизнь!
Сухой щелчок означал, что на другом конце провода положили трубку. Жозеф ликовал. Сам Шерлок Холмс был бы им доволен.
Эварист Вуазен остановился, чтобы дать отдых затекшей под тяжестью лейки руке. С раннего утра он чистил теплицы, где в удобренной навозом почве выращивали шампиньоны. В прошлом месяце там высадили мицелий. Споровые любили тепло и влажность, поэтому почву поверх навоза посыпали песком, выравнивая его лопатами. В течение месяца грядки регулярно поливали и выпалывали сорняки. Наконец наступил этап, который Эварист любил больше всего — на ровных грядках начали появляться сероватые шарики, которые будут расти до тех пор, пока не придет время их собирать.
В животе у Эвариста забурчало. Он надел куртку, попрощался с коллегами, которые оставались перекусить прямо на рабочем месте, и двинулся к проходу между каменных стен, где время от времени попадались кучи песка. Укрывшись за одной из них, он присел на корточки и нащупал рукой припрятанную литровую бутыль красного вина. Эварист не подозревал, что всем давно известна его слабость. Хлебнув вина и слегка пошатываясь, Эварист прошел по проходу, поднялся по ступенькам и через старый вентиляционный люк, который когда-то использовали для проветривания карьера, где теперь были устроены теплицы с шампиньонами, выбрался наружу.
Свое название городок Карьер-Сен-Дени
[537] получил благодаря тому, что в его окрестностях добывали известняк, гипс и мел, которые использовали при строительстве Парижа. Эварист был местным уроженцем и хотел бы здесь и умереть. Он не жаловался на судьбу, и если бы в свое время не имел неосторожность жениться на сестре своего лучшего друга, был бы вполне счастлив. Эварист не понимал, как прелестная юная Аспази могла превратиться с годами в сварливую Ксантиппу. У них родилось четверо детей, все как один похожие на мать: лживые и жестокие. Чтобы ужиться со своим семейством, Эваристу приходилось черпать силы в вине.
Он быстро добрался до своего дома, который построил около двадцати лет назад с помощью Эмиля Легри, ссудившего ему кругленькую сумму без процентов. Теперь фасад уже потрескался, угрожая со дня на день обвалиться, а порывами ветра с крыши сдуло почти всю черепицу, и в непогоду она протекала.
Эварист вошел в кухню, где изможденная, преждевременно поседевшая женщина накладывала еду в тарелки, которые ей протянули мальчик и девочка. Два старших сына, один ученик парикмахера, другой — ювелира, обедали на своих рабочих местах.
— Поздновато же ты явился! Да еще и выпивши! — набросилась на мужа мадам Вуазен.
Эварист молча работал ложкой. В картошке не хватало соли и масла, ну, да что ж поделаешь, сойдет и так.
— А ты что же не сядешь? — спросил он жену, которая стояла у плиты и с мрачным видом рассматривала его.
— Вот уже неделю мы вынуждены питаться одной картошкой! С твоей нищенской зарплатой ни сосисочки не можем себе позволить, ни кусочка паштета! Я знаю, куда уходят твои деньги! Какие-то две курицы прислали тебе письмо, держу пари, это потаскухи!
Она развернула скомканный листок бумаги и насмешливо прочитала:
Эварист!
Мы все приглашены на пирушку по случаю освобождения Виржиля из заточения. Заедем за тобой на фиакре. Будь у твоего любимого бистро в эту пятницу в 7 часов вечера. Остальные присоединятся к нам по дороге.
Сюзанна и Ида.
— Зачем ты вскрыла письмо? Оно адресовано мне! Дай его сюда! — возмутился Эварист.
— Значит, твое любимое бистро? Небось, заведение толстяка Луи? Хороший же ты пример подаешь своим детям!
И она кивнула на хохочущих малышей.
— Ты отдашь мне письмо? — повторил Эварист.
— Хватит и того, что ты раз в год посещаешь эти сборища в память о своем благодетеле! А вот это, — женщина гневно потрясла листком бумаги перед носом мужа, — уже переходит все границы! Даже и не думай, я не позволю тебе встречаться с потаскухами у твоего любимого Луи! Смотри, что я сделаю с этим письмом!
Она сняла с плиты одну из чугунных конфорок и бросила листок в огонь, прежде чем Эварист успел ей помешать. Он в ярости замахнулся на жену. Аспази с вызовом посмотрела на него, и в ее глазах горела такая ненависть, что он отвернулся и уселся за стол, опустив голову.
— Если хочешь знать, было и второе письмо! Нотариус или кто-то там хотел с тобой встретиться. Его я тоже сожгла!
Эварист вскочил и выбежал вон, чтобы укрыться в домике, служившем уборной. За спиной у него раздавались возмущенные крики:
— Нет, вы только подумайте, два письма за один день! Будто он министр какой-нибудь! Почтальон, должно быть, дар речи потерял от изумления! Попробуй только удрать на свою гулянку!
Эварист поспешил вернуться на работу. Он не знал, что Аспази нашла в кармане его рубашки еще одно письмо из нотариальной конторы, которое не стала ни сжигать, ни выбрасывать, — всем известно, что уведомление от нотариуса попахивает деньгами. Ей было невдомек, что маленькие проказники стянули письмо, и конверт был пуст.
— Проклятая баба! Наступит день, когда я не выдержу и засвечу ей промеж глаз! Денег ей мало! Между прочим, это я приношу их в дом, а ей ни разу и в голову не пришло поблагодарить меня за это! Нет уж, я пойду к Луи к назначенному часу!
— Разговариваешь сам с собой? — спросил один из его коллег.
— Представляешь, жена не пускает меня отпраздновать сегодня вечером выздоровление моего приятеля Виржиля!
— Ты прав, этих баб не грех проучить! На твоем месте я бы прикинулся больным и попросил папашу Бертрана отпустить тебя пораньше — на тот случай, если твоя половина вздумает поджидать тебя у выхода.
Эварист поблагодарил за совет и направился к начальнику.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Вечер того же дня
Ламартин
[538] точно подметил, что у вещей есть душа и, если можно так выразиться, склонность исчезать в самые неподходящие моменты. Это справедливое высказывание вполне подходило к кружевным перчаткам, которыми Таша хотела дополнить свой наряд, платье из серо-голубого шелка.
— Может, они завалились за комод? — предположила она, обращаясь к Кошке, которая терлась об ее ноги.
Таша знала за собой этот недостаток — она никогда не клала вещи на место, в отличие от Виктора, у которого была маниакальная страсть к порядку. В ее спальне царил настоящий хаос — нижние юбки, шали, непарные чулки, открытые флаконы духов… Прошло немало времени, прежде чем Таша отыскала злополучные перчатки. Она уже собиралась уходить, когда обратила внимание на Кошку, которая гоняла лапой по полу комок мятой бумаги. Таша подняла его, развернула и сразу же узнала почерк мужа.
Жюльен Сорбье, авеню Домесниль, 26. Танцы. Интересно. Следует заняться.
Лишившись игрушки, Кошка требовательно мяукнула. Таша глубоко задумалась. У Виктора появилась другая женщина? Нет не может быть! Она приняла решение не раздумывая. Сэр Реджинальд ждет, но ничего не поделаешь, она должна во всем разобраться. Таша надела свою любимую шляпку, украшенную цветами, и, перекинув плащ через локоть, вышла из дома.
Она взяла фиакр, и вскоре он остановился перед зажиточным домом. Табличка на двери гласила, что здесь обучают танцевать. Таша позвонила, и через несколько минут старая служанка в белом чепце и переднике проводила ее в маленькую гостиную. За стеной на фортепьяно играли мазурку, слышался громкий топот множества ног. Служанка, по-видимому, не решалась прервать занятие, и прошло немало времени, прежде чем звуки фортепьяно стихли.
Шум шагов, скрипнула дверь, и Таша услышала за спиной:
— Чем могу служить, мадам?
Она обернулась, ожидая увидеть воздушное создание, но перед ней стояла немолодая, очень высокая дама.
— Мадам Жюльен Сорбье?
— Она самая.
— Я супруга месье Легри, не знаю, успел ли он связаться с вами…
— Месье Легри? Ваш муж желает брать уроки? Какие именно танцы вы хотели бы изучать? Мне надо свериться с расписанием, — любезно произнесла мадам Сорбье.
— Нет, дело не в этом… Виктор Легри — владелец книжного магазина. Он недавно приходил к вам, по крайней мере, мне так кажется.
— Ах, да, я вспомнила этого господина! Но что всем надо от моего Эрнеста? Вы уже третья, кто им интересуется: сначала ваш супруг, потом этот блондин, должна признаться, очень приятный молодой человек…
— Простите! Вы сказали, блондин?
— Вы что, пишете покойнику ради развлечения? Странное у вас чувство юмора, ничего не скажешь!
— Но, мадам, я не понимаю, о чем вы говорите…
— Я получила адресованное Эрнесту письмо от какого-то нотариуса. Ну, и вскрыла его. Он приглашал Эрнеста явиться в пассаж д’Анфер. Адрес просто демонический! Я пошла туда, но никакого Грандена там не обнаружила. Это просто возмутительно! Мадам, я рассказала месье Легри обо всем, что касается разрыва отношений между Эмилем Легри и моим Эрнестом. Прошу вас, не докучайте мне!
И она вышла.
Таша была не на шутку озадачена. Она вспомнила, как недавно застала мужа за разглядыванием какого-то рисунка, который он, судя по всему, извлек из рамки, причем разглядывал он не сам рисунок, а его обратную сторону. Это связано с его дядей Эмилем? Виктор наткнулся на какую-то тайну двадцатилетней давности? Таша поняла, что муж ввязался в очередную авантюру. А тот блондин, о котором упомянула мадам Сорбье, наверняка Жозеф.
Значит, Виктор опять, уже в который раз, соврал ей! Ну уж нет, она больше не даст себя одурачить!
Таша настолько глубоко погрузилась в свои мысли, что не сразу заметила какого-то субъекта, который шел за ней по пятам, пытаясь привлечь ее внимание. Она ускорила шаг и, пройдя чуть вперед, остановила экипаж.
Эварист Вуазен нетерпеливо толкнул дверь, ведущую в его любимый трактир. Луи, хозяин заведения, грузный мужчина с маленькими, глубоко посаженными глазками и лицом, покрытым красными пятнами, вышел ему навстречу, что было необычно — в его заведении завсегдатаи обычно сами подходили к стойке, чтобы заказать себе что-нибудь.
— Ты что, слинял со службы посреди рабочего дня? — пробурчал Луи.
— Да, старик, я сбежал с этой каторги. Две малышки заедут за мной к семи часам, а до тех пор мне надо схорониться, потому как, боюсь, моя благоверная будет прочесывать окрестности. У тебя не найдется для меня укромного уголка? Я бы с удовольствием выпил немного киру
[539] и закусил белым хлебом и кусочком сыра. У меня в брюхе урчит от голода, а жена дрожит над каждой крошкой!
Эварист огляделся, заметил парочку завсегдатаев, склонившихся над своими стаканами, и поморщился:
— Ну, у них и рожи! Нет уж, пожалуй, пить я не буду. Надо сохранить ясную голову!
— Иди за стойку, там есть дверь, она ведет в клетушку, где я держу бочки. Там тебя никто не побеспокоит. А я пока пойду, приготовлю тебе поесть.
В комнатушке стоял терпкий запах прокисшего вина и кошачьей мочи. Но Эварист, сидя на бочке под скупым светом, падающим из фрамуги, не поменялся бы местами с самим королем Пруссии. Когда же Луи принес ему поднос с едой, его радости не было границ.
— Угощайся, тут все свежее. Хлеб я пеку сам, а окорок, сардельки и колбасу делает мой приятель.
Эварист с беспокойством посмотрел на трактирщика.
— У меня сейчас плохо с деньгами, а следующая получка не сильно поправит положение…
— Не переживай, постоянным клиентам я даю кредит.
— Ты славный парень, Луи, с меня причитается.
Эварист с аппетитом съел все, что ему принесли, и закурил трубку. От сытной еды и непривычного безделья его разморило и стало клонить в сон. В голове бродили приятные воспоминания. Первое относилось к далекому весеннему дню 1874 года, когда Эмиль Легри познакомил его с учением Фурье, за которым видел будущее. Затем память перенесла Эвариста к событиям минувшего лета, когда он вместе с другими членами ассоциации «Подранки» разыскивал в лесу упавший с неба метеорит. Совместные поиски сблизили их, и Эварист впервые почувствовал себя с остальными на равных. Он расхрабрился настолько, что позволил себе пару раз ущипнуть за мягкое место Сюзанну Боске. Она с хихиканьем уворачивалась, но далеко не уходила, давая понять, что вовсе не против его ухаживаний. Жаль, что приятную прогулку пришлось прервать — этому кретину Донатьену Ванделю взбрело в голову зачем-то влезть на дерево, а потом свалиться оттуда…
Воспоминания Эвариста прервал появившийся на пороге Луи с бутылкой мюскаде
[540] в руках.
— Твои девицы запаздывают. Передали с посыльным вот это, чтобы приятнее было коротать ожидание.
— Я предпочел бы этому сиропу красненькое.
— Да
брось, мюскаде — неплохое вино, особенно если с желудком проблемы.
Луи откупорил бутылку, и Эварист предложил ему тоже угоститься стаканчиком.
— Нет, я ведь на работе, — отказался тот. — А ты пей, я принесу еще закуски.
Эварист глотнул прямо из бутылки. Вино было странным на вкус, и внутренности ему тут же скрутило. Эварист упал на пол и, тяжело дыша, прислонился спиной к стене. Сердце тоже вело себя странно: то колотилось как бешеное, то билось гулкими, глухими ударами. Все поплыло у него перед глазами, тело пронзили новые спазмы. Он распластался на полу.
— Доктора, скорее! — прошептал он еле слышно.
У него начались судороги. Изо рта пошла пена.
Когда Луи с подносом вернулся в комнатушку, мертвые глаза Эвариста смотрели на паука, сидящего в центре паутины, натянутой между двух бочек.
У каждого здания есть свое лицо, а, может, даже и душа, сказал себе Виктор. Вот это, с разукрашенным лепниной фасадом, похоже на напыщенного сноба, а вон то, строгих геометрических форм, напоминает скромного, порядочного гражданина. На эти мысли его навел особняк сэра Реджинальда, втиснувшийся между двумя соседними домами. Его фасад был украшен маскаронами, а над монументальной входной дверью возвышались два атланта, державшие на плечах земной шар, на котором был выбит девиз:
Она вертится впустую, а мы топчемся на месте.
Претенциозно, но не без юмора, вынес Виктор свой вердикт.
Гости толпились в вестибюле, из которого вела наверх величественная лестница. Виктор разглядывал бюсты гетер, расставленные среди цветущих растений, невольно улавливая обрывки разговоров.
— Меня тут все раздражает…
— Вы читали Рёскина?
[541]
— Я вас уверяю, в его оранжерее полно черных ирисов, а еще он коллекционирует нефритовые фигурки животных и живых сиамских кошек.
— Смотрите, вон идет принцесса де Ришелье, что за горделивая осанка!
— Скажите, неужели Ла Гайдара
[542] действительно развелся?
— Боюсь, что так. Прошлым летом при встрече с одним моим приятелем он дал ему совет: «Никогда не женитесь, друг мой»…
— Говорят, он будет здесь сегодня.
Медленно поднимаясь по мраморным ступеням, Виктор видел немало представителей парижской богемы: Марсель Швоб, близоруко сощурив глубоко посаженные глаза, подавал руку Маргарите Морено. Жан Мореас с сигарой в зубах беседовал с Фелисьеном Ропсом,
[543] немолодым человеком с подведенными глазами, в обтягивающей блузе кроваво-красного цвета. Тут были женщины, одетые по-мужски, с галстуками и эполетами, и женоподобные мужчины. Имя Оскара Уайльда было у всех на устах.
Большая часть гостей устремилась через анфиладу комнат к большой гостиной, где на возвышении, окруженном дымящимися курильницами, дама в бархатном платье с вышивкой золотом исполняла произведение Августы Холмс.
[544]
— «Эрос, сжалься над нами!..»
Виктор протискивался сквозь толпу, и с противоположных концов комнаты до него доносились голоса двух чтецов.
— Это Альбер Самен и Стюарт Мерилл,
[545] — сказал кто-то у него за спиной, и, обернувшись, Виктор узнал того, кто говорил про художника Антонио де ла Гайдара.
— Виктор!
Перед ним стояла Таша, в серо-голубом платье, которое очень шло к ее рыжим волосам, она выглядела восхитительно. При виде нее горечь, уже несколько дней терзавшая Виктора, мгновенно улетучилась. Но почему жена смотрит на него так насмешливо?
— Привет, дорогой! Ты не слишком сюда торопился!
— Приехал, как только получил твою записку. Не сразу удалось найти экипаж, да и дороги запружены. А мой велосипед в ремонте, ты же знаешь, к тому же я не позволил бы себе приехать на нем в такое место.
— Ты заблуждаешься, этот пафос показной. А большинство присутствующих просто очень эксцентричные люди. Что до сэра Реджинальда… кстати, вот и он, сейчас я вас друг другу представлю.
Хотя большинство мужчин, судя по всему, предпочли нонконформизм и были одеты в классическом стиле, хозяин, тучный господин с красным лицом, был в темном жилете, брюках с шелковыми галунами и короткой курточке, что странно сочеталось с белым галстуком и традиционной складной шляпой-цилиндром, моду на которую недавно ввел во Франции принц Уэльский. Сэр Реджинальд радушно пожимал руки гостям, и когда очередь дошла до Виктора, с такой силой сжал его ладонь, обнажив в улыбке крупные зубы, что тот едва не вскрикнул от боли.
— Так значит, вы и есть счастливый супруг нашей очаровательной плутовки Таша! Она сказала, что вы любитель литературы. Рад это слышать, мы весьма нуждаемся в помощи тех, кто ценит талант и презирает запреты. — Свой монолог хозяин дома произнес без малейшего акцента.
— Что он хотел этим сказать? — шепотом спросил Виктор у Таша, которая увлекла его в библиотеку.
— Это намек на Оскара Уайльда, в честь которого и организован прием. Сэр Реджинальд надеется привлечь как можно больше людей на его защиту, чтобы под петицией стояли известные имена. Пойдем, я хочу, чтобы ты взглянул на мою работу, пока сэр Реджинальд не начал свою речь.
Виктор понял, что легко заблудился бы в лабиринте коридоров и никогда не нашел лестницу, ведущую наверх. Таша уверенно вела его вперед. Они миновали шесть комнат, где висели полотна Гюстава Моро, и наконец оказались в той, которую оформляла Таша.
— Этот заказ для меня очень важен. Если три мои последующие аллегории получатся не хуже первой, я, возможно, даже смогу составить конкуренцию Вюйару.
[546] В прошлом году он создал одиннадцать великолепных полотен! Александр Натансон повесил их в своей резиденции на авеню дю Буа.
[547]
Таша была верна себе, смешав различные стили и жанры, и Виктор в очередной раз восхитился ее талантом. Она изобразила обнаженную нимфу, устремившую томный взор за горизонт, куда, покачиваясь на волнах, уплывал корабль. Это вызывало легкую грусть и выглядело довольно эротично. Виктор попытался обнять жену.
— Эй, руки прочь! — с напускной строгостью воскликнула она, выскользнув из его объятий. — Если хочешь, можешь остаться и переночевать тут вместе со мной.
— Значит, здесь ты спишь?
Виктор разочарованно окинул взглядом небольшой будуар.
— Апартаменты сэра Реджинальда недалеко, — поддразнила его Таша и со смехом добавила: — Милый ты мой простофиля, неужели ты не понял, что женщины его не интересуют? Даже если бы мы остались с ним одни во всем свете, он бы и пальцем ко мне не притронулся. А как твое расследование, продвигается?
— Какое расследование?
— О, забудь, я пошутила. Пойдем, нам пора!
Они спустились вниз и вошли в овальную гостиную, стены которой были увешаны саблями — старинными и современными. На трибуне, украшенной французским и английским флагами, ораторствовал сэр Реджинальд, сменивший цилиндр на фуражку с козырьком, а орхидею на гвоздику.
— …Произведения Оскара Уайльда исчезли из магазинов, его имя не появляется на театральных афишах, а лондонское общество разделилось на тех, кто «за», и тех, кто «против». Только представьте себе, умнейшему человеку нашего времени, семьянину, отцу двоих детей маркиз Куинсберри оставил в клубе записку с обвинением в содомии! Разве можно винить блестящего писателя в том, что он подал в суд иск за клевету, защищая свою честь? Разве мог он предполагать, что этот достойный поступок обернется против него самого?!
— Он поступил правильно! — зашумела аудитория.
— Имя Оскара Уайльда смешали с грязью, ему устроили допрос с пристрастием, копаясь в его частной жизни. И это неудивительно: ведь англичане самого Байрона выжили из страны! Наш суд ополчился против Оскара Уайльда, приговорив его к двум годам принудительных работ. Но, я спрашиваю вас, почему личные переживания человека, и не просто человека, а великого художника, должны быть достоянием общественности?
По залу прошел ропот.
— Здесь, во Франции, люди не столь лицемерны. Ваши газеты не приветствовали вынесенный Уайльду приговор. Ни один из французских критиков не назвал «Портрет Дориана Грея» безнравственной книгой, — продолжил свою речь оратор.
— Это шедевр, мой друг Малларме объявил об этом во всеуслышание! — выкрикнули из зала.
Виктора кто-то тронул за локоть. Он обернулся и увидел Мориса Ломье.
— Не хотите ли проветриться, дорогой Легри? — предложил тот.
Виктор сделал знак жене что ненадолго выйдет. Таша недовольно кивнула, погруженная в свои невеселые мысли. Сэр Реджинальд нахваливал власти Франции, но разве не они сослали Дрейфуса, обвинив его в предательстве только потому, что он еврей? Да и ее родители, Джина и Пинхас, всегда готовы к худшему…
— Вы меня знаете, Легри, я предпочитаю дам, но то, что утверждает Лимингтон, который попросил меня написать портрет одного из его близких друзей, некоего Андре Жида, — небезосновательно. Произведения Флобера и Бодлера тоже одно время считали непристойными, но их же не заставляли предстать перед судом! Если заключать под стражу всех, кто ведет себя как Уайльд, тюрьмы будут переполнены, — пробормотал Ломье, указывая Виктору на некоторых гостей. — Видите вон того молодого человека? Это Рейнальдо Ан,
[548] очень одаренный пианист. А вон там, за фикусом, прячется Марсель Пруст, Рейнальдо — его любовник. А вон тот верзила с пышными усами — Жан Лорен, он приехал сюда, хотя когда-то отказался пожать руку Уайльду, потому что тот заметил: «Такие люди, как мы с вами, не могут быть друзьями, они могут быть только любовниками».
— Вы удивляете меня, Ломье, не знал, что вы придерживаетесь таких свободных взглядов.
— Дорогой мой, никогда не стоит откапывать топор войны. Кстати, позвольте еще раз выразить вам признательность за ту услугу, что вы мне оказали в прошлом году.
[549] Что до Мими, она навсегда предана вам.
— Польщен.
— Жизнь можно охарактеризовать одним словом — неопределенность, — нежно пропела молодая англичанка, обращаясь к Жану Мореа, который подписывал ей свою брошюру.
Виктор и Ломье дружно рассмеялись. Они протискивались сквозь группы людей, болтающих между собой, пока, наконец, не добрались до стола с белой скатертью и столовым серебром. Горы пирожных, фруктов и канапе с сыром и огурцом стремительно уменьшались под набегами гостей. Добыв несколько тарталеток и два бокала шампанского, Виктор и Ломье устроились за одним из круглых столиков.
— А знаете, кажется, пришел мой черед попросить вас об одолжении, — проронил Виктор.
— Слушаю вас, но должен предупредить: я без гроша. Как говорил Александр Дюма-сын: «Когда начинаются займы, кончается дружба».
— Речь идет вовсе не о деньгах, мне нужен адрес. Я ищу Амори де Шамплье-Марейя.
— Сахарного короля? Он куда-то исчез. Скорее всего, с очередной любовницей. Полагаю, одна небезызвестная вам дама могла бы кое-что сообщить по этому поводу, ведь она и сама когда-то встречалась с этим господином. Я говорю о Фифи Ба-Рен, княгине Максимовой, которая снова покоряет наши подмостки, на этот раз под именем Фьяметта. И похоже, имеет бешеный успех!
— Это так, — подтвердил сидевший с ними за одним столиком румяный мужчина.
— Виктор Легри — Юг Ребель,
[550] — представил их друг другу Ломье. — Здравствуйте, Юг.
— Эта Фьяметта дорогая штучка! Надеюсь, мои слова не шокируют вас, дорогая, — с улыбкой повернулся к своей спутнице Ребель, — но я не мог не воспользоваться дарами, которые Господь Бог, если он, конечно, существует, послал мне.
— Вы знаете, где она квартирует? — спросил Виктор.
— В отеле «Континенталь». Жюль Ренар вам только что кивнул, — обращаясь к Ломье, сказал Ребель. — Он говорил, что хочет вас видеть. Вы слышали, театр «Одеон» включил в репертуар его одноактовую комедию «Просьба», Жюль Леметр
[551] написал хвалебную статью в его честь, и Сара Бернар пригласила его к себе.
В этот момент одна девица, подражая Мэй Белфорт,
[552] запела:
Мои брюки как у англикашек,
Такие неудобные,
Пускай они некрасивые, мне плевать,
Ведь на сцене они — то, что надо!
Виктору захотелось побыть одному и подышать воздухом. Он попрощался с Ломье и с трудом отыскал Таша, которая оживленно беседовала с какой-то американкой.
— Познакомься, это Мэри Кассат, два года назад она выставила девяносто восемь картин у Дюран-Рюэля,
[553] — пояснила ему Таша. — Мне кажется, тебе не очень здесь понравилось, я не ошиблась?
— Нет, слишком много сплетен и кривлянья, я собираюсь вернуться в магазин, ты со мной?
— Мне бы очень хотелось, но завтра с рассветом надо приступать к работе, мне еще много что предстоит сделать.
— Что ж, тогда увидимся завтра.
Он погладил ее по руке и скрылся в толпе. Какая-то полная дама шепнула ему на ухо:
— Представляете, англичанкам уже мало их знаменитых чаепитий, они теперь еще и курят, это называется «чай с сигаретами», только подумайте!
Выйдя наружу, Виктор тоже закурил. Лязг железа, доносящийся со стороны конюшен, вызвал его любопытство. Он подошел и увидел сэра Реджинальда, на сей раз в клетчатом пиджаке, склонившимся над трехколесной машиной с двумя кожаными сиденьями. Англичанин поднял голову.
— Это трехколесный паровой экипаж Серполле,
[554] невежды видят в нем нечто сатанинское. Но должен сказать, месье Легри, на этой машине, на управление которой я получил разрешение, подписанное комиссаром полиции, я легко обгоняю конные экипажи. Придет время, когда даже велосипед уйдет в прошлое. В Париже уже есть Автомобильный Клуб, благодаря маркизу де Диону.
[555] Вы нас покидаете?
— Увы, мне нужно работать. Благодарю за прекрасный вечер.
Автомобиль произвел на Виктора сильное впечатление. Он бы не отказался приобрести такой.
Бледный свет фонаря падал на кровать сквозь решетчатые ставни. Эрик задумчиво смотрел на спящую Кору. Ранним утром он явился к ней с двумя чемоданами, объяснив свой переезд тем, что поссорился с матерью.
— Я в долгу не останусь, — пообещал он девушке.
Кора встретила его с распростертыми объятиями, воспринимая его нежность к ней как плату за гостеприимство.
«Она всего лишь маленькая шлюха, но заслуживает лучшей доли. Конечно, как у большинства ей подобных, на уме у нее только деньги… Но я и сам, в конечном итоге, немногим лучше, — думал Эрик. — Интересно, в кого я такой… Может, в дядюшку Донатьена?.. Что ж, если мне удастся провернуть это дельце, я позабочусь о малышке».
Он ненавидел квартиру на улице Верней — темную, с удушающей атмосферой, и узкие грязные домишки по соседству, в которых обитали по большей части мясники, колбасники и торговцы углем. Ему надоела скрипучая кровать, дешевые побрякушки Коры, ее расчески, щипцы для завивки волос…
Его разбудили истошные крики торговки, расхваливающей салат-латук: «Первосортный товар из Карантана! Налетай, кто желает!». Когда-нибудь он свернет ей шею.
Эрик засунул руку под простыню и погладил грудь Коры. Ничто так не возбуждало его, как пассивность объекта вожделения.
Кора покорно отдалась ему, а когда он откинулся на спину, удовлетворенный, отвернулась и снова уснула. Эрик встал, собираясь уйти по-английски, но его взгляд упал на гору грязной посуды, которую можно было вымыть в раковине в конце коридора, и вдруг, неожиданно для него самого, сердце сжалось от жалости к Коре. Она всячески старалась ему угодить. Вернувшись вчера из «Пивнушки для холостяков», несмотря на усталость, приготовила телячье рагу, и пока он ел, стояла рядом и смотрела на него, готовая удовлетворить любой каприз любовника. Эрик представил себе, что было бы, если бы его мать узнала об этой связи. Бернадетта Перошон была строгих правил, и ее, наверное, хватил бы удар, если бы она увидела сына в квартире проститутки. Он словно наяву услышал ее визгливый голос: «Неблагодарный! А о моей репутации ты подумал? От тебя никогда не будет толку. Один Бог ведает, чем это может закончиться!»
Эрик зажег свечу, натянул брюки, вынул из кармана пиджака, висящего на спинке стула, карандаш и записную книжку и начертал:
Бонваль Ида. В провинции, перед рождественскими праздниками должна вернуться в Париж.
Найти во что бы то ни стало новый адрес Сюзанны Боске.
— Эрнест Сорбье с 1888 года вне игры. Значит, их осталось всего семеро, — прошептал он. — Ида Бонваль, Сюзанна Боске, Гюго Мальпер, Рен и Лазар Дюкудре, Виржиль Сернен и Эварист Вуазен. Интересно, как они себя поведут, когда получат от меня очередную записку? Не исключено, что перегрызутся между собой. Плохо только одно: я не единственный, кто идет по следу, и медлить мне нельзя.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Суббота, 23 ноября
Издав протяжный гудок, поезд тронулся, оставив Виктора и еще нескольких пассажиров на платформе под проливным дождем. Все бегом бросились к зданию вокзала. Виктор поинтересовался у служащего, как ему попасть в замок Буа-Жоли. Тот снял фуражку и долго чесал в затылке прежде чем изрек:
— Папаша Граффар.
Виктору пришлось подождать еще некоторое время, пока паренек со станции сбегал предупредить папашу Граффара о том, что его дожидается клиент.
Наконец, потрепанный шарабан,
[556] запряженный не менее древней, чем он сам, клячей, остановился у края платформы. Папаша Граффар, совершенно седой, но довольно бодрый старик, выслушал адрес и лениво взмахнул кнутом. Лошадь двинулась, и вскоре Виктор увидел безлюдную, утопавшую в грязи деревеньку. Он порадовался, что захватил с собой зонт, в противном случае, сидя рядом с кучером в открытой повозке, вымок бы до последней нитки.
Чуть меньше чем через полчаса шарабан остановился у незапертых ворот.
— С вас двадцать су, — произнес папаша Граффар, молчавший всю дорогу.
— Я хотел бы нанять вас на целый день, если возможно. Назначьте цену.
После долгого раздумья кучер потребовал сто су. Виктор согласился.
— Подождите меня, я не знаю, сколько времени мне придется там провести, а потом поедем в Сен-Ле-Таверни,
[557] где я сяду на обратный поезд.
Он прошел через парк по аллее с фруктовыми деревьями по обеим сторонам. Справа, у невысокой стены, теснились решетчатые вольеры с собаками. Они разноголосым лаем встретили появление чужака. Виктора поразило их количество.
Перспектива путешествия в замок Гюго Мальпера и сама по себе не слишком воодушевляла Виктора, в довершение ко всему у него с самого утра разболелась голова. И неудивительно, ведь ему всю ночь снились кошмары. Тем не менее, в восемь утра он позвонил в лавку и сообщил Жозефу, что отправляется в Домон, попросив придумать что-нибудь, чтобы объяснить его отсутствие Кэндзи. «Телефон — замечательное изобретение, и главное его достоинство в том, что можно оборвать разговор, не слушая возражений собеседника», — подумал Виктор, вешая трубку.
Он подивился на замок, построенный словно по проекту Безумного Шляпника из сказки Льюиса Кэролла, и позвонил в дверь. Ему открыла широкоплечая женщина лет пятидесяти с некрасивым лицом. Но Виктор угадал в ней одну из тех, у кого под неприглядной внешностью скрывается добрая душа. Он назвался далеким родственником месье Мальпера, с которым желал бы обсудить семейные дела.
— Добрый день, месье, меня зовут мадам Бонефон. Хозяин уехал на рассвете. Анри запряг двух лошадей в его ландо,
[558] и они помчались к знакомому ветеринару, который живет в Медоне. Если бедная Пишетта умрет, это разобьет хозяину сердце!
— Речь идет об одной из собак?
— Любимой! Пишетта принадлежала раньше маленькой дочке бакалейщика, бедную собаку зацепило шальной пулей на охоте. Бакалейщик отдал ее месье Мальперу, которого прозвали у нас Покровителем псов. Теперь Пишетта, конечно, чересчур растолстела, и с годами это только усугубляется, потому что хозяин балует ее сладостями. А вчера вечером ее укусил хорек! Рана глубокая, остается надеяться, что она не воспалится! Месье Мальпер — славный человек, но когда дело касается собак, теряет голову!
— Давно вы у него служите?
— Четыре года. Работы тут полно, а я управляюсь практически одна. У меня всего две руки, так что отдыхать мне некогда. Кормит собак Анри, сын конюха, а я целыми днями готовлю: у нас ведь их три десятка, да и люди тоже есть хотят!
— Гюго упоминал в письмах про нескольких собак, но я не подозревал, что у него целая свора.
— Свора бездельников, скажу я вам! Бездомные бродяги, жертвы судьбы. Да что это я — чешу языком, а вы совсем продрогли. Входите же, погрейтесь у меня на кухне.
Виктор принял приглашение с удовольствием. На плите в котелке булькало какое-то варево из овощей и мяса, и ему не хотелось думать о том, кому именно — двуногим или четвероногим обитателям поместья оно предназначалось. Помешав в котелке поварешкой, мадам Бонефон продолжила, явно радуясь тому, что есть кому ее выслушать:
— Если бы какой-нибудь литератор захотел написать про хозяина, ему было бы чем заполнить страницы. Первую собаку, которую месье Мальпер приютил, он назвал Эмилем, и я часто слышу от него это имя. Потом он подобрал тощую легавую и борзую со следами побоев на спине. Как люди жестоки! Тогда хозяин и отвел часть парка под псарню. Чтобы не мучиться, придумывая клички своим питомцам, он давал им имена из книжек.
Мадам Бонефон склонилась над котелком, и Виктор изумился, как ее не стошнило от доносящегося оттуда запаха.
— Но у меня все имена записаны. Каждому году соответствует буква алфавита. В семьдесят третьем у нас появились Аякс и Ариадна, на следующий год Бомарше и Босси, потом Декарт и Даная… Последним к нам попал кокер-спаниель, он слонялся весной по дороге де Фон. Держу пари, вы ни за что не угадаете его кличку!
— Как вы думаете, когда месье Мальпер вернется домой? — отважился спросить Виктор, подавив приступ тошноты.
— Да я и сама хотела бы это знать! Может, сегодня вечером, а может, завтра или через неделю! И все это время, пока нет Анри, кормить собак придется мне… А у вас к нему срочное дело?
— Да, я хотел поговорить с ним про его знакомых.
— Нежеланных гостей?
Мадам Бонефон рывком сняла котелок с плиты и, водрузив на стол, накрыла тряпкой. Виктор, наконец, смог вдохнуть полной грудью.
— Не делайте большие глаза, я уверена, вы поняли, о ком я! Так называет их сам хозяин. Они каждый год приезжают сюда пировать за его счет. А ведь захлопни он дверь перед носом у этих дармоедов, от скольких хлопот это меня бы избавило! Одна надежда, что случившееся нынешним летом, в августе, послужит им хорошим уроком!
— А что тогда произошло? — спросил Виктор, отступая на шаг назад, чтобы пропустить мадам Бонефон, которая намеревалась раскладывать варево в миски.
— Это было той ночью, когда с неба свалился этот камень. Метеор, так, кажется, было написано в газетах. Что до меня, так я считаю, что это мец накликал беду. С тех пор как он поселился в лесу, чего только тут не случалось… Коли встретишь его, он будто пронзает взглядом насквозь! Его давным-давно следовало упрятать за решетку!
Мадам Бонефон откинула тряпку с котелка, и Виктор, опрометью кинувшись к окну, распахнул его.
— Так вот, в августе наш дом был полон народу, — продолжала славная женщина. — Хорошо еще, хозяин догадался нанять дополнительную прислугу. Когда раздался невероятный грохот и с неба упала эта каменюка, гости повскакивали и хотели немедленно идти в лес. Ну да, нашли бы они этот метеор, как же! В темноте-то, в лесу, среди болот! В конечном итоге они успокоились, а я приготовила им корзины для пикника и уложила все, что осталось от ужина.
Виктор испуганно покосился на котелок.
— Они торчали здесь три дня! Пока не случилось несчастье. Правду говорят: не буди лихо! Один из них, я забыла, как его звать, свернул себе шею. Упал с дерева и не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Месье Мальпер уложил его в коляску и отвез в Париж, с ними еще трое поехали. А остальных тут же как корова языком слизнула! Ну, и скатертью им дорожка! А больше мне ничего неизвестно.
— Месье Мальпер не говорил вам, что тот несчастный, его звали Донадьен Вандель, скончался? Это случилось месяц назад.
— Да ну! — всплеснула руками мадам Бонефон. — Нет, я этого не знала.
— Еще двоих, Деода Брикбека и Максанса Вине, тоже недавно не стало: они угорели в фиакрах.
— Боже всемогущий! — вскричала мадам Бонефон, прижав руки к лицу. — Если месье Мальпер чего и знает, он держит это при себе! Да и зачем ему со мной об этом говорить, я всего лишь крестьянка, в Париже-то была один раз в жизни, в восемьдесят девятом, поехала на выставку. Ох, я думала, лишусь рассудка в этой суматохе! Угореть в фиакрах, это же надо… Говорю вам, это все мец! Тут наверняка не обошлось без колдовства!
«Что за фантазия пришла в голову Донатьену Ванделю взобраться на дерево? И кто этот мец, о котором мадам Бонефон столь нелестно отзывалась?» — размышлял Виктор, возвращаясь к шарабану папаши Граффара.
Вы не знаете, есть тут поблизости какое-нибудь заведение, где можно недорого поесть и выпить местного вина? — спросил он у старика, рассудив, что трактир — идеальное место, чтобы разузнать о пресловутом меце.
Папаша Граффар прикрыл глаза и надолго задумался.
— «Три колоса»! — наконец осенило его, и шарабан покатился по дороге.
Хозяйка заведения, пухленькая южанка с томным взглядом, проворно принесла Виктору недожаренный омлет, ломоть хлеба и бутылку медока.
[559]
— Сразу видно, что вы нездешний, месье, у вас хорошие манеры. Не то что у наших пьянчуг, — пропела она.
— Эй, Ирма, не трать время зря! Месье тебе все равно не пара, а если бы мы не таскались в твой кабак, тебе пришлось бы прикрыть лавочку! — прохрипел мужчина с пышными усами и желтой прокуренной бородой.
Эти слова вызвали шумное одобрение завсегдатаев, которые с удовольствием поглядывали на широкие бедра и налитую грудь хозяйки.
— Тише там! — прикрикнула Ирма. — У нас республика! С кем хочу, с тем и разговариваю!
Виктор решил воспользоваться тем, что она выказала ему симпатию.
— Вы отлично готовите омлет. Такого не попробуешь даже в английском кафе.
— Да что они могут приготовить! — раздался громоподобный голос Желтой Бороды.
— Заткнись, Жюстиньен, или убирайся прочь! — прикрикнула на него Ирма.
Тот притих, и Виктор воспользовался этим, чтобы начать разговор на интересующую его тему:
— По пути сюда я наткнулся на какого-то типа бандитского вида. Кажется, его называют тут мецем.
Тишина воцарилась такая, что слышно было жужжание последней осенней мухи. Наконец Ирма осмелилась сказать:
— Он и правда обладает силой, как злой, так и доброй. Те, кто приходят к нему за помощью с чистой совестью, не бывают разочарованы. А других, кто задумал недоброе, Жеробом Дараньяк видит насквозь и напускает на них порчу.
— Ущипните меня, я, должно быть, сплю! Ирма влюбилась в колдуна! — завопил Желтая Борода.
Не обращая на него внимания, Виктор продолжил расспросы:
— А где он живет?
— В лесу, в хижине недалеко от Охотничьего замка. Но раньше чем через два дня вы его не увидите: сейчас полнолуние, и он готовит свои снадобья где-то в одному ему известном месте. Никому еще не удавалось его там найти.
— А он никак не связан с хозяином замка Буа-Жоли Гюго Мальпером?
— Ну, я бы не удивилась, если между этими сумасбродами есть какая-то связь. Хотя из них двоих собачник — более чокнутый и более одинокий. Я как-то раз столкнулась с ним и его сворой: они шествовали как на параде, он впереди — в мундире, застегнутом на все пуговицы, собаки за ним. Странный он человек, этот Гюго Мальпер, он даже женщинами не интересуется.
— А тебе обидно, да, Ирма? — вставил Желтая Борода.
— Его соседи поначалу были недовольны, но собаки ведь никого не кусают, и в конце концов их оставили в покое. Мне-то кажется, Гюго Мальпер — славный человек, он готов приютить любую псину.
— А лай-то какой у него там стоит! Они заливаются как бешеные, это пугает ребятишек, а щенков я бы вообще всех утопил…
— Все, Жюстиньен, мое терпение лопнуло. Вон отсюда!
Желтая Борода, видимо, привыкший слушаться Ирму, которая в данный момент указывала ему пальцем на дверь, повиновался. К разочарованию хозяйки Виктор тоже ушел, правда, в противоположном направлении. Он захватил с собой почти полную бутылку медока и вручил ее папаше Граффару, восседавшему на козлах. Тот сделал несколько глотков и довольно причмокнул губами. В Сен-Ле они доорались довольно быстро. Дождь прекратился, головная боль у Виктора на свежем воздухе прошла, а главное, он был доволен добытой информацией, хотя понимал, что ему придется нанести еще один визит в Домон, чтобы встретиться с Гюго Мальпером и Жеробомом Дараньяком.
Жозеф наводил порядок в хранилище. Он почти не слушал Виктора, возмущенный тем, что шурин отсутствовал почти три дня. Однако, узнав о том, что следующая операция в замке Буа-Жоли поручена ему, Жозеф успокоился. И окончательно повеселел, услышав, что ему предстоит выполнить еще одно задание: посетить магазин Дюкудре.
— Но что мы скажем Кэндзи?
— Что у букиниста Ораса Тансона оказалось много разрозненных томов из собраний сочинений, от которых он охотно избавился бы. А вечером вы разворчитесь, что съездили к клиенту понапрасну, — тут же нашелся Виктор.
Жозеф спешил покинуть площадь Бастилии: Июльская колонна напоминала ему о весьма неприятных событиях, произошедших три года назад.
[560] Он резко дернул за колокольчик на двери магазина «Лошадка-качалка».
Немолодая полноватая женщина с приятным курносым лицом и ямочками на щеках демонстрировала покупателям говорящую куклу фирмы Жюмо:
[561]
— Под этой пластинкой с дырками у нее на груди находится маленький цилиндрический фонограф. Достаточно потянуть куклу за ручку, чтобы привести в движение часовой механизм. Послушайте.
Звонкий девчоночий голосок выпалил скороговоркой: «Как я рада, мама позволила мне пойти в театр, я иду на спектакль. Ах! Тир-лир-ло, как прекрасен мой шато, тир-лир-ло, в нем я буду королевой, тир-лир-ло!».
Послышались восхищенные восклицания, и Жозеф тоже не смог сдержать улыбки. В этом царстве игрушек он невольно вспомнил свое детство: как в далеком 1879 году шел, держась за руку матери, по Большим бульварам, где каждый год в декабре рядами выстраивались ярмарочные ларьки. Уличные торговцы расхваливали свой товар перед прохожими, желающими приобрести недорогие подарки к Рождеству, размахивая полишинелями,
[562] дудочками и барабанами. Перед прилавком с заводными игрушками Жожо встал как вкопанный. Ему страстно хотелось иметь маленького человечка, толкающего перед собой тележку.
— Сколько? — спросила Эфросинья после короткого раздумья.
— Шесть су, — ответил торговец.
Мать выудила из кошелька все монеты, но двух су не хватало.
— Я уступлю вам, мадам, — смилостивился продавец.
Не веря своему счастью, Жожо прижал игрушку к груди. Потом, придя домой, он поставил ее на сундук и до вечера не сводил с нее глаз. После этого им с матерью пришлось питаться яблоками и хлебом, пока в кошельке снова не завелись деньги. Позже Жожо купили лото и маску из папье-маше, но человечек с тележкой навсегда остался его самой любимой игрушкой. Он, наверное, до сих пор валяется где-нибудь в углу сарая на улице Висконти.
Теперь заводные игрушки стали более сложными. Куклы в красивых платьях не только двигали руками и ногами, но и разговаривать умели.
Пройдя мимо петрушек и швейных машинок, стоивших почти как настоящие, Жозеф заинтересовался лошадкой на колесиках, с хвостом из настоящего конского волоса и красным кожаным седлом. Глядя на нее, Жозефу захотелось стать маленьким мальчиком. Увы, в прошлое нельзя вернуться. Он смотрел на игрушки и размышлял, как поступить: купить Дафнэ куклу и игрушечную посуду — или праксиноскоп?
[563]
— Вам помочь, месье?
— Какие у вас есть развивающие игрушки?
— Скачущие лошадки, книжки с картинками, головоломки, калейдоскопы, волчки, — произнес продавец, очень бледный мужчина лет пятидесяти.
— Вы месье Дюкудре? Лазар Дюкудре?
Продавец пристально посмотрел на Жозефа.
— Дайте подумать. Может, я человек с полыми костями?
— Что за тарабарщина? — оторопел Жозеф.
Посмеявшись над своей шуткой, продавец, казалось, проснулся.
— Я имею в виду Овидия.
[564] Это загадка, молодой человек, а загадки — моя страсть. А ну-ка, ответьте, что это: четыре девушки гонятся друг за другом, но никогда не смогут друг друга поймать?.. Неужели не догадались? Четыре колеса повозки! Ладно, шутки в сторону. Лазар, выйди к нам!
[565]
Жозеф растерялся: казалось, у этого человека не все дома.
— Я… э-э-э… меня направил к вам наш общий знакомый, — пробормотал он. — Мы оба коллекционируем миниатюрные модели железных дорог. Его зовут месье Вандель. Он сказал мне, что покупал их у вас.
Лазар Дюкудре вытаращил на него глаза.
— А, старик Донатьен! Как его дела? Бедняга, ему не повезло! Он ведь тяжело болен… Кстати, вот вам еще загадка: в начале и в конце она коротка, а в полдень достигает максимальной длины. Что это? Ну же, я имею в виду тень, а вы…
— Месье Вандель покинул наш бренный мир, — прошептал Жозеф.
Лазар Дюкудре как будто растерялся.
— Черт возьми! — воскликнул он. — Рен! Иди сюда!
Курносая женщина отложила куклу и приблизилась.
— Здравствуйте, мадам. Да, Донатьен умер. Это случилось в тот самый день, когда произошла катастрофа на вокзале Монпарнас, — уточнил Жозеф. — Мадам Перошон не пустила меня в комнату брата, но я мельком видел тело.
— Господь смилостивился над несчастным и послал за ним поезд, который увез его на Небеса, — со скорбным видом произнесла мадам Дюкудре.
— А мы так и не собрались навестить его. Теперь уже поздно, — пробормотал ее муж. — Но нам никто не сообщил о его кончине.
— Это было в газете. — Жозеф показал им вырезку с объявлением в черной рамке.
Мадам Бернадетта Перошон и ее сын Эрик выражают признательность всем тем, кто счел своим долгом присутствовать на мессе в соборе Нотр-Дам в субботу 16 ноября, через три недели после того, как Донатьен Вандель покинул этот мир.
— А знаете, что такое: черный днем и белый ночью? Не догадались?.. Кюре.
— Лазар, прекрати, — шикнула на него супруга. — А что это за газета?
— «Фигаро».
— Мы читаем только «Ле Тамп», — заявила Рен довольно резко, но затем, смягчившись, спросила участливо: — Давно вы с ним знакомы?
— С тех пор как я поселился в доме номер 5 на улице Депар, то есть уже два года, — выпалил Жозеф первое, что пришло в голову.
— Это он рассказал вам про нас?
— Да, дорогая, месье пришел к нам по рекомендации Ванделя, он тоже коллекционирует миниатюрные железные дороги.
— А вы — тоже члены ассоциации «Подранки», не так ли? Месье Вандель мне рассказывал, при каких обстоятельствах она была основана. Вы были с ним рядом, когда произошло это ужасное несчастье?
— Нет, мы все разбрелись по лесу, прочесывали кусты в надежде отыскать осколки метеорита. Когда мы вернулись в замок месье Мальпера, он уже увез Донатьена в Париж.
— Но зачем он полез на дерево?
— Мы и сами хотели бы это знать, месье…
— Пижо, Жан Пижо. Мадам Перошон рассказывала мне, что среди тех, кто привез ее брата домой, была некая Ида Бонваль.
— Она ошиблась, Ида не поехала с Мальпером. Она вопила, что от волнения портятся голосовые связки, и целый час полоскала горло мелиссовой водой. Итак, месье Пижо, вы хотели приобрести новые модели для своей коллекции? — Рен Дюкудре явно давала понять, что разговор о происшествии в лесу Монморанси окончен.
— Да-да, кончено. А еще… моей дочке чуть больше года, приближаются праздники…
— У меня есть то, что вам нужно!
Хозяйка потащила Жозефа к полке с куклами, но его внимание привлек Ноев ковчег с фигурками персонажей библейского сюжета.
— Вот это мне подойдет.
— Возьмете все?
— Нет, пожалуй, ограничусь медведем, жирафом и слоном.
Рен Дюкудре, раздраженно бросив в кассу две монеты, не дала себе труда даже срезать написанные от руки этикетки и упаковать игрушки. У двери незадачливого покупателя нагнал Лазар и шепнул ему на ухо:
— Шагаешь — впереди лежит, оглянешься — домой бежит. Знаете, что это такое? Улица.
Книжная лавка «Эльзевир» напоминала потревоженный улей. За несколько минут до закрытия в магазин пожаловали графиня Олимпия де Салиньяк, Бланш де Камбрези, Адальберта де Реовиль и Хельга Беккер. Вскоре появилась и Мишлин Баллю, жаждущая последних сплетен.
Виктор, злясь на Жозефа за то, что тот запаздывает, поспешил укрыться в комнатке за магазином, но и туда доносились громкие женские голоса из лавки.
— «Франция, на колени! Скоро ты предстанешь перед Богом. Звони, священный колокол! Внимайте, народы! Франция приносит свою молитву Господу!» Это так трогательно! Я чуть не разрыдалась! — вскричала Олимпия де Салиньяк. — Никогда не забуду эту проповедь. Вы были там, месье Мори?
— Где? — переспросил Кэндзи, не успевший улизнуть.
— На вершине холма Монмартр, конечно! Это был великий день для французских католиков, не так ли, Адальберта?
— Знаменательный день, — охотно согласилась мадам де Бри, и ее лицо исказила мучительная гримаса, следствие пареза.
— Чем же он примечателен? — спросила Хельга Беккер.
— Вы, что с луны свалились? Двадцатое ноября навсегда останется в нашей памяти, в этот благословенный день в крестильную купель окунули Франсуазу-Маргариту из Савойи.
— Не имею чести знать это дитя, — пробурчал Кэндзи.
— Вы что, смеетесь, месье Мори! Франсуаза-Маргарита — это колокол «Савойяр», самый большой во Франции, дар Савойской епархии базилике Сакре-Кер. Он будет ждать окончания строительных работ справа от главных ворот.
— Я была там в воскресенье с моим кузеном Альфонсом, — вставила мадам Баллю. — И не жалею, там просто рай для торговцев. А на улице Шевалье де ла Барр был большой базар! Кузен сказал, что он словно попал в Марракеш. Там продаются и маленькие копии колокола «Савойяр» для вызова прислуги, и гипсовые статуэтки Девы Марии, и картинки с изображениями Жанны д’Арк на коне и во время молитвы, а еще фигурки святых, я купила себе одну, Святого Антуана. Но больше всего мне понравились всякие мелочи с изображением Сердца Господня, окруженного пламенем: подушечки для булавок, платки, кольца для салфеток, пеналы, пресс-папье, чашки, тарелки…
— Вы пойдете посмотреть колокол? — обратилась к Кэндзи графиня де Салиньяк.
— Должен признаться, дорогая мадам де Салиньяк, я с детства не люблю толпы, она связана для меня с мятежом или революцией… Кстати, в честь кого назвали улицу Шевалье де ла Барр? Кажется, этого молодого человека казнили за то, что он не поприветствовал церковную процессию?
— Именно так. Это случилось больше века назад, месье Мори, — кивнула графиня.
Кэндзи взглянул на свой хронометр.
— Милые дамы, прошу прощения, мне надо уйти, сейчас будут укладывать спать мою внучку. Виктор, позаботьтесь о наших очаровательных клиентках.
Виктор неохотно покинул свое убежище и выдавил из себя любезную улыбку.
— О, месье Легри! — обрадовалась его появлению Олимпия де Салиньяк. — Надеюсь, вы сумеете мне помочь! Я ищу новую книгу Поля Деруледа.
— Увы, мадам, боюсь, я ничего не могу для вас сделать, — сухо ответил Виктор.
— Но почему?
— В нашем магазине никогда не было произведений этого автора.
Возмущенная графиня поджала губы и в сопровождении своей свиты гордо направилась к выходу. Мадам Баллю последовала их примеру.
Перед театром на улице Комартен выстроилась очередь. Кэндзи коротал время, стоя под фонарем и проглядывая в газете рубрику «Премьеры».
Нынче у дам в моде худоба и изысканна бледность, они берут за образец женские образы прерафаэлитов и идут по жизни с лилией в руке, устремив взгляд к небу. Не такова мадемуазель Фьяметта. Лиане де Пужи остается только смириться с поражением! Девиз мадемуазель Фьяметты: «Ad aperturam libri — раскрытая книга», и ей нечего скрывать. Словно древнеримская богиня, она предлагает нам познать вкус эпикурейских удовольствий и земных радостей. Публика в восторге! Фьяметта дает возможность вкусить запретного плода, не согрешив при этом. Посмотрите спектакль «Невинные забавы инфанты», и вы будете навсегда покорены…
Кэндзи сложил газету и засунул ее в карман пальто. Он вошел в вестибюль театра, оставил в гардеробной трость и цилиндр и невольно улыбнулся, прочитав объявление у входа в зрительный зал:
Дамам в шляпах вход воспрещен
Кэндзи занял место в ложе бенуара и посмотрел на сцену.
Оркестр заиграл медленный вальс, название которого — «Отдайся мне вся без остатка» — не оставляло ни малейшего сомнения относительно содержания спектакля. Судя по всему, многие зрители хорошо знали слова этой песенки, которые подверглись жестокой критике сенатора Рене Беренжера четыре года назад, потому что потихоньку подпевали:
Отдайся мне вся без остатка,
Пусть сердце стучит…
Отдайся мне вся без остатка
И грудь покажи!
Отдайся мне вся без остатка,
Капля за каплей,
Занавес открылся, представив взору зрителя спальню. Кровать, туалетный столик, секретер, кресло, два стула и мольберт с почти законченным портретом удалого усача в мундире.
Раздался взрыв оваций, и появилась та, кого все ждали. Глубокое декольте открывало грудь, красная юбка обрисовывала бедра. Брюнетка с матовой кожей и темными глазами напоминала женщин с полотен Гойя.
Фифи Ба-Рен в совершенстве
владела искусством пробуждать в мужчинах желание, и ей легко удалось покорить зал. Несмотря на титул княгини Максимовой, она не скрывала честолюбивых устремлений и ничуть не стеснялась, выставляя свои прелести напоказ. И вот уже пять недель у ее выступлений был полный аншлаг.
Томно опустив ресницы и приоткрыв губы, она принялась расстегивать корсет. Зал будто сошел с ума. Фьяметта кончиками пальцев взялась за юбку и приподняла ее, демонстрируя аппетитные ножки в черных чулках. Потом повернулась к портрету своего «супруга» и протянула к нему руки. Раздался звон кимвалов. Фьяметта приподняла за подол верхнюю юбку, так называемую
скромницу, под которой была другая:
плутовка. С рассеянным видом она провела пальцами с длинными, накрашенными ярко-красным лаком ногтями по бедрам и взметнула юбками. Зал затаил дыхание. Чаровница вздохнула и изящно присела за маленький столик. Оркестр играл все тише, а Фьяметта делала вид, что пишет письмо. Дрожащим голосом, подражая Саре Бернар, она произнесла:
— Мой обожаемый супруг! С тех пор, как ты уехал на Кубу, в нашем любовном гнездышке стало так тоскливо… Я бесконечно одинока, в одиночестве встаю, в одиночестве ложусь, всю ночь одна в этой огромной, холодной постели…
Фьяметта промокнула глаза и стала покачиваться в сладострастном танце. Верхняя юбка упала на спинку стула. Вторая взлетела вверх, являя взору зрителей третью, и вскоре присоединилась к первой.
— О, мой Педро! — продолжала Фьяметта. — Зачем ты уехал? Тебя влечет война, только одна война! Я знаю, Куба прекрасна, там тепло, но это так далеко! Мне тебя не хватает!
Кэндзи, как и все остальные зрители, на мог оторвать взгляда от ее тяжело вздымающейся груди под тонкой сорочкой. Его охватили воспоминания о том, как когда-то он и эта женщина предавались любовным играм.
В четвертой сцене Фьяметта, измученная страданиями и одиночеством, окончательно избавилась от юбок и корсета. Она предстала перед зрителями с обнаженной грудью и выражением шаловливой невинности на лице, призвала мужа вернуться и скользнула под простыни.
Опустился занавес, зал взорвался аплодисментами. Запахнувшись в шелковый пеньюар, Фьяметта вышла на поклон. Она тщательно продумала все нюансы роли. Будь она слишком холодна или чересчур развязна, ее бы освистали. Встретившись взглядом с бывшей любовницей, Кэндзи прочел в ее глазах: «Я раздевалась для тебя!». Фьяметта скрылась за кулисами.
Кэндзи выходил из зала последним. Он не мог не признать, что Фифи сумела удержаться на тонкой грани приличий. Но нет, он не пойдет к ней гримерную с поздравлениями.
Чтобы успокоиться, он отправился на улицу Сен-Пер пешком. «Желание без любви все равно что безвкусное блюдо», — уговаривал он себя.
Внезапно им овладело беспокойство. Неосмотрительно было прятать альбом с фотографиями в хранилище. Кто-то из его компаньонов или Симеон Дельма могли на него наткнуться. Надо забрать его оттуда.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Вторник, 26 ноября
Гудок поезда становился все громче, свет фар — все ослепительнее. Эрик застонал и проснулся. Он не сразу узнал тесную комнатушку в слабом утреннем свете, и только окончательно придя в себя, сообразил, что именно принял во сне за грохот несущегося поезда: это Барда, марокканский торговец брезентом, чье настоящее имя никто не знал, катил свою тележку по мостовой улицы Верней. Рядом с Эриком лежала на животе, свесив руку с кровати, Кора. Она вернулась из «Пивнушки для холостяков» только под утро и упала в постель, даже не раздевшись.
Эрик поднялся, скрипнув пружинами кровати. Решение созрело у него в голове прежде, чем он успел допить большую кружку кофе с молоком и прожевать кусок черствого хлеба Дергать за ниточки и наблюдать за развитием событий становилось опасно. Ему надоело ждать, пока тот из членов ассоциации «Подранки», кто владеет пресловутым сокровищем, выдаст себя. Послания от имени Эвариста Вуазена он разослал им еще 19-го ноября. Эрик регулярно покупал ежедневные газеты и просматривал хронику происшествий, но ничего не происходило. Терпение никогда не входило в число добродетелей Эрика, и он решил, что пришло время действовать самому. Да, сегодня же днем он поедет в Карьер-Сен-Дени и познакомится с любителем шампиньонов поближе. Разумеется, забывать об осторожности не следует. Пока он не доберется до сокровища, необходимо соблюдать строжайшую конспирацию.
Эрик поставил кружку на стол и обвел взглядом комнату. В воздухе стоял кисловатый запах пота, спящая девушка не вызывала никаких чувств, кроме жалости, занавески на окне выглядели несвежими и мятыми. Эрика вдруг охватило отвращение, он распахнул окно и вдохнул холодный воздух.
— Превосходная скумбрия! Наисвежайшая жирная селедка! — завопила торговка рыбой.
Эрик подавил приступ тошноты, поспешно оделся и бросился вон из комнаты. Сбежав по лестнице, он заперся в уборной в глубине двора.
Сюзанне Боске вовсе не хотелось платить два франка за вход на каток «Северный полюс» на улице Клиши, 18, но ее слова о том, что она всего лишь зрительница и не собирается кататься, не произвели на кассира никакого впечатления.
«Что за странная идея пришла в голову этой дурехе? Почему надо было назначать мне встречу именно на катке? Тут так холодно! Хорошо еще, я надела теплое пальто и шиншилловую шапочку!»
Сюзанна пробиралась сквозь плотную толпу на просторной крытой галерее вокруг катка, устроенной для тех, кто предпочитал любоваться пируэтами на льду и комментировать их.
Каток, длиной в сорок метров и шириной в двадцать, с металлическими перекрытиями, соседствовал с рыночными павильонами Бальтара.
[567] Его освещали электрические лампы, здесь была и большая живописная панорама, изображающая арктический пейзаж. С помощью большого калорифера на катке поддерживалась постоянная температура в пятнадцать градусов, но спортсменам, увлеченно исполняющим пируэты, похоже, было даже жарко.
Сюзанна легко нашла подругу, ее высокую фигуру в красном платье с черным поясом и в бордовом капоре с вуалеткой было видно издалека. Ида так ловко скользила по льду, что было ясно — она часто тренировалась. Ее изящные движения приковывали восхищенные взгляды окружающих. Сюзанна попыталась привлечь ее внимание, размахивая руками, но не преуспела, и тогда громко крикнула: «Ида! Ида!». Наконец, когда оркестр взял паузу, подруга услышала голос Сюзанны, грациозно подкатилась к бортику, облокотилась на перила и, чуть запыхавшись, стала отвинчивать полозы коньков, прикрепленные к подошвам ботинок. Она убрала их в сумку из белой холстины с кожаными ремешками и присоединилась к Сюзанне, пройдя по короткому мостику.
— Странная ты женщина, Ида! Зачем тебе, певице, эти упражнения на льду? Впрочем, теперь ясно, почему ты пригласила меня именно сюда — это же в двух шагах от твоего дома!
Ида откинула вуалетку, чтобы расцеловаться с подругой, и Сюзанна с удивлением заметила, что та бледна и растеряна.
— Я рассудила, что каток — такое место, где легко затеряться. За тобой не следили?
— Думаешь, я бы это заметила? Да здесь собралось пол-Парижа! Ты что, прервала гастроли?
— Да, сказалась больной. В любом случае, гастроли заканчиваются послезавтра, и моя дублерша только рада возможности лишний раз выступить. Пойдем к раздевалке, там безопаснее.
Они отошли от галереи и попали в коридор с пронумерованными дверями. Ида достала ключ с номером 38 и, бросив завистливый взгляд на наряд подруги, извлекла из шкафчика свой плащ, отделанный лисьим мехом.
— Ты вернулась домой? — спросила Сюзанна.
— Что ты! Я поселилась в Венсенне, у молочной сестры. Кстати, ты не могла бы послать кого-нибудь в мой дом, забрать у консьержки предназначенную мне корреспонденцию?
— Браво, ты все продумала.
— Скажи, что теперь с нами будет?! С тех пор, как прочитала о гибели наших, я просто извелась. Все складывалось так хорошо! В Сермезе меня отлично принимали, каждый вечер были аншлаги, публика аплодировала стоя, мне дарили розы, а теперь…
— Хватит причитать, успокойся! Надо просто подождать, пока все не уляжется, — сказала Сюзанна, сжимая ее плечо.
— Не покидай меня, мне так страшно!
— Что ж, раз ты расклеилась, придется мне взять дело в свои руки.
— Тебе легко говорить! — с обидой воскликнула Ида. — Ты можешь спрятаться на Бель-Респиро, и целое войско лакеев встанет на твою защиту, а любовник всегда будет готов тебя утешить!
— Каждому свое, дорогая. Чтобы добиться цели, я себя не щадила. Надеюсь, ты никому ничего не рассказывала?
— Кому я могла бы… — начала было возмущенно Ида.
— Любовнику, например!
— Мужчины для меня ничего не значат!
— Вот и славно. Я провожу тебя до дома, не спорь, я настаиваю. И, как только что-нибудь прояснится, извещу тебя, и мы все обсудим. Думаешь, я не волнуюсь? Ошибаешься! Просто я не сижу, сложа руки, а действую. И делаю вид, что все в порядке! Ну, хватит, улыбнись, поверь, все уладится.
Вдруг Ида остановилась.
— Вот черт! Забыла сдать коньки, я брала их напрокат. Прошу тебя, сделай это вместо меня, я не хочу привлекать к себе внимание.
Сюзанна нехотя взяла у Иды сумку с коньками и потащила подругу к фиакру.
Таша решила на несколько дней оставить особняк сэра Лимингтона. Бельгийский издатель требовал срочно представить иллюстрации. Акварельный рисунок к сказке «Русалочка» Таша оставила на десерт. Ее героиня из последних сил пыталась удержать над бушующими волнами голову принца. Таша так старательно вырисовывала гребешки волн, что ее лоб покрылся испариной. В такие моменты, когда хозяйка напряженно работала, Андре Боньоль старался ее не беспокоить. И все же, деликатно кашлянув, произнес:
— Мы приготовили рагу из птицы с грибами. Разогреть картофельные биточки на гарнир?
— Да, нет, спасибо, — ответила Таша, задумавшись о том, не глуповатый ли у ее русалки вид.
Боньоль исчез, но вместо него на пороге почти сразу же появился Виктор. Вытряхнув содержимое кувшина и переворошив стопку эскизов, он поднял страшный шум. Раздраженная Таша решила прервать работу и пообедать с мужем, что случалось нечасто. В другой раз она обрадовалась бы такой возможности, но сейчас ей не хотелось отрываться от работы. Она обернулась, и ей показалось, что Виктор куда-то торопится.
— Что ты ищешь?
— Перламутровые запонки, которые Айрис подарила мне на свадьбу…
Таша заметила, что он одет элегантнее, чем обычно. Не у Кэндзи ли он позаимствовал этот шелковый жилет, вышитый крошечными маргаритками? А этого яркого галстука она вообще прежде не видела.
— Почему ты думаешь, что они могут быть здесь?
— Потому что, не обижайся, дорогая, порядка у тебя нет.
— Это касается только моих вещей, — парировала Таша. — На твоем месте я посмотрела бы в туалетной комнате.
Виктор пожал плечами и последовал ее совету. Она не ошиблась, пресловутые запонки там и оказались, однако Виктор не сказал Таша ни слова благодарности, садясь за стол, который она накрыла, пока он был занят поисками.
Она обиженно прикусила губу и с грохотом опустила кастрюли на подставки для блюд. Виктор удивленно посмотрел на нее. Жевал он без всякого аппетита.
— Битки чуть теплые.
— Андре заверил меня, что их лучше есть холодными.
— В этом наши с тобой вкусы не совпадают.
— Только в этом?
Виктор растерянно отложил вилку. Он чувствовал, что Таша раздражена. Чем он ее обидел?
— Что с тобой, дорогая?
— Ничего, просто… ты одет с иголочки! И явно не для меня.
— Все очень просто, — соврал не моргнув глазом Виктор. — Я направляюсь в Друо к важному клиенту, у него есть Мольер 1673 года издания в двенадцатую долю листа. Кэндзи мечтает заполучить эту книгу. Я надеюсь перехватить ее, пока владелец не обратился к оценщикам, чтобы выставить ее на аукцион. Затем планирую справиться о здоровье моего дорогого велосипеда. А вот потом хотел бы помочь тебе снять блузку…
Таша немного успокоилась, и кофе они пили, уже весело смеясь.
Сюзанна Боске спрыгнула с подножки омнибуса на углу улицы Бель-Респиро и Елисейских Полей. Встреча с Идой на катке привела ее в смятение, а путешествие в трясущемся омнибусе измучило. Ступив на тротуар, Сюзанна украдкой обернулась, чтобы проверить, тут ли кабриолет
[568] с темным верхом, запряженный гнедой лошадью, который уже несколько раз попадался ей на глаза. Но увидела лишь сплошной поток экипажей, движущихся по улице со стороны авеню.
«Наверное, у меня уже галлюцинации. Ничего удивительного, эта каланча мне всю душу наизнанку вывернула. Таких идиоток поискать! Во всяком случае, маловероятно, что ей в ближайшее время понадобятся коньки», — подумала Сюзанна, поправляя ремни на сумке Иды.
Погруженная в эти мысли, она вышла на проезжую часть, не посмотрев по сторонам. Конское ржание, стук копыт несущейся галопом лошади, грохот колес по мостовой заставили Сюзанну повернуть голову. Она остолбенела. Кабриолет мчался прямо на нее, еще мгновение, и она окажется под колесами! Сама не понимая, как ей это удалось, женщина ухитрилась резко отскочить в сторону и упасть на тротуар. Это спасло ей жизнь. Разбив колени о мостовую, она приземлилась на четвереньки, опершись рукой о сумку с коньками. Некоторое время оставалась неподвижной, ожидая, пока немного успокоится отчаянно бьющееся сердце, затем попыталась встать. На помощь ей уже бежал консьерж, подметавший у дверей дома напротив.
— Господи, сударыня, еще немного, и от вас не осталось бы и мокрого места! Этот буйно помешанный будто специально выжидал, пока вы окажетесь на мостовой, чтобы пришпорить свою клячу! Ой, да вы ранены, надо позвать доктора!
Сюзанна осторожно поднялась на ноги, ощупала щиколотки и осмотрела свою ладонь — она порезалась острием конька, торчащим из сумки. Ранка была неглубокая, но кровь так и хлестала.
— Нет, врача не надо! Пожалуйста, возьмите у меня из сумочки шелковый платок и перевяжите мне руку, не то я запачкаю платье.
— Боюсь, это уже случилось, — заметил консьерж, показывая на пятна на юбке и сумке.
Он перевязал Сюзане ладонь, бормоча себе под нос:
— В наши дни нигде нельзя чувствовать себя в безопасности! Вы уверены, что можете идти?
— Я живу неподалеку, обо мне позаботятся.
— Может быть, мне все-таки сообщить в полицию? Эти лихачи представляют опасность для общества.
— Ни в коем случае! — заявила Сюзанна, поблагодарила консьержа и поковыляла к особняку Амори Шамплье-Марейя.
Произошедшее говорило, что ей следует быть настороже.
Молодой лакей в ливрее закрыл решетчатые створки и потянул за рычаг. Пока лифт медленно полз вверх, Виктор вспоминал волосы цвета воронова крыла и чувственный рот той, кого он видел мельком в ресторане на Эйфелевой башне шесть лет назад. Эдокси Аллар, этот нежный суккуб,
[569] тогда служила машинисткой в «Пасс-парту». Интересно, сильно ли изменилась она после своих знаменитых выступлений в «Мулен Руж»?
Горничная провела гостя в гостиничный номер, окна которого выходили на сад Тюильри. Виктор стоял со шляпой в руке перед картиной, изображающей покаяние грешников. Вскоре послышался шелест юбок, и вошла княгиня Эдокси Максимова в туалете из белого муслина, расшитого фестонами розового бархата.
— Милый месье Легри, я так рада вас видеть! Проходите!
Плетеная мебель в гостиной превосходно сочеталась с атласными обоями в бледно-желтую и сиреневую полоски. Эдокси предложила гостю присесть и указала на кресло, такое низкое, что у Виктора, едва он сел, сразу же заболела спина. Сама Эдокси удобно устроилась напротив, положив ноги на пуф и демонстрируя изящные щиколотки. Ее пышные волосы отливали иссиня-черным блеском.
— Что же привело вас в мое скромное жилище? — спросила она насмешливо.
— Я хотел бы разузнать о господине Амори де Шамплье-Марейе. Мне сказали, что он — один из ваших близких знакомых.
Эдокси сделала вид, что возмущена, но потом передумала и непринужденно расхохоталась.
— Был когда-то, мой дорогой Виктор, был когда-то. Ничто не вечно под луной. А вы, я вижу, привыкли брать быка за рога! Что ж, отвечу вам прямо: в прошлом году я действительно вскружила голову этому франту, который узурпировал дворянский титул в эпоху Консулата.
[570] Все, что в нем есть хорошего, это тугой кошелек, и он расстается с деньгами так легко, что грех было этим не воспользоваться. Однако, когда я решила, что, говоря словами Ламартина, «полно мне, пленясь мечтаньями, здесь надеждам доверять»,
[571] я нашла себе другого. Амори быстро утешился с Сюзанной Боске, куртизанкой, которая с недавних пор называет себя Афродитой д’Анжьен. Со своими пышными формами она могла бы стать отличной моделью для Рубенса. Между нами говоря, эта простолюдинка Амори в матери годится. Но я знаю его вкусы и не удивлена, что он увлекся ею. Он изображает из себя этакого рыцаря печального образа, и все потому, что рос сиротой. Среди его зрелых, мясистых любовниц я была досадным исключением. Но откуда у вас к нему интерес? Только не говорите, что вы положили глаз на Сюзанну!
— Нет, конечно! Просто прошел слух о том, что месье Амори де Шамплье-Марей намерен собрать хорошую библиотеку. Не подскажете, где мне его найти?
— Он вьет любовное гнездышко для своей богини на улице Бель-Респиро. Это настоящий образчик дурного вкуса! А вы меня разочаровали. Неужели вы пришли только по делу? А как поживает наш дорогой Кэндзи? Я давно о нем ничего не слыхала.
— Лучше не бывает, — кратко ответил Виктор.
— О, не смущайтесь. Мне отлично известно о его отношениях с вашей тещей.
Виктор покраснел как рак. Он тоже об этом знал, но предпочитал делать вид, что ему ничего не известно.
— Успокойтесь, милый Виктор, я не держу на нее зла и не считаю соперницей. Ведь мы обе славянки, правда, я — только по мужу. Причем не готова отказаться от нашей прекрасной родины, ведь здесь умеренный климат, и ночи теплые даже зимой. Помните мою Фьяметту? Она тоскует одна в холодной постели. Ах, Париж! Париж! Надеюсь, вы придете на спектакль в театр «Эден».
[572]
— Э-э, да, разумеется… А что об этом думает князь Максимов? — спросил Виктор, стараясь, чтобы вопрос прозвучал непринужденно.
— Федор привык проводить зиму в Санкт-Петербурге. У него там дела… Мой супруг не боится ни вечной мерзлоты, ни сибирской тундры. Я же, как птичка на ветке, до которой легко дотянуться. Что поделаешь, я такая, и этого уже не изменить. Предпочитаю жить в отеле… Зачем мне мраморный дворец, если в нем я зачахну от тоски? А здесь я могу заводить новые связи с интересными мне людьми… интимные связи, — прошептала Эдокси, вставая. Она скользнула за спину Виктору и принялась тихонько массировать ему плечи. — Ваша супруга, прелестная Таша, тоже славянка. Это нас с вами сближает. Свободны ли вы завтра? Мы бы побеседовали о России, я дала бы вам урок географии…
Шляпа, которую Виктор сжимал в руках, давно превратилась в блин.
— Фифи, откровенность делает вам честь. Но, увы, я предпочитаю хранить верность жене.
— Какое ужасное слово! Я еще не встречала мужчины, который не поддался бы искушению. Мой девиз: «Не плюй в колодец…». Что ж, раз уж вы нашли ко мне дорогу, смею верить, в следующий раз не заблудитесь. Я бы показала вам комнату, где вижу сладкие сны… А пока примите от меня этот скромный подарок.
Эдокси протянула Виктору что-то, похожее на книгу, завернутое в бумагу, и он уже собирался развернуть ее, но она остановила его:
— Нет! Наберитесь терпения и откройте это, лежа в постели, когда ваша прелестная супруга будет пребывать в объятиях Морфея.
Виктор с трудом выбрался из кресла и, попрощавшись с хозяйкой, покинул номер.
Не в состоянии побороть любопытство, он остановился посреди холла отеля «Континенталь» и все-таки развернул пакет: там был альбом с фотографиями. Причем такими, что Виктор залился краской.
— Ах, моя милая мадам Баллю, с маленькими детками столько хлопот! После послеобеденного сна моя внучка проснулась вся в испарине. Айрис была в панике, но я уверена, это режутся зубки. Но, вы думаете, они меня слушают? Как бы не так! Ни сын, ни невестка! Жожо помчался к доктору Рено и оставил лавку на меня! — причитала Эфросинья.
— Не волнуйтесь, голубушка, в такой ливень к вам вряд ли кто-нибудь придет. Мне пора идти, надо перегладить кучу сорочек кузена Альфонса, — заявила мадам Баллю, которая на самом деле торопилась к себе, чтобы выпить грога.
— Что действительно необходимо вашему кузену, так это хорошая жена, — успела вставить Эфросинья, прежде чем консьержка скрылась за порогом.
«Ну что за невезение! — сокрушалась она. — Надо же, чтобы именно сегодня Виктор решил отпроситься, а Кэндзи приспичило отправиться в Гренель оценивать чью-то библиотеку! А этот новый служащий, где он? Его никогда не бывает на месте после обеда! Стоило ли нанимать такого бездельника? Все мы должны нести свой крест… — она тяжко вздохнула. — Что ж, если какой-нибудь клиент все-таки явится, мне плевать, пусть сам разбирается!»
И она открыла тетрадь, чтобы записать рецепт, продиктованный Андре Боньолем.
За покрытой инеем витриной показался силуэт. Тощий высокий мужчина с львиной гривой волос толкнул дверь и вошел в лавку. С ним случился приступ кашля, и он прикрыл рот платком. Отхаркавшись, запахнул залатанное пальто и облокотился на прилавок.
— Могу я видеть месье Легри?
— Его нет, — выдохнула испуганная Эфросинья.
— Вот незадача! Неужели я зря тащился в такую даль, да еще под проливным дождем! Я продрог до костей!
Посетитель уже собирался плюхнуться на стул рядом с печкой, но Эфросинья встала перед ним, скрестив руки на груди, словно эльзаска перед полчищем тевтонцев.
— Меня зовут Сиприен Бретеш, — представился мужчина. — Месье Легри, должно быть, упоминал обо мне, я приятель Максанса Вине, ну, или Макса Большое Ухо, если вам так больше нравится.
— Какого Макса? — переспросила мадам Пиньо.
— Большое Ухо. Я собирал его вещи и, когда открыл один журнал, который сам когда-то ему принес, нашел между страниц письмо. Вот и подумал, может, оно пригодится вашему мужу.
— Мой муж умер еще в семьдесят третьем году! Он был солдатом национальной гвардии.
— Вот как? Но тот господин, что меня расспрашивал, был из плоти и крови, это точно!
— Месье Легри — сводный брат моей невестки.
Сиприен Бретеш надул щеки, пытаясь переварить эту информацию. А потом вытащил из-за пазухи конверт.
— Я не собираюсь век тут торчать, так что рассчитываю на вас. Передайте месье Легри это письмо и скажите, что неплохо бы меня отблагодарить: в нашем заведении не больно-то хорошо кормят, скажу я вам.
— Да как вы смеете попрошайничать!
— Я не милостыню прошу, а плату за услугу! Право слово, у вас нет сердца! Есть еще кто-нибудь в этой лавчонке?
— Убирайтесь вон!
Эфросинья с грозным видом уставилась на непрошенного гостя. Сиприен Бретеш смачно сплюнул и убрался восвояси, пробурчав на прощанье:
— Чтоб ты сдохла, жирная медуза!
Жозеф, который привел доктора Рено, застал мать белой как мел. Она лепетала что-то одними губами.
— Мама, с тобой все в порядке? — спросил он, но не стал дожидаться ответа. Его гораздо больше волновало самочувствие маленькой Дафнэ.
— Медуза… Он назвал меня жирной медузой… Жалкий червяк! — возмутилась Эфросинья. Она вскрыла конверт и, вынув оттуда листок бумаги, прочитала:
Месье,
Вам необходимо явиться в пассаж д’Анфер, 20 и обратиться к месье Грандену, служащему нотариальной конторы, по делу о наследстве месье Донатьена Ванделя, скончавшегося 22 октября, который назначил вас наследником при выполнении некоторых условий.
Примите уверения…
— Что за галиматья? Да уж, странные знакомые у месье Легри, и странными делами он занимается. Что-то здесь нечисто! О, Иисус-Мария-Иосиф!
— Журналист? Вы из тех, кто пишет статьи, которые потом печатают в газетах? Первый раз в жизни вижу журналиста! — воскликнула служанка, в обязанности которой входило встречать посетителей в доме Амори де Шамплье-Марейя.
— И каково же ваше впечатление? — спросил Виктор.
Девушка смутилась и глупо хихикнула.
— По большому счету вы не больно-то отличаетесь от простых смертных. Мадам примет вас в библиотеке.
Вдоль свежевыкрашенных стен стояли застекленные стеллажи, но полки их были пусты, если не считать нескольких томов «Литтре».
[573] Виктор окинул взглядом кабинетный рояль с вертящимся табуретом, у ножки которого валялась на полу сумка из белой холстины в красный горошек, картину на стене, изображающую псовую охоту, две пальмы в горшках. У переносного камина, в котором не горел огонь, стояло канапе, и на нем восседала женщина в платье оливкового цвета с рюшами. На ней было столько украшений, что она напоминала рождественскую елку. Эдокси Аллар вовсе не преувеличивала, Сюзанна Боске действительно могла бы стать моделью Рубенса.
— Мадемуазель Афродита д’Анжьен, я полагаю? — сказал Виктор.
Он склонил голову, чтобы поцеловать хозяйке руку, и заметил, что из подола ее платья выдран клок.
Польщенная тем, что журналист назвал ее Афродитой д’Анжьен, Сюзанна одарила его улыбкой и похлопав рукой по канапе, пригласила присесть.
— Спасибо, я предпочитаю стоять, недавно упал с лошади, повредил колено… Я вас не задержу. Я веду светскую хронику. Княгиня Максимова, близкая знакомая моего приятеля Гюго Мальпера, дала мне ваш адрес…
— Гюго обхаживает княгиню? Не может быть! — удивленно воскликнула Сюзанна, вмиг забыв про светские манеры. — Максимова… Максимова… — задумчиво повторила она, нахмурив брови. — Не та ли это распутница, что каждый вечер выставляет напоказ свои прелести? Фья… Фья…
— Вы правы, ее сценический псевдоним Фьяметта, и она выступает на сцене театра «Эден», — подтвердил Виктор, с трудом сдерживая смех.
«Значит, Амори дал этой женщине свой адрес? Он продолжает с ней встречаться?! Но как этому медведю Гюго Мальперу удалось добиться ее расположения?» — вертелось в голове у Сюзанны.
— Княгиня о вас очень высокого мнения, — добавил Виктор, чувствуя, что хозяйка недовольна. — Она говорила о вас только в превосходной степени.
Сюзанна Боске поднялась и направилась к пианино. И тут заметила сумку под табуретом. Как она могла забыть ее здесь! Когда час назад она проковыляла в туалетную комнату, чтобы промыть рану на ладони, бросила сумку на пол и с тех пор о ней не вспоминала. Сюзанна наклонилась, надеясь незаметно для гостя поднять сумку, но Виктор ее опередил. То, что он сначала принял за горошек на ткани, при ближайшем рассмотрении больше напоминало пятна крови. Два острых лезвия торчали из открытой сумки. Сюзанна Боске резким движением рванула за ремни.
— Прислуга совершенно отбилась от рук! Хлоя! — рявкнула она.
Прибежала горничная.
— Спрячьте это в шкаф, и поживей!
Сюзанна взяла себя в руки и одарила Виктора обольстительной улыбкой.
— Что же говорила обо мне княгиня?
— Что вы очаровательная женщина, и что месье де Шамплье-Марейю очень повезло. Я полностью разделяю ее мнение и собираюсь написать об этом в моей колонке светской хроники. Я упомяну там и про Гюго Мальпера. Ведь он столь же эксцентричен, как и богат… Я слышал, он возглавляет ассоциацию, членом которой вы являетесь?
— Ну, ассоциация — это громко сказано, — возразила Сюзанна с кислым видом. — Так случилось, что судьба когда-то свела вместе совершенно разных людей. Я встречаюсь с ними только раз в году, в Домоне, и каждый раз, чтобы туда поехать, мне приходится делать над собой усилие. Я общаюсь только с Гюго и певицей Идой Бонваль, остальные — люди не моего круга. Прошу вас, месье.
Она повела гостя в будуар, где камеристка уже поставила на круглый столик кофейный сервиз и тарелочку с пирожными.
— Не понимаю англичан с их дурацкой традицией пить чай. Разрешите угостить вас кофе? Или, может, желаете шоколаду?
— Предпочел бы кофе.
— Тарталетки с клубникой?
— Откроюсь вам, я слежу за фигурой, — сказал Виктор, заметивший еще один круглый столик на одной ножке, на котором лежали газеты.
Его взгляд упал на иллюстрированное приложение к «Пти Журналь», открытое на странице с фотографией: старик с синюшным лицом, открытым ртом и закрытыми глазами лежит на полу фиакра.
— Следите за фигурой? Вы шутите! — воскликнула Сюзанна в изумлении.
— Если есть проблемы с коленями, набирать вес запрещено, так мне сказал доктор.
— Да что вы их слушаете, этих докторов! Надо наслаждаться жизнью!
— Позвольте, я за вами поухаживаю.
Сюзанна согласилась. Виктор наклонил кофейник над чашкой и, сделав вид, что рука у него дрогнула, пролил кофе на скатерть. Раздосадованная хозяйка отскочила, боясь испачкаться.
— Простите, я так неловок.
— Ничего страшного, я позову служанку, — сказала она, стараясь быть любезной.
Едва она вышла, как Виктор подошел к столику с газетами и выудил из стопки «Фигаро». В глаза ему сразу бросился заголовок, напечатанный жирным шрифтом:
ДВЕ СТРАННЫЕ СМЕРТИ В ФИАКРЕ
Из газеты выпал листок бумаги. Виктор поднял его, но не успел рассмотреть, так как Сюзанна уже возвращалась в сопровождении служанки с чистой скатертью в руках. Виктор быстро спрятал листок в карман. Когда последствия досадного инцидента были устранены, хозяйка обратила внимание гостя на копию псише мадемуазель Марс.
— Я настаиваю, чтобы вы рассказали о нем своим читателям. Не забудьте упомянуть, что это редкий экземпляр. Как называется ваше издание?
— «Газетт де Франс», главный редактор Фернан Ксо.
[574] Я пишу под псевдонимом Господин во фраке.
— Это издание появилась недавно?
— Три года назад. У нас печатались такие знаменитости как Эмиль Золя, Франсуа Коппе, Октав Мирбо, Анри Бек, Морис Баррес, Леон Доде, Эдмон Ростан.
[575]
Сюзанна вздохнула.
— Мы, женщины, не интересуемся политикой. Лично я никогда не читаю новости, только модные журналы, ведь блистать в обществе — тяжкий труд! Мне нравится «Семья», дорогой Господин во фраке. Теперь вы, наверное, думаете, что у Афродиты д’Анжьен мечты простой домохозяйки.
— Вовсе нет. Кофе у вас превосходный, но мне пора возвращаться в редакцию. Кстати, эта певица, Ида Бонваль… Раз уж она ваша знакомая, я хотел бы взять у нее интервью. Где она живет?
— Улица Клиши, 24. Но она уже несколько недель на гастролях, в настоящее время выступает в казино Сермез-ле-Бен, потом отправится на юг Франции, а затем ее голосом будет наслаждаться Италия. Милая Ида, как мне ее не хватает! Увы, она далеко, и я не смогу услышать, как она поет…
Виктор подошел к хозяйке, чтобы поцеловать на прощание руку, и от его внимания не укрылось, что она по привычке хотела протянуть ему правую, но, спохватившись, снова подала левую.
— Дорогой Господин во фраке, если мне вдруг случайно удастся связаться с мадемуазель Бонваль, где я смогу вас найти?
Ее вопрос застал Виктора врасплох. Он на секунду задумался, а потом выпалил:
— У меня частный кабинет на улице Фонтен, 36, там есть телефон, при моей профессии это необходимо. Но, прошу вас, пусть это останется между нами.
Оказавшись на Елисейских Полях, Виктор вспомнил о листке бумаги, который стащил у Сюзанны Боске. Это была газетная вырезка, и, шагая к месту стоянки экипажей, он ощутил небывалый подъем сил: визит на улицу Бель-Респиро дал расследованию неожиданный поворот.
Успокоившись относительно здоровья малышки Дафнэ, у которой был всего лишь легкий насморк, Жозеф воспользовался передышкой, чтобы пополнить свою коллекцию газетных вырезок теми, что имели отношение к текущему расследованию. Он оставил их на прилавке, ожидая, пока клей высохнет, и взялся за перо. Ударившись локтем о спинку стула, Жозеф высказал немало лестного в адрес количества мебели в лавке. К счастью, ни Кэндзи, ни Эфросинья этого не слышали.
— Ну у вас и манеры! — воскликнул Виктор, неслышно входя в лавку.
Жозеф подпрыгнул от неожиданности.
— Я собирался закрываться и хоть немного прибрать, но тот, кто расставил тут столько мебели, явно желает моей смерти!
— Кстати о смерти, у меня важные новости, — сообщил Виктор и вполголоса пересказал компаньону беседы с Эдокси и Сюзанной.
— Да уж, вы времени даром не теряете! — восхитился Жозеф. — Но что, если об этом узнает Таша?
— Этого нельзя допустить. А вот самое интересное, — Виктор достал газетную вырезку из будуара Сюзанны.
— Боже, да это же упоминание о мессе в память о заместителе начальника вокзала! — воскликнул Жозеф.
— Еще подозрительнее то, что мадемуазель Афродита д’Анжьен пыталась скрыть от меня запачканную кровью сумку, из которой торчали какие-то острые металлические предметы. Ее юбка была порвана, и она прятала правую руку, которая, я полагаю, была ранена. Когда же я заговорил о певице, эта дама заверила меня в том, что мы нескоро сможем ее увидеть.
— Вы полагаете, она могла избавиться от Иды Бонваль?
— К тому же мадемуазель Афродита утверждала, что читает исключительно женские издания, хотя по меньшей мере две из газет, лежащих у нее на столике, говорят об обратном. А эта вырезка доказывает, что о смерти Донатьена Ванделя ей тоже известно.
— Если так, члены ассоциации «Подранки» в опасности, — еле слышно проговорил Жозеф. — Супруги Дюкудре, Гюго Мальпер, Виржиль Сернен, Эварист… Да, совсем забыл рассказать вам, я обзвонил все организации, занимающиеся выращиванием шампиньонов в Париже и его окрестностях, и выяснил, что Эварист Вуазен работает в Карьер-Сен-Дени. Я нанесу ему визит завтра, при условии, что у меня будут развязаны руки.
— Об этом не волнуйтесь, утром я буду в лавке, да и Симеон Дельма тоже. Сам я во второй половине дня собираюсь отправиться на улицу Клиши, 24, это адрес Иды Бонваль.
— А Гюго Мальпер?
— Терпение, друг мой, расследование — это, конечно, важно, но у нас есть и другие обязанности. Нам надо принять меры предосторожности, чтобы не привлечь внимание Кэндзи и Айрис. Что касается Таша, то мне кажется, она о чем-то догадывается. Я пойду, обещал вернуться домой пораньше. Если Таша спросит, сегодня я вел переговоры с библиофилом с улицы Друо.
— Договорились.
И Жозеф записал в свой блокнот последние новости:
Эдокси Аллар сообщила, где можно найти Сюзанну Боске: у Амори де Шамплье-Марейя, улица Бель-Респиро. Мадемуазель Боске врет, не краснея, ей известно о смерти Донатьена Ванделя.
— Жозеф, закрывайся скорее, пора за стол!
Услышав голос Айрис, Жозеф оставил все как есть и поспешил наверх.
Виржиль Сернен старался думать о чем-нибудь приятном. О Рен Дюкудре, например. Что, если позвонить ей? Нет, не получится, телефон есть только в кабинете доктора Гарро. Он проворчал что-то себе под нос, сел на койке и почесал подбородок. Потом надел халат, на цыпочках прокрался мимо храпящих соседей по палате и выбрался в коридор.
Там Виржиль столкнулся с медсестрой Симоной.
— Месье Сернен, почему вы не спите? Немедленно ложитесь в постель! — потребовала она.
Больной шлепнул ее по заду и прошел в туалет. Сидя на унитазе, он перечитал записку, доставленную накануне курьером.
Дорогой Виржиль,
Твое лечение приближается к концу, не пора ли бежать из темницы? Ө Завтра в одиннадцать мы собираемся в «Миротон де Терн». Ө Очень на тебя рассчитываем. Мы приготовили тебе сюрприз… Ө
Твои друзья из ассоциации «Подранки».
Через полчаса он уже шел через сад. Ночь была холодной, но ясной, на небе высыпали звезды. Шагая по безмолвным улицам Нейи, Виржиль наслаждался обретенной свободой. Пусть доктор Гарро катится к черту со своей шафранно-опийной настойкой! Прогулка пошла Виржилю на пользу, почки его не беспокоили. Добравшись до улицы Понселе, он почувствовал прилив сил. Неужели он наконец окажется в своем уютном гнездышке, обретенном благодаря доброте покойного Эмиля Легри…
Ресторан был пуст. Виржиль вошел и, на ощупь найдя выключатель, зажег свет. В помещении было чисто, но он заметил вдоль плинтусов хлопья пыли. Горе толстой Маринетте, если она не убирала как следует подвал! Виржиль бросился к аквариумам, чиркая спичкой и зажигая по пути газовые фонари. Увиденное заставило его впасть в оцепенение: аквариумы были пусты, а столы, на которых они стояли, и пол вокруг усыпаны осколками стекла.
— Нет… Нет… Господи, только не это… Где же вы, мои милые малютки?
Услышав шорох, Виржиль обернулся и увидел ящерицу, которая ползла по каменному полу. Он опустился на колени. Как спасти ее, не покалечив? Надо подсунуть под лапки бумагу. Виржиль нащупал в кармане полученную записку. Он уже собирался развернуть ее, когда легкий шелест заставил его выпрямиться. Звук шел из корзины, стоящей на сервировочном столике. Виржиль осторожно приподнял крышку и вскрикнул, еще не осознавая того, что произошло. Жгучая боль пронзила его руку. Он нагнулся и увидел змею. Это не один из его любимых ужей, у этой змеи были зубы!
Страх парализовал его. Виржиль приник губами к крошечной ранке. Главное не поддаваться панике. Он схватил полотенце и повязал на предплечье повыше ранки, с помощью вилки скрутил его и затянул так крепко, как только мог.
— Гадюка! Это гадюка… Надо сделать надрез…
Виржиль схватил острый нож для мяса, надрезал кожу там, куда вонзились зубы змеи, снова поднес руку к губам, отсосал кровь и выплюнул ее. Надо сесть. Успокоить бешено бьющееся сердце. Он почувствовал слабость, упал в старое кресло и ослабил жгут. Осмотрел опухшую руку, и глаза его наполнились слезами. Приступ тошноты заставил его сложиться пополам, и он, казалось, различил на обоях темный силуэт в желтых пятнах. Саламандра? Виржиль впал в оцепенение. Разум затуманивался, гигантская тень уже достигла потолка. Корзина поднялась над его головой. Дверь приоткрылась, Виржиля Сернена обдало сквозняком, и все вокруг погрузилось в темноту.
Он был один в глубине колодца, он задыхался. Внезапно его отбросило в туннель, в конце которого он увидел яркий белый свет.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Среда, 27 ноября
Симеон Дельма был очень доволен собой. За время службы в книжной лавке «Эльзевир» этот пакет, перевязанный тонкой бечевкой, удался ему лучше всего, и если бы Жозеф был сейчас здесь, то не преминул бы его похвалить. Но месье Пиньо отбыл куда-то рано утром, и сегодня его насвистывание и веселые замечания не смогут оживить по-зимнему холодную атмосферу книжной лавки.
Кэндзи Мори не сиделось на месте: он устраивался то у печки, то возле светильников Ауэра. Виктор наблюдал краем глаза за двумя клиентами, внимательно изучавшими трактаты на средневековой латыни. Он отчаянно замерз, несмотря на то, что надел теплую шерстяную фуфайку.
Дверь распахнулась, и в магазин влетел порыв ледяного ветра. Разъяренная Эфросинья стояла на пороге, размахивая конвертом.
— Да, закройте же дверь! Вы что, хотите, чтобы мы все тут окоченели! — воскликнул Кэндзи.
— Вы намекаете, что я медуза, да?! — оскорбилась мадам Пиньо.
— Причем здесь Медуза Горгона? Я просто прошу вас беречь тепло, которое мы с таким трудом поддерживаем.
Эфросинья с такой силой захлопнула за собой дверь, что стекла в витринах задрожали, а колокольчик неистово зазвонил. Наступила тишина, какая обычно бывает перед бурей.
Симеон Дельма укрылся в комнатке за магазином, прихватив с собой пакет, предназначенный для мадам де Салиньяк. Любители латыни, которых отвлекла перебранка, снова погрузились в изучение трудов Святого Августина и Фомы Кемпийского.
[576] Кэндзи вернулся к своему каталогу.
Виктору пришлось в одиночестве противостоять мадам Пиньо. Его самоотверженность ее только раззадорила. Бессвязный поток слов полился с ее губ. Все, что копилось в ней со вчерашнего дня, вырвалось наружу, и, кроме оскорбивших ее слов о медузе, там фигурировали какие-то большие уши Макса, а некто длинный как жердь смеялся и харкал на кладбище.
Виктор несколько минут терпеливо слушал это, потом прервал Эфросинью, королевским жестом указав на винтовую лестницу.
— Я слушаю вас вот уже пять минут, — ровным тоном произнес он, — но вы не в состоянии связно изложить, что произошло. Сделайте глубокий вдох и расскажите все по порядку, четко выговаривая каждое слово.
Кто-то за спиной Виктора прыснул со смеху. Он не поверил своим ушам. Неужели это Кэндзи?
Воскликнув «Ах, нелегок мой крест!», Эфросинья постаралась собраться с мыслями. Кэндзи взлетел по лестнице подобно дикой белке, покупатели испарились.
— Вчера какой-то тип, похожий на вестгота,
[577] сказала уже гораздо спокойнее мадам Пиньо, — вручил мне для вас это письмо. Он нес какую-то чушь: якобы он приятель некоего Макса Большое Ухо, а конверт он нашел в журнале «Смех».
[578] Я ему не поверила, так он сравнил меня с медузой и пожелал мне поскорей отдать концы. Ночью у меня было учащенное сердцебиение, — проворчала она, протягивая Виктору конверт.
Виктор постарался изобразить раскаяние.
— Мне очень жаль, что он так непочтительно обошелся с вами, — прошептал он.
— Не надо делать вид, что вы мне сочувствуете, я вижу вас насквозь!
Изображая всем своим видом оскорбленное достоинство, Эфросинья удалилась.
Убедившись в том, что Симеон Дельма по-прежнему скрывается в комнатке за магазином, Виктор ознакомился с содержанием письма. В нем Максансу Вине предлагали явиться к помощнику нотариуса Грандену по делу о наследстве, в которое адресат может вступить при выполнении некоторых условий. Что бы это значило? Адрес нотариальной конторы: пассаж д’Анфер, 20, удивил Виктора больше всего, он никогда не слыхал о таком.
«Значит, нотариальная контора мэтра Грандена. Что ж, мы с Жозефом просто обязаны посетить ее», — подумал он.
— Кэндзи! Я сбегаю в табачный киоск! — крикнул он, решив не дожидаться Жозефа.
Он немного успокоился, только когда добрался до бульвара Сен-Жермен.
Кэндзи вернулся в лавку, чтобы взять бразды правления в свои руки. Его удивило отсутствие Симеона Дельма, но заметив,
что рядом за бюстом Мольера горит красная лампа, он понял, что служащий спустился в хранилище. Кэндзи испугался, что тот случайно наткнется на альбом с фотографиями Фьяметты, и отправился туда же. Симеон вышел ему навстречу из бывшей лаборатории Виктора.
— Чем вы там занимаетесь?
— Искал в энциклопедии информацию о Медузе Горгоне. Меня заинтересовали ваши слова, сказанные мадам Пиньо. Оказывается, у Медузы было две сестры, Эвриала и Стено.
— Признаться, никогда о них не слышал. Интересно, не от имени ли Стено произошло слово «стенография»?
— Нет, месье Мори, об этом там не написано.
Кэндзи дождался, пока Симеон уйдет, схватил компрометирующий альбом, спрятал его поглубже во внутренний карман сюртука и поднялся наверх.
Книги, недавно приобретенные им у вышедшего в отставку профессора Сорбонны, были уже распакованы и сложены аккуратной стопкой. Кэндзи с удовольствием подержал в руках великолепное издание Расина на тонком пергаменте в переплете из красного сафьяна и направился к своему письменному столу. На прилавке среди бумаг лежал черный молескин.
[579] Кэндзи без труда узнал его — он принадлежал Жозефу, который вклеивал туда газетные вырезки о необычных происшествиях, снабжая пометками. Молескин был открыт, и Кэндзи, не сдержав любопытства, заглянул в него. Он увидел две газетные вырезки, в первой из которых говорилось об смертях в фиакре, причем имена погибших подчеркнуты, а на полях рукой Виктора написано: «Проверить… Когда? Где?». Кэндзи взглянул на дату и понял, что эту газету он сам принес в лавку в тот день, когда получил подарок от Эдокси. Вторая вырезка содержала объявление о заупокойной мессе. Там тоже была пометка, на этот раз сделанная детским подчерком Жозефа: «Эдокси Аллар сообщила, где можно найти Сюзанну Боске: у Амори де Шамплье-Марейя, улица Бель-Респиро. Мадемуазель Боске врет, не краснея, ей известно о смерти Донатьена Ванделя».
Кэндзи нахмурился. Жозеф встречался с княгиней Максимовой?! И тут он понял: его компаньоны снова взялись за старое! Эдокси Аллар и Сюзанна Боске интересуют их только в связи с очередным расследованием! Но кто такой Донатьен Вандель?..
«Что ж, хорошо, что я в курсе, — подумал Кэндзи. Когда птичка кошку не боится, кошке легче ее сцапать».
Жозеф с трудом выбрался из переполненного вагона пригородного поезда и зашагал по талому грязному снегу. Он вообразил себя путешественником, исследователем сибирской тундры, и это помогло ему перенести тяготы изнурительного блуждания сначала по деревне Уй, а затем по Карьер-Сен-Дени. Идея отправиться сюда быстро утратила свою привлекательность, тем более, что утомленному путнику не встретились по пути ни прохожие, способные указать ему дорогу, ни омнибус, ни фиакр. Жозеф сделал вывод, что лучше жить в Центральной Азии, чем в отдаленном пригороде Парижа. От путеводителя не было толку, и он пожалел, что не прихватил с собой компас. Наконец, какая-то крестьянка указала ему верное направление. Совершенно измученный, он свернул к видневшейся невдалеке четырехугольной деревянной башне.
— Неужели там выращивают шампиньоны? — удивленно пробормотал он.
Подойдя к башне, он увидел что-то вроде вентиляционного люка, заглянул в него и обнаружил ведущие вниз ступеньки. Похоже, ему, подобно Эдуарду Альфреду Мартелю,
[580] предстоит путешествие в недра земли. Он осенил себя крестным знамением, чтобы придать храбрости, сев на край люка, нащупал ногами ступеньки и стал осторожно спускаться.
— Я кролик из «Алисы», я горный гном, я Гамельнский крысолов…
[581] — бормотал Жозеф себе под нос.
Наконец, он почувствовал под ногами твердую почву. Бледноватый свет керосиновых ламп освещал длинный тоннель. Жозеф продвигался вперед, стараясь не вдыхать влажный воздух, насыщенный резким запахом грибов. Вскоре туннель расширился, и вдалеке стали видны движущиеся тени. Убедившись, что попал не в логово дракона, а на плантацию шампиньонов, Жозеф некоторое время наблюдал за работниками, наполнявшими корзины, пока один из них не окликнул его:
— Что вы здесь вынюхиваете?
— Я хотел бы поговорить с Эваристом Вуазеном, у меня к нему срочное дело.
— Вы слышали, «он хотел бы»?! Что ж, приятель, тогда бегите прямиком в морг, Эварист уже пять дней как там!
— Он умер?! — выдохнул Жозеф, испуганно глядя на собеседника, молодого парня в рубахе с закатанными рукавами.
— Мертвее некуда! — спокойно ответил тот.
— Это был несчастный случай?
— Если это несчастный случай, значит, толстяк Луи подал ему жавелеву воду
[582] вместо обычного пойла. Он и нашел труп Эвариста в пятницу вечером. Теперь толстяк Луи за решеткой.
Жозеф взбирался вверх по ступенькам с такой скоростью, словно за ним гнались по пятам. Теперь его целью был полицейский участок.
Комиссар разгадывал ребус в местной газете. Неохотно прервавшись, он выслушал Жозефа и уставился на него, задумчиво теребя бороду.
— Неужели газетчикам больше не о чем писать? Смертью от отравления сейчас никого не удивишь. Как бы там ни было, вы опоздали, один из ваших коллег тут уже побывал. Право слово, вы, репортеры, чуете трупы за версту!
— Я работаю на «Пасс-парту». А тот репортер какое издание представлял?
— Он беседовал не со мной, а с Гутье.
— Может, и мне обратиться к этому вашему сотруднику?
— Его сейчас нет на месте: он ловит одного карманника.
— Возможно, тот человек обманул вас и на самом деле он вовсе не газетчик?
— А почем я знаю, что вы говорите правду?
Жозеф с оскорбленным видом предъявил удостоверение, которое ему выдал по его просьбе Изидор Гувье, хроникер «Пасс-парту».
— Ладно уж, — проворчал комиссар, вновь принимаясь за свою бороду, — скажу вам, что знаю, лишь бы вы оставили меня в покое. В пятницу 22 ноября около девяти часов вечера Луи Фортен, трактирщик из Карьер-Сен-Дени, прибежал в участок и в ужасе сообщил нам, что один из его клиентов отдал концы прямо в заведении. Я взял с собой двоих людей и прибыл туда. При виде жуткой гримасы, исказившей лицо покойного, я сразу заподозрил отравление. Тут возможны два варианта: либо самоубийство, либо убийство. Тело увезли на вскрытие, а бутыль с вином отправили на анализ. Результат уже известен, там был стрихнин. Луи Фортен на допросе нес сущий вздор: якобы Эварист Вуазен должен был встретиться с какими-то двумя женщинами, и это они передали ему бутылку москаде.
Комиссар громко расхохотался.
— Никогда не поверю, что трактирщик возьмет у кого-то бутылку вина, у него ведь есть свое. Луи утверждает, что те две девицы прислали ее Эваристу в качестве извинения за свое опоздание. Покопавшись в прошлом Фортена, мы обнаружили, что его уже задерживали за побои и членовредительство. Так что следствие склоняется в пользу версии убийства. К тому же, мадам Вуазен утверждает, что у ее супруга не было причин покончить с собой.
— Она живет здесь же, в Карьер-Сен-Дени?
— Вы что, собираетесь взять у нее интервью? — вскричал комиссар.
— Наши читатели должны знать все подробности.
— Не нравится мне это, но лучше я сам вам скажу, чем вы начнете расспрашивать всех подряд. Так вот, мадам Вуазен проживает на улице де Ла Грю. Что касается Фортена, то если он виновен, то ему не отвертеться. Дело ведь передали Аристиду Лекашеру.
— Инспектору Лекашеру?
— Да, его привлекли к расследованию вчера, когда версия самоубийства отпала, — неохотно признался комиссар. — А вы что, с ним знакомы?
— Только понаслышке.
— Поговаривают, что он получил должность благодаря своим связям, — буркнул комиссар.
«Мама, наверное, сказала бы, что эта лачуга до сих пор не развалилась только благодаря вмешательству Святого Духа», — подумал Жозеф, найдя по указанному комиссаром адресу странное сооружение из обломков кирпича, кое-как замазанных цементом, и кусков листового железа.
В дверном проеме появилась чумазая девчушка.
— Мели, кто там? — послышался визгливый женский голос.
— Какой-то месье, — ответила девочка.
На кухне пахло аппетитно. Мальчик, такой же грязный, как его сестра, не сводил глаз со сковороды, в которой что-то стряпала его мать, худая, изможденная, рано постаревшая женщина. Мальчик и женщина враждебно уставились на Жозефа. Паренек показал ему язык, а его мать отвернулась и продолжила свое занятие. Вскоре первый блин шлепнулся на тарелку.
— Кто вы такой, полицейский? Или еще один писака?
— Значит, журналист к вам уже приходил?
— Да, вчера днем, и задал мне кучу вопросов.
— А как он выглядел?
— Вы что думаете, я его разглядывала… Стервятники, вот кто вы есть! Оставьте нас в покое, моего Эвариста больше нет. Что будет с нами, со мной, с детьми, теперь, когда этот лентяй оставил нас? — Она налила новую порцию теста в сковороду и добавила: — Вы, что ли, будете нас кормить? Где же тогда ваша корзина с продуктами?
Дети захихикали, но, дождавшись второго блина, тут же забыли про гостя. Через несколько секунд их тарелки были пусты.
— Счастье еще, что соседи принесли нам яиц, муки и масла. На помощь старших детей я не могу рассчитывать!
Жозеф достал из кармана монету и положил ее на стол.
— Ух ты! Пять франков! — ахнула девчушка и протянула к ней руку, но мать опередила ее.
— Ваш муж часто посещал заведение Луи Фортена? — спросил Жозеф.
— Была б его воля, он бы там и ночевал! Да только Эварист был трусоват и ходил у меня по струнке! Если бы я в пятницу не прочитала то письмо…
— Какое письмо? — спросил Жозеф, вытаскивая из кармана еще две монеты по одному франку.
Мадам Вуазен ответила с неохотой:
— Я его сожгла. — Она прикусила губу. — Не хотела, чтобы муж встречался с этими потаскушками…
— Идой и Сюзанной, Сюзанной и Идой, — затараторили наперебой ребятишки.
— А ну, замолчите! — приказала им мать.
— Письмо было подписано этими именами? Поймите, мадам, это очень важно! Ведь в тюрьму посадили человека, который, возможно, невиновен!
— Вы о Луи? Да, пропади он пропадом, этот жирный боров. Вечно прикрывал Эвариста, когда тот шлялся по бабам! Как бы там ни было, никаких доказательств нет, говорю же, письмо я сожгла!
Мадам Вуазен с вызовом смотрела на Жозефа.
— А другое оставила! — выкрикнул ее сын.
— Заткнешься ты, в конце концов, или нет?! — рявкнула она и взмахнула рукой, собираясь залепить мальчишке пощечину.
— А что, было еще и второе письмо? — Жозеф выгреб из кармана целую горсть мелочи и высыпал ее на стол.
Мадам Вуазен посмотрела на деньги и заорала на детей:
— Чтоб духу вашего здесь не было!
Оставшись с женщиной наедине, Жозеф заявил:
— Имейте в виду, у меня не осталось ни су. Либо вы скажете мне правду, либо я вернусь в участок и сообщу, что вы скрываете важную для следствия информацию.
— Что вы меня пугаете? Если мой рассказ напечатают в газете, результат будет такой же!
— Не беспокойтесь, я подам все так, что вы не будете замешаны в этом деле. У нас, у журналистов, есть свои источники информации…
Мадам Вуазен нахмурилась, сунула руку в карман фартука и извлекла оттуда мятый конверт.
— Вот это письмо. Я ведь не круглая идиотка, понимаю, что извещение от нотариуса надо сохранить.
— От нотариуса?
Жозеф в волнении заглянул в конверт: он был пуст.
— Вот паршивцы, они стащили письмо! — воскликнула женщина. — Ну, я им задам!
— Может, вы запомнили имя и адрес нотариуса? — не скрывая разочарования, спросил Жозеф.
Она пожала плечами.
— Да разве все упомнишь? Там было много всяких слов, я не стала вникать. Думала, вот Эварист вернется…
Она, казалось, только сейчас осознала, что муж не вернется никогда. Но это вызвало у нее не печаль, а озлобленность.
— Говорю же: это вылетело у меня из головы! Я, что, не ясно выразилась? Что вам еще от меня надо?! Явились сюда без приглашения и теперь требуете, чтобы я изливала вам душу?! А ну, убирайтесь!
Жозеф отошел от дома на несколько метров, когда услышал свист. Он обернулся и увидел детишек Вуазена, стоящих в тени крытого гумна. Он подошел к ним.
— Дайте нам монетки, получите письмо! — сказал мальчик.
— А ты, похоже, не пропадешь, малец!
Жозеф пошарил в карманах и понял, что денег у него осталось только на обратную дорогу. Он поразмыслил минуту и решил расстаться с подарком отца — перочинным ножиком с роговой ручкой.
— Это — или ничего, — поставил он ультиматум.
Дети вполголоса посовещались.
— Идет, — сказал мальчик.
Обмен произошел в мгновение ока, и Жозеф вдруг понял, что пожертвовал памятью об отце ради мятого клочка бумаги.
«Маленькие негодники! — пробормотал он. — Да здесь только обрывок! И все же это, возможно, даст нам недостающее звено в цепочке. Интересно, соизволит ли дорогой Виктор оценить мою жертву?»
От письма сохранилась лишь часть:
Месье,
Вам необходимо явиться в пассаж д’Анфер, 20 и обратиться к месье Грандену…
— Вы молодец, Жозеф! Жаль, конечно, что мы не можем прочитать письмо полностью, но теперь я точно знаю, мы на верном пути, — прошептал Виктор, когда Жозеф вручил ему свой трофей в подвале книжного магазина.
Жозеф чуть не задохнулся от возмущения:
— Ах, вот как! Вы меня просто используете, а вся слава достанется вам! Да я при вас, как в штрафной роте! — И он запел:
В штрафной роте мы маршируем,
И нельзя отставать;
Когда разводящий кричит: «Чётче шаг!»
— Ничего подобного, мы ведем расследование на равных.
— Я продрог до костей, может быть, теперь слягу или даже умру, а вы будете почивать на лаврах! Имейте в виду, в случае моей смерти вам придется взять на себя заботу о моих жене и дочери!
— Уймитесь, Жозеф, у меня нет времени петь вам дифирамбы. Повторяю еще раз: мы действуем сообща. И, благодаря вам, расследование продвигается. Ведь мне передали послание, предназначенное Максансу Вине, и это тоже приглашение в пассаж д’Анфер к служащему нотариальной конторы Грандену.
— Вот как?! Значит, всех их связывает какое-то наследство! Я должен немедленно это записать. — Жозеф похлопал себя по карманам и побледнел. — Мой блокнот! Я потерял его! Это катастрофа!
— Когда вы в последний раз держали его в руках?
— Не помню… Ах да, вчера вечером! Меня позвала Айрис, и я… Вот черт, я забыл его на прилавке! Только бы он был там…
Он со всех ног бросился наверх, в лавку. Кэндзи сидел за своим столом, Симеон Дельма расставлял на полках тома «Человеческой комедии». Жозеф с непринужденным видом скользнул за прилавок, и из его груди вырвался вздох облегчения — драгоценный черный молескин лежал под стопкой бумаг. Он поспешно сунул его в карман, не заметив насмешливого взгляда Кэндзи.
Солнце, казалось, решило все же наведаться в столицу, чтобы доказать парижанам, что не оставляет их своим вниманием. Виктор слез с велосипеда. После ремонта тот был, конечно, уже не так хорош, как прежде, и по улице Клиши Виктору пришлось идти пешком, толкая велосипед перед собой.
На тротуаре перед домом номер 24 толпились люди. Виктор прислонил велосипед к стене, присел на корточки, делая вид, что проверяет, как работают педали, и прислушался.
— Ох, уж эти артисты! Это настоящее бедствие для приличного дома! — воскликнула невысокая женщина в вязаной шали. — Ходят туда-сюда, пачкают лестницу, а ведь на улице постоянно идет дождь! Заявляются после полуночи, а ты им дверь открывай! К примеру, прошлой ночью этот писака с пятого этажа, ты помнишь его, Зефирен?
— Конечно, — подтвердил усатый мужчина в зеленоватой кепке. — Они вечно не дают нам спать, мы с Титиной просто валимся с ног от усталости! Да-а, скажу я вам! Раньше это был приличный дом, но потом большинство наших жильцов переехали в более престижные кварталы, и тут поселились всякие голодранцы!
— Это точно! — горячо поддержал его сторож из парка, бывший вояка с пустым рукавом куртки, приколотым к плечу английской булавкой. — Мы вынуждены жить рядом со шлюхами и бездельниками! У них есть обе руки, но они ни черта не делают! А вот я, месье Плюше, по-прежнему служу родине, хотя пострадал, исполняя свой гражданский долг!
— Ну да, месье Жоблен, почти все поступили так же.
— Ну да, кроме тех, кто ни в армии служить не хочет, ни работать! Мой отец умер, месье Плюше, в сорок три года. Нас у него было пятеро, и без лишней скромности скажу, все выросли порядочными людьми. Теперь такого не бывает…
— Вы правы, месье Жоблен, — согласилась пожилая женщина, дергая таксу за поводок. — Нынче в газетах твердят, что Франции нужны дети. Увы, у меня их нет, зато есть мой Фенуйяр, с ним мне не так одиноко.
— У вас славный пес, — заметил месье Жоблен. — А вот и наша Амеде! Привет, ты принесла мою пенсию?
— Привет честной компании. Нет, Жоблен, я не принесла тебе пенсию, зато у меня есть письмо для вас, мадам Альфонзина.
Мадам Плюше поспешно распечатала конверт, воскликнула «О!», и ее лицо озарила улыбка.
— Это от мадемуазель Иды, она не забыла про нас, Зефирен.
— Фенуйяр, прекрати, глупая собака, ты же удавишься! — закричала пожилая женщина. — Можно мне тоже посмотреть, мадам Плюше?
Обе с восторгом разглядывали программку казино в Сермез-ле-Бен.
— «Мадам Альфонзине Плюше и ее супругу месье Зефирену Плюше на память о гастролях „Ла Маскотт“. С наилучшими пожеланиями», — прочитала вслух счастливая консьержка. — Как это приятно — получить от такой известной певицы подарок! Я вклею эту программку в наш семейный альбом, ладно, Зефирен? Мы обожаем оперетту. А вы, месье Жоблен, любите музыку?
— Только военную!
Виктор решил, что пора вмешаться:
— Добрый вечер, дамы и господа, — сказал он, приблизившись, и посмотрел на мужчину: — Если не ошибаюсь, вы здешний дворник?
Зефирен Плюше окинул его недоверчивым взглядом.
— Ошибаетесь, месье, я — консьерж.
— Прошу меня извинить.
— Ваши извинения приняты. Но впредь не путайте, это разные должности: я отвечаю в этом доме за все. Чем вам помочь?
— Я хотел бы послать букет цветов мадемуазель Иде Бонваль. Она ведь здесь проживает?
— Ее сейчас нет, она на гастролях, за ее квартирой присматривает мадам Плюше.
— А вы не знаете, когда она вернется?
— Вы знакомы с ней лично? — насторожилась Альфонзина Плюше.
— Я имел удовольствие наслаждаться ее пением в салоне у графини де Салиньяк и хотел бы выразить свое восхищение.
— Это очень любезно с вашей стороны, но насчет цветов вам лучше повременить, не то, боюсь, они успеют завянуть. Мадемуазель Бонваль вернется не раньше Рождества.
— Бесконечно вам признателен, мадам. Вам повезло, вы ведь имеете счастье часто видеть такую знаменитость.
Заметив, что Альфонзина Плюше зарделась от удовольствия, Виктор продолжил атаку:
— Полагаю, мадемуазель Бонваль получает много писем от поклонников…
— О, да. Но она дама приличная и не требует, чтобы мы приносили их ей, сама спускается за почтой. Вчера от нее приезжал посыльный, чтобы забрать корреспонденцию. Я все отдала, ведь он показал мне записку, написанную ее рукой. Она собирается пожить за городом у какой-то знатной дамы. Будет там репетировать перед выступлением в Елисейском дворце, а в январе следующего года мадемуазель Бонваль, по слухам, даст сольный концерт в присутствии президента Феликса Фора и его супруги.
— А знатная дама, у которой она поселилась, случайно, не Афродита д’Анжьен, у нее есть поместье недалеко от Домона? — спросил Виктор с деланным равнодушием.
— Альфонзина, ты слишком много болтаешь, — заметил Зефирен Плюше. — Месье, мы не обсуждаем с незнакомыми людьми своих жильцов. Все, что мы можем вам сказать, это что в настоящее время мадемуазель Бонваль находится в Сермез-ле-Бен. Мое почтение.
Виктор приподнял шляпу и снова оседлал велосипед. Миновав дом номер 18, он поехал вдоль длинного здания, на котором висела огромная вывеска:
СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС
Катание на коньках на настоящем льду
Виктор вздрогнул. В голове вертелась какая-то мысль: «Катание на коньках на настоящем льду»! Его осенило: полозья! Он видел полозья коньков в заляпанной кровью сумке, которая валялась на полу в квартире Сюзанны Боске! Сердце у него бешено заколотилось. Он должен быть уверен. Виктор развернулся и поехал в обратную сторону. На тротуаре возле дома номер 24 уже никого не было, за исключением пожилой женщины с таксой.
— Мадам! Простите, еще один маленький вопрос. Вы знакомы с мадемуазель Бонваль?
— Мы живем с ней на одной лестничной клетке.
— Вы не знаете, бывает ли она на катке «Северный полюс»?
— О да, она часто проводит там время. Настоящая королева льда. Фенуйяр, будь умницей, пописай! — обратилась она к собаке, которая обнюхивала фонарный столб. — Меня это всегда удивляло, ведь ей надо беречь свой голос. А зачем вам…
Но Виктор был уже далеко.
Он ехал, энергично нажимая на педали, по направлению к улице Прованс и тщетно пытался сложить вместе детали мозаики. Пока что ясно было только одно: члены ассоциации «Подранки» один за другим отправлялись на тот свет, и, если не поторопиться с решением этой загадки, скоро их останется не больше, чем пальцев одной руки.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Четверг, 28 ноября
В этот поздний (или ранний) час — в зависимости от того, гуляли ли вы всю ночь или мучились бессонницей, — в город полновластной хозяйкой вошла зима. Виктор осторожно брел по тротуарам, еще сухим накануне днем, а теперь покрытым первым снегом. На пересечении улиц Нотр-Дам-де-Лоретт и Ларошфуко одинокий фонарь высвечивал лунный ореол перед канализационным люком.
Ночь — пора темных делишек и лихих людей. Но ни одна тень не потревожила Виктора, ничто не могло поколебать его блаженного состояния. Проснувшись среди ночи, Таша закричала и прижалась к нему. Они с таким пылом занимались любовью, что были сами поражены неистовству своей страсти. Запыхавшаяся, растрепанная, раскрасневшаяся Таша сказала:
— Я хочу есть.
Кладовая оказалась пуста, и Виктор принес себя в жертву. Вот почему в четыре часа утра он шел по направлению улицы де Шатоден, где находилась круглосуточная булочная Рикье. Он издалека почувствовал аппетитный запах свежей выпечки и с благодарностью подумал о тех, кто не покладая рук месил тесто, прерываясь только для того, чтобы промочить горло глотком дешевого красного вина.
Он вошел в лавку, где на прилавке аккуратными горками лежали белые булочки, багеты и продолговатые хлебцы, посыпанные сахарной пудрой.
Кроме него, покупателей не было, и к нему тут же бросились две потаскухи. Он не обращал на них внимания, дожидаясь, пока хозяйка булочной положит для него в пакет несколько румяных круассанов.
— О! У меня не будет сдачи! — воскликнула она при виде купюры, которую он ей протянул. — Нитуш, сбегай, разменяй деньги в аптеке на Монмартре!
Пухленькая девушка с круглым, в ямочках, лицом вытерла руки о передник и схватила купюру. Ожидая, пока она вернется, Виктор присел за столик в углу и огляделся. Вокруг сидели, попивая ликер, уличные проститутки, уставшие мерить шагами тротуар. Водрузив корзину со свежим хлебом на голову, юный подмастерье уже готов был тронуться в путь. Бродячая собака вертелась у дверей. Маленькая оборванка прошлась между столиками с висящим на лямке лотком, предлагая духи с резким запахом пачули и крошечные кусочки туалетного мыла. Нищий, получив от хозяйки несколько сухих горбушек, запустил лапу в глубокий вырез на груди потаскушки и получил звонкую оплеуху. Внимание Виктора привлек разговор двух старьевщиков.
— Только представь, ты приходишь в ресторан, усаживаешься, делаешь заказ. Тебе приносят тарелку, а в ней — скорпион, или ящерица, или еще какой гад!
— У меня нет денег на рестораны!
— Мишу, я же сказал: представь. В любом случае, ничего удивительного, что того типа укусила змея.
— Виржиль Сернен уже ни на что не пожалуется.
— Простите, месье, о ком вы говорите? — поинтересовался Виктор.
Старьевщики недоверчиво покосились на него, пытаясь угадать, не полицейский ли это в штатском. И все же один ответил:
— О трактирщике с улицы Понселе, которого укусила змея. Неудивительно, ведь он держал у себя всяких ядовитых гадов. Это было во вчерашней вечерней газете. — И он протянул ее Виктору.
Владелец ресторана «Миротон де Терн», хорошо известного любителям местной кухни, месье Виржиль Сернен, находился на лечении в клинике доктора Гарро. Вечером 26 ноября он вернулся в свой ресторан. Его безжизненное тело обнаружила одна из официанток, мадемуазель Маринетта Гассанди. Если верить врачам, осмотревшим тело…
Виктору пришлось вернуть газету старьевщику, так как пришла Нитуш, разменявшая деньги, и хозяйка булочной уже отсчитывала ему сдачу. Настроение у Виктора испортилось. Неужели еще один член ассоциации «Подранки» покинул мир живых?..
Эрик зажег лампу, схватил вчерашнюю газету и еще раз перечитал заметку о загадочной смерти Виржиля Сернена. Похоже, он, Эрик, разворошил настоящий муравейник! Возможно, ему самому теперь тоже грозит опасность… Кора ушла к какому-то клиенту. В комнатушке было душно, и Эрик приоткрыл окно. Послышались мерные тяжелые шаги: полицейские совершали утренний обход вверенной им территории.
Эрик снова улегся на кровать, положив под голову скомканную подушку. Уже пять часов утра, но уснуть ему, похоже, сегодня больше не удастся. Впервые в жизни он оказался в самом центре трагических событий. Это пьянило его и в то же время пугало. Кто совершил все эти убийства? Один из тех двоих, кто приходил к нему в пассаж д’Анфер? Или любой другой из членов ассоциации, кто хотел единолично владеть сокровищем? Эрик мысленно перечислил тех, кто все еще был в игре: Гюго Мальпер, Рен и Лазар Дюкудре, Ида Бонваль, Сюзанна Боске. Две последние вызывали наибольшие подозрения: Эрик узнал от детей вдовы Вуазен, что письмо, в котором их отцу назначили встречу в трактире, где бедняга и умер, было от Иды и Сюзанны.
Сокровище! В его ценности теперь не было сомнений, поскольку тот или та, кто желал завладеть им, совершал все новые тщательно продуманные убийства.
Улица Верней просыпалась. Повозки молочников катили по мостовой, громыхая жестяными канистрами. Торговцы выставляли столики с товаром на тротуар.
«Спать. Ночи, проведенные без сна, похожи на преддверие ада. Спать. Ни о чем не думать…», — уговаривал себя Эрик. Увы, все усилия были напрасны. Он понимал, что рискует не выбраться из этой переделки живым, а потому должен разоблачить убийцу, пока тот не добрался до него самого. Сейчас его цель — Ида Бонваль и Сюзанна Боске.
«Все началось в Домоне. Книготорговец, блондин, проклятые проныры!.. Все, расслабься, ни о чем не думай, спи».
Пылкие ласки любимого не успокоили Таша — она все еще была под властью ночного кошмара. Когда вернулся Виктор с круассанами, они выпили кофе, снова легли в постель и уснули. Рассвет застал их готовыми к новым любовным баталиям.
Потом Таша, закрывшись в туалетной комнате, расчесала и завязала лентой свои пышные рыжие волосы. И вдруг страшный сон снова встал у нее перед глазами: Виктор идет ей навстречу через поле, вдруг налетает песчаный вихрь и погребает его под собой. Таша бросается к мужу, разгребает песок обеими руками, но никак не может добраться до него. Она проснулась вся в поту, вцепившись в Виктора, словно утопающий в спасательный плот.
Звон посуды рассеял наваждение. За стеной, на кухне Виктор споласкивал чашки, в которых они пили кофе. Таша припудрила синяки под глазами.
Виктор прошел через лабораторию и, стараясь ступать неслышно, направился в спальню, где недавно установил второй телефонный аппарат из палисандрового дерева, прикрепив его к стене. Его надежды оправдались, трубку взял Жозеф.
— Придумайте какой-нибудь предлог и немедленно бегите за газетой. Виржиль Сернен — очередная жертва, — проговорил он вполголоса. — Как и Деода Брикбек, и Максанс Вине, и Эварист Вуазен. Я одеваюсь и еду в ресторан на улице Понселе, затем приду в лавку.
Виктор закончил разговор. Он был так раздражен несообразительностью компаньона, что не обратил внимания на легкий скрип половиц у себя за спиной.
Таша тихо прикрыла дверь. На упаковке от туалетного мыла торопливо записала четыре имени, упомянутые Виктором. Медлить больше нельзя, пора бить тревогу. Но к кому обратиться? К Айрис? Нет, не стоит ее волновать, ей хватает забот с маленькой Дафнэ. Остается только один человек. Да, но как с ним связаться, не привлекая внимания? Если трубку снимет Симеон Дельма, еще полбеды, но если это будет Жозеф, он тут же узнает голос Таша. Она решила прибегнуть к старому проверенному способу: попросить Андре Боньоля отнести Кэндзи записку.
Едва Виктор выехал на бульвар Клиши, как выяснилось, что обод колеса погнулся. Виктор выругался, наградив торговца велосипедами, который занимался и их починкой, нелестными эпитетами, и продолжил путь.
Фасад ресторана «Миротон де Терн» был обит деревянными панелями, выкрашенными в бледно-зеленый и лимонно-желтый цвет. Виктор ожидал, что тут все оцеплено полицией, но ошибся. Он потянул за ручку двери и оказался в большом помещении с длинными столами. Высокая, грузная женщина с кудрявыми волосами мыла полы. Виктор кашлянул. Она подняла голову и мрачно посмотрела на него.
— Закрыто. Я забыла задвинуть засов после ухода инспектора. Вы тоже из полиции или просто посетитель?
— Я был близко знаком с беднягой Виржилем. Известие о его кончине меня потрясло. Надо же, чтобы человек, который так любил рептилий, погиб от укуса змеи!
Женщина кивнула.
— Да, он любил этих тварей. Да только его питомцы были не ядовитые. Уж мне-то это хорошо известно, я их кормила.
— Сразу видно, что вы добрый человек, животные всегда это чувствуют, — заметил Виктор, надеясь завоевать ее расположение.
Ему это удалось: женщина окинула его изучающим взглядом, отставила швабру и, вытерев руки о передник, протянула ему руку.
— Меня зовут Маринетта Гассанди. Я работаю тут уже семь лет, хозяин мне доверял. Не представляю, что будет со всеми нами теперь, когда его больше нет… Боже, я никак не могу привыкнуть к этой мысли! Ведь здесь, кроме меня, служили еще две официантки, два повара и кассирша. А что делать с питомцами хозяина, теми, что выжили? Две ящерицы и саламандра подохли.
— Может, его друзья возьмут их к себе?
— Ха! Какие друзья? Те, что писали ему дурацкие письма?!
— Эти письма у вас?
Женщина насторожилась и снова внимательно посмотрела на Виктора. Он понял, что придется прибегнуть к испытанному средству.
— Мое имя — Жозеф Пиньо, я служу в книжной лавке. Поверьте, я умею хранить тайны — это знают и мои хозяева, и наши клиенты.
Маринетта пригладила руками свою пышную шевелюру.
— Я нашла три письма: одно — под стулом и два — в карманах месье Виржиля. Это ведь я его обнаружила — это было ужасное зрелище! Так вот, я их припрятала, потому что подумала, что они от его любовниц. У хозяина их было две, Мелани и Ивонна, и они вечно из-за него ссорились. Затем я известила полицию. Но, хотя инспектор Лекашу… Лекашьен… не помню точно его имя, раз десять задавал мне одни и те же вопросы — по-моему, он слишком высокого о себе мнения! — я не сказала ему о письмах ни слова.
Виктор порылся в своем портфеле и извлек оттуда розовый конверт, подарок Рафаэль де Гувелин, мысленно похвалив себя за то, что не выбросил его.
— Вот билет в ложу бенуара театра де ля Репюблик на спектакль «Приключения Томаса Плюмпата», пьесу Гастона Маро в пяти актах и двенадцати сценах. Я предлагаю вам его в обмен на эти письма!
Маринетта Гассанди завороженно смотрела на конверт. Ей очень хотелось пойти в театр, но она сомневалась, что может ради этого раскрыть чужую тайну. И все же обмен состоялся: розовый конверт за два листка бумаги.
— Только никому не говорите про письма, — прошептала Маринетта. — Их вообще надо было сжечь. Я рада, что избавилась от них, теперь полицейским до них ни за что не добраться! Уйдут отсюда не солоно хлебавши! А вам я доверяю, месье. — И она кокетливо улыбнулась Виктору. — А где находится ваша книжная лавка?
— На улице Барбе-де-Жуи, 22.
Виктору распрощался с Маринеттой Гассанди, оседлал свой многострадальный велосипед и покатил к авеню де Терн.
Увидев Андре Боньоля, как всегда чопорного и подтянутого, Эфросинья воздала хвалу небу. Хорошо, что он явился в тот момент, когда Зульму Тайру отправили в магазин забрать заказанные Айрис обновки.
— Мы принесли письмо для месье Кэндзи Мори, — важно объявил бывший метрдотель.
— Спускайтесь в магазин, месье Мори там, а потом приходите на кухню, я переписала для вас несколько рецептов, думаю, они вам пригодятся.
— Благодарю вас, я непременно вернусь.
Уходя, Андре Боньоль не удержался от того, чтобы поискать взглядом даму своего сердца.
— А нашей дорогой Зульмы здесь нет! — с притворным сожалением заметила Эфросинья, перехватив его взгляд.
— Мы выразим ей наше почтение в следующий раз, — важно заявил Андре Боньоль и удалился.
Мадам Пиньо подумала о том, что вполне могла бы составить конкуренцию этой бестолковой Зульме. Единственное, что ее смущало, это королевское «мы» Андре Боньоля. А что если поцеловать его в щеку? Нет, она никогда не позволит себе такую вольность. Покойный месье Пиньо был совсем другим. Ему хватило глотка чего-то горячительного в кафе на набережной Вольтера, чтобы объясниться в любви юной Эфросинье Курлак. Так стоит ли ей вообще прикладывать какие-то усилия, чтобы завоевать сердце чопорного Андре Боньоля? Может ли быть такое, чтобы за его внешней невозмутимостью скрывался мужчина, способный воскликнуть в решающий момент: «Эфросинья, я люблю вас! Согласны ли вы выйти за меня замуж?»… Потому что, если это прозвучит как: «Мы вас любим! Согласны ли вы выйти за нас замуж?», придется признать, что она против многомужества.
Когда Андре Боньоль вошел в лавку, Кэндзи радовался удачному завершению сделки: ему только что удалось продать одному состоятельному коллекционеру пять томов «Декамерона» Боккаччо, изданных в 1757 году. Он передал клиента в руки Жозефа, который сидел за кассой, и велел Симеону упаковать книги. Взяв из рук Андре Боньоля записку Таша, Кэндзи внимательно прочитал ее. При этом на его лице не дрогнул ни единый мускул.
— Пришла моя очередь отлучиться, — сказал он своим помощникам. — Это личное дело, я постараюсь вернуться через час. Спасибо вам, Андре.
Кэндзи поднялся к себе, чтобы переодеться, а Андре Боньоль направился к Эфросинье на кухню.
— Вот, как и обещала, я переписала для вас несколько особых рецептов, например, курица с устрицами и морской скат с грибами: надо сварить шампиньоны в приправленной уксусом воде, нарезать чеснок и лук, посолить, обжарить в масле, и только потом добавить их к скату.
— Мы… мы не любим этих… хрящевых рыб, которых надо засовывать в кипяток, — пробормотал Андре Боньоль.
— Я разделяю ваше мнение. Как говорит отец моей невестки: «Когда рыбка поймана, негоже снова совать ее в воду». Но если бы у вас была сноха, которая не ест мяса, вам бы тоже пришлось готовить морепродукты! Да что я такое говорю, ведь чтобы иметь сноху, нужен сын, а чтобы иметь сына, нужна жена, — проворковала Эфросинья, придвигаясь к своей жертве почти вплотную.
Андре Боньоль схватил рецепты и попятился, как краб, к выходу.
— Мы бесконечно благодарны вам за этот бесценный дар, — произнес он.
— Но я еще не все вам рассказала! Есть еще пикша в соусе из сливочного масла, морские петушки
[584] со шпинатом, рисовый суп с миндальным молоком… Эй, куда же вы!
Увы, Андре Боньоля уже и след простыл.
«Вот так всегда! — расстроилась Эфросинья. — Вы из кожи вон лезете, чтобы соблазнить мужчину, а он бежит от вас как от чумной!»
Заинтригованный запиской Таша, Кэндзи дошел по улице Жакоб до дома номер 47 и остановился у главного входа в больницу «Шарите». Почему Таша захотела безотлагательно переговорить с ним? Ее возмущает безнравственное поведение матери? Или, может, она задумала бросить Виктора?
Он сразу заметил знакомую шляпку с маргаритками на копне ослепительно рыжих волос. Молодая женщина была одета в короткую серую шерстяную накидку и бархатную юбку цвета слоновой кости. При всей скромности своего наряда, Таша выглядела среди больных, гуляющих в саду, королевой среди придворных. Поцеловав ей руку, Кэндзи шепнул на ухо:
— Подумать только, а ведь когда Виктор ухаживал за вами, я был против!
— А я всегда жалела, что вы не мой отец, несмотря на то, что наши взгляды во многом расходятся. Впрочем, мое желание в некотором роде исполнилось.
Таша лукаво улыбнулась.
— Что вы имеете в виду? — смутился Кэндзи.
— Ну как же, ведь выйдя замуж за вашего приемного сына, я стала почти что вашей дочерью. Вот почему ваш портрет висит на почетном месте у меня в мастерской.
Кэндзи вздохнул с облегчением — ему на мгновение показалось, что Таша имеет в виду его роман с ее матерью Джиной — и поздоровался с сидящим неподалеку молодым человеком. Тот читал книгу «От Мазаса до Иерусалима» Зо д’Акса, и Кэндзи узнал в нем своего покупателя.
— А я, в свою очередь, никогда не устану любоваться вашим пейзажем, изображающим парижские крыши на рассвете, который висит напротив моей кровати, — ответил он.
— Спасибо, но я позвала вас не для того, чтобы обмениваться комплиментами. Дело серьезное: Виктор снова ввязался в расследование, и я очень за него беспокоюсь. Сегодня утром он звонил Жозефу и сказал, что убит некий Виржиль Сернен. И назвал еще троих убитых, я записала их имена.
Таша сунула свекру в руки упаковку от мыла.
— Деода Брикбек, Максанс Вине, Эварист Вуазен, — прочитал Кэндзи.
Он тотчас вспомнил про газету «Фигаро» с пометками, забытую Виктором в бывшей фотолаборатории. Два имени были подчеркнуты карандашом: Деода Брикбек, служащий обсерватории, и Максанс Вине, рабочий-литейщик. Эти двое погибли от удушья в фиакрах. Был еще блокнот Жозефа, в котором упоминались Эдокси Аллар, Сюзанна Боске и двое мужчин: Амори де Шамплье-Марей и Донатьен Вандель. Кэндзи поделился этой информацией с невесткой.
— Нет никаких сомнений: они снова взялись за старое! — удрученно воскликнула Таша и тихо добавила: — Возможно, Виктору необходима время от времени подобная встряска, обыденность наводит на него скуку…
— Но ведь ему есть чем заняться: книжная лавка, фотография… — возразил Кэндзи. — И вы, у него есть вы.
Таша покраснела, тронутая его словами.
— Увы, сталкиваясь с какой-то тайной, он не в силах устоять. Скажите, что мы с вами можем предпринять?
Кэндзи пригладил рукой прядь седеющих волос. Он чувствовал, что стареет, хотя никогда в этом не признался бы. Ему все труднее противостоять энергии сына и зятя. Невозмутимость изменила ему, и он воскликнул:
— Трагедия на площади Бастилии ничему его не научила! Если бы не никелевый хронометр, револьверная пуля пронзила бы его грудь!
[585]
— Вот видите! Виктор снова готов ходить по лезвию бритвы, не беспокоясь о том, что при этом чувствуем мы с вами! И Жозефа за собой тянет. Этому необходимо положить конец, но я не знаю как…
— Для начала договоримся о том, что будем делиться любой имеющей отношение к делу информацией. Но если Виктору и Жозефу приспичит куда-то уйти, я не смогу их остановить!
— Как нельзя остановить ветер, — согласилась Таша.
Они скрепили свой союз рукопожатием, которое немного смутило их обоих.
Предчувствия не обманули Кэндзи. В тот же день оба его компаньона исчезли из магазина: Жозеф сослался на какую-то экспертизу, Виктор — на встречу с фотографом Альбертом Лонде.
[586]
Они сели в фиакр, который привез их на улицу Кампань-Премьер, где они зашли на ферму, торгующую яйцами, маслом и сыром, и выпили по стакану теплого молока, глядя на кур, копавшихся в овечьем помете.
— У нас есть три письма, — сказал Виктор. — Под первым стоит подпись «Твои друзья из ассоциации „Подранки“», и в нем Виржилю Сернену обещают большой сюрприз, под которым, вероятно, подразумевалась ядовитая змея. Почерк, которым написаны два других письма, совпадает. Одно — в точности такое же, какое получил Максанс Вине, — это приглашение к мэтру Грандену в пассаж д’Анфер по поводу завещания Донатьена Ванделя. Другое, подписанное Эваристом Вуазеном, предостерегает об опасности со стороны кого-то из членов ассоциации, который, по всей вероятности, сводит с остальными счеты.
— Вы провернули эту операцию блестяще, дорогой компаньон! — воскликнул Жозеф. — Меня радует, что благодаря Маринетте инспектор Лекашер остался с носом. Но кто строит все эти козни, по-прежнему непонятно. Зачем понадобилось подделывать почерк нотариуса?
Виктор нахмурился.
— Начнем с того, что выясним, существует ли нотариус вообще.
Пассаж д’Анфер, несмотря на зловещее название, выглядел тихим и мирным. На антресольном этаже дома номер 20 была только одна закрытая дверь. Компаньоны долго стучали, но никто им так и не открыл. Наблюдательный Виктор заметил на деревянной стене сбоку от двери следы от гвоздей, свидетельство того, что там была прикреплена табличка. На третьем этаже здания действительно располагалась нотариальная контора, однако на медной дощечке возле двери значилось другое имя: «Мэтр Турнефор». Клерк с напомаженными волосами сообщил им, что никакой Гранден в их конторе, где он сам имеет честь служить вот уже пять лет, не числится.
— Встречали ли вы когда-нибудь своего соседа с антресольного этажа?
— Их двое, и, судя по сходству, они — родные братья.
— Их фамилия Гранден?
— Как зовут этих молодых людей, мне не известно.
— Значит, они молоды?
— Я бы сказал, им где-то между двадцатью и сорока годами.
— Весьма точное определение, — буркнул Жозеф.
— Это приличные, любезные люди. Я живу на первом этаже, и шаги над головой меня немало раздражают, но эти соседи никогда не доставляют беспокойства. А вот их предшественник, преподаватель колледжа, имел отвратительную привычку ходить взад-вперед по комнате, декламируя басни Лафонтена. Я был вынужден месяцами слушать их, испытывая «страх
перед вторым башмаком»…
— Каким башмаком? — удивился Жозеф.
Клерк с сочувствием посмотрел на него.
— Это выражение означает, что вы напряженно ожидаете, что вот-вот раздастся грохот, как если бы на пол внезапно свалился тяжелый башмак и сейчас упадет второй. А с такими соседями, как братья Гранден, раз уж вы утверждаете, что их так зовут, я сплю спокойно.
— Не могли бы вы описать их внешность? — попросил Виктор.
— Один блондин, второй рыжий. Рыжий выходит из дома рано утром, мне случалось сталкиваться с ним и обмениваться приветствиями. Блондин возвращается поздно вечером, и мы с ним тоже вежливо здороваемся. Чем они занимаются, мне неизвестно. Это все. Прощайте, господа.
Виктор и Жозефом стояли на лестничной площадке озадаченные.
— Полный провал, — разочарованно произнес, наконец, Жозеф.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Пятница, 29 ноября
В пятницу утром солнце, видимо, решило вовсе не вставать над Парижем. Но если улица Сен-Пер выглядела мрачно, то ярко освещенные витрины книжной лавки «Эльзевир» не только согревали своим видом сердца прохожих, но и дарили тепло тем, кто заходил внутрь.
Юбка-брюки фрейлейн Беккер открывала полные икры в туго зашнурованных ботинках, а ее уже начинавшие седеть волосы, заплетенные в косу и закрученные в пучок под шляпкой с перьями, придавали ей вид состарившейся девочки. Она ворвалась в магазин, держа в руке длинный предмет цилиндрической формы, так стремительно, что чуть не сбила с ног писателя Реми де Гурмона, мужчину со следами оспы на лице и пенсне на крупном носу.
— Гутен таг, месье Мори, приветствую вас, господа! — провозгласила фрейлейн Беккер, обращаясь к Виктору, Жозефу, Симеону и трем посетителям. — Посмотрите на эту афишу, не правда ли, она прекрасна? Я сорвала ее со стены дома, расположенного по соседству от моего, на улице Нотр-Дам-де-Лоретт…
Она развернула рекламу, изображавшую пару фигуристов в «Ледовом дворце» на Елисейских Полях. Кэндзи порылся в своем столе и извлек оттуда какой-то листок.
— Возьмите для вашей коллекции. Мне прислали это на прошлой неделе из Лондона, это вырезка из «The Illustrated Sporting and Dramatic News», сомневаюсь, что у вас есть такой экземпляр.
Фрейлейн Беккер с благоговением рассматривала рисунок, изображающий Папу Римского в митре. Он сидел на престоле, украшенном страусиными перьями, и держал в правой руке чашку, на которой было написано «Боврил». Напротив него на подставке из резного дерева стояла огромная шахматная ладья, освещенная тремя свечами, на которой тоже было выгравировано «Боврил».
— Очень оригинально! Хотя я предпочитаю рекламные листовки, восхваляющие достоинства велосипедов, — заключила фрейлейн Беккер.
— А то такое «боврил»? — поинтересовался один из покупателей, одетый весь в черное.
— Экстракт из говядины для приготовления бульона, — ответил Кэндзи.
— Но это же безнравственно! — возмутился покупатель. — Англичане — настоящие безбожники! Я считаю это диффамацией по отношению к католикам и вынужден буду сообщить об этом моим коллегам из газеты «Ла Кру».
[587] Использовать папу, чтобы рекламировать бульон! Причем говяжий! Позор!
Хлопнув дверью, он выбежал из магазина, а Кэндзи многозначительно повертел пальцем у виска. Виктор, который при упоминании о «Ледовом дворце» крепко задумался, сделал знак Жозефу следовать за ним в комнатку за магазином.
— Итак, у нас есть полозья коньков и запачканная кровью сумка, которые я заметил у Сюзанны Боске, а Ида Бонваль, между тем, бесследно исчезла.
— Исчезла? Но вы же говорили, что она за городом, репетирует в гостях у какой-то знатной дамы, и что 26 ноября присылала за своей почтой!
— Разве у нас есть доказательства того, что именно она прислала посыльного? Это мог сделать и убийца. Например, Сюзанна Боске.
— Но какой у нее мотив? Она как-то связана со лже-нотариусами братьями Гранден? И где бы она спрятала тело? Тоже под пианино, что ли? — Жозеф подумал минуту и вдруг выпалил: — А вдруг Ида Бонваль хочет, чтобы ее считали погибшей, чтобы удобнее было… убивать самой!
— Такое тоже не исключено. Вернемся к исходному пункту: из десяти человек, бывших в добром здравии в августе, в живых осталось пятеро — если считать, что Ида уцелела. Двое, выдающие себя за нотариусов, играют в этой истории ключевую роль. Необходимо как можно скорее связаться с оставшимися в живых членами ассоциации и предупредить их о грозящей им опасности!
— Но нас с вами тоже только двое, не разорваться же нам! В магазин игрушек я больше не пойду: хозяин несет околесицу, а его жена ведет себя так, словно вот-вот меня укусит! К тому же Айрис считает безобразными этих зверушек, которых я купил там для Дафнэ!
Жозеф выудил из кармана деревянные фигурки медведя, жирафа и слона. Виктор взял их в руки и улыбнулся:
— Я покупаю их у вас. Подарю мадам Баллю на Рождество, — сказал он, протягивая Жозефу купюру.
— Да вы что, с ума сошли?! Эти уродцы столько не стоят! — смутился тот.
Но Виктор уже думал о другом.
— Кэндзи не появится тут до понедельника, а значит, одному из нас придется приглядывать за магазином. Выбирайте: Гюго Мальпер или работа.
— Ладно уж, поеду в Домон… — нехотя пробормотал Жозеф и мрачно вздохнул: — Еще одно богом забытое место!
— Вы же всегда мечтали о дальних странствиях! — усмехнулся Виктор, похлопывая его по плечу.
Кэндзи наблюдал, как Симеон Дельма демонстрирует двум постоянным клиентам редкие издания. Увиденное его удовлетворило. Он дождался, пока нагруженная корзинами с овощами Эфросинья, тяжело ступая, поднялась по лестнице, подошел к сюртуку, который Виктор повесил на спинку стула, и сунул руку в карман. Украдкой взглянув на свою добычу — три мятых конверта, Кэндзи поспешно сунул их под свои лежащие на прилавке перчатки и стал небрежно перелистывать купленную Жозефом «Пасс-парту». Заметив, что Симеон Дельма направляется в его сторону, Кэндзи взял газету и вернулся за свой стол. Почему Виктора заинтересовала смерть Виржиля Сернена? Есть ли связь между этим любителем рептилий и еще тремя персонажами, чьи имена записала Таша?..
Один из клиентов, месье Шаламель, обратился к Кэндзи за помощью, и тот, скомкав газету, засунул ее между бюстом Мольера и напольными часами аккурат в тот момент, когда хмурый Жозеф снова появился в лавке. Он явно искал свою газету.
— Месье Мори, вы не брали мою «Пасс-парту»?
— Конечно, нет. Я предпочитаю «Ле Тамп» или «Фигаро».
— Не понимаю, куда она могла подеваться?
— Ваша матушка только что была здесь, а вы знаете, зачем ей нужны газеты.
Перед глазами Жозефа сразу возник крюк в домике в дальней части двора, на который Эфросинья прикрепляла куски бумаги.
— Это катастрофа! Я как раз собирался изучить…
— Биржевые котировки, я полагаю? — насмешливо вставил Кэндзи.
— Не теряйте время, вы купите газету на вокзале, — прошептал Виктор на ухо Жозефу, подталкивая его к выходу.
— Зимой сыскная горячка обостряется, — пробормотал Кэндзи, и месье Шаламель от неожиданности уронил книгу Бероальда де Вервиля.
[588]
Чем ближе подходил Жозеф к замку Буа-Жоли, тем громче слышался лай собак. Он заметил человека рукой на перевязи, вероятно, садовника, в окружении огромной своры псов, один страшней другого. Закрученные кверху усы, всклокоченная борода и огромные сапоги придавали мужчине сходство с колдуном из народных сказок. Напуганный Жозеф уже был готов дождаться, пока этот странный персонаж со своими псами куда-нибудь уйдет, но потом нашел в себе силы крикнуть:
— Милейший, я хотел бы переговорить с Гюго Мальпером!
Бородач распрямился и шикнул на собак.
— Это я, месье.
Жозеф шел к нему медленно, готовый удрать в любую минуту. Однако животные вели себя смирно, за исключением упитанной самки с туго перевязанной бинтами задней лапой.
— Спокойно, Пишетта. Она недавно чуть было не погибла от укуса хорька, с тех пор стала беспокойной, — объяснил гостю Гюго Мальпер.
— А вы? — спросил Жозеф, держась поодаль.
— Что вы имеете в виду?
— Что у вас с рукой, тоже хорек укусил?
Гюго Мальпер насторожился.
— Кто вы такой, месье? Что вам тут надо?
— Мня зовут Жозеф Пиньо, я журналист из «Пасс-парту». Я приехал сюда специально, чтобы предупредить вас об опасности… Возможно, вас хотят убить.
— Спасибо за предупреждение, — мрачно усмехнулся Мальпер. — Да только оно немного запоздало, меня на днях пытались зарезать.
Жозеф остолбенел.
— Вы видели нападавшего?
— Я успел заметить только тень. Скажите, месье журналист, а откуда вам известно, что меня хотят убить?
— Вы состоите в ассоциации «Подранки»?
— Да.
— Вы в курсе, что за последнее время убиты несколько его членов?
Гюго Мальпер в таком изумлении уставился на Жозефа, что тот подумал: либо этот человек искусный притворщик, либо он действительно ничего не знал.
Мальпер загнал своих псов в вольеры и вернулся к гостю. Жозеф решил играть ва-банк:
— Мне кажется, вы меня не поняли, месье Мальпер. Максанс Вине и Деода Брикбек убиты, не так ли?
— Вздор! Я в курсе, как они погибли, это был несчастный случай.
— С обоими?
— Всего лишь досадное совпадение. Вы, журналисты, вечно делаете из мухи слона… Но кого еще вы имели в виду?
— Виржиль Сернен скончался от укуса ядовитой змеи, Эварист Вуазен отравился вином.
Гюго Мальпер смотрел на Жозефа в растерянности.
— Видимо, мне следовало серьезнее отнестись к предостережению Эвариста… Но кто принимает во внимание слова пьянчужки?.. — прошептал он потрясенно.
— А он вас о чем-то предупреждал? — оживился Жозеф.
— Я получил от него письмо. Он сообщил, что его вызывает нотариус по поводу какого-то завещания. И что-то о том, что один из нас сводит счеты…
— Это письмо мог написать кто угодно. Вы его сохранили?
— Выбросил.
— А ваша рука, как это произошло?
— Я повез Пишетту к доктору Бутейю в Медон. Он отличный ветеринар. Пока он занимался собакой, я пошел перекусить. Собирался дождь, и я решил дождаться фуникулера. Я был один на станции, когда почувствовал острую боль в плече и инстинктивно подался вперед. Я понял, что получил удар ножом, только когда увидел кровь у себя на куртке. Должно быть, тот, кто напал на меня, подкрался и, сделав свое черное дело, удрал. Я думал, это грабитель.
— Вам повезло.
— Да, не уклонись я, лезвие вошло бы прямо между лопаток. Я вернулся к доктору Бутейю, и он оказал мне первую помощь.
— Вы заявили в полицию?
— На кого?
— У вас есть враги?
— Вероятно, как у всех. Да взять хотя бы старого хрыча, полковника в отставке, моего соседа. Он ненавидит моих собак, но чтобы решиться убить меня…
Гюго Мальпер прошел к скамейке и тяжело опустился на нее. Пишетта улеглась у его ног. Жозеф был разочарован — он-то надеялся, что его пригласят в дом выпить чашечку горячего шоколада. Запахнув полы пальто, он пригляделся к лицу хозяина поместья. Тот явно пребывал в замешательстве.
— Боже мой, значит, осталось пятеро — это если считать вместе со мной, — и один из нас, возможно…
— Мсье Мальпер, вы получали приглашение явиться в пассаж д’Анфер?
— Нет.
— Вам знаком мэтр Гранден?
— Нет. Вы что, меня подозреваете? Что ж, дело ваше. — Мальпер глубоко вздохнул и понизил голос: — Что вы хотите узнать?
Жозеф почувствовал, что его пульс участился.
— Как возникла ваша ассоциация? — спросил он.
Гюго Мальпер смотрел ему прямо в глаза, на шее у него пульсировала вена.
— Вам нужна сенсация, мсье журналист? Тогда вы будете разочарованы, эта история скучна и банальна, она никого не заинтересует. Извольте: когда-то я преподавал философию, рассказывал студентам о трудах Аристотеля, Спинозы, Гегеля… Сам я больше всего любил Софокла, потому что его учение касается каждого из нас. Когда я повстречал Эмиля Легри, он был владельцем книжной лавки на улице Сен-Пер, должно быть, это был 1869 год. Я был молод, он произвел на меня сильное впечатление: это был неординарный человек. Эмиль вел почти монашеский образ жизни. Я никогда не забуду его лицо в ореоле седых волос, неизменный красный жилет… Мы прониклись друг к другу симпатией. Эмиль был горячим приверженцем учения утопистов. Он рассказал мне о Шарле Фурье и изложил его теорию об обществе, в котором будет царить полная гармония: упразднение института семьи в пользу всеобщего братства, победа над бедностью, жалованье, выплачиваемое гражданам не по их заслугам, но в зависимости от желания каждого. Мне захотелось разобраться в этом, и я стал его учеником. Это был благороднейший человек. Когда умер мой отец, я унаследовал его поместье и состояние и решил оставить преподавание и полностью посвятить себя фурьеризму вместе с Эмилем. В конце 1876 года мы основали ассоциацию «Подранки». Первое общее собрание проходило в книжном магазине «Эльзевир». Присутствовало шесть человек. Я помню, что Эмиль записал на форзаце реестровой книги имена и адреса всех членов ассоциации, включая тех, кто отсутствовал. Мне кажется, вы замерзли.
— Нет-нет…
— Может, выпьем чего-нибудь горячительного? А потом мой конюх отвезет вас на станцию.
Жозеф настолько окоченел, что был не в состоянии вымолвить ни звука. Гюго Мальпер с иронией посмотрел на него.
— Не бойтесь, молодой человек, у меня нет намерений брать вас в заложники.
Жозеф неохотно поднялся.
Они рано поужинали и предались любовным утехам.
В девять вечера Джина проснулась и посмотрела на лежащего рядом Кэндзи. Она была благодарна своей самой одаренной ученице, Маргарите Равийон, пригласившей ее на свадьбу, которая должна была состояться в воскресенье в церкви Сен-Рош. Из-за этого свидание с Кэндзи пришлось перенести на день раньше. Джина взяла свой пеньюар и собрала разбросанную на ковре одежду. Она собиралась повесить пиджак Кэндзи на спинку вольтеровского кресла, когда из кармана выпал какой-то предмет. Джина хотела положить его на место, но ее внимание привлекла обложка с надписью: «Невинные забавы инфанты».
Джина почувствовала, что заливается краской, разглядывая фотографии обнаженной молодой женщины: это была прелестная княгиня Максимова, чье лицо часто появлялось на театральных афишах. У Джины закружилась голова. Она взяла себя в руки и положила альбом на место, в карман пиджака. Потом бросила взгляд на Кэндзи, который безмятежно спал, свесив руку с кровати.
Джина вышла и стала мерить шагами гостиную, пораженная только что сделанным открытием. Как могла она быть столь наивной? Ей казалось, что Кэндзи не такой, как другие мужчины!
«Идиотка! Какая же ты идиотка, — повторяла она про себя. — Разве может хоть один мужчина устоять перед хорошенькой внешностью. Права пословица: „Сердце человека и дно океана — вот две самые глубокие бездны“. Надо быть реалисткой, не наступать второй раз на те же грабли, нельзя зависеть от мужских капризов. Я очень люблю его, но не стану строить далеко идущие планы: свиданий пару раз в неделю вполне достаточно. — Джина остановилась перед зеркалом: едва заметные морщинки в уголках глаз, серебристые нити в волосах, да и талия уже не такая тонкая, как раньше… — Время берет свое. А ты ведешь себя, как наивная девочка!».
Опустились сумерки. Джина бросила полено в очаг. Сухое дерево затрещало, взметнулся сноп искр.
Запахнувшись в широкое синее кимоно, в комнату вошел Кэндзи и уселся в кресло, положив ногу на ногу. Он смотрел на Джину, склонив голову на бок.
— Который час? — спросил он.
— Начало десятого.
— Перестань метаться, как тигр в клетке. Что с тобой?
— Ничего.
Кэндзи нахмурился. Джина улыбнулась ему.
— Хорошо, я скажу тебе…
Она взяла его за руки и притянула к себе.
— Выслушай меня, не перебивая. Я уезжаю в Краков. Рахиль, моя младшая дочь, скоро должна родить, я нужна ей.
— Когда ты вернешься?
— В следующем году.
— Что?!
— Сейчас уже конец ноября, дурачок. Я приеду в начале весны.
— Что я буду делать без тебя?
— Ах ты, старый хитрец! Думаю, ты найдешь, чем заняться, и потом, у тебя же магазин…
— Я люблю тебя, — прошептал он ей на ухо и нежно прижал к себе.
У Джины перехватило дыхание. Он просунул руку под пеньюар. Она развязала пояс кимоно.
Потом они долго лежали, обнявшись.
— Пойдем, перекусим, — сказал он.
— Позволь мне, милая, это слишком тяжело для тебя.
— Брось, Лазар, каждый занимается своим делом, как всегда! Ты же не на белоручке какой женился!
И, закусив губу, Рен Дюкудре потащила к примыкающей к магазину кладовой небольшую двухколесную тележку, на которую ее муж сложил ящики с товаром.
— У нее постоянно болит поясница из-за того, что она таскает всякие тяжести, но она не желает это признавать, — объяснил месье Дюкудре вознице фургона, который заканчивал разгрузку.
— Радуйтесь, что у вас такая крепкая жена, моя-то — кожа да кости! Подпишите здесь, — сказал тот, ткнув пальцем в накладную, а потом взобрался на козлы и стегнул кнутом двух замученных кляч, которые, тяжело ступая, поплелись к площади Бастилии. Он злился, что попадет домой в Банеле не раньше десяти вечера, но ему оставалось только браниться. — Боже правый, еле плетутся, как будто мы свинец возим!
Этот славный человек был не так уж далек от истины. Действительно, в большей части коробок, что он выгрузил на тротуар, были оловянные солдатики. Лазар заказал их в таком количестве, потому что в период рождественских праздников солдатиков хорошо разбирали. Красивые куклы тоже пользовались спросом у покупателей, как и блеющие барашки, говорящие кролики и прочая ерунда.
Лазар Дюкудре появился на свет в 1843 году в семье школьного учителя. Закончив школу, он отказался продолжать учебу и устроился служащим в секретариате столичной мэрии. На балу, недалеко от Марна, он познакомился с Рен Дроссе, чьи родители были людьми состоятельными, они держали гостиницу. По их мнению, дочь засиделась в девках, поэтому свадьбу сыграли быстро. Лазар собирался завербоваться в зуавы,
[589] но Рен настояла на том, чтобы они открыли в центре столицы магазин игрушек. Супруги сняли квартиру на улице Крозатье, и вскоре у них родился сын. Лазар был счастлив. Но в 1868 году случилась трагедия. 12 сентября, эта дата огненными буквами впечаталась в сердце Лазара, его сын Арно выбежал на мостовую за укатившимся обручем и погиб под колесами экипажа.
На кладбище Пер-Лашез супруги Дюкудре познакомились с пожилым эксцентричным человеком, Эмилем Легри, который принес букет роз на могилу известного сочинителя песен Беранже. Он посочувствовал Рен и Лазару и вскоре сделал им интересное предложение. Эмиль был знаком с владельцем лавки на бульваре Бомарше, с прилегающим складом и квартирой на антресольном этаже, который собирался продать все это и уехать в провинцию. Эмиль Легри одолжил супругам Дюкудре сумму, необходимую для обустройства будущей «Лошадки-качалки». Годы шли, магазин процветал, но Лазар замкнулся в себе, сердце его очерствело. Работа не грела ему душу, а чужие малыши, наполнявшие магазин своим смехом, делали его горе только острее. Однако свои страдания Лазар прятал за напускным добродушием, и о его загадках среди покупателей ходили легенды.
— Он невидим, но сгибает нас к земле, — сказал он жене, которая вернулась с пустой тележкой, чтобы забрать очередную партию товара.
— Ты уже загадывал мне эту загадку! Стареешь, что ли? Настольные игры и заводные игрушки привезли?
— Нет, их доставят завтра вместе с бильбоке,
[590] арбалетами, качелями и игрушечной мебелью.
Они закончили перевозить ящики на склад, все стены которого занимали стеллажи. Лазар прислонил к ним лестницу и, взвалив ящик с товаром на плечо, полез наверх, чтобы положить его на полку.
Упершись руками в бока, Рен насмешливо наблюдала за мужем.
— Может, мой позвоночник и не в порядке, зато руки у меня растут, откуда надо, чего не скажешь о тебе. Нам надо поменяться местами.
— Об этом не может быть и речи, — отрезал Лазар, поднимая ящик с этикеткой «Гусары».
Несмотря на полноту, Рен была проворнее мужа. Когда он спустился за очередным ящиком, она, опередив его, ловко взобралась по ступенькам, прижимая к груди коробку с куклами. Освободившись от своей ноши, она почувствовала, как скрипнули ее шейные позвонки.
«В один прекрасный день мы загнемся, либо он, либо я. Давно пора нанять подручного!» — думала мадам Дюкудре, спускаясь вниз.
— Прошу тебя, милая, передохни хотя бы пять минут, — сказал Лазар.
Поскольку каждый новый подъем давался ему все труднее, он взял сразу три коробки.
— Кукол и плюшевых игрушек оставь мне, ты совсем запыхался, — приказала Рен.
— Если ты настаиваешь, я подчинюсь, но лестницу надо передвинуть влево, на этих полках уже нет места.
Лазар удостоверился, что лестница стоит крепко, и предупредил жену, что пойдет за лампой, так как на улице темнело, и света из окон уже не хватало, чтобы осветить просторное помещение.
Рен схватила большую коробку с погремушками и арлекинами. Она поднялась на верхнюю перекладину лестницы и попыталась впихнуть ее между коробками с кеглями, но не смогла дотянуться. Лестница покачнулась, Рен едва успела ухватиться за полку. Хорошо, что Лазар этого не видел, иначе на нее бы обрушился целый поток нравоучений. Подняв голову, Рен увидела свободную полку, положила туда коробку и уже собиралась спуститься, как весь товар со стеллажа посыпался ей на голову. Она не успела ни уклониться, ни даже закричать. И вдруг, как при землетрясении, рухнул и сам стеллаж, погребая несчастную женщину под обломками железа, фарфора и дерева.
— Рен!!
Лазар попытался разгрести завал. Наконец, он увидел ее лицо с округлившимися от ужаса глазами и глубокими порезами на щеках.
— Дорогая, я сейчас тебя вытащу, только скажи хоть что-нибудь, — умолял он.
Но через мгновение взгляд Рен Дюкудре остановился. В уголках ее губ образовался и медленно лопнул кровавый пузырь. Лазар поднялся на ноги. Холодный пот струился у него по спине, пелена застилала глаза. Силы оставили его, и он осел на пол рядом с помятым заводным медведем, который упорно бил в медные тарелки.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Суббота, 30 ноября
Сквозь щели в ставнях серый свет рождающегося утра проникал в комнату, и постепенно вырисовывались очертания мебели. Дафнэ возилась в своей кроватке и время от времени пронзительно кричала, напоминая родителям о том, что проголодалась. А потом замолкала, словно прислушиваясь к храпу Жозефа, и двигала ножками и ручками в такт этой «музыке».
Айрис подошла к кроватке, взяла малышку на руки и перенесла в свою постель, положив между собой и мужем. Дафнэ тут же успокоилась и уснула. Айрис с нежностью прижала дочку к груди. Это был один из тех сладостных моментов материнства, когда все твои мысли и чувства сосредоточены на крошечном, бесконечно родном существе. Накануне Айрис закончила сказку. Полюбив хромого скарабея Леми Жука, превращавшегося в прекрасного принца, как только он раскрывал крылья, божья коровка без пятнышек улетела с ним вместе. Они решили посетить разноцветную страну, где хотели избавиться от воспоминаний. Айрис уже представила себе акварели Таша, которые украсят будущую книжку, и заранее радовалась, предвкушая, как будет читать ее дочери.
Дафнэ проснулась и снова пронзительно закричала. Айрис очнулась от грез, бесшумно поднялась и, взяв на руки, стала укачивать малышку, вполголоса проговаривая детскую считалочку. Но Дафнэ продолжала недовольно кричать. Пришлось отправиться с ней на кухню.
Выйдя из ватерклозета, который по примеру Кэндзи установил у себя дома, Виктор уже не смог заснуть. Он тихо, на цыпочках, выбрался из спальни, не побеспокоив жену и не задев Кошку, которая свернулась калачиком на стеганом одеяле. Держа одежду в руках, он пошел одеваться у печки в мастерской. Согревшись черным кофе со свежим хлебом, Виктор стал мерить шагами комнату — тревожные мысли не давали ему покоя.
Расследование с каждым днем казалось все более сложным. Что им с Жозефом удалось выяснить? Множество противоречивых фактов, связанных с людьми из списка, составленного Эмилем Легри. Чем вызвана череда смертей, про которые даже неясно, были ли они все убийствами? Мотив по-прежнему непонятен. И еще эти письма…
Виктор покопался в карманах, вытащил оттуда сначала деревянных зверушек, а затем три письма, которые отдала ему Маринетта Гассанди. Он читал и перечитывал их снова и снова, пока у него не заболела голова. Внезапно его осенила догадка. Решение здесь, прямо у него перед глазами, все так просто, что казалось глупым. В крайнем возбуждении, сам себе не веря, Виктор снова подошел к столу. Нет, невозможно, в этом нет никакого смысла…
Он засунул письма в карман сюртука, оставив деревянные фигурки на столе. «Дело сдвинулось с мертвой точки!», — подумал он, выходя на улицу Фонтен.
Рестораны и кафе еще не открылись. Виктор медленно шел по улице, и перед его мысленным взором мелькали картинки. Он миновал витрины с апельсинами, потом с фарфоровой посудой, с абажурами, с корсетами, но ничего не замечал. Погрузившись в свои мысли, он даже чуть не сшиб какую-то женщину. Ворча, она отскочила в сторону и перекрестилась при виде проезжающего катафалка.
Пройдя через площадь Пигаль, Виктор свернул на улицу Дюпере и остановился перед газетным киоском. Юный разносчик газет в фуражке набекрень, прижимая к груди кипу свежих газет, кричал что есть сил:
— Несчастный случай произошел вчера вечером недалеко от площади Бастилии! Женщина мертва, ее муж чудом спасся! Наверное, его спасло имя: если вас зовут Лазарем, вы вернетесь и с того света! Гигантская ваза из яшмы, подарок Франции от русского царя, прибыла в Париж, побывав проездом в Гавре!
Виктор купил у него свежий выпуск «Пасс-парту», почти полностью посвященный аресту Артона
[591] в Лондоне. Тем не менее, заметка о гибели Рен Дюкудре, которую придавило одним из стеллажей на складе ее собственного магазина игрушек, была размещена на первой полосе.
Пораженный этой новостью, Виктор поспешил домой. По синеватому отблеску керосиновой лампы, падавшему в прихожую, он понял, что Таша уже встала, тихонько вошел и тут же услышал недовольный голос.
— Мадам, я уверяю вас, он вышел!
Таша в кофте, накинутой поверх ночной рубашки, держала в руке слуховую трубку столь нелюбимого ею телефона. Завидев мужа, она поспешно протянула ему трубку.
— Алло? Доброе утро, да, это я, не мог уснуть и вышел подышать… Сегодня?.. Прочтите мне это еще раз, пожалуйста. Право же, я думаю, вам следует принять предложение. Постарайтесь прибыть в Домон ровно в полдень, я тоже буду там, обещаю. До встречи, мадам.
Виктор повесил трубку, ощущая на себе подозрительный взгляд жены.
— Значит, теперь ты «Господин во фраке»! Браво! Пожалуй, настала моя очередь ревновать! Телефонный звонок от женщины в полвосьмого утра! И ты договариваешься с ней о свидании. Где оно будет?
— Ты же слышала, в Домоне, — ответил Виктор. — Это всего лишь клиентка, дорогая. Ей нужна помощь эксперта.
— Расскажи это кому-нибудь другому! Тогда почему она называла тебя «Господином во фраке»? Она что, не в своем уме?
Виктор засмеялся и попытался обнять жену, но она отстранилась, и он притворился, что обижен.
— Мне нечего добавить помимо того, что я сказал этой…
— Сюзанне Боске.
— Это дама полусвета, она хочет избавиться от библиотеки бывшего любовника.
— А что ты делал на улице в такой ранний час?
— Выпил чашечку кофе и собирался снова лечь спать, но поскольку ты так неласкова со мной, я исчезаю.
Прежде чем Таша успела возразить, он вышел во двор. До открытия магазина связываться с Жозефом бесполезно. Виктор отправился в кафе «Прогресс», чтобы позвонить компаньону оттуда.
— Сюзанна Боске… Сюзанна Боске, — бормотала Таша, рассеянно поглаживая Кошку. — Вспомнила! Кэндзи говорил мне о ней! Ее имя… как же он сказал… Оно было записано в блокноте Жозефа рядом с именем Эдокси Аллар!
Вопреки своему предубеждению против телефона, она сняла трубку. Кэндзи установил в своей квартире телефонный аппарат с персональным номером, и у нее была возможность попросить тестя проследить за Жозефом, с которым, Таша была в этом уверена, не замедлит связаться Виктор.
Трясясь в фиакре по дороге в Венсенн, Сюзанна Боске вертела в руках телеграмму, которую принесли на рассвете в ее особняк на улице Бель-Респиро. Не совершила ли она ошибку, связавшись с этим журналистом, Господином во фраке? Она ведь ничего о нем не знает. Но она не могла положиться на Амори, этот бесхарактерный человек вряд ли помог бы ей, он годился только на то, чтобы оплачивать счета!
— Я поступила правильно, — прошептала она. — Как бы там ни было, я уже еду, и Ида тоже, пора с этим покончить!
Час спустя Ида Бонваль, которую она практически силком вытащила из дома, уселась в экипаж. При виде нее Сюзанна с трудом сдержала улыбку.
«Хороша, нечего сказать! Шляпка надета криво, на платье не все пуговицы застегнуты! Да уж, она мне тоже не помощница! Но все равно должна присутствовать, в конце концов, мы с ней — одни из главных действующих лиц в этой пьесе! Не стоит говорить, что я вскрыла адресованную ей корреспонденцию. Это была отличная идея — отправить посыльного к консьержке на улицу Клиши. Хорошо, что то письмо я увидела первой, эта дуреха наверняка ударилась бы в панику.
„Будьте начеку. Возможно, один из нас сводит счеты“. Неужели это действительно написал Эварист? Вряд ли, он же настоящая деревенщина, да и вообще уже сыграл в ящик».
— Мне кажется, мы поступаем опрометчиво, отправляясь к Гюго, — дрожащим голосом произнесла Ида. — А вдруг он и есть убийца?
— Думаешь, там нас ждет засада? Я и это предусмотрела, дорогая, — ответила Сюзанна, выхватывая из сумочки и направляя на Иду миниатюрный револьвер с перламутровой рукояткой.
Ида вздрогнула, а потом удивленно присвистнула.
— Неужели ты считаешь, что такого как Гюго можно напугать этой игрушкой! Да он справится с нами одной левой!
— Ошибаешься, это вполне серьезное оружие. А стрелять я умею, меня научил один из бывших любовников, он был полицейским осведомителем и многих отправил за решетку!
Ида отпрянула к дверце фиакра. Неужели та, кому она с детства привыкла доверять, способна спустить курок? Она зажмурила глаза, вверяя свою душу Богу.
— Ты что, решила вздремнуть? Самое время! — с иронией заметила Сюзанна.
Ида сделала над собой усилие и взглянула на подругу. Слава богу, револьвера у той в руках уже не было.
— Я плохо спала, кошмары замучили, — жалобно произнесла Ида.
— Если мы сегодня не покончим с этой историей, вся наша жизнь превратится в кошмар! Я долго размышляла, зачем Гюго понадобилось назначать нам встречу, и поняла: либо он знает разгадку, либо сам совершил все эти преступления и теперь хочет убить нас.
— Не говори так! — испуганно вскричала Ида. — Ведь когда-то Гюго ухлестывал за тобой.
— Да уж, у нашего Апорта были шаловливые ручонки. Не теперь он расточает ласки только своим псам.
— А как же я? Обо мне-то он не упоминал… Что это значит? Что я вне игры или что он невиновен?
— Ты же неуловима, как порыв ветра: взяла, да и улетела в провинцию распевать песенки. «Беглянка из Венсенна» — отличное название для дешевого романа! Осталось только узнать, вычислил тебя преступник или нет.
— Или преступница, — прошептала Ида.
— Ты имеешь в виду Рен Дюкудре? С трудом представляю ее в этой роли. Постой-ка… или ты подозреваешь меня?!
— А почему бы и нет, — промямлила Ида дрожащим голосом.
— Потому что, между нами говоря, ты вовсе не такая простушка, какой стараешься казаться…
Приблизившись к Северному вокзалу, экипаж замедлил ход. Сюзанна взглянула на вокзальные часы.
— Пойдем, посмотрим расписание. Я обещала этому журналисту, что мы будем у Гюго в полдень.
— Какому журналисту? — воскликнула Ида.
— Расскажу, когда будем в поезде, и ты убедишься в чистоте моих намерений. Где это видано, чтобы женщина, отправляясь совершать очередное убийство, сообщала репортеру имена своих будущих жертв и место преступления?
Ида молча пробиралась сквозь толпу пассажиров. Почему вместо того чтобы сбежать, она покорно тащится за Сюзанной через весь зал ожидания? Потому что иначе никогда не перестанет трястись от страха. Развязка неотвратима.
Внезапно до слуха женщин долетел звонкий голос мальчишки — разносчика газет:
— Необычная смерть! Читайте в «Пасс-парту»! Хозяйку магазина игрушек убили оловянные солдатики!
Жозеф что-то напевал себе под нос, когда в лавке появился мертвенно-бледный Симеон Дельма с мокрым зонтом в руке, и в тот же самый момент зазвонил телефон. Кэндзи схватил трубку прежде, чем Жожо успел подбежать к аппарату.
— Виктор? Рад вас слышать. Что, простите? Говорите громче, помехи на линии. Вы сегодня не почтите нас своим присутствием? Это печально. Хотите переговорить с Жозефом? Спешу передать ему трубку, в противном случае он вырвет ее у меня вместе с рукой.
— Алло, Виктор? Говорите громче! В Домоне, в полдень?.. Рен Дюкудре? Нет! Серьезно? Уже бегу! Да, в одиннадцать, на Северном вокзале, возле пригородных касс.
— Вижу, вы нас тоже покидаете? — поинтересовался Кэндзи.
Жозеф пустился в долгие и путаные объяснения о какой-то экспертизе в богом забытом захолустье.
Кэндзи собрался с мыслями. Успеет ли он поменять сиреневый галстук на темно-красную бабочку, пока Жозеф прощается с Айрис? Он решил, что да, и как только зять поднялся по лестнице, направился следом, крикнув на ходу Симеону:
— Я тоже ухожу, мне надо в аптеку.
Симеон Дельма провел пальцами по волосам, попытался пригладить бакенбарды и с унылым видом раскрыл книгу заказов.
— Поезжайте следом за тем экипажем, но будьте осторожны, нас не должны заметить, — распорядился Кэндзи.
Возница поправил форменную фуражку с белым верхом и слегка поморщился, решив, что ему снова попался муж-рогоносец.
Устраиваясь на сиденье в фиакре, Кэндзи подумал, что поездка будет не из приятных. Шел дождь. За окном слышались грохот экипажей и ругань кучеров, следящих за тем, чтобы их лошади не поскользнулись на скользких деревянных мостовых. Казалось, большинство жителей решило покинуть Париж. Кэндзи спрашивал себя, удастся ли ему провести своих компаньонов и проскользнуть в вагон незамеченным. А когда он доберется до Домона, о существовании которого еще несколько часов назад даже не подозревал, сумеет ли противостоять возможному нападению? Он так спешил, что успел прихватить с собой только любимую трость с нефритовым набалдашником. С ее помощью можно отбиться от хулигана… Конечно, Кэндзи владел приемами японской борьбы, но возраст давал о себе знать, к тому же из-за сырой погоды у него разыгрался ревматизм.
На вокзале он почти сразу увидел Виктора и Жозефа: они беседовали о чем-то с начальником поезда. Кэндзи машинально прикрыл лицо газетой, а потом потихоньку двинулся к кассам. Купив билет, он, продолжая делать вид, что увлеченно читает на ходу, уверенным шагом направился к платформе.
Кто из них привлекательнее, та, что постарше, в платье из ярко-фиолетового плюша, украшенного перьями и пайетками, словно у танцовщицы из кабаре? Или вторая, длинная как жердь, которая испуганно таращит глаза, будто опасаясь, что кто-то посягнет на ее добродетель? Ни та, ни другая. Гюго Мальпер предпочитал всем этим безмозглым курицам своих четвероногих питомцев. Он уже жалел, что пригласил Сюзанну. Если бы он знал, что она притащит с собой Иду, ни за что не отправил бы ей послание, а там уж будь, что будет. В любом случае, они обе обречены, и толстуха и тощая, причем сами в этом виноваты. Сколько же подобных им никчемных существ населяет планету… Тот, кто избавит свет от этих двух дур, окажет человечеству неоценимую услугу.
Сюзанне неудобно было сидеть на жесткой лавке у длинного стола. «Ну что за деревенщина! — мысленно возмущалась она. — Ему даже не пришло в голову предложить нам выпить, к тому же тут так холодно, что мы скоро окоченеем!»
— О чем вы нам хотели столь срочно сообщить? Это имеет отношение к смерти Рен?
Гюго уставился на нее, продемонстрировав редкую выдержку.
— Рен? Она убита?
— Это выглядит как несчастный случай, в газетах пишут, что на нее рухнул стеллаж, на котором они с Лазаром хранили товар.
— А Лазар?
— Он не пострадал. Но согласитесь, в этом году наша ассоциация потеряла слишком многих членов!
— Точнее и не скажешь. Кстати говоря, меня на прошлой неделе тоже пытались убрать. Боюсь, что и вы в опасности. Поэтому разоблачить злодея для нас вопрос жизни и смерти, — сказал Гюго.
— Как это мило с вашей стороны — беспокоиться о нашей судьбе! Но, если я правильно умею считать, из нас уцелело только трое, за исключением Лазара, и все трое находятся в этой комнате. Значит, один из нас — преступник. Так как это не Ида и не ваша покорная слуга…
— Вы смеете обвинять меня?! Меня, которого чуть не зарезали!
— Жаль, что вы спаслись. Если бы погибли, то были бы вне подозрений.
Гюго в ярости вскочил и сделал шаг по направлению к женщинам. Ида взвизгнула «Боже мой!», а Сюзанна выхватила револьвер и наставила на хозяина поместья. Он застыл на месте.
— Вы прогадали! Посчитали нас круглыми идиотками, да, жалкий женоненавистник?! Заманили сюда, в глушь, и рассчитывали покончить с нами, а потом бросить наши трупы на съедение вашим волкодавам? Раз, и готово!
— Хотелось бы услышать, какие мотивы побудили меня совершить все эти злодеяния, — спокойно произнес Гюго Мальпер.
— Черт побери! — выкрикнула Сюзанна. — Сначала вы организовали убийства Деода и Макса. Затем отравили Эвариста и подбросили Виржилю ядовитую змею. Донатьен и Рен жертвы несчастного случая?! Как бы не так! Это вы все подстроили! Лазар уцелел чудом. Что до нас, вам с нами так просто не совладать! Забавная получилась мизансцена! Вы здесь — всего лишь актеришка на второстепенных ролях, который пытается доказать, что способен сыграть главную роль — убийцы!
— Вы не ответили на вопрос: так каковы мои мотивы?
— Вы презираете нас, вы нас ненавидите, вам осточертело принимать нас каждый год! А этим летом в довершение всего еще и Донатьен покалечился, охотясь за метеоритами! Эта капля переполнила чашу вашего терпения, и вы решили укокошить нас всех до единого.
— Какой бред!
— Ничего удивительного, вы ведь — чокнутый!
Гюго Мальпер схватил лежавший на лавке хлыст. Сюзанна и Ида проворно отскочили подальше.
— Чертова стерва! Подумать только, было время, когда вы мне нравились! Да это вы — убийца, глупая старая курица! А что до этой дивы, широко известной в узких кругах, то она — всего лишь пешка в ваших руках!
— Я — убийца?! Интересно, что же толкнуло на преступление меня? — вскричала Сюзанна дрожащим от обиды голосом.
— Страстное желание взобраться повыше по социальной лестнице! Да, даже до этой дыры доходят светские сплетни, моя дорогая. Вы подцепили богатого наследника сахарного короля. А ваши старые знакомые могли поведать ему о ваших былых проказах! Узнав, сколько у вас было любовников, Амори де Шамплье-Марей вас наверняка бы бросил. И вы решили уничтожить всех членов нашей ассоциации, это очевидно. Еще несколько минут назад я подозревал другого человека, но вы сами подтвердили, что виновны. А вы, Ида, поберегитесь, как только она пустит мне пулю в лоб, придет ваш черед!
Ида была в растерянности, она не знала, к какому лагерю примкнуть. Сюзанна снова подняла револьвер, держа палец на курке. Гюго Мальпер вертел в руках хлыст, готовый защищаться.
— Хозяин! Они вынудили меня открыть дверь! — услышали они крик мадам Бонефон.
Чья-то сильная рука схватила Сюзанну за руку, и револьвер упал на пол.
— Господин во фраке обещал, что прибудет ровно в полдень, — прошептал ей на ухо Виктор.
Жозеф тем временем прыгнул на спину Гюго. Тот отчаянно отбивался, пытаясь сбросить неожиданного противника, но Жозеф словно прилип к нему.
Ида и мадам Бонефон пронзительно завизжали.
— Выходите все, быстро! Дом сейчас взлетит на воздух! — раздался неожиданно мужской голос.
Все кинулись к выходу и, толкаясь, выбежали на тенистую аллею. Взрывом их бросило на землю. Когда они поднялись на ноги, перед ними предстало ужасное зрелище: часть стены, отделяющей библиотеку от столовой, превратилась в груду почерневших кирпичей.
— Смотрите! — закричал Жозеф.
Они увидели троих мужчин, бегущих под проливным дождем по направлению к решетчатому забору с узкой дверцей. Собаки залились разноголосым лаем, и через мгновение двое мужчин появились снова, с трудом волоча за собой третьего. Когда они приблизились, Жозеф воскликнул:
— Кэндзи схватил месье Дюкудре. И… Симеон?! Что вы здесь делаете? И почему вы напали на Лазара?
— Значит, я не ошибся. Вот только действовал недостаточно быстро, — признал Виктор с горечью.
— Это ваш единственный промах, — заметил Кэндзи.
— Я тоже догадывался, но эти дамочки сбили меня с толку, — пробормотал Гюго.
— Кто-нибудь объяснит мне, наконец, что все это значит?! — взвизгнула Сюзанна.
Мадам Бонефон вздохнула и сделала всем знак следовать за ней. Она с облегчением увидела, что кухня не пострадала, и повела туда нестройную процессию.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
Тот же день
Виктор старался держаться подальше от плиты, хотя на ней в данный момент, к счастью, ничего не варилось. Мадам Бонефон окинула всех взглядом и заявила:
— Садитесь, а я вызову полицию.
— Не торопитесь, сначала нам надо кое-что прояснить. Лучше приготовьте нам горячего шоколаду, — велел ей Гюго.
— И ему тоже?! — воскликнула славная женщина, указывая на Лазара, который сидел неподвижно, уставившись в одну точку.
— Да, и ему, он никуда не убежит.
Все остальные расселись на табуретах вокруг круглого столика на одной ножке.
— Скажите, как, черт возьми, вы догадались, куда мы направляемся? — обратился Виктор к Кэндзи.
— Мое присутствие объясняется не стечением обстоятельств и не даром предвидения. Меня встревожили некоторые наблюдения: вырезка из газеты с пометками, сделанными вашей рукой, блокнот Жозефа, который валялся на прилавке…
— Вы следили за мной! Я знал! Я чувствовал! — возмущенно вскричал Жожо.
Кэндзи не обратил на него внимания.
— А потом Таша подтвердила мои подозрения. Мы с ней посовещались и договорились действовать сообща. Сегодня утром, узнав, что вы направляетесь в Домон, она сразу же позвонила мне. Оставалось только проследить за Жозефом. Приехав сюда следом за вами, я заметил на подступах к замку этого субъекта, который возился с чем-то похожим на взрывное устройство, и забил тревогу.
— Таша… Я чувствовал, что она последнее время чем-то озабочена.
— Ну, не только же вам донимать ее своей подозрительностью. Могу ли я поинтересоваться, месье Дельма, на кого вы оставили наш магазин? — спросил Кэндзи.
— О, не беспокойтесь, мадам Пиньо обещала за ним приглядеть, — без тени смущения ответил тот.
— Кто вы такой на самом деле? Что означают ваш парик и фальшивый нос? — закричал Жозеф.
Симеон Дельма невозмутимо встретил его взгляд. Он ответил не сразу, размышляя, стоит ли раскрывать свою роль в этом деле. Тщеславие победило осторожность.
— На самом деле меня зовут Эрик Перошон, я племянник Донатьена Ванделя.
— Зачем же вы нанялись в наш магазин, месье Перошон?
Эрик только улыбнулся и многозначительно приложил палец к губам.
Сюзанна привстала и, гневно сверкнув глазами, указала на Лазара.
— Вы тратите время, препираясь с этим молокососом, в то время как вот он, вероломный Лазар, погубил почти всех наших друзей! Да мы и сами последовали бы за ними, если бы не помощь месье китайца, которого нам словно послало Провидение!
— Я японец, мадам, — поправил ее Кэндзи.
— Неважно, — отмахнулась она. — Это настоящий волк в овечьей шкуре! Только подумайте, он отравил двух бедолаг в фиакрах, потом Эвариста…
— Держу пари, он и свою жену отправил к праотцам! Душегуб! — присоединилась к подруге Ида.
Лазар Дюкудре никак не реагировал на обвинения, и это еще больше распаляло Иду и Сюзанну.
Напряженную атмосферу несколько разрядило лишь появление мадам Бонефон. Она принесла горячий шоколад и принялась разливать его в чашки, не скупясь на наставления.
— Сахар можете не добавлять, — бубнила она, — я его уже положила. И не жалейте сливок.
— Спасибо, мадам Бонефон, — сказал Гюго.
Славная женщина с отвращением протянула чашку Лазару Дюкудре:
— Пейте, раз уж хозяин так хочет. Пресвятая Дева! Мыслимо ли такое — загубить столько христиан!
Лазар с отсутствующим видом смотрел в пространство. Потом он прошептал:
— Вы ничего не сможете доказать.
— Ошибаетесь, мне кое-что известно, — заявил Гюго. — Все началось в этом доме 14 августа, когда упал метеорит. Деода Брикбек настоял, чтобы мы без промедления, на следующий же день отправились прочесывать лес в поисках осколков. Донатьен с энтузиазмом подхватил эту идею. Лазар и Рен ушли далеко вперед. В подлеске у корней каштана они заметили черный камень. Я наблюдал за ними, стоя неподалеку за деревом, и видел, как они вертели камень в руках, удивляясь тому, что он был весь в дырках. Потом Рен осталась внизу, а Лазар взобрался на дерево и спрятал камень в развилке ветвей. Рен свистнула, Лазар спрыгнул на землю. В этот момент подошел Донатьен. Они показали ему на метеорит, и Лазар предложил достать камень. Донатьен, не долго думая, полез на дерево. Он был в полном восторге и бормотал, что это не просто осколок метеорита, а таинственное подтверждение внеземной жизни. Что эта находка принесет ему славу. Вдруг ветка, за которую он уцепился, обломилась, и он упал вниз. Он лежал на спине и не мог пошевелиться. Рен закричала. Прибежали Максанс и Деода. Рен твердила: «Он мертв! Он мертв!», пока Лазар не шикнул на нее. Потом появились Ида и Сюзанна, а за ними Виржиль. Я воспользовался тем, что всеобщее внимание сосредоточенно на Донатьене, и стащил метеорит. Лазар потом вспомнил про камень и не мог понять, куда тот исчез.
— Почему вы об этом молчали? — поинтересовалась Сюзанна.
— Дюкудре всего лишь хотели посмеяться над Донатьеном. Они не виноваты, что их шутка закончилась трагедией.
— А метеорит, где он сейчас? — поинтересовался Виктор.
— Я закопал его у входа на псарню. Это всего лишь осколок базальта.
Все заговорили одновременно, высказывая свое мнение об услышанном.
Эрик Перошон подошел к Гюго и спросил:
— Выходит, сокровище, о котором говорил мне дядя, это обыкновенный камень?
— А вы решили, что Донатьен говорит о каком-то кладе? — догадался Виктор. — И гонялись за миражом, господин Гранден… вернее, господа Грандены.
— Что?! — изумленно воскликнул Жозеф. — Вы хотите сказать, что он изображал обоих братьев?
— Да, Жозеф. Думая, что его дядя является обладателем какого-то бесценного сокровища, этот молодой человек придумал себе двойника. Наклеивая фальшивый нос и надевая парик, он становился то нотариусом, то его братом-близнецом, который работал служащим в нашей книжной лавке. Болтливая мадам Баллю случайно подсказала ему, где хранятся бумаги Эмиля Легри. Он завладел ключом от мансарды и отыскал там реестровую книгу Эмиля со списком членов ассоциации «Подранки», где были указаны их имена и адреса. Скажите, месье Перошон, кто первым откликнулся на ваше приглашение в пассаж д’Анфер?
— Лазар Дюкудре и Гюго Мальпер.
— И вы нам ничего нам не сказали?! — воскликнула Сюзанна, обращаясь к Гюго.
— Месье Перошон, вы отдаете себе отчет в том, что именно вы спровоцировали убийцу? — прокурорским тоном обратился к Эрику Виктор. — Побывав у вас, Лазар испугался и решил избавиться от Деода и Максанса, которые были свидетелями его дурной шутки с Донатьеном. Потом вы отправили еще одно письмо, не так ли?
— Да, от имени Эвариста Вуазена, — о том, что один из членов ассоциации, возможно, сводит счеты с остальными. Странно, что месье Мальпер ни словом об этом не обмолвился.
— Ничего подобного! — возразил Гюго. — Вот этот человек может подтвердить.
— Он говорит правду, — кивнул Жозеф. — Продолжайте, Виктор.
— Получив это письмо, Лазар догадался о том, что писал его не Вуазен. Он хорошо знал почерк и стиль Эвариста, который вечно путался в хитросплетениях синтаксиса, и понял, что кто-то выдает себя за него. Это укрепило месье Дюкудре в решении идти до конца. Убив Эвариста, он решил запугать неизвестного, который пытался предупредить всех об опасности. Затем настал черед Виржиля Сернена. Потом убийца чуть не зарезал вас в Медоне, месье Мальпер. Иду Бонваль Лазар отложил на потом, так как ее не было дома, то же самое с Сюзанной — он не знал, где она живет… А если бы не своевременное появление месье Мори, мы все могли оказаться в общей могиле прямо здесь, на этом самом месте!
— Скажите же наконец, Гюго, — встряла Сюзанна, — зачем вы так срочно хотели меня видеть?
— У меня были на ваш счет серьезные подозрения.
Это заявление вызвало у Сюзанны новый приступ ярости.
— Убийца! — воскликнула она, подскакивая к Лазару. — Вы с Рен друг друга стоили!
— Жирная индюшка! — прошипел в ответ Лазар. — Вы всегда держали меня за идиота. Думаете, вам все известно, да? Ну, так вот, я открою вам секрет, вы не умней, чем пробка от бутылки. Да, это я убил Рен и подстроил так, чтобы это выглядело как несчастный случай. Да, это я уничтожил всех остальных! Жаль только, вы уцелели! Покончить с вами для меня было бы истинным наслаждением!
Сюзанна, побледнев, отшатнулась и ухватилась рукой за столик.
— Вы убили Рен? Свою жену? Да вы просто чудовище!
— Он так и не смог простить ей измены, — заметил Гюго.
Лазар съежился, как от пощечины.
— Их брак был похож на величественное здание, красивый фасад которого скрывает потрескавшиеся стены и готовый обрушиться потолок, — продолжил Гюго с видимым удовольствием. — Вам, Лазар, удавалось обманывать всех, кроме нас с Виржилем. Это он рассказал мне, что после гибели сына Рен навсегда покинула супружескую спальню. Однажды, когда она под каким-то предлогом ушла из дома, вы проследили за ней и убедились, что у нее есть любовник, и зовут его Виржиль Сернен. Но потом они разорвали отношения. Может, знай вы об этом, пощадили бы их?
Лазара трясло как в лихорадке.
— Она отравила мою жизнь! — выкрикнул он.
— И все же вы не хотели умирать, месье Дюкудре, иначе зачем припасли для нас динамит? — спросил Виктор.
— Чтобы уничтожить всех свидетелей!
— Это вы приходили к Деода Брикбеку?
— Да! Чтобы забрать письмо, в котором его приглашали на ужин.
— Но, Виктор, как вам удалось разгадать эту запутанную головоломку?! — потрясенно молвил Жозеф.
— Благодаря вам, дорогой мой, точнее, благодаря деревянным игрушкам, которые так раздражали вас и которые я забрал себе. Прошлой ночью я поставил их на столик, где лежали письма, найденные мной у Виржиля Сернена. И вдруг заметил, что на этикетках, где была написана цена игрушки, между франками и сантимами стоял кружок, перечеркнутый чертой. Подобный знак красовался и в том письме, которое Виржиль получил, когда лежал в клинике.
Виктор вытащил из бумажника листок бумаги и показал его всем присутствующим.
— Вот, можете сами убедиться.
Дорогой Виржиль,
Твое лечение приближается к концу, не пора ли бежать из темницы Ө Завтра в одиннадцать мы собираемся в «Миротон де Терн» Ө Очень на тебя рассчитываем. Мы приготовили тебе большой сюрприз Ө
Твои друзья из ассоциации «Подранки».
— Это вело к Дюкудре. Вначале я отбросил эту версию, улик было недостаточно. К тому же кто угодно — Сюзанна, Ида или Гюго — вполне могли подстроить так, чтобы этикетки сбивали нас со следа. Но, узнав о смерти Рен, я сказал себе, что она как нельзя вовремя вышла из игры. А значит, убийца — Лазар.
— Вам, как всегда, повезло, — заключил Кэндзи.
— Нет, на этот раз я просто получил доказательства своих предположений.
— Ваших предположений?! Да вы самый непоследовательный, взбалмошный, безрассудный тип, которого я когда-либо…
Бешеный лай собак прервал Кэндзи на полуслове. Все бросились к псарне. Сидя на корточках перед рядами вольеров, какой-то лохматый мужчина копал мотыгой землю. Добравшись до камня, он схватил его и выпрямился.
— Метеорит! Он выкопал его! Вор! — воскликнул Гюго.
Мужчина оглянулся, и все увидели шрам у него на виске.
— Привет честной компании! Дары неба принадлежат тем, кто владеет участком земли, куда они упали. Именно такое решение вынес суд по делу крестьянина Дуйяра в этом году! Я первым нашел этот камень на своей земле, а значит, он мой.
— У вас нет доказательств, — возразил Гюго. — Впрочем… ведь вы Жеробом Дараньяк, колдун? Ваша деятельность противозаконна!
— Есть только один закон, Божий. Этот метеорит способен излечивать от болезней, и я с его помощью сумел спасти умирающего ребенка. К сожалению, его мать не послушалась меня: я велел ей закопать камень в лесу, а она его просто выбросила. А когда этот тип, колдун показал на Лазара Дюкудре, — и его жена уговаривали своего друга забраться на дерево, я был там. И видел, как вы, месье Мальпер, подобрали камень. Я бы мог оставить его там, где вы его спрятали, но Дух Леса предупредил меня о том, что готовится страшное злодеяние, и что в случае, если кто-то завладеет камнем, грядут великие беды. — С этими словами мец выбросил камень в колодец. — Не пытайтесь его достать, это может привести к роковым последствиям. Ирма правильно поступила, известив меня о том, что у нас в округе появились любопытные и что-то вынюхивают. Не успей я вовремя, эпидемия поразила бы всех ваших собак, а я слыхал, что вы их любите, месье Мальпер. Прощайте, сегодня полнолуние, я обещал соседям подстричь газон и волосы им самим.
Жеробом Дараньяк исчез так быстро, словно испарился. Когда присутствующие вышли из оцепенения, выяснилось, что Эрик Перошон тоже пропал. Мадам Бонефон перегнулась через край колодца, Кэндзи последовал ее примеру.
— Думаю, теперь уже можно известить полицию, месье Легри, — сказала Ида охрипшим от волнения и сырости голосом.
«Какой ужас! Я же не смогу петь!» — с беспокойством подумала она.
— Так займитесь этим. Мы свою миссию выполнили, — ответил ей Виктор, — и возвращаемся в Париж.
— Дорогой Господин во фраке, вы — обманщик!
— Да, мадемуазель Боске, я не журналист, а книготорговец. Загадка интересна мне лишь до тех пор, пока не решена. Прощайте, месье Дюкудре. Вы убили столько людей, а все закончилось всплеском воды в колодце…
— Кто хватается за все, ни в чем не поспевает, — глубокомысленно изрек Жожо.
— К этой истории, скорее, подойдет выражение «суета сует», дорогой зять, — с иронией заметил Кэндзи.
— Постойте! — воскликнула Сюзанна. — Кое-что мне осталось неясно: кто был в том кабриолете с темным верхом, который чуть не сшиб меня?
Лазар Дюкудре усмехнулся.
— Это был я, моя милая. Я следил за домом нашей примадонны и видел вас обеих на катке. Когда птичка в руках, ее надо ощипать. Жаль, что вы увернулись. В память о покойном Максе Большое Ухо приведу тебе известное изречение: «Везение не может быть вечным».
ЭПИЛОГ
За окном слышались шум дождя и завывание ветра. Эрик Перошон перевез в квартиру Коры кое-что из обстановки своей псевдо-нотариальной конторы: секретер с откидной крышкой и кресла фирмы Жакоб вытеснили туалетный столик и шифоньер, доставшиеся Коре от бабушки, на маленькую кухоньку, а их владелица безропотно капитулировала под натиском любовника. «Клятва Горациев» теперь висела на стене вместо репродукции «Разбитого кувшина» кисти Греза, а тарелки Бернадетты Перошон вместо статуэтки Святого Христофора с младенцем Иисусом на руках.
Эрик валялся на кровати, наслаждаясь бездельем. Кора вернется не раньше одиннадцати утра, она провела ночь с греком-судовладельцем, который щедро платил за ее ласки. Эрик ее не ревновал и не чувствовал себя униженным, напротив, его вполне устраивало такое положение вещей. Кора не только давала ему кров и стол, он пользовался ее телом и деньгами тоже.
Печально было признать, что в надежде завладеть сокровищем он гонялся за миражом. Судьба подшутила над ним, оказалось, что речь шла об обыкновенном камне, который покоится теперь на дне глубокого колодца. Впрочем, Эрик не умел долго поддаваться унынию и решил начать новую жизнь. Вот только от двенадцати тысяч франков, которые он нашел в шкафу у дядюшки Донатьена, уже почти ничего не осталось. О том, чтобы вернуться к матери, не могло быть и речи. К счастью, Кора была к нему добра. Когда Эрик спросил: «Можно, я поживу у тебя, пока мои дела не наладятся?», она долго смотрела на него, взвешивая «за» и «против», и в конце концов ответила: «Хорошо. Но при одном условии: никаких других женщин. Потому что если ты подхватишь сифилис, нам обоим придет конец. Будь умницей, иначе я выставлю тебя за дверь. И еще не забывай: детей не аисты приносят». Эрик впервые видел ее такой: мудрой и осмотрительной. Он понял, что ошибался на ее счет, эта девушка — настоящее сокровище. Эрик с улыбкой кивнул: для него главное — не думать о том, как заработать на кусок хлеба. Но он дал себе слово, что никогда не отплатит неблагодарностью той, кто поддержала его в трудную минуту.
Пробежав глазами письмо Джины, Кэндзи ощутил легкий укол ревности. Она писала о своем новорожденном внуке Маркусе Таборе так, словно он один олицетворял собой все семь чудес света. Почему младенцы вызывают у всех такой восторг? Кэндзи аккуратно сложил листки, исписанные мелким изящным подчерком. Джина писала, что задержится у младшей дочери на неопределенное время. Сомнение закралось в душу Кэндзи: испытывает ли она к нему по-прежнему глубокую привязанность, или сработало правило: «С глаз долой — из сердца вон»?
«А ты сам? — возразил ему внутренний голос. — Так ли сильно ты дорожишь этой женщиной? Будет ли предательством по отношению к Джине, если ты скрасишь дни разлуки с помощью Фьяметты?»
Кэндзи стало стыдно. Разве можно нарушить клятвы, которыми они с Джиной обменивались ночами на улице Эшель? Неужели он способен изменить ей с женщиной, которую не любит?
«Разумеется, способен, — ответил он сам себе. — Это всего лишь зов плоти. Сама Фифи Ба-Рен с легкостью обманывает мужа и любовников, она исповедует принцип свободной любви. Джина никогда не узнает об этой интрижке, а значит, не будет страдать».
Кэндзи включил фонограф, который подарили ему на Рождество дочь и зять. Послышалось шипение, и красивый баритон запел:
Ты больше не прилетишь,
маленькая влюбленная бабочка,
И не станешь кружиться здесь день и ночь…
[592]
Кто-то потянул его за брючину, и он резко обернулся. Оказывается, это маленькая Дафнэ, заслышав музыку, выбралась из своей кроватки. Теперь за ней нужен был глаз да глаз: ведь она могла попытаться самостоятельно спуститься по винтовой лестнице в магазин. Жозеф изобретал всякие перегородки и баррикады, но малышка успешно их преодолевала. Кэндзи взял внучку на руки и с улыбкой наблюдал, как она шевелит пальчиками в такт мелодии. Хорошенькая, спокойная, разумная… ему не хватало эпитетов, чтобы описать Дафнэ. Куда до нее какому-то Маркусу Табору! Кэндзи встал и с внучкой на руках прошел в соседнюю комнату. Оттуда слышался грохот пишущей машинки: Айрис печатала последние страницы нового романа «Месть призрака», который этой ночью закончил сочинять Жозеф.
Кэндзи с укоризной посмотрел на дочь.
— Дафнэ опять выбралась из кроватки, — сказал он.
Айрис испуганно вскочила.
— О боже! Когда я работаю, ничего вокруг не замечаю…
— Жозеф не должен был нагружать тебя, — проворчал Кэндзи.
— Я сама предложила ему помощь, — возразила Айрис, — иначе он просидел бы за пишущей машинкой всю ночь.
— А главное — ради чего! Это же всего лишь очередной бульварный роман, — заметил Кэндзи, усаживая Дафнэ обратно в кроватку.
Но она тут же снова вскочила и закричала что есть мочи:
— Кэзи! Музика!
— Она требует продолжения концерта! — рассмеялась Айрис.
— Так сыграй ей Шопена, — ответил Кэндзи, указывая на пианино.
— Боюсь, я разучилась играть: уже с трудом читаю с листа!
— Вот именно! Вместо того, чтобы стучать по клавишам этого дурацкого аппарата, лучше бы поупражнялась на клавишах пианино.
— Ты же приверженец технического прогресса, чем тебя не устраивает мой «Ремингтон»?
— «Ремингтон» вполне устраивает, а вот к зятю есть претензии, — буркнул Кэндзи и вышел.
Айрис достала тетрадь со сказкой про божью коровку без пятнышек и перелистала ее. Таша нарисовала пока еще только две иллюстрации, но Айрис этого было достаточно, чтобы представить, что в руках у нее настоящая книга. Дафнэ все громче требовала к себе внимания, и Айрис, присев перед ней на корточки, показала дочери божью коровку на картинке.
— Ледибед, — произнесла она, четко выговаривая каждую букву.
— Эди! Кэзи! — отозвалась Дафнэ, стараясь схватить тетрадь.
— Как же ты любишь своего деда! Ничего удивительного: он неизменно имеет успех у слабого пола!
— Месье Мори! Наконец-то я вижу вас в лавке! Вы получили «Дочь депутата» Жоржа Оне?
[593] Я дожидаюсь ее вот уже две недели!
— Дорогая мадам де Салиньяк, я сейчас занят составлением весеннего каталога. После того как месье Пиньо удовлетворит заявку мадемуазель Беккер, он с удовольствием займется вашим заказом.
Раздосадованная Олимпия де Салиньяк похлопала по плечу Хельгу Беккер, которая восторженно описывала новый магазин велосипедов, открывшийся в Париже около недели назад.
— О! Это вы, графиня! Я так огорчена, я просто в отчаянии! Как я умудрилась пропустить открытие выставки во Дворце промышленности! Сам президент Феликс Фор пришел полюбоваться новыми моделями. Ах, это просто чудо техники! Складной велосипед Жерара, велосипедный подъемник, модель «Дешенэ» и этот «Акатен», в котором не нужно смазывать тормоза, это что-то невероятное!
— Не сомневаюсь. Вы позволите?
Но даже столь титулованной особе под силу было прервать Хельгу Беккер, которая села на своего любимого конька.
— Месье Пиньо, я принесла вам каталоги, передайте их месье Легри. Это правда, что он купил себе новый велосипед? Не тот ли знаменитый, что стоит двести пятьдесят франков?
— Право же, вы прекрасно осведомлены! — воскликнула неслышно вошедшая Эфросинья.
— Мама!
— Дайте моему сыну хоть немного передохнуть, он так устает, ведь теперь ему приходится выполнять двойные обязанности: свои собственные и служащего, — продолжила мадам Пиньо, бросив злобный взгляд на Кэндзи.
— Мама, перестань!
— Нет, не перестану! Я очень расстроена! Андре Боньоль и эта нескладеха Зульма Тайру поженились сегодня утром в мэрии Шестого округа. Ей-таки удалось его окрутить, а ведь он мог бы стать твоим отчимом! Ох, тяжек мой крест! Да чтоб они оба провалились! Всё, я вычеркиваю их из своей жизни!
Жозеф застыл, потрясенный.
— Вот это, и правда, новость так новость! Кто же будет тебе помогать, если Зульма уволится?
— От этой лентяйки все равно было мало проку! Я справлюсь одна.
— Но, мама, ты уже не в том возрасте…
— Что-о?! Твой отец всегда говорил: «Эфросинья, у тебя отменное здоровье». Я в любом возрасте не собираюсь сидеть сложа руки!
— Мадам Пиньо, вы прямо как Фредегонда,
[594] которая никогда не сдавалась, несмотря на превратности судьбы! — воскликнула Хельга Беккер.
— А кто это?! — с подозрением уставилась на нее Эфросинья, ожидая подвоха.
— Героиня оперы,
[595] на которую я недавно слушала!
— Месье Пиньо, я жду, когда вы займетесь моим Жоржем Оне, — вмешалась графиня де Салиньяк, теряя терпение.
— Да-да, одну минуту! Мама, пусти, я пройду!
Жозеф порылся в стопке книг и воскликнул:
— Нашел, вот она!
— Графиня уже ушла, — отозвался Кэндзи, не поднимая глаз.
Жозеф выбежал на улицу.
— Мадам, ваш Оне!
— Нет уж, молодой человек, я больше не приду в ваш магазин! Никакого воспитания, никакого такта, а что за прием?! Имейте в виду, отныне я буду заказывать книги только у ваших конкурентов!
— Графиня Вальтесс де Ла Бинь? — удивилась Ида.
— Простолюдинка! Выскочка! — фыркнула Сюзанна. — Когда я думаю…
— А это точная копия псише мадемуазель Марс, великой французской актрисы? — перебила ее Ида.
— Да, дорогая, именно так. Амори заплатил за это зеркало целое состояние! — ответила Сюзанна, довольная восторгом подруги.
Они вошли в гостиную, где служанка сервировала для них чай. Ида с таким аппетитом набросилась на булочки и пирожные, как будто неделю не ела.
— Я откормлю тебя, моя цыпочка, — с нежностью заверила ее Сюзанна. — Хорошо, что этот недоумок Амори поехал навестить своих родственников! Мы с тобой повеселимся на славу, ты и я!
Насытившись, они отправились на экскурсию по особняку, битком набитому китайскими и японскими безделушками, украшениями из искусственного мрамора, коврами и мебелью, которая, казалось, была доставлена сюда прямиком от старьевщика, торгующего железным ломом. Ида не переставала охать и ахать, сгорая от зависти. Больше всего ее поразила огромная кровать.
— О-ля-ля! Вот это да! Хотя, конечно, для двоих нужно много места…
— Для двоих? Девочка моя, Амори тут никогда надолго не задерживается.
— Прямо как у Золя в «Нана», ты читала этот роман?
— Конечно! — подтвердила Сюзанна.
Она подошла к кровати, поправила волан на покрывале, взбила подушки.
— Знаешь, мне бывает так одиноко в этой большой кровати…
Ида поняла намек и вспыхнула.
— Мы могли бы спать вместе, как сестры… — продолжила Сюзанна. — Шушукались бы, согревали друг друга… Мне так надоел этот зануда Амори!
Ида провела рукой по тонкому кружеву покрывала и молча кивнула головой.
Вечер выдался дождливым. Виктор и Таша целовались в фиакре, с трудом пробирающемся через заполненный экипажами бульвар Капуцинов. Виктор так горячо просил простить его за то, что он ввязался в очередное расследование, что Таша над ним смилостивилась.
Потом они гуляли по улицам самого шикарного квартала столицы, где, несмотря на ливень, было много зевак. В лужах отражались масляные лампы ярмарочных палаток, стоящих тесными рядами вдоль бульвара. Уличные торговцы надрывали горло.
— Попробуйте леденцовую карамель, нугу из Монтелимара!
— Каштаны, горячие каштаны!
У дома номер 14 какой-то человек, одетый в адмиральскую форму, но при этом почему-то в котелке, вышагивал перед входом в «Гран Кафе», выкрикивая:
— Приглашаем насладиться синематографом! Проекция движущихся фотографий братьев Люмьер!
Прохожие получали буклеты, в которых описывалась программа: десять кинолент по семнадцать метров каждая. Три десятка любопытствующих, в том числе Таша с Виктором, заплатили двадцать су зазывале, стоящему рядом с афишей.
Виктор увидел месье Вольпини, директора «Гран Кафе», с которым познакомился на Всемирной выставке 1889 года, где выставляли свои работы коллеги Таша, и подошел, чтобы поприветствовать его.
— Как великодушно с вашей стороны предоставить помещение братьям Люмьер.
— Да, но боюсь, их изобретение пока что пользуется не слишком большой популярностью.
Зрители спускались по лестнице в подвал, бывший бильярдный зал, а теперь Индийский салон «Гран Кафе». На этом первом платном сеансе плетеные стулья, поставленные в несколько рядов перед белым полотном, натянутым на раму, почти все оставались незанятыми. Большой выручки это не обещало.
— Месье Легри! Если я не ошибаюсь…
Повернувшись, Виктор столкнулся нос к носу с инспектором Аристидом Лекашером.
— Не хотите леденец, господин книготорговец… и детектив в одном лице? Нет? Жаль, я хотел вас отблагодарить. Хотя вы сыграли в этом грязном деле, которое недавно было раскрыто, весьма сомнительную роль. И не надо улыбаться, прошу вас. Субъект, которого описывают многочисленные свидетели как в Уйе, так и в Домоне и в «Миротон де Терн», сильно напоминает вас. А некоторые факты, связанные с личностями Эвариста Вуазена и Виржиля Сернена, мы пока так и не смогли объяснить.
— Я не вижу связи…
— Ах, не видите? Почему бы вам тогда не воспользоваться очками? Что вы можете сказать по поводу взрыва в замке Буа-Жоли? Почему на месте событий оказались вы и ваш родственник?
— Мы тут не при чем, инспектор. Простите, нам пора рассаживаться, сеанс вот-вот начнется.
— Вы как всегда увиливаете от ответа! К вашему сведению, я собираюсь уйти в отставку и намерен писать мемуары. Можете не сомневаться, вам в них будет отведено особое место. Под каким именем вы предпочитаете фигурировать: Леблан, Ленуар? Имейте в виду, мой преемник — молодой хищник с острыми клыками, напрочь лишенный чувства юмора. Кстати, я все еще надеюсь, что вы достанете для меня первое издание «Манон Леско».
Инспектор поклонился Таша и прошел в дальний конец Индийского салона.
Свет погас, послышались аплодисменты, на экране появилось изображение площади Белькур в Лионе.
— Это и есть их великая находка? — возмутился Виктор вполголоса. — Месье Мельес
[596] показывает такое в театре «Робер-Уден» вот уже десять лет!
Едва он успел это сказать, как лошадь, запряженная в повозку, стала двигаться. По залу прокатился вздох восхищения.
— Снято прямо посреди улицы! — прошептал Виктор на ухо Таша. — Посмотри, как падает свет… Изображение такое четкое… Просто потрясающе!
На экране открылись ворота фабрики, выпуская мужчин на велосипедах и работниц в длинных платьях… В следующем сюжете плакал ребенок… по озеру плыл игрушечный парусник… Затем на экране возник провинциальный вокзал и железная дорога. Вдалеке показалась движущаяся точка, которая приближалась до тех пор, пока не превратилась в огромный паровоз, несущийся, казалось, прямиком на зрителей. Кто-то из них даже вскочил на ноги в страхе быть раздавленным, но паровоз свернул влево за пределы экрана, вагоны остановились у платформы, и пассажиры стали садиться в поезд.
[597]
Виктора поразила реалистичность действия, которое разворачивалось перед его глазами. Он не отрываясь смотрел на экран, чувствуя, что стал свидетелем поворотного момента в истории человечества.
Когда в зале снова зажегся свет, он прошептал Таша:
— Это событие не менее значимое, чем… падение метеорита.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Зима в 1895 году холодная.
Чтобы пассажиры не мерзли, в фиакрах ставят на пол раскаленные жаровни, что вызывает несколько несчастных случаев. По мнению доктора Армана Готье, профессора медицины, системы отопления, при которых происходит выделение продуктов сгорания, необходимо запретить, так как пребывание в плохо проветриваемом помещении вызывает отравление или даже удушье. Чтобы избежать несчастных случаев, в Иври разрабатывают обогревательный аппарат под названием «Монополия»; он спрятан под днище экипажа и сверху закрыт ковром. Таким образом, он нагревает кабину, но вредные вещества в нее не попадают.
Сена покрыта льдом, часто идет снег. Катание на коньках становится популярным среди жителей столицы. Хорошо идут дела у продавцов шуб, искусственных или натуральных, а также угольщиков. Благотворительные организации пытаются помочь бедным и обездоленным.
Холод не останавливает тех, кто пришли посмотреть гражданскую казнь капитана артиллерии Альфреда Дрейфуса. 5 января 1895 года, воскресенье, девять часов утра. Слушатели Военной школы выходят во внутренний двор, выстраиваются рядами и застывают по стойке смирно. Выводят капитана Дрейфуса. Щелкнув каблуками, он останавливается перед генералом. Секретарь военного суда зачитывает приговор. Генерал приподнимается в стременах и обращается к приговоренному: «Альфред Дрейфус, вы недостойны носить оружие. Именем французского народа мы вас разжалуем. Привести приговор в исполнение!». Дрейфус кричит: «Я невиновен! Да здравствует Франция!». Звучит барабанная дробь. Толпа волнуется. Слышатся крики: «Смерть евреям!» Аджюдан
[598] республиканской гвардии приближается к приговоренному, срывает с его формы знаки отличия, ордена и медали и бросает их на землю. Над головой Дрейфуса переламывают его шпагу. Ему предстоит пройти перед войсками и сделать круг по плацу. Поравнявшись с группой журналистов, он останавливается перед ними: «Господа, пусть Франция знает, что я — невиновен!». «Замолчи, мерзавец! — отвечают ему. — Трус! Предатель! Иуда!». Так начинается то, что останется в истории как позорное «Дело Дрейфуса» и спровоцирует политический кризис во Франции в 1898–1899 гг.
Меньше чем через две недели, 17 января 1895 года, президентское кресло в Елисейском дворце занимает Феликс Фор. Ему пятьдесят четыре года, он сын хозяина скромной обойной мастерской в Париже, а сам владеет большим кожевенным предприятием в Гавре и уже почти двенадцать лет является президентом тамошней торговой палаты и членом палаты депутатов. Его предшественник на посту президента Жан Казимир-Перье подал в отставку, пробыв у власти лишь шесть месяцев и двадцать дней. Вызванные отставкой волнения продлились недолго: через сорок восемь часов Казимир-Перье был замещен.
«Машина по избранию президентов Республики, установленная на версальском заводе, функционирует бесперебойно с момента включения и никогда не заржавеет», — пишет по этому поводу хроникер «Фигаро иллюстре» Лютециус.
С приходом к власти нового президента и его министров потребности чиновников только возрастают. По мнению Симона Левраля, печатающего свои статьи в приложении к газете «Пти Журналь иллюстре», «из пяти—шести тысяч чиновников префектур и супрефектур около семисот живут за государственный счет, и число их неуклонно растет».
Государственный долг Франции достигает тридцати пяти миллиардов четырехсот двадцати одного миллиона золотых франков. На каждого маленького француза уже в момент рождения ложится долг в девятьсот двадцать два франка пятьдесят сантимов.
Снова начинается обсуждение планов строительства метрополитена, про который забыли на двадцать два года. Впереди Всемирная выставка 1900 года, которая должна состояться в Париже. Бюрократические проволочки сильно замедляют дело. Общественность возмущена тем, что суровыми зимами женщины, старики и дети вынуждены ездить на втором этаже омнибусов на открытом ветру. Это расценивают как «варварство в столице, которая претендует называться цивилизованной».
Президент Феликс Фор ясно выражает свою позицию во внешней политике, поддержав планы завоевания Францией Мадагаскара. Во время церемонии вручения знамен войскам, расположенным в Сатонэ близ Лиона он заявляет: «Наш флаг символизирует не только могущество французской армии, но и просветительский дух нашей Родины; помните об этом всегда, только так вы сможете показать себя достойными нести факел цивилизации, который вам доверила Республика».
В марте Париж захлестывает волна энтузиазма. Войска готовы немедленно отправляться на далекий остров. Огромная толпа собирается у казарм Пепиньер, люди бросают солдатам цветы, машут шляпами и провожают их до самого вокзала. Слышатся патриотические возгласы, народ приветствует тех, кто отправляется отстаивать интересы своей страны на малагасийской земле. На Мадагаскаре добывают золото, серебро, медь, железо и каменный уголь. Страна имеет стратегически важное географическое положение. Через нее пролегает путь в Индию, и господство над этим большим островом позволит Франции занять выгодную геополитическую и экономическую позицию, обеспечит страну рабочей силой и углем. При этом на страницах «Магазен питореск» речь идет о том, чтобы «избавить Мадагаскар от двух его главных бед, которыми являются ховы
[599] и англичане».
В мае контр-адмирал Бьенеме
[600] занимает город Таматаве на западном берегу Мадагаскара и освобождает порт Диего-Суарес, а генерал Дюшен высаживается в Мадзунге. Первого августа на острове Реюньон в ряды французской армии вербуют местных жителей — по закону 1889 года уроженцы колоний подлежат призыву. 21 августа в Андрибе экспедиционный корпус одерживает победу над ховами. Месяц спустя, 30 сентября, генерал Дюшен входит в Антананариву. Мадагаскар, «король Индийского океана» становится французским. Остров подчиняется протекторату, более жесткому, чем протекторат 1885 года, а 6 августа 1896-го объявляется колонией. Королеву Ранавалону III лишают всех полномочий, и она отправляется в ссылку сначала на остров Реюньон, а затем в Алжир.
Надо отметить, что ход этой кампании не получал широкого освещения в прессе. Если англичане передают новости в Лондон через остров Маврикий, то французские депеши обходятся слишком дорого — по десять франков за слово, так как чтобы достигнуть Франции, должны обогнуть почти весь Африканский континент. Поэтому глава кабинета министров Александр Рибо узнает о взятии Антананариву лишь через десять дней после того, как это произошло.
По данным альманаха «Ашетт, или Малая энциклопедия практической жизни», в этой войне со стороны французов погибло от ранений около тридцати пяти человек и пять тысяч пятьсот пятьдесят семь от болезней, что составило четверть всего личного состава.
Жертвы катастрофы в Бузе, произошедшей в мае, не столь впечатляющи — сотня погибших, в том числе много детей. Стена водохранилища, находящегося в семи километрах от Эпиналя, снабжающего Восточный канал,
[601] обрушилась почти по всей длине, и семь миллионов кубометров воды с сокрушительной силой хлынули в долину Авера, неся смерть и разрушения. Дома были унесены водой вместе с их обитателями, железная дорога Эпиналь — Шомон отрезана, но, заплатив десять франков за три минуты разговора, можно позвонить в Лондон, где с марта по май рассматривается дело писателя Оскара Уайльда. Три месяца лондонское общество разделено на тех, кто «за», и тех, кто «против». Книги Уайльда исчезли с прилавков, а его имя с театральных афиш, и никто больше не осмеливается носить увядшую орхидею в петлице. Обыватели связывают Обри Бердслея с этим «делом», несмотря на его разногласия с Уайльдом. Приговор Оскару Уайльду — два года принудительных работ — не встречает большого отклика во Франции. Писатель отбывает наказание в Редингской тюрьме на юге Англии. Там он пишет свое знаменитое письмо-исповедь «De profundis» («Тюремная исповедь»), адресованное любовнику лорду Альфреду Дугласу. Выйдя из тюрьмы, Уайльд уезжает во Францию и в 1898 году публикует там поэму «Баллада Редингской тюрьмы». Оскар Уайльд умрет в нищете и одиночестве в 1900 году.
Несмотря на то, что в энциклопедии «Ларусс»
[602]1895 года издания говорится, что «порядочность и нравственный облик людей страдают, когда они покидают свои дома», французам не сидится «дома», в своей стране, и результатом становятся франко-малагасийские войны.
Будущий год будет, как и предыдущие, отмечен катастрофами, забастовками, военными походами, изобретениями, новой модой, новыми песнями, рождениями и смертями. На июнь месяц приходится основание Французской Западной Африки, которая объединяет африканские колонии общей площадью 4 425 000 квадратных километров. Затем, 29 сентября и 12 декабря, Франция присоединяет и острова в Океании, которые получат название Французской Полинезии: это Хуахине, Бора-Бора и Райатеа или, как их еще называют, Подветренные острова.
А французы тем временем напевают модные песенки. Выбор огромен, и, как сказал Бомарше: «В наше время то, чего не стоит говорить, поют».
[603] Наибольшей популярностью пользуется трогательная «Пемполезка» в исполнении Меоля, музыка Эжена Фотрие, слова Теодора Ботреля. Она у всех на устах, эта «Пемполезка, что ждет меня в земле бретонской». В своей книге «Большой успех и пирожки» Роми пишет, что Меоль во время репетиции замечает некоторый конфуз в третьем куплете:
Твои паруса, старик Жан-Блез,
Не так белы на бизань-мачте,
Как кожа пемполезки,
Что ждет меня в земле бретонской.
В предпоследней строчке:
«Que la peau de la Paimpolaise» из-за паузы можно было услышать:
«Que la peau», что могло вызвать смех, так как «Твои паруса, старик Жан-Блез, не так белы, как твоя кожа…» звучит не совсем пристойно. Если убрать паузу, то получится ничем не лучше:
«Que la peau de lapin» («не так белы, как кожа кролика»). Поэтому Ботрель заменяет двусмысленную строчку на:
«Que la coiffe a la paimpolaise» («как чепчик пемполезки»), что так навсегда и закрепилось в песне. «Пемполезка» вновь обретет популярность в шестидесятые годы двадцатого столетия.
[604]
В июне в Парижской Опере дают «Тангейзера». Большинство слушателей покорены музыкой Вагнера, и остаются равнодушными лишь те, кого несколько лет назад не впечатлила постановка «Лоэнгрина». Многих привлекает в театр «Жимназ» афиша спектакля по пьесе Марселя Прево с красноречивым названием «Полудевы».
А как же национальный праздник, неужели он предан забвению? Не считая военного парада на аллее Лоншам под изнуряющим солнцем, никакие официальные мероприятия не запланированы, и народ празднует 14 июля кто во что горазд. В кабаках идет гулянье. «Порядочные люди уезжают за город или запираются дома: вот как они празднуют взятие Бастилии, наш главный праздник, символ освобождения!» — возмущается хроникер «Фигаро».
Велосипед скоро заменит лошадь, его используют везде, даже в армии. Капитан Жерар конструирует складной велосипед, который пехота может носить с собой и раскладывать за несколько минут. Как и все новинки, это изобретение подвергается нападкам, но через год успешно пройдет испытания на крупномасштабных военных учениях.
Лето 1895 года выдается необыкновенно жарким. Даже в сентябре температура доходит до 35,5 °C. Такого никогда прежде не бывало! Максимально высокие цифры зафиксированы 16 сентября 1847 года и составляли 33,2 °C.
23 и 24 сентября основана Всеобщая конфедерация труда Франции.
Согласно статистике, потребление алкоголя во Франции, которое в 1830 году составляло 1,12 литра на человека, возросло в 1894 году до 4,04 литра, тогда как в Швеции оно уменьшилось благодаря мерам, предпринятым правительством.
Шведский предприниматель и химик, изобретатель динамита Альфред Нобель составляет в Париже завещание, согласно которому большая часть его состояния должна пойти на учреждение премии в области физики, химии, физиологии или медицины, литературы и укрепления мира. Текст завещания помещен в сейф стокгольмского банка. Альфред Нобель умрет в Италии в 1896 году.
Немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген, открывший 8 ноября 1895 года Х-лучи, 22 декабря осуществляет первую рентгенографию руки своей супруги. Двумя годами позже рентгенологию уже преподают на большинстве медицинских факультетов Европы. Беда в том, что рентгенологи не знают о риске, которому подвергаются, и не защищаются от излучения.
Мужская мода меняется и предписывает, чтобы отныне на брюках были отвороты. Двубортный жилет украшают вышивкой, галстуки носят как обычные, так и бабочки. Довершают туалет пристегивающиеся жесткие белые воротнички. Ночью господа, следящие за модой, переодеваются в пижамы английского производства.
Себастьян Фор основывает свою газету «Ле Либертер».
[605] На улице Шапталь открывает свои двери новый театр «Гран-Гиньоль», парижский театр ужасов, один из родоначальников жанра хоррор. Начинается строительство моста Мирабо. Состоялось открытие музея Гальера.
Книжная лавка «Эльзевир» предлагает покупателям последние литературные новинки: «Пустыню» Пьера Лоти, восьмой том «Дневника» братьев Гонкур, «Плавучий остров» Жюля Верна, «Маленький приход» Альфонса Доде, «Сад Эпикура» Анатоля Франса, «Топи» Андре Жида, «Города-спруты» Эмиля Верхарна, «Исповедь» Верлена…
Во время экскурсии по Парижу путешественник XXI века обязательно остановится у дома номер 14 на бульваре Капуцинов, чтобы прочитать на табличке:
Здесь
28 декабря 1895 года
состоялась первая публичная демонстрация
движущихся картинок с помощью синематографа,
изобретенного братьями Люмьер
«Входите, входите, билет стоит всего
двадцать су!» — кричит зазывала. Он останавливается возле афиши Бриспо,
[606] на которой черными и красными буквами написано: «СИНЕМАТОГРАФ ЛЮМЬЕР». Для первого платного публичного сеанса братья Люмьер сознательно выбрали небольшое помещение, чтобы в случае провала убытки были минимальными. Они наняли кассира и киномеханика и сняли за тридцать франков в день в подвале «Гран Кафе», расположенного в самом центре шикарного парижского квартала, бывший бильярдный зал, декорированный в восточном стиле и названный Индийским салоном. Владельцы кафе, не веря в успех предприятия, отказались от 25 % своей доли выручки. Потом они горько пожалеют об этом.
Продрогший зазывала кричит во все горло: «Персонажи в натуральную величину! Полная иллюзия реальной жизни всего за двадцать су!». Несколько смельчаков спускаются по лестнице, ведущей в Индийский салон. Там перед натянутым на раму белым полотном расставлены рядами около сотни плетеных стульев, по большей части пустующих. Свет гаснет. Раздается потрескивание, на экране появляется изображение закрытых ворот и надпись: «ВЫХОД РАБОЧИХ С ФАБРИКИ».
Антуан Люмьер управлял в Лионе заводом по производству фотографических пластинок, на котором работало восемьсот рабочих. Он привлек к делу своих старших сыновей Луи и Огюста. В 1894 году в Париже Антуан увидел, как работает кинетоскоп Томаса Эдисона и задумался над тем, как видоизменить этот аппарат, предназначенный для индивидуального просмотра, и сделать из него проектор для широкой публики. Он поделился идеей со своими сыновьями. Луи и Огюст берутся за дело. С помощью системы перфорации Томаса Эдисона можно добиться того, чтобы кадры следовали один за другим. Оставалось решить один важный вопрос: как протягивать киноленту, чтобы изображение оставалось четким и создавало ощущение движения. Огюст Люмьер рассказывает: «Однажды утром, это был уже конец 1894 года, я вошел в комнату брата. Он сообщил мне, что не спал этой ночью и изобрел механизм…». Взяв за основу принцип швейной машинки, разработанной французом Бартелеми Тимонье в 1830 году, Луи Люмьер изобрел кинематограф. В его аппарате два рычага, вращающиеся при помощи металлического приводного диска, зацепляются за перфорационные отверстия пленки и перемещают ее на один кадр вниз. Каждый кадр задерживается в световом луче объектива на 2/45 секунды. Затем на окно проектора опускается заслонка, а пленка передвигается вниз. На место первого кадра поступает второй и так далее. Зритель не успевает заметить на экране непродолжительные периоды затемнения между кадрами, но они необходимы: иначе получится нагромождение картинок, а не последовательность четких изображений.
Какое же имя дать своему изобретению? Антуан Люмьер предлагает сыновьям название «Domitor», но они, следуя моде, предпочитают образовать слово от греческого, решено, это будет кинематограф (от греческого
kinema — движение и
graphein — писать, то есть записывающий движение).
13 февраля 1895 года братья Люмьер получают патент на аппарат, сконструированный инженером Жюлем Карпантье и снабженный специальной ручкой и проектором, который является одновременно камерой. 22 марта кинематограф впервые представлен в Обществе содействия национальной промышленности. Второй сеанс проходит в Сорбонне, затем в Лионе во время конгресса Общества по развитию французской фотографии. Демонстрируются семь коротких сюжетов, в числе которых первый игровой фильм «Политый поливальщик».
28 декабря в Индийском салоне первый публичный сеанс смотрят всего три десятка зрителей. Настоящий успех к кинематографу придет на следующий день. Восторженные зрители рассказывают всем об увиденных чудесах. Когда директор театра «Робер-Уден» Жорж Мельес попросит Антуана Люмьера продать ему аппарат, тот ответит. «Нет-нет. Кинематограф будет интересен какое-то время как техническая новинка, но у него нет никаких коммерческих перспектив». И все же вскоре приходится увеличить число сеансов. Журналисты, в тот момент гораздо более интересующиеся свадьбой Иветты Жильбер, вынуждены реагировать: они пишут, что изобретение Люмьеров позволит увековечить воспоминания об умерших.
В этом году уходят из жизни Александр Дюма-сын, Берта Моризо, Фридрих Энгельс и Луи Пастер и появляются на свет те, кому предназначено судьбой стать диктатором, писателем, актером, режиссером, ученым или музыкантом. 1895 год подарил миру драматурга и кинорежиссера Марселя Паньоля (28 февраля); писателей Жана Жионо (30 марта) и Анри де Монтерлана (30 апреля); киноактера Рудольфе Валентино (6 мая); композитора, автора кантаты «Кармина Бурана» Карла Орфа (10 июля); аргентинского диктатора Хуана Перона (8 октября), поэта Поля Элюара (14 декабря) и многих других.
Как поется в известной песне:
Ты — всего лишь звено в цепи,
Ты — всего лишь в жизни звено,
Звено радости и тоски,
Но дойдешь ты до смертной доски,
И всему замереть суждено.
[607]
Клод Изнер
«Мумия из Бютт-о-Кай»
Посвящается Бернару, Этья, Жему и Морису
Лизе и Дени Селем и их трем сыновьям
Монике Брийон
Сегодня было тихо у реки.
Дух осени носился над водою —
И больше никого. Лишь холод, мгла, покой.
Безветрие.
Но вот глаза открыли фонари;
дрожат ресницы света — ветер близко.
Так ждут они прихода ноября.
Эфраим Микаэль. Осень Микаэля[608]
Пролог
Начало января 1896 года
Густой мелкий снег засыпал улицы белой пудрой. Париж дремал в объятиях зимней ночи. Однако, как и в любом другом городе, далеко не все его обитатели впали в оцепенение: нетвердой походкой возвращались домой гуляки, бодрствовали сутенеры, а те, кому просто не спалось, слонялись по городу, проклиная свою жалкую участь. Большинство тех, кто оставался на ногах, делали это не по своей воле: они подчинялись некоей неумолимой госпоже — работе. Это по ее прихоти бессонно гудел среди дремлющих кварталов порт Сен-Николя, где непрерывно подходили к причалу все новые баржи, покуда мирные рантье острова Сите посапывали на своих мягких перинах.
«Утренняя звезда», доставившая товар из Гавра, завершала свой путь по темной воде, в которой отражались кормовые огни и свет уличных фонарей. Она прошла вдоль купален Вижье, недалеко от Королевского моста, а когда оказалась у моста Карузель, небо побледнело и озарилось первыми лучами солнца. Павильон Флоры тенью мелькнул на фоне светлых облаков. Вот показался острый угол сквера Вер-Галан, возник силуэт Нотр-Дама с ее башнями, похожими на дымоходы. «Утренняя звезда» дала гудок и прошла среди драг
[609] и подъемных кранов. Она пришвартовалась между трамповым судном из Лондона и огромной баржей, на которой, выбиваясь из сил, портовые рабочие кидали лопатами известь в огромные корзины. Эти корзины затем переправляли вниз, на набережную.
У берега покачивались, стукаясь бортами, лодки. Здесь же бродила черная дворняга, похожая на изможденного волка. Ее терзал мучительный голод. Ей бы хоть что-нибудь проглотить, свернуться калачиком у мотка троса и провалиться в небытие. Неподалеку искал себе пристанища вихрастый мальчишка в разбитых деревянных башмаках. Его тощее тело едва выдерживало груз непомерно большой головы, постоянно клонившейся вправо. Час назад он заморил червячка овощным бульоном в столовой для нищих, и теперь хотел лишь одного — найти укромный уголок, где можно было бы согреться и поспать. Родители бросили его два года назад на перекрестке, сказав, что скоро вернутся, и с тех пор он бродяжничал, побирался и почему-то надеялся однажды вновь увидеть родные лица. Когда у него спрашивали, куда он направляется, заморыш хрипло отвечал: «За город». Это было почти правдой, потому что летом он ошивался в Венсенском лесу и парке Сен-Клу. Там ему, возможно, попадалась и собака, рыскавшая по лесной просеке в поисках чего-нибудь съедобного — крота, лесной мыши или любых объедков. Несколько раз люди устраивали облаву, намереваясь поймать собаку и поместить в установленную на телеге огромную клетку, из которой доносился громкий лай, исполненный ярости и отчаяния. Несмотря на жалкий вид и запавшие бока, собака была сильна и осторожна. Инстинкт самосохранения помогал ей избегать многих опасностей и проявлять чудеса изобретательности, так что до сего дня ей удалось избежать живодерни, где погибло множество ее бездомных сородичей.
Когда солнце робко коснулось куполов Ла Монне и Института Франции и шлейф тумана растянулся вдоль Нового моста и моста Искусств, нависая над шлюзами и узким притоком Сены, собака наконец нашла себе прибежище и, свернувшись калачиком, задремала. По берегу взад-вперед сновали грузчики. Они сгибались под тяжестью огромных ивовых корзин, до краев заполненных каменным углем. Уголь грузчики сваливали в огромную кучу и снова возвращались к трюму за очередной порцией. У груды песчаника суетились женщины в повязанных вокруг головы платках. Этот камень, столь необходимый для строительства новых домов, везли из Сенара. От «Утренней звезды» к пристани протянулась цепочка людей, которые передавали друг другу тяжелые ящики.
Из своего убежища собака могла исподволь следить за портовой суетой. Она уж было смежила веки, как вдруг ее тонкий нюх различил едва уловимый запах. Поджав уши, на полусогнутых лапах, она отважилась выйти из укрытия. Ее тут же заметили грузчики и принялись что-то кричать. В панике собака метнулась по льду на разъезжающихся лапах и забилась под груду досок. «Держи! Держи ее! Ату!» — вопили вслед.
Но голод оказался сильнее чувства опасности. Когда шум немного затих, собака высунула из укрытия морду, но в нее тут же кто-то запустил камнем. Собака затаилась.
Из-за кучи песка за ней внимательно наблюдал мальчик. Он ей сочувствовал, ведь и ему самому приходилось несладко, и все это время он постоянно сталкивался с человеческой несправедливостью, равнодушием и жестокостью. А потому он придумал уловку, чтобы помочь четвероногому товарищу по несчастью. Подхватив брус, он поднял его как можно выше и резко бросил на груду щебня. Щебень с шумом осыпался на мостовую. Грузчики, ругаясь на чем свет стоит, никак не могли сообразить, что произошло. Тем временем собака, воспользовавшись суматохой, смогла наконец пробраться к источнику запаха — мешкам, выгруженным с «Утренней звезды».
Мальчик наблюдал, как дворняга с рычанием разодрала джутовую ткань и засунула в дыру морду. Когда она ее вытащила, морда оказалась перепачканной чем-то бурым. Мальчик сделал резкое движение, и собака испуганными прыжками вернулась в убежище. Удостоверившись в том, что никто на него не смотрит, мальчик отважился подойти к мешку. Он уже собирался засунуть в дырку руку, чтобы извлечь содержимое. Но тут увидел то, чего предпочел бы не видеть никогда. Взвизгнув, он как безумный ринулся к лестнице, ведущей с набережной на парапет.
А тем временем торговка вопила:
— Рюмашку! Кому рюмашку?
На правой руке у нее висела корзина, в которой позвякивали разноцветные бутылки, а в левой она держала термос с горьковатым кофе. Горячий кофе и выпивка отлично согревали грузчиков, береговых рабочих и бурлаков. К тому же это пойло неплохо заглушало голод. Торговка видела, как в мешке копались сначала голодная шавка, а потом этот заморыш, испугавшийся собственной тени. Сгорая от любопытства, она быстро подошла к мешку — и ее чуть не вывернуло наизнанку. Отвратительное зрелище! Отставив прочь корзинку, она бросилась к знакомому носильщику, который, недовольно морщась, все-таки согласился ее сопровождать.
Когда они наконец оказались на месте, страшный мешок исчез. На земле валялся лишь вывалившийся из дыры осколок человеческого черепа с ошметками окровавленной плоти.
Глава первая
29 февраля 1896 года, середина дня
Маленькая стрелка часов, казалось, застыла на цифре три. Айрис вернется около пяти. Виктор думал, что Дафнэ наконец устанет и он сможет передохнуть, но стоило ему уложить ее в кроватку, как она тут же вскочила и протянула ручонки, прося, чтобы он ее поднял и посадил к себе на плечи.
Сестра позвонила утром. Ей нужно было отлучиться, и она попросила его присмотреть за племянницей. Кэндзи был занят в книжной лавке, у бабушки разыгрался ревматизм, а Жозеф был занят — он разносил книги, так что без помощи старшего брата было не обойтись.
Виктор сослался на то, что не умеет обращаться с детьми. Айрис возразила, что это полезный опыт, ведь рано или поздно и у него появятся свои дети. Виктор неохотно согласился, ругая себя за уступчивость. Айрис уже покормила дочку, и ему нужно было всего лишь присмотреть за ней во время дневного сна.
Дневной сон? Утопия, мираж, несбыточная мечта!
Они строили на полу домики из кубиков с буквами, наряжали кукол, а потом затерялись в джунглях кресел и диванных подушек, охотясь за деревянным медведем, жирафом и слоном, которых Жозеф раздобыл в прошлом году у торговцев, попавших в затруднительное положение.
[610] Наконец, превратившись в лошадку, Виктор несколько раз обежал на четвереньках квартиру. Девочка, сидя верхом, крепко держала его за волосы и визжала от радости, когда он громко, с удовольствием, ржал.
В конце-то концов ему даже понравилось возиться с этой крошкой, но сил уже не было никаких. Он предпринял очередную попытку уложить ребенка в постель. Безуспешно. Стоило ему уйти из комнаты, как Дафнэ принималась горько плакать, и перед ее слезами не мог бы устоять даже человек с каменным сердцем, не то что Виктор. Он посмотрел на часы. Было без четверти четыре.
— Не плачь, сейчас пойдем играть! — вздохнул незадачливый дядя.
Усадив Дафнэ на детский стульчик, Виктор огляделся и заметил под раковиной стопку старых газет. Он вспомнил, как в детстве, когда оставался один в резиденции Слоун-сквер, папа разрешал ему вырезать ножницами фигурки из старых номеров журнала «Таймс», правда, при условии, что на полу не будет валяться обрезков. Виктор взял газету, оторвал страницу и сложил гармошкой.
Он вырезал из сложенной страницы фигурку с толстым животом и огромным шиньоном на голове. А когда ее развернул, одна фигурка превратилась в десяток тетушек-близнецов, танцующих фарандолу.
— Мадам Толстушка! — объявил он.
Дафнэ посмотрела на фигурки, хитро улыбнулась и отрицательно покачала головой.
— Не тойстушка, — возразила она, — это баба Фосина! — Довольная, она рассмеялась и нежно прошептала: — Хочу сказку.
Виктор поднял с пола газетные странички и вдруг увидел заметку, обведенную красным карандашом:
Человек, встретивший смерть вчера ближе к вечеру у Дворца колоний, вероятно, тоже был ужален пчелой. Это американский исследователь-натуралист. На днях приехав в Париж, он…
Эта заметка уже канула в Лету, ее постигла участь всех прочих подобных публикаций, но теперь, нарушив ход времени, она вдруг оживила события семилетней давности, и Виктор представил себя таким, каким был тогда. Он вспомнил, как бежал по лестнице с букетом маргариток, белых солнышек с желтыми сердцевинками. Вот Таша открывает ему дверь своей мансарды, босая, в широкой блузе. Ее собранные гребешком рыжие волосы переливаются в радужном свете, проникшем в комнату через слуховое окно…
Это видение вызвало у него счастливый вздох.
Таша… Без нее жизнь не имела бы смысла…
Он почувствовал, что его дергают за рукав, и мгновенно вернулся к реальности.
— Тише, Дафнэ! Это бумаги Жозефа! 1889 год, Всемирная выставка, наше первое расследование!
[611] Если твой папа обнаружит, что бабушка опять использует его газеты как туалетную бумагу… Ой, что будет!
Он скомкал обрезки и, от греха, сунул в мусорное ведро, чтобы Жозеф ничего не заприметил. Ополоснув руки, подхватил Дафнэ и направился в комнату. Девочка прижалась к нему щекой, ее веки дрогнули.
— Бай-бай, — прошептал Виктор, подхватил вырезанную фигурку и, скомкав, сунул в карман.
Дафнэ, словно в насмешку, тут же широко раскрыла глаза.
— Тото, сказку!
— Ну хорошо, хорошо… Но какую? Я уж и не помню никаких сказок…
Ему странно было возиться с этой крошкой в своей бывшей квартире. Когда-то они с Таша целую неделю наслаждались здесь друг другом, почти не выходя из дома.
Испытывая легкую грусть, он принялся напевать:
Время улетает прочь,
Улетают наши жизни,
Улетим и мы с тобой —
Завтра, может, иль сегодня…
[612]
— Не пой! Сказку!
Он подумал о маргаритках, о том, как Таша встретила его на пороге своей мансарды: «Извините за мой вид, я ужасно выгляжу…» — и начал рассказывать.
— Жил-был цветок, и был он совсем некрасивым… Э-э-э… Даже уродливым. У него было всего четыре крошечных серых лепестка, тонкий, как проволока, стебелек и два невзрачных круглых листика. Он был так безобразен, что пчелы, сновавшие вокруг, жужжали: «Ж-ж-ж… Ах! Какой уж-ж-ж-жас!» И перелетали на другой цветок. А бабочки, порхавшие поблизости,
хлоп-хлоп-хлоп, никогда на него не садились. Несчастный цветок грустил, ведь он был совсем-совсем никому не нужен.
Виктор рассказывал ребенку сказку впервые в жизни, он не знал, как это делается, и потому, подражая какому-то комедийному актеру, строил рожицы, размахивал руками и даже делал вид, что плачет. Дафнэ невозмутимо наблюдала за ним, засунув в рот большой палец.
«Неужели ей интересно?!» — подумал он, не представляя, чем закончить свой рассказ.
— Сказку, Тото! — потребовала девочка.
— Погоди минуточку…
Разве может мужчина тридцати шести лет устоять перед просьбами полуторагодовалой кокетки?
— …И вот однажды, когда стало совсем одиноко, — продолжил Виктор, — некрасивый цветок отважился заговорить с другим цветком, своей соседкой. А соседка была очаровательна, с яркими лепестками, зелеными листочками и прямым стебельком. «Скажи, пожалуйста, как тебе удается быть столь лучезарной?» — спросил безобразный цветок. «Это так просто! — ответила красавица. — Я дружу с солнышком». — «С солнышком? А как же с ним подружиться?» — «С ним надо поговорить». — «Отлично!» — сказал безобразный цветок, принялся размахивать своими жалкими листочками и даже вырвал из земли свои тощие корешки. Цветок закружился в нелепом полете, развеселившем пролетавших мимо птичек, и добрался до солнышка. А очутившись наверху… Э-э-э… Ну… Неизвестно, что с ним произошло дальше, потому что, когда смотришь на солнце, так больно глазам, что приходится зажмуриваться. Закрывай глазки, Дафнэ, баю-бай, баю-бай…
Кто-то вдруг захлопал в ладоши. Виктор поднял голову: в дверях, в мокром плаще, стоял Жозеф.
— Браво, Тото!
— Тсс! Она спит. И не называйте меня Тото! — прошептал Виктор.
— Конечно, извините, — промямлил Жозеф. — Поздравляю, из вас вышел бы прекрасный сказочник!
— Жозеф, прошу вас, я едва стою на ногах. Не представляю, как вы со всем этим справляетесь…
— Наконец хоть кто-то посочувствовал. Я и сам не знаю. Когда разрываешься между книжной лавкой, нашими расследованиями, вами, Кэндзи, моей матерью, доставками, написанием книг… Кстати, вам не кажется, что моя дочь еще маловата для этой истории про безобразный цветок?
— Я не думаю, что это может ей навредить.
Трам-тара-рам!
Чихать я хотел на школу!
Трам-тара-рам!
От грамматики я взопрел.
Жан-Батист Бренгар, так называемый Бренголо, перестал горланить песню и глотнул еще ратафии.
[614] Целый день он бродил под колючим дождем, мелким и пронизывающе холодным. Под этой мерзостью промокаешь порой сильнее, чем под ливнем. Он попал в Жантийи вечером, когда не боявшиеся восточного ветра прохожие отважно тянулись к дому. И уже почти отчаялся найти приют, когда поток света, разорвав мутное небо, словно перст Божий, указал ему на невзрачную хижину. Бренголо, не раздумывая, направился к бедной лачуге, на двери которой даже не было замка. Там он обнаружил грабли, лопату и мешок с гнилой картошкой. Самое Провидение привело его к этому райскому жилищу, хорошо бы только, чтобы никто его не потревожил.
Увы, очень скоро в дверях появился худощавый человек с корзиной на плечах.
— Простите, мсье, на улице я бы просто околел! — воскликнул Бренголо.
— Не беспокойтесь, дружище. Я просто вспомнил, что не запер дверь… Но раз уж вы здесь… — Хозяин лачуги махнул рукой. — Огород был нашей с женой радостью. Мы сажали капусту, салат, лук-порей. Это, конечно, не рай земной, но зато, когда обрабатываешь клочок земли, тебе кажется, что ты богач. А какой был горох! А помидоры! Мы удобряли почву куриным навозом, а лучшего удобрения для овощей и не придумать!
— Отличное удобрение, к тому же бесплатное, — поддакнул Бренголо. Ему хотелось завоевать расположение хозяина. Вдруг тот позволит ему остаться здесь на пару деньков?
— Увы, жена умерла, а огород хотят отобрать. Мол, он мне не принадлежит. Да что уж тут поделать! Когда-то мы с Монетт приезжали сюда каждое воскресенье, она возилась с грядками, я пил охлажденное в ведре с водой пиво и дремал, надвинув на затылок соломенную шляпу… Без нее все утратило смысл…
— Кстати о пиве… Может, у вас остался хотя бы глоточек?
— Нет, дружище, ни капли. Вот, держите… два су… Я не богач, сколько могу… А если что — в двадцати метрах отсюда стоят фургоны старьевщиков, они хоть и живут в постоянной нужде, но всегда выручат, если что.
— Да-да, это правда. Всегда найдутся люди несчастнее тебя. Уж я-то знаю, как меня встретят в деревушке. Слава богу, что ненароком не арестовали: ведь что бы ни стряслось, легче легкого обвинить в том бездомного. А я и мухи не обижу! — воскликнул Бренголо.
— Мне-то кажется, честного человека сразу видно… Оставайтесь здесь, если хотите. Эту лачугу снесут только в августе, а я буду сюда захаживать, когда в огороде что-нибудь поспеет.
— Вы так добры! Знаете, для таких, как я, нет ничего страшнее, чем в холодрыгу ночевать на улице.
— Я попрошу у соседа сена, вот вам и постель.
— А кто ваш сосед?
— Он держит нечто вроде постоялого двора. Там ночуют возницы, а лошадям дают овса. Вам не кажется, что тут как-то странно пахнет?..
С этими словами хозяин домишки вдруг удалился, и Бренголо даже не успел попросить у него хотя бы похлебки. Придется довольствоваться краюхой хлеба и почками, которыми его угостила добродушная колбасница.
Бренголо давно уже усвоил нехитрые правила, совершенно необходимые для таких, как он. Во-первых, никогда не отказываться от чьей-либо помощи, даже полицейских. Во-вторых, как можно реже мыться. Корка грязи не только спасает от палящих лучей солнца и кусачего мороза, но и отпугивает докучливых комаров. Что до вшей, то черт с ними, пусть живут: этих тварей нипочем не изничтожить, они — неизменные спутники всякого оборванца. В-третьих, профессиональному бродяге полагается иметь два вида одежды: для лета нужно как можно больше дыр (так лучше проветривается тело), а для зимы сгодятся сильно штопанные обноски, своим видом вызывающие жалость у прохожих и в то же время хорошо удерживающие тепло. В-четвертых, никогда не напиваться в стельку и предпочитать потроха любому другому мясному блюду: они богаты железом. Если повезет, следует употреблять сухофрукты и сырую морковь — они также очень полезны. Ну а духовную пищу черпать из книг, которые, пару раз прочитав, можно безжалостно выбросить. Сейчас у него была с собой «Песнь оборванцев» Жана Ришпена.
[615] В ожидании возвращения своего благодетеля, он открыл первую попавшуюся страницу и начал декламировать:
Зима прокашляла последнюю простуду,
И грустный след ее сметается повсюду.
Надолго сгладились узоры на стекле,
Снега растаяли в нахлынувшем тепле,
И светлая весна сошла на землю Божью.
[616]
Согретый этими строчками, он поплотнее укутался в свои лохмотья и задремал.
В тот же день, на закате
Фирма «Романт», специализирующаяся на производстве парфюмерии и косметики, не поскупилась. Просторный холл, где прежде хранили заказы, освободили и украсили разноцветными гирляндами. На буфетных столах, застеленных скатертями, расставили подсвечники. А на стене красовался транспарант с надписью:
Да здравствует Бенуа Маню!
Мы благодарны ему за долгую и верную службу!
Тут собрались управляющие предприятием, мрачные и торжественные, словно гробовщики на похоронах, одетые в одинаковые черные костюмы; у всех были одинаковые бакенбарды, а из-под одинаковых цилиндров выглядывали седеющие волосы. Несмотря на разницу в росте и телосложении, они казались братьями, семьей, единым целым. Сложно было представить, что у кого-то из них могут быть собственные мысли или свое, отдельное мнение. Сейчас их неподвижность и сплоченность выражала одну идею: Бенуа Маню должен нас покинуть, это неизбежно, alea jacta est!
[617]
Остальные служащие, сгрудившиеся в сторонке, были одеты не так строго и держались непринужденней. Поглядывая на бутыли игристых вин и сдобные булочки, щедро оплаченные дирекцией, каждый думал, как лучше ко всему этому подступиться. Речь главного управляющего никого из них не интересовала.
— Друзья мои, мы собрались здесь сегодня, чтобы проводить на заслуженный отдых нашего доблестного сотрудника, на протяжении долгих лет много делавшего для процветания компании. Так давайте воздадим должное его преданности и…
Старик вдруг затрясся от приступа кашля и не мог произнести ни слова; один из коллег бросился к нему со стаканом игристого вина, которое, увы, не помогло (управляющий чуть не захлебнулся, пытаясь сделать глоток), — а многие тем временем восприняли его жест как приглашение к угощению и ринулись к буфету. Остальные пытались их остановить, но безуспешно: их призывы напоминали рев осла при виде полчища саранчи. Наконец главному управляющему удалось справиться с кашлем, он отдышался и продолжил:
— …И пусть отныне мсье Маню, отдыхая от забот, наслаждается заслуженным покоем.
Кто-то тихо, но отчетливо сказал: «Аминь». Последовала пауза, во время которой оголодавшие служащие с бешеной скоростью поглощали закуски.
— Благодарим вас, мсье Маню, — в заключение сказал управляющий, — эффективность вашей работы превзошла все наши ожидания!
Раздались жидкие аплодисменты. Управляющий после паузы извлек из кармана футляр — ему не сразу удалось его нащупать, так как он затерялся между носовым платком, табакеркой и зажигалкой, — и продемонстрировал коллегам.
— Административный совет по такому случаю заказал в честь мсье Маню серебряную медаль. На лицевой стороне выгравирован его профиль, а на реверсе — витой флакон и ветка мимозы, в память о нашем первом успехе, духах «Мимозетт». Позвольте вручить вам медаль, мсье Маню!
Под звуки трубы из группы сотрудников выбрался человек в поношенном шевиотовом костюме. Нос, похожий на клюв попугая, глубоко запавшие глаза, незаметный рот, подбородок с ямочкой. И все это окружал нимб из взлохмаченной, с проседью, шевелюры. Бенуа Маню поправил пенсне, слушая дрожащий голос управляющего:
— Дирекция, президент и служащие говорят вам…
— … идите к черту! — вновь встрял записной остряк, но оратор пропустил эту колкость мимо ушей и громогласно закончил:
— Вы — наша гордость!
Вновь раздались жидкие аплодисменты. Бенуа Маню решил, что ему, видимо, следует взглянуть на медаль, что он и сделал, поблагодарив всех легким кивком головы. В левую руку ему вложили футляр, а правую лихорадочно пожали.
— Речь, речь! — проблеяла высоченная дама в желтом платье, заговорщически посмотрев на свою соседку, коротышку в розовом.
Бенуа Маню взглянул на коллег, среди которых у него не осталось ни единого друга, и невнятно пробормотал:
— Я вам… бесконечно признателен… — Но его никто не слушал. Его голос потонул в выкриках «ура!» и «браво!». Маню прошептал управляющему:
— Спасибо, мсье Кларанс. — Дыхание у него перехватило, и непрошенная слеза скользнула по щеке.
Оркестр, состоявший, помимо трубача, из тромбониста, саксофониста и барабанщика, заиграл самый модный шлягер, «Вальс тыкв». Сквозь слезы Бенуа Маню различал кружащиеся в танце пары — желтую даму в объятиях пижона с пышными бакенбардами, розовую коротышку рядом с громилой с ассирийской бородой. Никто уже не обращал на виновника торжества ни малейшего внимания, кроме одного сутулого близорукого человечка, который, подойдя, похлопал его по плечу. Он почувствовал себя таким одиноким в этой толпе! Маню задыхался, голова шла кругом, его то и дело толкали и пихали бывшие сослуживцы. Всем было на него наплевать. Шатаясь, хотя не выпил ни капли, нетвердой походкой он направился во двор. Там стояли телеги, а в расположенной рядом конюшне лошади жевали сено.
Было холодно и совсем темно, но он знал, что у него в запасе еще много времени. Если повезет, он успеет на пароход, который отходит в половине седьмого. Он с досадой сжал кулаки. Его трясло и от холода, и от обиды: как внезапно и несправедливо его выпроводили из компании, которой он верно служил тридцать лет!
Тридцать лет рабства!
— Пустяковая ошибка в дозировке, — заявил он начальству.
— Непростительная рассеянность, — жестко ответили ему. — Вы больше не можете занимать эту должность. Не упорствуйте, дорогой мсье Маню, ведь ваше время истекло.
Гнев заставлял его ускорять шаги, пока боль не сковала колени. К счастью, он был уже у моста Шарантон, а там рукой подать до пристани Бато Паризьен. Бенуа Маню едва успел на суденышко, разрисованное рекламой шоколада «Менье» и бульона «Магги». Контролер за десять сантимов вручил ему металлический жетон, который следовало вернуть при выходе.
Маню заметил среди пассажиров несколько знакомых и поприветствовал их. Мужчины покуривали сигары, облокотясь на леер,
[618] на скамейках нижней палубы вязали женщины. Он скользнул рукой в карман сюртука, чтобы удостовериться, что медаль на месте. Ничтожная благодарность за годы самозабвения, за творчество, итогом которого стало создание неповторимых ароматов!
— Вы допустили прискорбную оплошность. Но не беспокойтесь, мсье Маню, мы просто отправим вас на пенсию. Случай не будет предан огласке, и ваша репутация не пострадает. С вашими рекомендациями вы сможете даже подыскать новое место работы, — улещивал его заместитель директора мсье Тадорн.
Новое место работы! Это в сорок шесть лет! К тому же из послужного списка видно, что в шестнадцать он нанялся на фирму подручным и обучался ремеслу прямо на месте, не получив при этом специального образования!
Глаза застилали злые слезы, и берег, усыпанный огоньками фонарей, расплывался. Это был уже не прежний берег, а как будто некое чистилище, где его ожидали новые мучения. «Они избавились от меня, как от обузы! Посмотрим, что они запоют, когда их записные гении станут наливать вместо духов кошачью мочу!»
Его мутило, голова кружилась, и он заметил, что судно находится возле набережной Аустерлиц только в тот момент, когда оно уже собиралось отчаливать. Он поспешил на берег и бросился к лавке торговцев сладостями.
— Уже без одной минуты, мсье Маню! — воскликнула немолодая хозяйка в кокетливом кружевном чепце. — Вам как обычно, миндального печенья?
Мост Берси он пересек, жуя на ходу печенье, сладкий вкус которого, скрашивавший его вечера, ничуть не сглаживал душевную боль. Порт де ля Рапе, заваленный штабелями досок и грудами кирпича, производил жалкое впечатление. Бенуа Маню заметил грузчиков и огромное количество бочек с вином, отгороженных от дороги решеткой. Грузчики подтаскивали бочки к подъемникам, подъемники зажимали их металлическим захватом и переносили на повозки, которые развезут их на винные склады. Маню представил, как подъемник захватывает не бочку, а его тело, сжимает своими металлическими челюстями и бросает в черную воду. Поперхнувшись, он выплюнул печенье и завопил:
— Я отомщу! Я никогда не клялся им хранить тайну! Я продам их формулы конкурентам, и эти подонки разорятся, подчистую!
Он воинственно махнул рукой и решительно направился к бистро, намереваясь нарушить сегодня строгую диету и отужинать тушеным мясом или жарким и бокалом красного вина.
Глава вторая
1 марта
Лунный луч скользнул между занавесок и нежно коснулся книжного шкафа. В тишине комнаты было слышно только дыхание подруги. Виктор осторожно ворочался, стараясь ее не разбудить. В голове его бешено роились мысли, увлекая в веселый хоровод. Обычно, когда по ночам не спалось, он вставал и закрывался в лаборатории, где с увлечением предавался любимому занятию: ретушировал негативы. Но Таша непременно за ним приходила, скреблась в дверь: «Иди спать, Виктор!». Он подчинялся, возвращался к ней, и тогда, в полусне, она уступала его ласкам, и они вместе уплывали куда-то в ладье счастья.
Вот уже несколько дней он радовался подарку, который преподнесет ей по случаю дня рождения. Надеясь, что общее увлечение еще больше их сблизит, и повинуясь порыву, он купил ей велосипед фирмы «Альсион». Как только она научится на нем ездить, они погрузят велосипеды на поезд и поедут вместе далеко-далеко, гонять по сельским дорогам. Она будет рисовать на пленере, он — заниматься фотографией. Он намерен вести себя благоразумно: больше никаких расследований, с этим покончено.
Он давно мечтал проследовать по пути Роберта Льюиса Стивенсона и его ослицы Модестины…
[619] И от одной мысли, что мечта вот-вот осуществится, его охватила радость.
Косой луч покинул книги и добрался до волос Таша.
Приподнявшись на локте, Виктор любовался этим мирным зрелищем, которое навеки запечатлелось в его душе.
Альфонс Баллю колебался, не умея выбрать между желанием надеть обновку — полосатый саржевый костюм — и ошеломить всех, появившись в офицерской форме. В конце концов, поборов искушение, он решил не пачкать новый мундир. Комиссованный из армии по причине слабого здоровья, Баллю сменил службу в Сенегале на должность в военном министерстве, где служил секретарем генерала Варне. Первое время эта работа не вызывала у него ничего, кроме отвращения, но вскоре он уже радовался тому, что в его жизни больше не будет форсированных маршей в непогоду, не говоря уже о том, что теперь, выйдя со службы, он мог себе позволить удовольствие сесть за столик летнего кафе и полюбоваться прелестями проходящих мимо девиц, которые иногда строили ему глазки. Именно так ему удалось соблазнить некую Люси Гремий, которая стригла и помадила его соратников в салоне-парикмахерской на улице Антрепренер. Эта девица, надо признать, оказалась весьма ловкой и умелой: она его буквально преобразила, побрив подбородок, чтобы подчеркнуть роскошные длинные усы, и сделав ему косой пробор.
Когда, налюбовавшись своим отражением в зеркале шифоньера и сделав выбор в пользу полосок, он величественно спустился по лестнице, хозяйка семейного пансиона вдова Симоне воскликнула: «О, вас и не узнать!» — и это доказывало, что он не ошибся в выборе.
— Что вы хотите этим сказать, Арманда?
— Ах, мсье Баллю!.. Я запрещаю вам называть меня по имени! Хватит красоваться, идите завтракать, кофе и яичница остывают!
Мадам Симоне проводила взглядом любимого квартиросъемщика и, терзаемая смутным беспокойством, вернулась на кухню. На самом деле вдовой она не была: ни с кем и никогда мадам Симоне не была связана узами брака. Однако, понимая, что статус незамужней дамы может смутить квартирантов, которым она предлагала кров и пищу, а также желая опередить неприятные расспросы, она придумала себе трагическую биографию. В ней все было как надо: ветреный супруг, измучивший ее изменами, его преждевременная гибель под колесами экипажа и наконец законное наследство.
О своем реальном прошлом Арманда Симоне предпочитала не вспоминать. С юности она жила исключительно за счет своих прелестей, но в конце концов ей повезло: она стала содержанкой у богатого старика, хозяина дома на улице Рамбютто. Длившиеся пять лет отношения не были освящены церковью, но зато он оставил ей неплохое наследство. С годами Арманда располнела, сменила прическу и теперь не боялась, что кто-то из прежних клиентов может ее узнать. Почти все свои средства она вложила в этот дом в зажиточном квартале Гренель, расположенный недалеко от мэрии, церкви и старинного замка, где теперь стояла пожарная часть.
В дверь позвонили. Катрин, служанка, пошла открывать. Она впустила пухленькую низкорослую женщину, укутанную в шали и в шляпке с перьями. Мадам Симоне сразу узнала Мишлен Баллю, кузину самовлюбленного Альфонса.
Мадам Симоне ее недолюбливала: каждое второе воскресенье эта толстуха отправлялась с братцем на прогулку, а после они обедали в каких-то дешевых забегаловках, вместо того чтобы столоваться у нее.
— Капитан Баллю завтракает, — объявила она с плохо скрытой неприязнью.
— Ну что ж, я пока с ним поболтаю! — невозмутимо ответила та.
Мадам Симоне пожала плечами. Она считала ниже своего достоинства общение с какой-то консьержкой. Что ж, тем хуже, капитан Баллю останется без дополнительных бутербродов. Она не станет долго терпеть присутствие этой расфуфыренной тушки.
Кроме Альфонса Баллю, за столом сидел Адемар Фендорж, бывший преподаватель латыни в религиозном училище. Теперь, выйдя на пенсию, он часами гулял в саду Тюильри, куда в обеденный перерыв приходили молоденькие девушки, которых он развлекал с помощью своей латыни. Этот дородный книгочей с длинными крашенными волосами произвел сильное впечатление на Мишлен, особенно после того как кузен рассказал ей о том, что тридцать лет назад, в молодости, латинист участвовал в раскопках останков доисторических животных в песчаном карьере на улице Сен-Шарль.
— Представляешь, Мимина, — так звал свою кузину Альфонс Баллю, — он обнаружил коренной зуб гиппопотама и берцовую кость гигантского ископаемого оленя!
— А эти штуки… которые он обнаружил… они редкие?
— Да ты смеешься?! Они ис-то-ри-чес-ки-е!
Войдя в столовую, Мишлен Баллю присела в неловком реверансе, а мсье Фендорж, кивнув в ответ и промокнув салфеткой рот, неторопливо направился на поиски новых, все более и более миловидных поклонниц.
— Вот это я понимаю! Какой интересный господин! Братец, тебе сказочно повезло иметь таких соседей!
Когда оба ушли, мадам Симоне принялась убирать со стола.
— О капитане Баллю могу сказать только хорошее. А вот его кузина — просто бестия, — проворчала она служанке.
— Да уж, мадам! Хорошо хоть, другие ваши постояльцы ее не видели, особенно мсье и мадам Дюссо. Они и без того такие угрюмые!
Но супруги Дюссо, бывшие фармацевты, как раз столкнулись с Баллю и его кузиной перед особняком, принадлежавшим когда-то химику Ансельму Пейену, а ныне — его дочери, устроившей в нем дом престарелых. Мадам Дюссо, плоская, как доска, несмотря на все попытки набрать вес с помощью особо питательной диеты, окинула презрительным взглядом пышнотелую мадмуазель, а когда обе пары разминулись, ехидно процедила:
— Того и гляди, она скоро лопнет, эта консьержка с улицы Сен-Пер! А строит-то из себя!
— Куда ты поведешь меня сегодня, Пулэ?
[620] — поинтересовалась Мишлен Баллю.
Она не имела права оставлять дом на улице Сен-Пер без присмотра, но договорилась, что ее подменит Лулу, племянница хозяйки «Потерянного времени», где потягивали пиво ученики Школы изящных искусств. Когда эти выходы в свет стали для Мишлен и ее кузена традиционными, они договорились, что Альфонс будет их организовывать, а его кузина — оплачивать.
— Ну, Мимина, мне бы хотелось пройтись до моста Гренель. Мы сможем посмотреть на уменьшенную копию статуи Свободы, из-за которой Париж похож на французский Нью-Йорк. Я никогда не видел ее вблизи! А потом пойдем пировать в кафе на улице Жавель.
[621]
При слове «жавель» Мишлен Баллю поморщилась: она порядком устала от этого едкого раствора, которым чуть ли не каждый день ей приходилось драить лестницы в доме на улице Сен-Пер.
— Какая глупость! — проворчала она. — Тащиться в рабочее предместье, когда сам живешь на улице Лили…
— У нас, кстати, ужасно шумно и полно тараканов… Да и чем тебе не угодило рабочее предместье? Заводы — это здорово! Вообрази, что было бы, если бы в нашем округе построили фабрику игрушек, гидравлический цех, машиностроительный завод или еще что-нибудь в таком духе. Железный город… Это страшно интересно, тебе понравится. Я покажу тебе несколько заводов, если нам хватит решимости дойти до площади Бретей.
Он не стал оглашать цель первой части программы: пройтись по улице Антрепренер. Парикмахерская наверняка будет уже закрыта, зато не исключено, что Люси выглянет в окно.
Приятная беседа с кузиной была прервана грохотом: по улице галопом неслись две белые лошади, тащившие повозку с пожарной помпой из казармы Виоле.
— И тем не менее, — вздохнула Мишлен, — я бы предпочла посидеть в каком-нибудь местечке, где у меня поднимется настроение…
— Где же это у тебя оно поднимется? Разве что на Эйфелевой башне?.. — сказав это, он тут же представил себе утомительный подъем на башню и украдкой зевнул.
Бенуа Маню вытянул затекшие ноги. Всю ночь ему снились кошмары. Он оторопело уставился на блеклые обойные цветочки, и ему вдруг показалось, что из всех этих цветочков на него смотрят злобные маленькие глазки. Чуть ли не выпрыгнув из кровати, он плеснул воды из кувшина и смочил лоб. Странный звук заставил его напрячь слух. Уже десять минут десятого! Почему не били часы? Надо скорее бриться, одеваться, черт, кофе кончился, а варить слишком долго. Тем хуже, придется обойтись
без кофе. И только приготовив кисточку для бритья, он вдруг все вспомнил. Он уволен! Ему некуда больше торопиться. Ему вручили эту дурацкую медаль, отправив на свалку с нищенской пенсией. Он рухнул на матрас с кисточкой в руке. Впереди был бесконечный пустой день. День безделья и скуки.
— Ты — отброс, тебя обрекают на нищету, и у тебя есть все шансы закончить жизнь на помойке! — бормотал он себе под нос.
Мысли, проносившиеся в голове, были одна чернее другой.
Он не читал романов, никогда не ходил в театр или кабаре, ненавидел деревню, не увлекался живописью. Женщины?.. Ничтожные создания, безрассудные, лишенные изобретательности. Секс? Раз в две недели в доме терпимости на улице Прованс, для здоровья. Его политические взгляды были точно такими, как у большинства буржуа. Все имело смысл: мораль, полиция, армия, начальники, деньги, — только в том мире, в котором у него была его работа. И вот теперь эта прекрасная конструкция рухнула.
Холод и голод вывели его из неподвижности. Накормив печь коксом, а себя яблоком и камамбером, он раздвинул шторы. Его окна выходили на бульвар Берси. Ни солнце, ни утреннее небо не могли его утешить. Он не скажет ни слова соседям и торговцам. Будет возвращаться домой как обычно, делая вид, будто продолжает ходить на службу. Маню носился по комнатам в поисках беспорядочно разбросанной одежды, на ходу оделся. Замешкался лишь, чтобы повязать галстук вокруг шеи, запрятать поглубже медаль и пригладить шевелюру перед трюмо, втиснутым между книжным шкафом со всевозможными учебниками и справочниками по химии и столиком, заваленным ретортами и пробирками.
Маню направил свои стопы в бухгалтерию фабрики «Романт». Они, небось, думают, что рассчитались с ним сполна. Не тут-то было! Он не откажется ни от сантима из положенной компенсации.
Консьерж мерил шагами тротуар, покуривая короткую трубку и ворча на детвору, высыпавшую из школы на переменку. Иногда — когда был уверен, что никто не вмешается, — консьерж развлекался тем, что шпынял робкую молоденькую служанку, которой не хватало решимости постоять за себя. Этот злющий цербер по имени Жюль испытывал садистское наслаждение, издеваясь над теми квартиросъемщиками, которые представлялись ему слабаками. Но истинными козлами отпущения были у него одноглазая старуха, прозябавшая под самой крышей и когда-то работавшая матрасницей, и Бенуа Маню.
— А, вот и вы, а я вас с позавчерашнего дня поджидаю. Вы помните о сроке платежа? Вы обязаны безотлагательно заплатить, домовладелец ждать не будет!
— Сегодня вечером точно заплачу, а сейчас, извините, я очень тороплюсь.
— Проспали, да? И теперь несетесь как угорелый! В воскресенье! Так вы и по воскресеньям на своей парфюмерной фабрике вкалываете? Ну дела!
Бенуа Маню поднял брови. Он и забыл, что сегодня воскресенье. Непринужденным жестом достал из кармана часы.
— Неотложное дело, — пробормотал он.
Консьерж усмехнулся.
— Все хотел спросить, почему у вас-то в квартире розами не пахнет? А дом вы не спалите из-за своих дурацких опытов?..
Что-то бормоча в ответ, Бенуа Маню быстро отвернулся и почти бегом направился к берегу Сены. Он уже не мог видеть, как консьерж изменился в лице, когда двухместная карета, стоявшая до того метрах в десяти от парадного, тронулась за ним вдогонку, а поравнявшись, остановилась, и из открытой дверцы показался рукав, отделанный кружевом. Его поманила рука в белой перчатке.
Бенуа Маню остолбенел. И оглянулся вокруг. Без сомнения, жест был адресован ему. Он тщетно пытался сообразить, кто эта незнакомка, и на мгновение заколебался, но как устоять перед таким судьбоносным призывом? Мсье Маню вздохнул. Ему необходимо решиться. Но на что? Наконец, справившись с болезненной робостью, он подошел к распахнувшейся дверце и уселся в карету, которая тут же тронулась с места.
— И этому типу хватает наглости ходить по девкам вместо того, чтобы вовремя платить за жилье! Неотложное дело! Я не позволю над собой насмехаться! Я тебе покажу неотложное дело! — орал консьерж, выронив трубку.
Глава третья
30 мая
В широких шароварах для велосипедных прогулок Хельга Беккер сзади напоминала клоуна. И то, что несмотря на свою тучность, она передвигалась с такой легкостью, совершенно противоречило закону притяжения. Виктор с удовольствием наблюдал, как она гоняла вокруг фонтана в Люксембургском саду. Это могло бы стать сюжетом для кинематографического скетча, даже более смешным, чем «Политый поливальщик» братьев Люмьер.
Дама едет по саду на велосипеде. Велосипедистка, не удержав равновесие, падает в пруд и уходит под воду, но ее моментально вытаскивает ярмарочный силач.
Он недавно сфотографировал одного такого силача с улицы Дюранс, который давал представления на площади Домниль, и теперь Виктор представлял себе те трюки запечатленными на кинопленку. Он был убежден, что изобретение братьев Люмьер в техническом плане ничуть не совершеннее хронофотографии Этьенна Жюля Марея,
[622] хотя видел в нем замечательное средство художественного выражения, позволившее придать движение застывшей вселенной фотографии. Но когда наконец появятся цвет и звук?
Виктор уже позабыл свою фантазию о Хельге Беккер, барахтающейся в пруду среди лебедей и крошечных парусников, которых пускают, вооружившись шестами, мальчишки в матросских костюмчиках. Он теперь любовался Таша в изящном костюме от модного дома Френкель, что специализируется на спортивной одежде. Новенькие велосипеды-близнецы посверкивали на солнце. Таша еще нетвердо держала руль, но ей уже удалось объездить это грациозное животное. Правда, не обошлось без падений…
Таша тем временем миновала женщину, сдающую стулья напрокат, которая немного испугалась внезапному появлению этой девушки-кентавра, и остановилась возле коляски, в которой сидели улыбчивые девчушки.
Хельга Беккер порекомендовала Таша свое любимое средство от простуды: кусочек сахара, пропитанный мятной настойкой.
— Эта машина, какой бы прекрасной она ни была, может стать причиной всяких неприятностей, моя дорогая! Взять хотя бы макияж. Я использую изобретение доктора Диса, наклеиваю эти его полоски, а вечером их снимаю. И ауфидерзейн морщины! А с тех пор как я стала носить корсет без пластинок и с отверстиями для доступа воздуха, я распрощалась и с болью в желудке!
— Таша решила эту проблему по-своему, она вообще отказалась от корсета, — встрял в разговор Виктор.
— О! Мсье Легри, мужчины не должны обсуждать такие вопросы, вы вгоняете меня в краску! — так громко завопила Хельга Беккер, что человек, сдающий лодки напрокат, бросил на нее веселый взгляд.
Хельга посмотрела на часы.
— Уже поздно, и я должна вас покинуть. Я обещала мадам де Флавиньоль пойти с ней на соревнования по медленной езде на велосипеде, от парка Монтрету до моста Сен-Клу. Это теперь так модно! Я, должно быть, смущаю вас тем, что так громко говорю… просто не могу прийти в себя после победы Массона на велогонках в Афинах,
[623] на Олимпийский играх! Вот это скорость! Промчался, как стрела! А ехать медленно, по-черепашьи, совсем не интересно!
Когда, неуверенно покачиваясь, Хельга покатила прочь, Виктор и Таша тоже оседлали своих железных коней и направились к киоску под крышей с кованым козырьком. Торговка как раз испекла вафли, которыми они лакомились, наблюдая, как маленькие девочки качаются на лошадках.
Сначала Таша отнеслась к велосипеду, этому странному и громоздкому изобретению, настороженно, но в конце концов согласилась учиться на нем ездить, при условии, что обучать ее будет женщина, например Хельга Беккер, непонаслышке знакомая с трудностями и опасностями, которые приходится преодолевать при этом слабому полу.
— Ты ни слова не сказал о моем костюме. А ведь я его надела сегодня в первый раз.
В отличие от Хельги, широкая шотландская юбка которой легко превращалась с помощью завязок в шаровары, Таша выбрала облегающий костюм: короткую куртку, бриджи, открывающие икры в черных чулках, и ботинки. Этот выбор, нисколько не лишая женственности, еще больше стройнил ее. Однако Виктору ее вид был непривычен.
— По-моему, слишком облегающе. Я не уверен, что женщина должна выставлять свои прелести напоказ. Прощай, тайна, скрываемая под ворохом шелков!
— Здравствуй, свобода движений!
— Боюсь, что в проигрыше от этого нового мировоззрения будет любовь. Если женщины откажутся носить платье, грань между мужским и женским сотрется, уделом всех станет нечто усредненное, не оставляющее места мечтам.
— Похотливым мечтам придворных Эдокси Аллар, эрцгерцогини Максимовой, срывающей нижнее белье на сцене театра «Эден»?.. Неужели и тебе это интересно?! Сегодня вечером я докажу тебе, что снимать этот костюмчик можно так же эротично, как развязывать нижнюю юбку! А что до стирания различий — ты сам виноват, ведь это ты, по собственному недомыслию, сделал из меня спортсменку! Спорим, ты меня не догонишь?..
И она помчалась. Преследуя ее под узорчатой тенью платанов, ведущих к фонтану Медичи, Виктор испытывал чувственное наслаждение. Тень вековых деревьев, отраженных в воде, делала устремленный вперед силуэт причудливым и особенно романтичным. Эта наяда — или танцовщица? — казалась ему неуловимой, а оттого еще более желанной.
Притаившись среди девственного леса, дом дремал. Он был построен на углу Итальянского бульвара и улицы Корвизара обувщиком с улицы Комартен, нажившим состояние во времена Второй империи. Быстро разбогатев, тот пожелал жить в роскоши. Но в этом доме на него обрушилось страшное несчастье: супруга сбежала от него вместе с детьми. Обувщик пустил себе пулю в висок, а дом остался недостроенным. Из-за бесконечных тяжб наследников, которые так и не были улажены, вот уже много лет здание тихо ветшало, а парк превращался в дикие заросли.
В ближайшем от него квартале кипела жизнь. Бульвар был запружен повозками, груженными сельдереем, морковью и свеклой. Там же толпились разносчики товаров, блеяло стадо овец, расхаживали кухарки с корзинами в руках. В воздухе носились запахи прогорклого масла, лука и отхожих мест, отовсюду слышался звон колокольчиков и песенки, которые насвистывали или напевали прохожие. Старьевщики и ремесленники ссорились, отвоевывая себе место, где можно было бы разложить товар, а заводы располагались так близко, что дым из труб затягивало в окна винных лавок. Здесь жили бедняки. В их ветхих жилищах не было мебели, ее заменяли ящики из-под мыла. В таких же ящиках выращивали на продажу морских свинок и лаковые деревья,
[624] под ветвями которых играли одетые в лохмотья дети.
Дом, спрятавшись под покрывалом из плюща и ломоноса, угрюмо смотрел своими темными пустыми глазницами на аллеи, заросшие сиренью, акацией и орешником. Правое крыло, судя по всему, было задумано в псевдоренессансном стиле, но ныне больше походило на неудачно спроектированное административное здание. Центральная часть, увитая молодым виноградом, имела величественный вид. Ее украшали орнаменты: аканты, ионики, вязи. На барельефах над окнами были изображены женщины и дети в античных одеяниях. Верхний полуэтаж поддерживали колонны, на капителях которых были вырезаны листья и плоды. Серовато-синюю крышу из сланца украшало декоративное навершие. Два каменных льва, сидевших на задних лапах, охраняли вход, рядом с которым находилась привратницкая, ныне уже почти разрушенная. Левое крыло возвести так и не успели: на этом месте виднелось только основание будущих стен, обнесенное ветхим забором.
Для того чтобы обойти огромный заброшенный сад, нужно было иметь хорошую физическую форму: его разбили на склоне холма, и, хотя когда-то здесь были лестницы, но они так обветшали, что по ним уж было не пройти. Приходилось карабкаться, цепляясь за кусты. В гуще сада притаился пруд, покрытый ряской и заросший камышом. Время от времени на свободной от тины и ряски поверхности появлялись круги: признак того, что в нем водилась рыба. Впрочем, кроме бездомных кошек, здесь бывали лишь отважные мальчишки: в тишине пруда было что-то тревожно-пугающее. Облупившаяся статуя Девы Марии указывала пальцем куда-то в небо, словно предупреждая о возмездии. Было ли услышано ее предупреждение? И неужели ничего, кроме тайн, не осталось в этом доме с перебитыми из рогаток стеклами? Ходили слухи, будто в нем живут привидения, что, кроме обувщика, здесь покончил с собой некий отвергнутый поклонник, а сутенер задушил проститутку.
Тишина царила в этих зарослях, где даже птицы не спешили вить свои гнезда. На протяжении многих лет дом словно терпеливо караулил, покуда какая-нибудь жертва запутается в его тенетах. Момент был близок. Бездушные камни чувствовали, что вскоре здесь произойдет нечто ужасное.
— Официально сообщают, что погибли тысяча триста шестьдесят человек! А по слухам их не меньше трех тысяч! — возвестила Рафаэль де Гувелин, размахивая газетой и волоча за собой отчаянно упиравшихся собачек, мальтийскую болонку и шипперке. Те никак не хотели заходить вместе с хозяйкой в книжную лавку «Эльзевир» на улице Сен-Пер 18.
Кэндзи Мори оторвался от своих карточек, а Жозеф обратился в слух.
— А что случилось? Землетрясение? Извержение вулкана? — полюбопытствовал он.
— Вот и не угадали! Но это ужасно, ужасно!
— Мы почему-то так и подумали.
— …Это случилось в России, на Ходынском поле, на торжествах по случаю коронации Николая II. Это поле — сплошные промоины и ямы, рядом овраг глубиной двадцать метров. Несчастные, бросившиеся получать подарки царской четы — фунт белого хлеба, сласти, платок и кружку, — сами создали давку, и их затоптали те, что напирали сзади.
— Я читал репортаж о том, как царский кортеж пересек Красную площадь. И что в честь восшествия на престол Николая II был дан семьдесят один пушечный залп. Сломать себе шею ради подарка от самодержца — в этом что-то есть! — воскликнул Жозеф.
— Когда собирается такая тьма народа — это уже таит в себе опасность, — проговорила Рафаэль де Гувелин, прикрываясь веером, как щитом. — Но, полагаю, вы предпочли бы, чтобы я рассказала об убийстве. Вы ведь обожаете подобные происшествия!
— Ну да, признаться, меня это больше занимает. Например, такая история: человек убил знакомого, чтобы украсть у него коллекцию марок стоимостью десять тысяч франков. А тело спрятал в сундук и сдал в камеру хранения в городке Кувилль, недалеко от Шербурга. Оригинально, не правда ли?
Его собеседница пожала плечами и обратилась к Кэндзи.
— Дорогой мсье Мори, вы так цените шик в одежде, что вы думаете о революции, которую эти великосветские щеголи пытаются совершить против цилиндров?
— Думаю, последствия их бунта против цилиндров менее пагубны, чем последствия коронации русского царя. Полагаю, вам известно изречение Виктора Гюго о том, что мыслящая голова лучше головы в модной шляпе.
Рафаэль де Гувелин рассеянно погладила песиков и вновь обратилась к Жозефу, который расставлял на полке приобретенные накануне восемь томов «Тысячи и одной ночи».
— Не посоветуете, где мне поискать корзинку для моих крошек? К несчастью, они сгрызли ту замечательную ивовую корзинку, что подарила ваша супруга. Она так изысканно украсила ее тюлем и сатином… А может, ее не затруднит сделать мне такую же?
Жозеф открыл было рот, чтобы ответить, но тут в дверях появилась дама в туалете желтого шелка и широкополой бархатной шляпе. Она склонила голову, приветствуя Рафаэллу, и громко воскликнула:
— Здравствуйте, мсье Мори!
— Мое почтение, мадам. Какая неожиданность! Значит, наши конкуренты вас не устраивают?
Олимпия де Салиньяк никогда не признавала своих ошибок. В прошлом году она демонстративно перестала посещать книжную лавку, недовольная тем, как ее обслуживали. По правде говоря, ее недовольство было случайным капризом, и она здорово скучала по приветливым владельцам, по располагающей к беседе и тому неподдельному интересу, который все здесь выказывали к книге и книжным знаниям. Не обратив никакого внимания на реплику Мори, она продолжила:
— Терпеть не могу этого вашего Эмиля Золя! Он порочит благородные просветительские идеи. Но мне хотелось бы полистать его последний роман «Рим», что вышел в издательстве Шарпантье. Говорят, он пишет, что город так и остался языческим и что по берегам Тибра разгуливают наследники цезарей, одержимые манией величия. Мне хотелось бы уточнить, так ли это, ведь послом при святейшем престоле назначили моего друга мсье Пубеля.
[625]
— Читала я эту книгу! — воскликнула Рафаэль де Гувлин. — Ее герой — молодой священник, который порицает современную католическую церковь. Какая дерзость!
С нескрываемым раздражением Кэндзи отложил свои карточки.
— У нас этой книги нет. Заказать?
— Да, закажите. Лучше две… И добавьте еще «Супружеские тайны» мадмуазель де Бове, вышедшие в издательстве «Лемер». Моя племянница, мадам де Пон-Жубер, жаждет углубить свои познания.
Жозеф воспринял эти слова как колкость в свой адрес. Когда-то он увлекся Валентин де Салиньяк, но та вышла замуж за знатного франта. Жозеф натянул куртку и собрался уходить, но Рафаэль де Гувлин его окликнула.
— Так что с корзинкой?
— Попробую узнать у Айрис. Но вообще-то мы здесь больше не живем. Всего доброго. До понедельника! — бросил он с заговорщическим жестом Кэндзи, и тот, отвечая ему, поднялся.
— Дамы, нам пора закрываться.
— Как это — они здесь не живут? — повторила Рафаэль де Гувлин.
— Птицы покидают гнездо, едва научатся летать, а люди — когда у них появляются деньги на арендную плату, — со вздохом пояснил Кэндзи, выпроваживая покупательниц на улицу.
Жозеф испытывал благодарность к Реми де Гурмону,
[626] который не только частенько посещал книжную лавку «Эльзевир», но и охотно читал его странные рассказы. Разумеется, Жозеф понимал, что не может соперничать с автором «Таинственной латыни» и «Сикстины», с человеком, которого за статью «Игрушечный патриотизм» изгнали из Национальной библиотеки, после чего он стал одним из основателей журнала и издательства «Меркюр де Франс», где и работал до конца своих дней. Но было у них и нечто общее: оба страдали от своих физических недостатков: у одного был горб, у другого — волчанка. И оба были влюблены в книги, которые Реми де Гурмон увлеченно собирал. К тому же он не гнушался продавать кое-какие экземпляры через букиниста с набережной Малакэ. Когда мсье де Гурмон узнал, что Жозеф хочет переехать, он, запинаясь, сообщил, что один его родственник намерен выехать из трехкомнатной квартиры с очень умеренной арендной платой на улице Сены 31.
Убедить Айрис покинуть отчий дом оказалось проще, чем ожидал ее супруг. Она очень любила своего отца, но оставаться в его доме не могла: ей хотелось чувствовать себя хозяйкой и избавиться от его властной заботы. Поскольку жили поблизости, они могли часто навещать друг друга — это было тем более важно, поскольку в квартире на улице Сены, в отличие от квартиры на улице Сен Пер, не было ванны. Что до мадам Пиньо, чья квартира находилась на пересечении улиц Висконти и Сены, то и она не имела ничего против того, чтобы сын с семейством жил на несколько десятков метров дальше от ее дома.
Жозеф и Айрис влюбились в новую квартиру. Комнаты были просторными, окна выходили на сад, а под одним из окон росла липа. Им пришлись по вкусу и шторы бежевого репса, и недавно поклеенные зеленые, в разводах, обои. Не было необходимости ничего в квартире менять, а это позволяло еще и сэкономить. Когда же хозяин квартиры, друг Реми де Гурмона, предложил им приобрести по сходной цене несколько предметов мебели красного дерева, они мигом подписали арендный договор и почти сразу переехали.
Этим вечером сердце Жозефа, как обычно, забилось быстрее, когда он поднимался на третий этаж по лестнице со стертыми ступенями и коваными перилами. Подумать только, здесь жила Жорж Санд! И именно здесь в двадцать семь лет она впервые переоделась в мужское платье. Жозеф, конечно, был бы против, если бы Айрис пришло в голову последовать ее примеру, однако этот факт его воодушевлял: ему представлялось, что дух знаменитой писательницы окажет покровительство его литературной карьере.
Войдя, он почувствовал аппетитный запах гратена,
[627] фирменного блюда Эфросиньи, имевшей обыкновение ужинать вместе с сыном и невесткой. Зюльма Тайру, помогавшая ей на кухне у Кэндзи Мори, вышла замуж за Андре Боньоля, бывшего дворецкого Легри, и перебралась в Нант, где готовила в местном кафе жареный картофель по-парижски. Так что теперь Эфросинья буквально разрывалась на части, помогая и семье сына, и Виктору с Таша. Мсье Мори отказывается от ее услуг? Что ж, это даже к лучшему. И пусть тогда сам разбирается со своей новой экономкой!
Пока Жозеф обсуждал новости с матерью, Айрис сидела в гостиной, где вышивала суконный чехол на пианино, напевая дочке колыбельную. Та лежала рядом, посасывая палец. Слушая ровное дыхание дочери, Айрис погружалась в сладостный, волшебный мир. Три тетради сказок с рисунками Таша лежали на письменном столе. Последняя история, «Кот с острова Мэн», была еще не закончена. Ее герой, белый кот, так горевал из-за того, что у него не было хвоста, что решил купить на континенте кошку-девятихвостку…
[628] Она унеслась мыслями очень далеко, но тут свекровь позвала всех за стол.
— Ты слишком много работаешь, сынок! — ворковала Эфросинья. — И переутомляешься! Понимаю, ты стал компаньоном, но почему бы мсье Легри не подменять тебя по субботам? Я только что видела их с мадам Легри… Она одета в один из этих дурацких костюмов. Все так и пялились на ее ноги, стыд-то какой!
— Мама, я тебе уже объяснял, мы распределили обязанности. Виктор дежурит три утра и три полных дня в неделю. А Кэндзи главным образом разыскивает у букинистов и на аукционах раритеты. Я по понедельникам свободен, а по вторникам и четвергам разношу книги. Таким образом нам не приходится нанимать еще одного работника, а у Виктора остается свободное время для занятий фотографией… Скоро мы сменим вывеску, и на ней будет значиться: «Древние и современные книги. Мори−Легри−Пиньо»!
— Мне тоже кажется, что все идет хорошо, — поддержала мужа Айрис. — Жозеф может больше времени уделять семье и своему писательству. Он говорил вам, что «Месть призрака» выйдет в «Пасс-парту» на следующей неделе?
— Конечно говорил! И все же я убеждена: его эксплуатируют! И платят мало! Небось, Пьер Декурсель
[629] не страдает от безденежья! — возразила Эфросинья.
— Ну послушай, мама! У него же толпа помощников, а я все делаю сам!
Не так давно Матильда де Флавиньоль подарила ей билет в театр Амбигю-Комик на «Двух малышей»; Эфросинья вышла из зала в слезах и теперь только и говорила, что о том спектакле.
— Ах! Какая трогательная пьеса! Мне так жаль Фанфана и Клодине, ведь они стали жертвами бандита Ля Лимаса и его сожительницы Зефирины. Вот какие истории следует сочинять! Больной чахоткой мальчик, отец которого несправедливо обвиняет свою жену в измене и мстит, отдав сына Ля Лимасу… Это даже лучше, чем «Две сироты».
Но Жозеф не слушал. Он уставился в тарелку, вспоминая случай, произошедший совсем недавно, в феврале: лошадь фиакра номер 10 536, устав ждать пассажира, поднялась вверх по улице Эльзас, дошла до соседней станции и остановилась, пока кучер искал ее повсюду как одержимый.
— Вот и сюжет будущего романа: экипаж, который тянет заколдованная кобыла… И называться он будет «Адский фиакр» — успех гарантирован! — произнес наконец Жозеф, прежде чем положить в рот изрядную порцию картофеля и расплавленного грюэра.
Ему так не терпелось записать скорее свою идею, что он в мгновение ока покончил с ужином — к удовольствию матери, которая отнесла это на счет своего кулинарного таланта.
Стена на улице Корвизар была увита вьюнком. Его не было лишь на ржавых створках ворот, ведущих в поместье. Над Бютт-о-Кай уже сгущались сумерки, когда двое с сумками, один широкоплечий, а второй — тщедушный, повернули в замке тяжелый ключ и направились по заросшей тропинке к дому, силуэт которого темнел на фоне золотистого вечернего неба. На полпути тщедушный замедлил шаг и бросил в пруд пригоршню крошек. На мутной поверхности появились круги волны: карпы, лини и золотые рыбки наперебой хватали крошки.
— Зачем ты их кормишь? Лучше давай поймаем одного и сами полакомимся, — проворчал здоровяк.
Он схватил тщедушного за рукав, но тот вырвался и первым устремился в заросли.
Перед небольшим строением они остановились. Тщедушный снял навесной замок с подгнившей двери и зажег фонарь. Они шли по узкому, затянутому паутиной коридору, в конце которого была лестница с крутыми ступенями, ведшая в погреб. Фонарь осветил канделябр со свечными огарками и окно, наглухо закрытое ставнями, а потом выхватил из темноты покрывало, которым был накрыт какой-то длинный вытянутый предмет. Тщедушный испуганно отшатнулся.
— Ты уверен, что он действительно… — прошептал он.
— Если бы он был жив, мы были бы в курсе. Давай скорее!
Они откинули покрывало. Перед ними лежал окоченевший труп мужчины в брюках и рединготе, с прижатой к груди рукой. Глаза мертвеца были закрыты. Здоровяк ощупал одежду, порылся в карманах покойника. Достав бумажник, тут же в него заглянул, но там лежали только две купюры, которые он сунул себе в карман.
— Раздевать не будем.
— А башмаки?
— И что это даст? Я все обдумал, никто его не опознает.
Тщедушный возразил, перекрестившись:
— Это не по-христиански, вот так хоронить человека!
— Не по-христиански? А убивать вообще по-христиански? Держать его в этом тайнике по-христиански? Мы взялись за грязную работу, и теперь у нас один выход — закончить ее как можно скорее, иначе мы рискуем оказаться на тюремных нарах, где у нас будет достаточно времени, чтобы перебирать четки и благоговейно призывать на помощь Святую Троицу. Раньше надо было думать! И не забудь, ты сам затеял эту игру.
— Надо было запихнуть его в мешок, набить туда камней и бросить в пруд. Он бы утонул, и рыбы бы его сожрали.
— Не смеши меня! Это ведь не пираньи и не аллигаторы. Давай, доставай инструменты. Наш приятель бледен, и я его сейчас разукрашу. Но прежде всего — одеяние. Шевелись, подавай инструменты!
Тщедушный взглянул на подельника со смешанным чувством восхищения и отвращения. Но тот сурово повторил приказ, и ему пришлось повиноваться. Присев на корточки, тщедушный достал из первой сумки отрез сукна и расстелил его на земле. Затем вынул инструменты, разложил на ткани, и здоровяк принялся за дело. Тщедушный же поднялся, шепотом произнес: «Матерь Божия!» — и свернул пыльное покрывало.
Глава четвертая
9 сентября
Как ни жаль, но Жану-Пьеру Верберену не удалось отстоять свои права на хижину в Жантийи. Бренголо находил в ней приют с зимы до середины лета, не уставая благодарить приютившего его хозяина, а тот, верный своему обещанию, делился с ним собранным урожаем. Их повседневной пищей были сырые и вареные овощи, а импровизированный стол — сбитые вместе и положенные на две бочки доски — буквально ломился от даров земли.
Но настал день, когда сюда явились почтенные господа в костюмах, с гербовой бумагой и складным метром в руках. Когда с замерами было покончено, хозяин лачуги и бродяга расстались. Первый направился в Порт де Брансион, в меблированную квартирку, где он прозябал на жалкую пенсию бывшего переписчика, второй — просто в город. Он не пошел дальше XIII округа, чтобы как можно чаще навещать своего приятеля Жано, как он его называл. Удача ему сопутствовала, и, проведя несколько ночей под открытым небом, он наконец добрался до приюта на улице Жан-Мари-Жего, возле артезианского источника Бютт-о-Кай. Тем, у кого не было за душой ни гроша, подавали там краюху хлеба и миску похлебки. А за десять сантимов, которые раздобыть несложно, прося милостыню, можно было и попировать: поесть рагу, сосисок, макарон или батата. Клиентами таких приютов были не только нищие, но и рабочие, которым не доставало времени заниматься домашней стряпней. Ребятишки, жившие в этом самом убогом столичном квартале, могли помыться в приютской больнице, где их к тому же поили молоком, а также снабжали лекарствами и одеждой.
Некто Полен Анфер организовал раздачу бесплатного супа в бывшем здании театра на улице Мартен-Бернар, построенного из материалов, что остались после выставки 1889 года. Бреголо регулярно наведывался туда за похлебкой, которую им выдавали под девизом «Мы не должны отказывать беднякам в крошках хлеба, которые скармливаем воробьям».
Как-то Бренголо забрел в заброшенное поместье обувщика с улицы Комартен. И хотя от дома остались только стены и местами провалившаяся крыша, Бренголо счел это жилье роскошным. Он заложил дыры в стенах камнями, затолкал в оставшиеся щели соломы, и теперь ему оставалось соорудить печь и вывести наружу трубу.
— Я теперь богат! У меня свой замок! — хвастал Бренголо приятелю. Сообщив Жано адрес замка, он пообещал, едва все доделает, пригласить того на новоселье, поесть до отвала лапши.
— А пока пойдем промочим глотку в забегаловке на пустыре. Я угощаю!
Взобравшись на вершину холма, они увидели цыганский табор. Яркие повозки стояли полукругом. Из котелков, висевших над огнем, доносился аппетитный пряный запах мясного рагу. Смуглые стройные женщины стирали белье, лущили фасоль и раздавали подзатыльники ребятне. Мужчины с важным видом курили трубки. Старик плел корзину, прислонившись спиной к дереву, к которому был привязан ослик. Бренголо и его приятеля пригласили поужинать, и они согласились. Бренголо чувствовал себя в таборе, как дома. Жан Пьер Верберен, напуганный гортанным языком и грубыми манерами, немного оттаял, когда ему налили стакан самогона. Две девчонки в пестрых юбках сплясали перед ними, стуча, как в бубны, в пустые кастрюли.
— Подайте су на свадьбу, мсье!
— На свадьбу? Но вы же еще маленькие! — удивился Жан-Пьер Верберен.
— Ну, на понарошечную свадьбу, вон с ними! — Маленькие цыганки показали на двух мальчишек в узких брючках и огромных шапках.
— А ну-ка прочь отсюда, негодницы! — прикрикнула на них старуха, запахивая шаль на тощей груди. — Еще стаканчик, мсье?
— Почему бы нет? — оживился Бренголо. — Эх, Жано, вот это жизнь! Полная свобода! Твой дом там, где твоя повозка… и женщины! Да, женщины мне не хватает. Как устроюсь, подыщу себе какую-нибудь.
Выпив залпом третий стакан, Бренголо вспомнил о девушке Луизе, которая тридцать лет назад обучила его искусству любви и наполнила его жизнь смыслом, пока вдруг не выставила вон. Он все еще хранил в душе ее образ, но уже не мог вспомнить ни голос, ни черты лица. Еще помнил название деревушки на берегу речки… как же она называлась… Бенез?.. Да, кажется, Бенез. Ах, как страстно он обнимал Луизу, когда они отплывали подальше от берега на лодке! Она была очень красива, но в деревеньке слыла то ли колдуньей, то ли сумасшедшей. А однажды утром она вдруг захотела погадать ему по руке.
— Тебя, мой блондинчик, не заарканит ни одна женщина. Ты увидишь мир, а потом состаришься и окажешься на небесах. Если бы ты знал, как там чудесно!
Покидая приют Монморийон, Жан-Батист Бренгар еще не был Бренголо. Ему было всего четырнадцать. Он был безусым коротко стриженным юнцом, со взглядом, полным любопытства, когда отправлялся в Шательро, где собирался поступить в ученики к столяру. Но после приюта с его казарменной дисциплиной учиться парню не хотелось.
— Ах! Это было чудесное время, Жано. В любом городке я легко находил работу. Летом ночевал на лугу или в лесу на берегу ручья. Голодать мне не приходилось: уж кусок хлеба с сыром у меня был всегда. А зимой я прятался в амбарах или зарывался в стог сена.
— Неужели у тебя никогда не было желания остепениться?
— Было! Только я не люблю об этом вспоминать. Ее звали Луиза, она была стегальщицей обуви. Темноволосая, пухленькая. Это она подарила мне этот ножик. Видишь, я даже вырезал на рукоятке сердечко.
Глаза Верберена увлажнились.
— Моя Монетт… мне ее никто не заменит… Она была такая нежная… Почему она меня покинула?
— Не переживай, Жано, как только подцеплю бабенку, я с тобой поделюсь! — пообещал Бренголо. — Знаешь что, приходи послезавтра, одиннадцатого. К пяти часам. Я приготовлю царский ужин!
— Сельдерей с пармезаном несъедобен, — заявил Виктор.
— Зато куриные окорочка по-римски — просто объеденье! — отозвалась Таша. — Причем после плотного ужина тебя почему-то не тянуло в сон, и мне ты тоже не давал заснуть, — заметила она, вытянувшись рядом на развороченной постели. — Настоящее поле битвы, правда, Кисточка? — спросила она у кошки, свернувшейся клубком на подушке на полу.
Они расправили простыни и снова легли, но прежде Виктор запер кошку на кухне. Он не знал, что она научилась, подпрыгивая, открывать дверные ручки, а это значило, что как только хозяева уснут, готова была пробраться в спальню.
Они пожелали друг другу спокойной ночи, но сон все не шел — каждого терзали свои проблемы.
Таша продолжала задаваться вопросом о том, когда наконец у них будет ребенок. И если с ребенком ничего не выйдет — расстанутся они или нет. Она гнала эти мысли, придумывая иллюстрации к «Эмалям и камеям» Теофиля Готье, заказанные ей одним швейцарцем, представляла, как оформила бы «Вариации на тему “Венецианского карнавала”»: под высокими сводами, на ступенях лестницы, танцуют под дождем из блесток Арлекин, Коломбина и Пьеро, на которых равнодушно смотрит случайный прохожий в рединготе и цилиндре. Видение растаяло и уступило место воспоминаниям о посещении салона Общества французских художников: «Мадам Дождь» — женщина в вуали, рядом с горгульей Собора Парижской Богоматери, «Литургия в церкви Капри», «Выпуск голубей на борту миноносца в Ла-Манше», или «Пастушка из Ролльбуаза». Вот что нравится публике. Так стоит ли удивляться, что ее картины не покупают? И все же ей грех жаловаться, разве сэр Реджинальд Лимингтон не приобрел ту, где изображена ярмарка, и в толпе бродят легендарные исторические личности? Он отправлял всех своих знакомых англичан, прибывавших в Париж, к ней в мастерскую на улицу Фонтен, и двое из них уже стали ее постоянными покупателями. А между тем многие коллеги Таша были в гораздо худшем положении.
Она переживала из-за того, что, много лет занимаясь живописью, так и не обрела известность. Остался ли у нее шанс добиться успеха? А вдруг Виктору все это надоест? Нет, конечно, ведь он ее любит! А она терпит его приступы ревности и безумные полицейские расследования. Конечно, так и будет и впредь. Ведь они созданы друг для друга.
«В следующем году мне исполнится тридцать. Это — рубеж. И почему мне не достался дар Камиля Писсарро?»
Она закрыла глаза, и перед ее внутренним взором встали нарядные руанские крыши, которые восхитили ее в галерее Дюран-Рюэля.
[630] Щелкнула кухонная дверь — это Кисточка бесшумно прокралась в спальню, — и Таша наконец провалилась в сон.
Виктор пребывал на грани сна и бодрствования. Он тяжело переживал кончину Поля Верлена. Бедный Лелиан, разделявший с уличной девкой
[631] убогое жилище на улице Декарта, скончался в январе. Ужасная судьба!
«А во мне, изнеженном комфортом, есть ли хоть искра священного огня, горевшего в душе поэта и озаряющего работы Таша? Талантливы ли мои фотографии? Или образ Таша на велосипеде достоин лишь семейного альбома?»
Виктор наконец решился воспользоваться аппаратом «Pocket Kodak», подаренным ему Таша 14 января на тридцатишестилетие. Он был горд и счастлив, что два его увеличенных фотоснимка были выставлены в помещении парижского фото-клуба, в галерее на Елисейских полях. И тем не менее его снедали сомнения. Портреты андалузского кузнеца и пастушки из Ларзака, те, что он отобрал для выставки из множества снимков, сделанных во время восхитительных летних каникул с Таша, вряд ли могли соперничать с «Лозерским извозчиком», «Современной Мадонной» и «Ястребами в гнезде». Виктор страстно желал научиться использовать все возможности фотоаппарата. Он уже закрыл глаза, и в тот момент, когда кошка укладывалась клубочком у него на животе, сон перенес его на парижский бульвар. Таша шла рядом, они разглядывали газовые фонари и прохожих, толпившихся у лотка уличного торговца. Черно-белый сон стал цветным, появился звук; ветер раскачивал замшелые ветви каштанов, словно дергал за ниточки огромных марионеток.
10 сентября
Первые восемь месяцев 1896 года были богаты природными катаклизмами. Более сорока гроз обрушилось тогда на столицу. 26 июля парижане пережили целых четыре грозы, а ливень с градом нанес значительный ущерб Ботаническому саду.
Но в тот четверг, 10 сентября, ничто не предвещало беды.
Бренголо проснулся, когда от голода подвело живот. Он зажег два фонаря, которые стащил ночью на стройке, и сварил на керосинке кофе. Представив себе сочное жаркое с картошкой, судорожно сглотнул слюну.
— Вот незадача: в брюхе пусто и мне нечем его набить. Ведь коли есть хоть корочка хлеба, ты вроде и не голоден.
Было еще слишком рано для благотворительных обедов, и он решил стянуть кувшинчик молока из тех, что молочник ставил возле дверей домов. Усталые ноги нещадно болели, но пришлось пройти довольно далеко, на площадь Италии. В своем квартале, среди развалюх с окнами, затянутыми промасленной бумагой, он вряд ли раздобыл бы себе еду. Потому, перекинув через плечо сумку, в которой лежала пустая бутылка, Бренголо доковылял до площади Италии и, не замеченный консьержем, потихоньку проскользнул в один из домов. Там он отлил молока из кувшина и направился в обратный путь.
Проскользнув в парк через прореху в заборе, скрытую зарослями крапивы и жимолости, он пробрался в чащу, где притаился его дворец. Там он выпил полбутылки молока, порылся среди старых удочек, выбрал одну и открыл жестяную банку с червями.
Бренголо подошел к пруду, мимоходом погладив по щеке потрескавшуюся Деву Марию.
— Ну что, красавица моя, помоги мне поймать пару рыбешек. Карпик меня бы вполне устроил, я продал бы его матушке Аделаиде и на пять франков купил бы добрый кусок говяжьего филе. Ты не захотела помочь мне с силками… Но рыбы-то тут полно.
Дева безмолвствовала, зато ворона согласно закаркала. Бренголо перекрестился и посмотрел на другое божество, царствующее посреди пруда — хотя было бы правильнее назвать эту статую чудовищем, а не божеством, настолько устрашающим было ее лицо. Бренголо питал к ней отвращение, но вел себя почтительно, опасаясь, что в противном случае она принесет ему несчастье.
— Ну и видок у тебя… Не то человек, не то волк… но ты не думай, я вовсе не хотел тебя оскорбить… — Он вздохнул. — Пожалуй, не такой уж ты и урод, старина. В любом случае, ты не помешаешь мне поудить рыбку. Я вижу там, в воде, какое-то движение, и чутье подсказывает мне, что меня ждет неплохой улов!
Он опустился на четвереньки и вгляделся в мутную воду, где отражались пролетавшие над прудом птицы. А вот и водомерки заскользили по поверхности.
— Наверное, там есть и глубокие места. А ты, — снова обратился он к статуе, — напоминаешь мне водяного. Нас пугали таким в приюте, якобы он хватает за ноги мальчишек, которые уходят купаться без спроса, и утаскивает на дно… К черту этот вздор, пора заняться делом! — Он взял червяка и стал старательно нанизывать его на крючок. — Не получается! Ну и кривые же у меня руки!..
Вдруг сильный ветер зашумел в кронах деревьев, и над парком повисли грозовые тучи.
— Пора закругляться, похоже, сейчас пойдет дождь, и сильный!
Бренголо не знал, что несколькими мгновениями раньше над центром Парижа зародился ветер. Усиливаясь с каждой минутой, он поднимал с земли опавшие листья. Устремился на улицу Мабийон, к Новому мосту, к воротам де Пантен через Шатле, Репюблик и Бютт-Шомон. Уже собираясь пересечь Сену, он не смог устоять перед искушением и дохнул в направлении Ботанического сада. А потом, настоящим ураганом, обрушился на поместье на улице Корвизар.
Пригнувшись под его резкими порывами, Бренголо огляделся в поисках укрытия. Между кустов орешника была небольшая канавка, и он поспешил туда. Он повидал на своем веку немало бурь, поэтому та, что трепала сейчас парк, его не испугала. Он лег в канавку, свернулся калачиком и приготовился заснуть, но громкий треск ломавшихся веток мешал ему. Бренголо на всякий случай обеими руками ухватился за самую толстую ветку. В этот момент торнадо достиг пруда, и перед Бренголо предстало фантастическое зрелище: воду, рыб, кувшинки завертело и подняло в воздух в огромной воронке. Казалось, какое-то гигантское существо через огромную соломинку пытается втянуть в себя пруд и всех его обитателей. А статуя словно ожила. Бренголо похолодел, увидев, как она зашевелилась на пьедестале и склонилась, словно приветствуя кого-то, но тут же верхняя ее часть обрушилась: торс покатился к берегу, руки отвалились, и из обрубков потекла вязкая зловонная жижа. Бренголо казалось, что настал конец света. Он прижался к земле, обхватив руками голову, но потом сообразил, что его может придавить упавшим деревом, и вскочил.
Казалось, сад околдовали злые чары. Деревья были изломаны, по земле бежали потоки воды, на мокрых листьях фосфорически светились какие-то зловещие искорки. А вдруг это они вдохнули в статую жизнь? Надо бежать! Но куда? Его прибежище от таких мощных ударов могло вообще распасться на куски. Все вокруг гудело, стонало и завывало, резкие порывы ветра сбивали несчастного с ног. Он присел на корточки, не в силах отвести взгляд от обломков ужасной статуи. Ему хотелось оглохнуть и ослепнуть!
И вдруг ветер резко стих. Над парком еще висели мрачные грозовые тучи, но бледный луч солнца прорвался сквозь них и осветил акации на берегу пруда. Мимо Бренголо проскользнула ондатра. Решив, что опасность миновала, он встал и отряхнулся, но тут ливень и ураган обрушились на сад с новой силой, и рядом с Бренголо, чуть не задев его, на землю с треском упала толстая ветка.
— Да это просто какая-то казнь египетская! — воскликнул он и поднял голову к небесам. — Эй, вы там, наверху! Вы ошиблись, я не фараон!
Он опустился на землю, голова у него
кружилась. Пережитые невзгоды оставили его, отпустив в мир видений. Не чувствуя тела, он воспарил над землей…
Через некоторое время Бренголо очнулся. Все тело у него затекло. Он шевельнулся, чихнул, перекатился на спину и увидел над собой безмятежно синее, без единого облачка небо. Неужели ураган ему привиделся? Нет, он еще не сошел с ума — это подтверждала лежавшая неподалеку береза, вырванная из земли с корнями. Но это было не самое худшее. Бренголо наткнулся на что-то носком башмака, посмотрел, что это, и застыл от ужаса: собачья голова статуи уставилась на него пустыми глазницами. И хотя она лежала отдельно от изуродованного тела, Бренголо стало не по себе: ему показалось, что поверженное чудовище вот-вот оживет. Он затаил дыхание и попятился. Подойдя к пруду ближе, Бренголо с изумлением увидел, что уровень воды в нем понизился на две трети, и было видно, как на дне бьется уцелевшая рыба.
— Вот это да! — обрадовался Бренголо, тут же позабыв все свои страхи. — Эх, жаль, нет с собой сачка! Придется обойтись терпением, хитростью и смекалкой!
Он огляделся: поблизости был чудом уцелевший куст дикой смородины. Бродяга отломал раздвоенную ветку, снял рубаху. Оставшись в одних штанах, начал безудержно чихать. Бренголо привязал рубаху к ветке, соорудив из нее что-то вроде верши, и вошел в воду, осторожно обходя обломки статуи, а потом опустился на четвереньки прямо в грязь, сея панику среди рыб.
— Это ж надо — достаточно нагнуться, и вот он, чудесный улов! Жаль, шарахнуло по голове, реакция не та. Ох, какая там, подальше, с золотистой чешуей… Да это карп!
Он гонялся за добычей добрую четверть часа, карп сопротивлялся гораздо серьезнее, чем можно было ожидать. Это была славная схватка. Когда Бренголо прижал к груди рубаху с рыбиной, он закоченел так, что пальцы у него не разгибались, а кожа посинела.
— Придется довольствоваться этим, не то заработаю пневмонию. Красавчик! Жирный, как щука. Что ж, за остальными можно вернуться позже, если, конечно, они не подохнут в этой маленькой лужице…
Одеваясь, он с опаской поглядывал на обломки статуи, готовый удрать, если та возобновит попытки пошевелиться.
— Вот проверну сделку с рыбой, приду и раздроблю тебя на мелкие кусочки!
Юбка, пальто, чулки и туфли Мишлен Баллю так запачкались, будто она побывала в трясине. План кузена сводить ее в парижские катакомбы удался. А поход в Оперу было решено перенести на четверг. Мишлен не сомневалась, что не скоро забудет груды черепов вдоль стен парижских катакомб. Гордясь тем, что ему выдали в префектуре пропуск, Альфонс провел ее сквозь толпу туристов, предвкушавших жуткое зрелище подземного некрополя. Ей не слишком улыбалась перспектива бродить по лабиринту, но разве могла она отказать любимому кузену? И она утешила себя мыслью, что это гораздо лучше, чем если бы они, как планировали раньше, отправились в Оперу: в тот самый день, 20 мая, огромная люстра не удержалась на крюке, сорвалась и упала в зал, прикончив на месте одну из зрительниц.
Подходя к дому на улице Сен-Пер, Мишлен заметила какую-то женщину, украдкой проскользнувшую в дверь, хотя в столь поздний час книжная лавка была уже закрыта.
— Ну да, конечно! Я давно это подозревала. С тех пор как мсье Мори живет один, он вряд ли избегает женского общества! Неужели они думали, что я ничего не замечу? Не выходят из комнаты, опасаясь, что я их выдам… Да если б я захотела, давно бы оповестила об этом весь город, но я не скажу ни слова, ведь мать мадам Таша несомненно лучше, чем прежние подружки мсье Мори.
Кэндзи встречал Джину Херсон на пороге. Он обнял ее и поцеловал в губы, а его пальцы уже расстегивали ее корсаж.
— Не торопись, дай мне отдышаться, — шепнула она. — Экипаж довез меня только до бульвара Сен-Жермен, пришлось идти пешком… Что случилось? У тебя неприятности? Твое письмо меня напугало, ведь сегодня еще только четверг!
— Знаю, — прошептал Кэндзи. — Я больше не мог ждать, так соскучился…
Он с трудом перенес разлуку с Джиной, которая почти всю прошлую зиму провела в Кракове у своей старшей дочери Руфи и новорожденного внука Маркуса. «Неужели я стал сентиментален, — спрашивал себя Кэндзи, — оттого, что от меня съехали Айрис, Жозеф и Дафнэ?» Теперь в его полном распоряжении были две квартиры, и он мог позволить себе принимать Джину гораздо чаще, и каждый раз набрасывался на нее, как голодный на еду.
Он даже приобрел широкую двуспальную кровать, но оставил все по-прежнему в своей аскетической спальне, где на дощатом настиле лежали лишь циновка, деревянный валик вместо подушки и тонкое хлопчатобумажное одеяло. Он спал там, когда был дома один, чтобы оставаться в форме.
Джина не решалась показываться с Кэндзи на людях. Конечно, она знала, что близкие догадались о том, что происходит между ней и Кэндзи, и не стыдилась этого, но ей не хотелось обыденной семейной жизни. Она уже познала ее со своим мужем Пинхасом, который жил теперь в Нью-Йорке. Сознание того, что она снова желанна, воодушевляло ее всю неделю и помогало забыть о том, что ей далеко за сорок.
— Твоя экономка дома?
— Я дал ей выходной.
Кэндзи нанял экономку в апреле, он отдыхал от деспотичной Эфросиньи. Мели Беллак рекомендовала ему тетушка мсье Шодре, аптекаря с улицы Жакоб. Шестидесятилетняя вдова родом из Брив-ля-Гейард оказалась скромной и работящей. Правда, у нее была привычка постоянно напевать:
Будет ли это, будет ли, девочка,
Будет ли длиться? Долго ли, коротко?
Пока будут деньги, будут и танцы,
Пока будут деньги, девочка спляшет.
[632]
Песенка оказалась привязчивая, и Кэндзи часто пел ее Дафнэ, когда приходил ужинать на улицу Сены. Он так привык к лимузенскому диалекту, что иногда в разговоре путал гласные звуки, чем вызывал удивление клиентов и насмешки Жозефа.
Еще одним недостатком новой экономки, с точки зрения Кэндзи, было увлечение блюдами из картофеля, яиц и фарша — вкусными, но слишком тяжелыми для него.
Однако во всем остальном он был доволен Мели — краснощекая, с черными виноградинами глаз и носом картошкой, в чистеньком светло-сером платье, она всегда была весела и приветлива.
— В таком случае, раз уж мы тут одни, я бы хотела принять ванну, — сказала Джина и, прежде чем он успел ответить, высвободилась из его объятий и поднялась по винтовой лестнице.
Ванная располагалась в дальнем конце квартиры. Джина постояла перед зеркалом, любуясь своим нарядом, который Кэндзи подарил ей в начале весны: темносиним барежевым
[633] платьем с высоким воротником, вельветовым палевым жакетом и серой бархатной шляпкой, украшенной жемчугом.
«Ты уже не в том возрасте, чтобы вертеться перед зеркалом, — сказала она себе. — Хотя у Таша еще нет детей, младшая дочь уже сделала тебя бабушкой!»
Она пустила воду и начала раздеваться, стараясь не смотреть на фотографию, стоявшую на мраморной полке. На ней была изображена молодая брюнетка и очень похожий на нее мальчик лет двенадцати. Подпись гласила: «Дафнэ и Виктор. Лондон, 1872 год».
Джина ревновала Кэндзи к этой Дафнэ, и тот факт, что соперницы давно уже нет в живых, ничего в ее чувствах не менял.
«Мог бы и убрать отсюда это фото», — подумала она.
— Можно посмотреть, как ты раздеваешься? — раздалось у нее за спиной.
Джина вздрогнула и смущенно прикрыла грудь нижней юбкой, которую только что сняла.
— Надеешься увидеть что-то вроде «Невинных забав инфанты»? Вряд ли я могу составить конкуренцию знаменитой Фьямметте…
[634] У меня не хватает смелости выставлять свое тело напоказ!
— Забудь о ней! — сказал Кэндзи и сам стал ее раздевать. Правда, задача оказалась сложнее, чем он предполагал. В конце концов Джине пришлось прийти ему на помощь, и вот наконец последние предметы туалета скользнули на пол.
— Вода сейчас польется через край! — спохватился Кэндзи. — Какое мыло ты предпочитаешь, лавандовое или жасминовое?
— Постой-постой! Думаешь так легко отделаться? Теперь моя очередь.
До поездки в Краков собственная смелость шокировала бы Джину, но из Польши она вернулась свободной от предрассудков. По пути в Париж, в поезде, какой-то усатый господин бросал на нее красноречивые взгляды, а на перроне ее ждали пылкие объятия Кэндзи. И если у нее иногда и случались приступы стыдливости, ей уже не сложно было их побороть.
Она стянула с Кэндзи пиджак и расстегнула рубашку. Он сам снял остальное, и они вместе шагнули в воду. Постояли немного, держась за руки и любуясь друг другом. Потом их тела переплелись, и у Кэндзи вдруг промелькнула неуместная мысль о том, что после таких водных упражнений он бы с аппетитом съел булигу
[635] Мели Беллак.
— Я так счастлива! Наконец-то мои Белинда и Шерубен обручились!
Затянутая в корсет, в красной юбке, Рафаэль де Гувелин, обмахиваясь веером и едва сдерживая слезы, смотрела на своих собачек, сидевших на усыпанном флердоранжем возвышении. Оставшись вдовой, она посвятила себя собакам, которые заменили ей детей. Она заказывала им у модного портного Ледубля пальто для путешествий, резиновые сапожки, пляжные туалеты из кремового батиста и матроски с вышитыми на воротниках якорями.
Роль шафера исполнял позаимствованный у ювелирши с улицы Колизея йоркширский терьер с длинной шелковистой шерстью.
— Невеста похожа на Клео де Мерод,
[636] вы не находите? — спросила Рафаэль де Гувелин, обращаясь к гостям.
— На воспитанницу Национальной музыкальной академии? Сколько шумихи подняли в Париже из-за этой интриганки! Ее называют прелестной и соблазнительной, а между тем ходят слухи, что она носит прическу, как у красавиц с картин Боттичелли, чтобы скрыть оттопыренные уши.
Гостей на свадьбе было немного. Рафаэль де Гувелин пригласила Виктора и Таша, поскольку хотела заказать мадам Легри свой портрет.
Завтрак был накрыт в роскошном салоне, декорированном в серебристо-зеленых тонах, с мебелью в стиле модерн и множеством прелестных вещиц работы Лалика и Галле, которые хозяйка имела обыкновение приобретать в художественной галерее Самюэля Бинга.
[637]
— Дорогая моя, у вас трехметровые потолки! — заметила слегка завистливо Бланш де Камбрези, которую в книжной лавке «Эльзевир» с легкой руки Жозефа за глаза звали Козой.
Виктора раздражала абсурдность ситуации, в которой он оказался. Он отошел к книжному шкафу и стал рассматривать книги, надеясь угадать, что намерена заказать им мадам де Флавиньоль.
Таша чувствовала себя не лучше. Она сослалась на то, что ей надо припудриться, поднялась по лестнице, украшенной гобеленами и комнатными растениями, и случайно попала в спальню, где стояла кровать из палисандрового дерева с позолоченными бронзовыми статуэтками. К спальне примыкал будуар с раскладным диваном. При виде его Таша подумала, что, вероятно, покойный Октав де Гувелин страдал бессонницей и нередко покидал супружеское ложе. На круглом столике лежала пачка перевязанных ленточкой газет и распечатанная почта. Одна из карточек привлекла внимание Таша. Она взяла ее в руки и прочитала. Нет, этого не может быть! Это не он! Быть может, это приглашение прислано давно, несколько лет назад? Но дата на карточке не оставляла никаких сомнений:
он прибыл в Париж, чтобы принять участие в празднествах по случаю приезда Николая Второго, и пробудет здесь до начала октября. Таша медленно положила карточку на место. Она не готова была встретиться с прошлым, о котором так долго старалась забыть.
Глава пятая
11 сентября
Это был знаменательный день для Бренголо: он ждал к ужину Верберена. Ранним утром Бренголо отправился на авеню де Шуази. Здесь было множество магазинов, магазинчиков и лавок, а у витрин со сластями и игрушками толпилась ребятня. Бренголо поминутно отворачивался, борясь с соблазнами. Он уже жалел, что обменял своего карпа на продукты вместо того, чтобы продать, но теперь поздно — что сделано, то сделано. Ему повезло: когда он со смиренным видом занял свое место на паперти достраивающейся церкви Святой Анны в Бютт-о-Кай, туда прибыл свадебный кортеж, и он получил столь щедрую милостыню, что теперь мог устроить для приятеля настоящий пир. Бренголо купил у старьевщика колченогий стол и выпросил у торговца фруктами пару деревянных ящиков, побольше и поменьше — вот вам гостиная!
Вернувшись, он поставил на импровизированный стол бутылку кислого вина, — не украденную, а честно купленную. Ведь когда приглашаешь друга поужинать, не стоит скупиться. Потом вырыл в земле достаточно глубокую ямку, чтобы в ней можно было развести огонь: к приходу Жано угли будут готовы, и он поджарит на решетке, которую стащил на стройке, сосиски. А еще сварит картошку. Бренголо довольно потирал руки. Вода в котелке, подвешенном над костром из хвороста, еще не закипела, и он мог позволить себе немного передохнуть.
Он открыл свою любимую «Песнь нищих» наугад и прочел вслух, четко выделяя слоги:
И — ох! — вот он, кудрявый,
Достал свой наточенный нож…
Послышался шум. Бренголо поднял голову от книги и негромко окликнул:
— Жано?
Ответом ему была тишина. Бренголо снова уткнулся в книгу.
И — ах! — бедняжка Марго,
Ей в шею вонзили тот нож…
Раздался треск. Бренголо вновь прислушался, гадая, действительно ли что-то слышал или ему почудилось. Потом обернулся, но не увидел ничего, кроме дворца-развалюхи, кустов и деревьев. «Наверное, это потрескивает огонь», — успокоил он себя и уже хотел продолжить чтение, когда снова что-то услышал.
— Эй, дружище, это ты? — громко крикнул он.
Кто-то приближался, насвистывая. Бренголо знал эту мелодию, он выучил ее в приюте Монморийон. Перед его мысленным взором тут же возникла столовая с решетчатыми окнами и изможденное лицо сестры Марии Доминики, сидящей у фисгармонии. Тут из тумана вышел человек, и когда пламя вспыхнуло ярче, Бренголо успел различить искривленное гримасой лицо и руку, замахнувшуюся молотком. Он дернулся, пытаясь увернуться от удара, но не успел: крик замер у него на губах, голову пронзила резкая боль. Бренголо кулем упал лицом вниз. Раскрытая книга осталась лежать в траве.
— Монетт, милая Монетт… Надеюсь, малыш Шарло предупредит Бренголо, и он на меня не обидится. Он, небось, с ног сбился, бедолага, готовя угощение…
Жан-Пьер Верберен положил портрет своей супруги на тумбочку. Ее не стало три года назад. Он скучал по ней, особенно вечерами. Не то чтобы они много разговаривали, но ему достаточно было просто сидеть рядом, смотреть, как она строчит на машинке, и знать, что он принадлежит ей, а она — ему. Они вместе вырастили сына, и им не нужно было говорить друг другу о любви: когда их глаза встречались, в них можно было все прочесть… Это как мелодия, слов которой не знаешь, но которая постоянно вертится у тебя в голове…
Жан-Пьер отказался от квартиры на улице Сен-Поль, где стало слишком просторно для одного. Сын Андре жил в Лионе, писал нечасто, хорошо если раз в год, и все обещал приехать…
Жан-Пьер Верберен снял в квартале у Брансионских ворот за сто двадцать франков в год очень скромную, но вполне приличную меблированную квартирку, состоявшую из крошечной спальни и кухоньки без вентиляции. Его пенсии едва хватало на оплату жилья и еду. Когда он возвращался домой, ему в нос бил зловонный запах на лестнице. Уборная находилась в конце темного коридора, стены которого были размалеваны непристойными рисунками, а за водой приходилось ходить к колодцу, за двести метров от дома.
Он встал, опершись на спинку стула, и с трудом поплелся к окну. Его опять скрутил приступ ревматизма, поясница мучительно ныла. Жан-Пьер всю жизнь проработал делопроизводителем: весь рабочий день он сидел в кабинете среди бумажных завалов и гор картонных папок. Мозоль на искривленном среднем пальце, наверное, не пройдет уже никогда. Интересно, можно ли сосчитать, сколько букв он вывел каллиграфическим почерком, сколько поставил точек, запятых, дефисов и тире? Наверное, миллион…
Каждую неделю, в выходные, они с Монетт ездили в Жантийи в свой садик, вскапывали грядки, что-то высаживали. К вечеру они падали от усталости, но как приятно было потом привозить домой корзины овощей и цветов!
«Только бы Шарло не заблудился», — подумал Жан-Пьер. Он отправил к Бренголо старшего сына своей соседки мадам Люсетт. Она работала на обувной фабрике обметчицей и у нее было трое детей. Хотя двенадцатилетний Шарло уже подрабатывал резчиком кожи, им никак не удавалось свести концы с концами. А мсье Люсетт почти не выходил из тюрьмы. В последний раз его посадили за то, что, не уплатив налог, он занимался продажей шнурков и ремешков для туфель. Обвинение гласило: нарушение правил торговли и оскорбление представителей закона, приговор — четыре месяца заключения в Пуасси. В семейном бюджете мадам Люсетт вновь образовалась брешь. Жан Пьер Верберен знал, каково им приходится, и платил Шарло за мелкие услуги.
Бренголо очнулся: все вокруг было как в тумане. Теперь, он лежал на спине, потому что перед глазами у него были листья какого-то кустарника. Пахло анисом. Где-то далеко бил колокол. Бренголо почувствовал, что озяб. Вдруг послышался шепот. Медленно, с большим трудом он повернул голову и только тогда осознал, в какой странной позе лежит: одна нога подтянута почти к самому подбородку, левая рука вывернута за спину. Он попытался пошевелиться, и его пронзила такая резкая боль, что в глазах потемнело. Что произошло? Где он? В висках пульсировало. Бренголо увидел светлое прямоугольное пятно примерно в метре от лица. Книга? Он начал осторожно раскачиваться, пытаясь высвободить руку. Наконец его ладонь, испачканная липкой горячей жидкостью, струившейся из рукава, легла на страницу. Голова у него кружилась, мысли путались. Невероятным усилием ему удалось заткнуть книгу за пояс. Перед тем как потерять сознание он увидел протянутые к нему руки. И почувствовал, что словно вырывался из собственного тела и плывет среди яркого света… Ему снова было двадцать, он шел по лугу… Луиза… Она говорит: «Посмотри на небо! Какая красота!» Она права. Это огромное поле пшеницы, усыпанное маками, действительно великолепно. Вон там, совсем рядом, у реки, показалась фигура с голубым нимбом над головой… Это Луиза, и она идет ему навстречу.
Человек бросил неподвижное тело Бренголо на опавшие листья, насвистывая, наклонился и прижал два пальца к сонной артерии. Никаких признаков жизни. Этот пронырливый оборванец никому больше не доставит проблем.
Глава шестая
13 сентября
Мишлен Баллю решительно взялась за дверной молоток семейного пансиона, где жил Альфонс: они с кузеном больше не пойдут на прогулку ни в промышленный район, ни на кладбище, ни тем более в музей. Зато она охотно согласится пройтись вдоль витрин «Самаритена»,
[638] где среди новинок осенне-зимнего сезона приглядела себе чудесное платье из мохера песочного оттенка и без пышных рукавов — в модном стиле а-ля рюс.
В дверях появилась Катрин, при виде мадам Баллю любезная улыбка на лице служанки сменилась выражением крайней досады. «Опять пришла эта зануда», — думала Катрин, провожая посетительницу к кабинету хозяйки.
Мадам Арманда Симоне гадала на картах. Ее преследовал бубновый король, и она подозревала, что это учитель Фендорж.
— Здравствуйте, мадам, я пришла к Альфонсу.
Мадам Симоне ответила легким кивком.
— К сожалению, мсье Баллю не появлялся тут со вчерашнего дня. Мне хорошо известно, что он ведет беспутную жизнь, но до сих пор в таких случаях он меня предупреждал. Впрочем, я о нем не беспокоюсь, он наверняка у некоей Люси Гремий, парикмахерши с улицы Антрепренер.
Мишлен Баллю от возмущения чуть не выронила сумочку.
— Это переходит все границы! Мы с мсье Баллю должны были вчера ехать в Руан, я откладывала деньги на это путешествие с самого Рождества! Билет третьего класса, к вашему сведению, стоит целых двенадцать франков! Но кузен позвонил мне в книжную лавку «Эльзевир» и сказал, что все отменяется. Я расстроилась, но он обещал мне взамен прогулку по Парижу. Я пришла, а его нет!
— В котором часу он звонил?
— Было почти десять, я уже готова была отправиться на вокзал Сен-Лазар. Мы бы вернулись только после полуночи, но зато какое бы получили удовольствие…
— За ним пришла женщина.
— Какая? Парикмахерша? Ну, он у меня получит!
— Нет, та, что приходила вчера, мне не знакома. Но мсье Баллю вел себя с ней как со старинной приятельницей.
— Опишите ее! — потребовала консьержка.
Арманда Симоне не привыкла, чтобы с ней разговаривали в таком тоне. Она нарочно выдержала долгую паузу, поправила кочергой поленья в камине и только потом соизволила ответить:
— Среднего роста, волосы наверняка крашеные, терпеть не могу этот вульгарный золотисто-каштановый цвет! Совершенно заурядное лицо.
— Ее имя?
— Что-то вроде Пийош… Черт! Не могу вспомнить… Амандина, Альбертина… Судя по всему, она занимается торговлей, мне сказали об этом мадам и мсье Дюссо, они видели мсье Баллю и его спутницу, когда выходили из дома. Надо думать, товар у этой торговки привлекательнее, чем ее внешность. Никогда бы не поверила, что такой видный мужчина, как мсье Баллю, мог ею увлечься. Хотя, если поразмыслить, парикмахерша, у которой он торчит по воскресеньям… Кстати, вы не задумывались, почему он перенес ваши прогулки на будние дни?.. Так вот, эта Люси тоже довольно вульгарна…
— Альбертина Пийош… Или может, Александрина Пийот? — воскликнула Мишлен Баллю.
— Да, кажется, так. Значит, вы ее знаете?
Но вопрос мадам Симоне повис в воздухе — Мишлен Баллю выбежала вон, мысленно проклиная Виктора Легри. Ведь именно он познакомил ее дорогого кузена с этой отвратительной торговкой!
— Если Альфонс с ней крутит, я ему устрою, этому мсье Легри! — проворчала консьержка.
14 сентября
Морис Ломье трижды прошелся по двору, собираясь с духом, и уже занес руку, чтобы постучать, но передумал. После того как в 1894 году Виктор Легри оказал ему серьезную услугу, их отношения были вполне сносными, но Ломье не мог забыть Виктору, что тот когда-то отнял у него прекрасную Таша.
«Он чертовски ловко проводит свои расследования и самоотверженно искал в свое время Лулу,
[639] но при этом слишком самодоволен. Фотограф-дилетант, который строит из себя мастера! И все же он, наверное, единственный, кто согласится одолжить мне денег. Так что долой сомнения!» — решился Ломье и постучал.
Вышла Таша, одетая по-домашнему просто: в легкую длинную блузу, из-под которой виднелась нижняя юбка, с распущенными волосами — и Ломье отметил про себя, что в такой одежде она еще краше.
— Морис! Какой сюрприз! Вы к Виктору? Он бреется, сейчас я его позову… — Она хотела направиться в ванную, но художник сжал ее локоть.
— Минутку, ласточка, позволь мне побыть хоть минутку с тобой наедине. Ты хорошеешь с каждым днем!
— Дорогой! — крикнула Таша, мягко высвобождаясь. — К тебе пришли!
Морис Ломье разочарованно вздохнул. Услышав громкое мяуканье, опустил взгляд и увидел, что о его черные брюки трется кошка.
— Чудесно, теперь я буду весь в шерсти! — пробормотал он, и в этот момент к нему вышел Виктор.
— Ломье! Какими судьбами? Вы уже завтракали? Хотите кофе?
Они прошли на кухню, где Таша уже готовила для них кофе.
— Как поживает Мими? — вежливо поинтересовался Виктор.
— Она передает вам привет. Если позволите, я стащу у вас для нее один круассан. Мими редко ест досыта, бедняжка.
— Что вы говорите?! — воскликнула Таша.
— Чистую правду, моя красавица! Простите за фамильярность, Легри. Вы, должно быть, уже забыли, что удел живописцев — пустой кошелек.
— Но вы, кажется, не так давно были на пути к успеху. Помните, вы показывали мне наброски к портрету Жоржа Оне?
[640] — возразила Таша.
Морис Ломье и Виктор искоса поглядывали друг на друга. Виктор вертел сигарету между пальцами.
— Вы в затруднительном положении, Ломье? Двадцати франков достаточно?
Тот поначалу отказался, но когда Виктор протянул деньги, живо спрятал их в карман.
— Увы, пристрастия меняются так быстро. Мой стиль письма наскучил господам литераторам и светской публике. Они считают его слишком академичным… И вот, извольте, я снова не у дел. — Ломье стряхнул крошки с рукава и поднялся. — Благодарю вас, верну как только смогу. О, кстати! — Он достал из кармана и вставил между кофейником и чашкой два приглашения. — Вы непременно должны посетить эту выставку. Ваш покорный слуга тоже внес свой скромный вклад. Там будет представлена акварель, масло, скульптура, в том числе работы Родена. Открытие послезавтра, в кафе «Прокоп», в семь вечера.
Таша пробежала глазами приглашение, в котором было перечислено несколько имен. Опять он!
— До скорого! У меня назначена встреча с приятелем на площади Сен-Сюльпис, — бросил Морис Ломье и направился к выходу.
— Подождите меня, я оденусь… — остановила его Таша. — Мне нужно к покупателю на набережную Конти, пойдемте вместе.
— Ты мне ничего об этом не говорила, — расстроился Виктор.
Она поцеловала его в щеку и шепнула:
— Это знакомый сэра Реджинальда, он в Париже проездом… Прости мою забывчивость. Я вернусь до полудня, обещаю, милый.
— Можешь не спешить, я весь день буду в книжной лавке, — буркнул Виктор.
Так всегда — Таша свободолюбива, и с этим ничего не поделаешь. Кошка подошла к нему, и он задумчиво почесал ее за ушком.
— Привет, Пятница, меня зовут Робинзон… Придется нам с тобой набраться терпения, крошка, — прошептал он.
Недалеко от оперного театра экипаж застрял в пробке, образовавшейся из-за столкновения парового трамвая и грузового фургона. Обругав все средства передвижения, которые не только наполняют столицу смрадом, но и представляют собой опасность, кучер надвинул шапку на глаза и задремал. Морис Ломье протянул к Таша руки, она резко отодвинулась.
— Итак, ты на мели? — спросила она.
— У меня всегда бывали взлеты и падения. В сентябре нам с Мими было совсем туго, но я верю, благоденствие не за горами. Один мой приятель знаком с торговцем, который продает картины буржуа, желающим украсить свои дома. Их не интересует современное искусство, им нужна только классика, ты меня понимаешь?
Улучив мгновение, он попытался ее обнять.
— Держи руки при себе, Морис! — с напускной строгостью сказала она и щелкнула его по носу.
— Злюка! — нахмурился он.
— Это тебе не только за нахальные ухаживания, но и за то, что ты предаешь свои идеалы!
Пробка наконец рассосалась, и экипаж тронулся с места.
— Легко читать мораль другим, когда ты замужем за обеспеченным книготорговцем. А что касается меня, то я ни от чего не отрекался, все осталось здесь. — Он выразительно постучал указательным пальцем по голове. — Но пока искусство не дает мне средств к существованию, придется зарабатывать на жизнь иначе.
— Интересно, как?
— Все просто: поступает заказ на дюжину одинаковых сюжетов. Каждый художник — а я вхожу в команду пейзажистов — выбирает себе три темы. У меня это долина, по которой течет река, рыбаки в бретонском порту и деревенская свадьба. Кто-то пишет натюрморты, охотничьи сцены, лунный свет в горах… да все что угодно. Я могу намалевать такой шедевр за двенадцать часов. Конечно, поначалу больших заработков не будет, к примеру, за полотно размером сорок на тридцать три мне заплатят тридцать сантимов, да еще и краски придется покупать за свой счет.
— Не слишком воодушевляет!
— Согласен. Поэтому я хочу открыть свое дело и продавать свои работы гуашью с торгов по двенадцать-пятнадцать франков за пару, в позолоченной рамочке. Вешай в столовой и любуйся на здоровье!
— Это еще хуже! Морис, тебе не стоит растрачиваться на подделки!
— Брось! Мы с Мими хотим жить как люди. Тебе это кажется странным? То, что нам надоело перебиваться с хлеба на воду. А так я поднакоплю деньжат, сниму студию, и тогда… все узнают про мой талант!
Таша посмотрела на него с сомнением, но решила не спорить. Она вспомнила, как еще не так давно сама прозябала в мансарде на улице Нотр-Дам-де-Лоретт. Разве вправе она осуждать менее удачливого товарища? К тому же она поехала с ним вместе вовсе не для того, чтобы выяснить источники его доходов.
— На этой выставке в «Прокопе», судя по всему, будет много участников. Я знаю кого-то из художников?
— Двух-трех человек. Там будет много иностранцев: девица из Шотландии, которая пишет портреты пастухов в килтах, скульптор из Румынии, отливший столько бюстов Дидро, что ими можно заставить весь Монмартр, бельгиец, изображающий шахтерские поселки под дождем… А еще какой-то итальянский скульптор, я о нем ничего не слышал, как и о двух немцах: один, по слухам, добился успеха в Берлине. Кажется, все: нет, еще гречанка-миниатюристка.
Экипаж резво катил к улице Риволи, и скорость раззадорила художника, но его поцелуй скользнул мимо щеки Таша, вовремя предугадавшей этот маневр.
— Как, неужели мне не положено даже скромного поцелуйчика в память о прошлом? Телемская капелла, Бибулус… И несколько сеансов, когда ты мне позировала… У тебя восхитительная грудь! О, я предчувствую, что скоро к ней прильнет маленький крепыш!
— Ты ошибаешься, — улыбнулась Таша.
— Вы не планируете ребенка? О, ты была бы замечательной матерью!
Таша начала сердиться: она запрещала себе думать об этом, но идиот Ломье не умолкал!
— Я не собираюсь бросать работу, — пробормотала она, не желая признаваться Ломье в том, что она очень хочет ребенка, но у них с Виктором пока ничего не получается.
Ломье заметил, что она расстроилась.
— Прости, я вел себя, как болван.
— Прощаю, — кивнула она и вдруг добавила: — Меня это пока устраивает.
— Что именно? — не понял Ломье.
— Нам с Виктором вполне хватает друг друга…
— Жаль, что ты выбрала его, моя прелесть. Мы с тобой легко преодолели бы любые трудности.
— Не стоит сожалеть о том, чего уже не изменить, — философски заметила Таша. — У тебя есть Мими, а наши с тобой отношения все равно не продлились бы больше полугода. Ну вот, я приехала. Держи, оплатишь поездку, — сказала она, оставляя деньги на сиденье.
— Я буду с нетерпением ждать открытия выставки и рассчитываю увидеть там тебя! — крикнул он вслед.
Таша дождалась, пока экипаж скроется из вида, и окликнула другой. Она солгала Виктору: никакого друга сэра Реджинальда на набережной Конти не было, Таша надеялась разузнать у Ломье о нем. И теперь возвращалась домой, на улицу Фонтен, твердо решив: она обязательно пойдет на выставку в «Прокоп».
— Мишель! Эй! Форестье! Прошу прощения, что опоздал, причина уважительная, вот десять франков, которые я тебе должен!
В начале извилистой улицы Феру стоял парень в драповых брюках и пальто, задумчиво созерцая двух сфинксов, охраняющих дверь особняка. Он повернул к Морису Ломье безусое лицо, увенчанное густой шевелюрой.
— Ты узнал меня со спины?
— Еще бы! Твое драное пальто ни с каким другим не спутать. Хочешь пропустить стаканчик?
— Сейчас, только загляну в лавку, удостоверюсь, что заказ готов, и я в твоем распоряжении.
Они направились на улицу Сен-Сюльпис, где продавали ризы, шляпы, псалтири и молитвенники, не говоря уже об иконах и свечах, и вошли в одну из лавочек. Покупатели тут были серьезные и почтенные — сестра милосердия в белом чепце, пожилая дама в плаще с капюшоном — и повсюду висели изображения святых: святая Тереза Авильская на коленях перед Жанной д’Арк, Франциск Ксаверий, проповедующий евангелие непосвященным, угрюмый Бенедикт Лабр в лохмотьях, святой Рох с собакой,
[641] сонмы ангелов… Наконец они подошли к художнику, расписывавшему одежды Святой Девы с Младенцем на руках.
— Рад вас видеть, мсье Форестье. Святую Розу Лимскую
[642] как раз упаковывают для отправки в Бразилию. Приданое будем отправлять?
— Непременно, счет уже оплачен.
Морис Ломье недоверчиво приблизился к деревянной статуе с синими эмалевыми глазами, подкрашенными нежно-розовой краской щеками и в алом бархатном плаще.
— Ей нет цены!
— Напротив, приятель! Плащ для Святой Розы — полторы тысячи франков, платье — порядка девятисот, нижние юбки — пятьсот… На деньги, полученные за ее гардероб, можно пировать с января по декабрь.
— Белье для святой, ты шутишь?
— У нее оно такое же, как у любой парижанки, — батистовая сорочка, нижние юбки, черные шелковые чулки, атласные туфли.
— Так вот чем ты занимаешься!
Мишель Форестье покачал головой.
— Я отвечаю только за формы, в которые заливают гипс, чтобы отлить статуи Святого Николая. А еще организую отправку товара за границу.
— И что, прибыльное дело?
— У меня есть постоянные клиенты, я даже открыл маленькую частную мастерскую, — и Мишель Форестье прошел в застекленный холл, где дал какие-то указания подмастерью, работавшему над париком для статуи Святого Иосифа.
— Пойдем, я отведу тебя в один кабачок, где подают грог с корицей, и ты расскажешь мне последние новости.
Заведение располагалось на углу улиц Вье-Коломбье и Бонапарта. Усевшись перед дымящимися стаканами, приятели с удовольствием вспоминали прошлое.
— А помнишь, как ты организовал выставку в «Золотом солнце»? У меня тогда были покупатели, и хоть я не купался в роскоши, мне не приходилось штамповать статуи святых.
— Я тебя понимаю! Ты не представляешь, сколько сейчас продается посредственных картин! Вкусы общества становятся все более примитивными, настоящих ценителей почти не осталось. Что поделаешь, такие времена! Придется приспосабливаться. Если я считаю, что картина должна стоить больше двадцати франков, смело ставлю свою подпись, так что если ты когда-нибудь прочтешь на картине подпись «А. Талия», выполненную готическим шрифтом, знай, ее автор — твой покорный слуга.
— Но это же имя героини Расина!
— И греческой музы, которая высмеивала человеческие слабости и пороки. Признай, в этом что-то есть: Ален Талия, подающий надежды художник, получает двенадцать франков из двадцати, вырученных за его картину. А еще я хотел тебя пригласить… — Морис Ломье протянул Мишелю Форестье карточку. — Там будут подавать птифуры,
[643] придут торговцы, меценаты и известные люди. Некий Кемперс пригласил даже Огюста Родена.
— Как! Родена? Это гениальный скульптор! Бюст Пюви де Шаванна
[644] его работы просто великолепен! В прошлом году Роден давал ужин в отеле «Континенталь» по случаю своего семидесятилетия, мне удалось туда попасть… Я обязательно приду в «Прокоп»!
Приятели беседовали еще долго. Морис Ломье с завистью говорил о своем кумире Гогене, который сбежал в Папеэте,
[645] как он писал одному из своих друзей, устав от «вечной борьбы с глупцами». Мишель Форестье мечтал получить заказ на портрет Бальзака в полный рост, чтобы отказаться от ужина у Доде или Гонкура, сославшись на то, что завален работой.
Они не заметили, как один экипаж замедлил ход, и за его запотевшим стеклом мелькнул отороченный кружевом рукав женского платья.
Альфонс Баллю изнемогал от немоты, тоски и неизвестности. Как ему выбраться из этого темного сырого подземелья?! Он потерял счет времени и уже не мог бы сказать, как долго пребывает в заточении. Какой же он кретин! Как можно было сесть в тот экипаж!
Очнувшись, он обнаружил, что сидит, прислонившись спиной к неровной каменистой стене, с повязкой на глазах и связанными запястьями и щиколотками. Он напряг слух. Сколько их, похитителей? И где они? Альфонс понял, что должен освободиться во что бы то ни стало! Или хотя бы оставить какой-то знак… на случай, если его будут искать. Но где же бумажник, ключи, носовой платок, расческа? Он попытался, насколько это было возможно, ощупать свой пиджак. Пусто. Его обчистили! Ботинок! Он может оставить здесь свой ботинок! Но щиколотки были так туго стянуты веревкой, что снять ботинок не получалось. Похитители скоро вернутся. Возможно, они потребовали за него выкуп! Тогда все пропало: платить за него некому, и его убьют. Альфонс ухитрился сдвинуть рукой повязку. Место, где он находился, напоминало овраг, заваленный ветками и каким-то мусором. Что это, лес? Или свалка? Он пригляделся: невдалеке, под кустарником, виднелось какое-то светлое пятно. Быстрее, быстрее, надо действовать, пока они не… Карточка! Быть может, это его единственный шанс спастись! Изгибаясь ужом, двумя пальцами извлек карточку из кармана, дополз до пятна. Это была книга. Спина затекла, все тело болело. Еще одно усилие! Ему удалось положить карточку на раскрытую страницу книги и подпихнуть ее ногой под кучку опавших листьев. Теперь надо быстро вернуться на место и поправить повязку.
Потом его подхватили за руки и за ноги и бросили в подвал без окон. Там была печка, которая совсем не грела. Кормили дважды в день черствым хлебом и похлебкой, которой побрезговала бы и собака. И постоянно твердили, что скоро освободят, что не надо отчаиваться, что как только выяснят, чем именно он может быть полезен, его отпустят. Альфонс решил, что скорее сможет выпутаться, назвавшись важной шишкой. Но поможет ли ему эта хитрость? Вот в чем вопрос…
Глава седьмая
Тот же день, книжная лавка
Виктора одолевали мрачные мысли. Когда Таша ушла из дома с Морисом Ломье, он захандрил, в очередной раз теряя веру в их счастливое совместное будущее. Но потом взял себя в руки и, рассудив, что спасение в работе, оседлал велосипед и отправился в лавку. Там он воспользовался отсутствием Жозефа, чтобы рассортировать и спокойно разложить по порядку тома. Кэндзи не было видно, что означало, что он поздно лег. Виктор догадывался, что могло быть тому причиной, но предпочитал делать вид, будто ничего не замечает.
Ему не суждено было долго пробыть в одиночестве: горбатый хромой старик, бывший учитель химии из Коллеж де Франс, появился на пороге.
— Здравствуйте, мсье Мандоль, как поживаете? — любезно приветствовал его Виктор.
— Как поживаю? Да я чуть не отдал концы на набережной Малакэ во время этого чудовищного урагана! С окрестных домов срывало черепицу, и она падала прохожим на головы! Видите шрам возле правого глаза? Еще чуть-чуть, и я бы окривел!
— Да-да, — сочувственно покивал Виктор, — ураган нанес огромный ущерб, кровельщикам будет много работы.
— По меньшей мере пятеро погибли и сотни ранены. Ураган вырывал с корнем платаны, подбрасывал их в воздухе; поднятые в воздух обломки разбивали окна и черепицу на крышах! А лодки прачек
[646] разнесло в щепки. Я сам видел их на парапете! До сих пор я был уверен, что такое бывает только в романах Гюстава Эмара.
[647]
— А мне пришли на ум романы Поля Бурже, который преклоняется перед страданием и верит в его очистительную силу. А вот доктор Анкосс
[648] утверждает, что у парижан столько капризов и прихотей, что они в конце концов слились в единый поток отрицательной энергии и вызвали ураган, — возразил Виктор.
— Этот Папюс осел! Но я пришел сюда не для того, чтобы вывести его на чистую воду. Получили вы наконец монографии Шевреля?
[649]
Виктор мысленно взмолился о помощи. Но к его радости, дверь магазина открылась, и вошла консьержка. Правда, вид у нее был отнюдь не благодушный.
— Это вы во всем виноваты! — напустилась она на Виктора. — Это из-за вас они встретились!
— Добро пожаловать, мадам Баллю! Простите, кто «они»?
— Старьевщица, приманившая моего кузена старинными военными медалями! И не говорите мне, что вы не знаете Александрину Пийот, эту базарную бабу с рыжими патлами!
Мсье Мандоль ехидно ухмыльнулся. Виктор отошел к камину и сделал вид, будто смахивает пылинку с бюста Мольера.
— Это уже слишком! — гремела Мишлен Баллю. — Альфонс рассказал мне, как однажды, когда он бродил по аукционному залу, вы познакомили его с этой Пийот! Она просекла, что за военные побрякушки он отдаст все что угодно, и впарила ему медали, заявив, что они якобы принадлежали зятю президента Жюля Греви,
[650] который продал их из-под полы, чтобы выплатить долги!
— Этот скандальный случай давно в прошлом, — заметил мсье Мандоль.
— А ваш кузен давно уже вышел из детского возраста и волен тратить деньги по своему усмотрению, — возразил Виктор.
— Держу пари, эти медали фальшивые! А ваша Пийот хочет заполучить моего Альфонса!
— Я не имею никакого отношения к похождениям мсье Баллю. С чего вы взяли, что между ним и старьевщицей что-то есть?
— С чего я взяла?! Да с того, что, во-первых, Александрина Пийот позавчера выманила Альфонса из дома, и он не вернулся ночевать в свой пансион. И потом… интуиция меня никогда еще не подводила!
Виктор раздраженно закатил глаза, думая о том, как избавиться от крикливой консьержки, и не заметил, что спасение было рядом: мимо него в заднюю комнату тихонько пробрался Кэндзи. В шкафу, где он хранил экзотические вещицы, привезенные в качестве сувениров, между татуировочной иглой и флягой из тыквы с геометрическим рисунком лежал продолговатый предмет, упакованный в папиросную бумагу. Кэндзи развернул его и увидел бледно-голубой шейный платок, к которому булавкой была приколота записка: «Пусть он согреет тебя, любимый». Подписи не было, но он узнал почерк Джины и, взволнованный, уткнулся лицом в платок, вдыхая аромат знакомых духов любимой женщины.
— О, я не намерена соперничать с Генриеттой Кудон, якобы заручившейся поддержкой архангела Гавриила и предсказавшей торнадо! Но когда речь идет о мужчинах, в чутье мне не откажешь! Когда мой покойный супруг Онезим собрался завести интрижку со служаночкой с третьего этажа, я два дня не выпускала его из дома! — похвастала мадам Баллю.
— Скажите, чего вы хотите от меня? — устало взмолился Виктор. — Чтобы я взял вашего кузена под стражу?
— Зачем? А вот если бы вы сходили на
улицу Друо и что-нибудь о нем разузнали… Вы ведь наверняка покупаете книги у этой старьевщицы…
— Мсье Легри, вы так и не ответили на мой вопрос о монографиях, — вмешался мсье Мандоль. — Я полагаю, труды Шевреля должны пользоваться популярностью. А раз так, вы обязаны иметь их в вашей лавке!
— Что ж, раз теперь у меня есть две причины, чтобы отправиться к мадам Пийот, я загляну в аукционный зал прямо сегодня, — пообещал Виктор.
Когда посетители наконец удалились, Кэндзи, в новом шейном платке, отважился покинуть свое убежище.
— Почему бы вам не отправиться туда уже сейчас? Мели тем временем приготовит нам телячьи мозги под соусом. Если не ошибаюсь, вы без ума от этого блюда.
— Но у нас есть другие дела…
— Жизнь слишком коротка, но не стоит становиться рабом времени, — заявил Кэндзи, указывая Виктору на дверь.
У торгового павильона сновали обивщики мебели, одна за другой подъезжали подводы с товарами, которые сразу несли к оценщику.
Виктор терпеть не мог суету и тесноту Кур-де-Массакра. Он вошел в зал, который остряки окрестили Свалкой, надеясь найти Александрину Пийот, или, как ее здесь звали, Тетушку, в этом чистилище, предназначенном для распродаж вещей умерших или разорившихся парижан. Траченные молью ковры, портняжьи манекены, зеркала и посуда из поддельного мельхиора… Около двадцати торговцев, вытянув шеи, ходили вдоль узкой комнаты, рассматривая предложенный товар, но среди них не было ни одной женщины.
Виктор решил подняться на второй этаж и заглянул в зал 13, где продавали часы, фаянс, гравюры, драгоценности и хрусталь. Тут было много экспертов и библиофилов, господ почтенного возраста в рединготах и цилиндрах, в очках и с орденскими ленточками. Виктор узнал среди них некоторых клиентов книжной лавки «Эльзевир», членов научных обществ и академиков. Они уже направлялись к выходу из зала, а значит, торги только что закончились.
«Что ж, если тетушка не здесь, я догадываюсь, где она может быть», — подумал Виктор, которого забавляла мысль о том, что Альфонс ухлестывает за женщиной, которая старше его на пятнадцать лет.
Он поднялся вверх по улице Шоша к знакомому бистро. Пятеро перекупщиков, среди которых была женщина с огненными волосами, пили пиво. До официального начала торгов они договаривались купить несколько лотов, а во время аукциона постоянно поднимали ставки, чтобы товар не ушел к другим покупателям. Участники отказывались от лота из-за слишком высокой стоимости, и он доставался одному из заговорщиков, а тот уступал соучастником кое-что из своей добычи. Вот и сейчас какой-то тощий суетливый субъект пытался оторвать от пола два бронзовых светильника.
— Фальшивая бронза, двенадцать франков. Кто даст больше? Я, Жозефин Гро, предлагаю четырнадцать. Мсье Алибер — шестнадцать, мадам Пийот — семнадцать, я даю восемнадцать с половиной, раз, два… — Он стукнул по столу вилкой. — Продано Жозефину Гро.
— Мсье Легри! Идите же к нам! — воскликнула Александрина Пийот, завидев Виктора. — Я расскажу вам последние сплетни. Мсье книготорговец, — объяснила она собравшимся. — Угадайте, что нашел кюре в томике Корнеля, который только что купил за кусок хлеба? Облигацию, которая позволила одному из его молодых прихожан избавиться от долгов отца.
— Этот священник наверняка попадет в рай, — заметил Виктор.
— А я как-то раз обнаружил стофранковую купюру в учебнике светских манер, — прошептал старик с моноклем.
— Александрина, у вас случайно нет текстов Шевреля? — спросил Виктор.
— Того, который дожил до ста лет? Возможно. Надо вернуться в свою нору и поискать. У меня там столько книг…
Тетушка была дородной женщиной лет пятидесяти с такими густыми пышными волосами, что когда она затягивала их в пучок, казалось, будто у нее к голове пришпилен небольшой мячик. Зимой и летом она носила черную вязаную шаль. Обладая коммерческой жилкой, она умела выгодно сбыть любой товар, но при этом не жадничала и жила очень скромно, в небольшой квартирке неподалеку от Кур де Роан.
[651] Нора, о которой упомянула мадам Пийот, представляла собой старый сарай, который она приспособила под склад и вот уже лет тридцать держала там книги и безделушки, придерживаясь принципа, что на всяк товар рано или поздно найдется покупатель. Она ни на чем конкретном не специализировалась и продавала все подряд: подсвечники, украшенные эмалью, монеты, медали, — одним словом все, что могло привлечь хоть какого-нибудь простофилю.
Обычно сделка происходила примерно так:
— Сколько стоят эти часы, Тетушка?
— Они принадлежали Наполеону III. Полюбуйтесь на циферблат, какая красивая чеканка! Эти часы были на императоре во время его пребывания в городе Седане. Для вас — сто пятьдесят франков, почти даром.
— Да вы что?!
— Не нравится? Очень жаль…
Жертва сопротивлялась, умоляла, колебалась, но в конце концов платила сто франков за позолоченные карманные часы, стоившие на самом деле не больше пятнадцати.
Виктор взял экипаж, за что Александрина Пийот, которую мучил ревматизм, была необычайно признательна, и они всю дорогу болтали. Виктор все не осмеливался завести разговор на интересующую его тему. Ему было неловко расспрашивать ее об Альфонсе Баллю, и он решил, что благоразумнее вообще отказаться от этой мысли.
— Вы так предупредительны, мсье Легри, и в благодарность, помимо книг Шевреля, на которые вы получите скидку, я покажу вам еще одну необычную вещицу. Мне ведь прекрасно известна ваша слабость: стоит вам увидеть что-то загадочное, как вы делаете стойку, словно охотничий пес.
Извозчик привез их к перекрестку де Бюси. Они прошли пассаж дю Коммерс — грязноватый переулок, тянувшийся между задними дворами жилых домов, котельными, мастерскими, газетными киосками и бакалейными лавками. Когда шли мимо дома 9, Виктору стало не по себе: ведь именно здесь в 1790 году доктор Гильотен опробовал на овцах свое изобретение — машину для отрубания голов. В старинной башне времен Филиппа-Августа
[652] теперь расположилась мастерская слесаря.
От пассажа дю Коммерс было рукой подать до Кур де Роан. Тесную площадь обступили потемневшие от времени особняки XVI–XVII веков, некоторые из которых были такими старыми, что, казалось, не могли стоять прямо и старались прислониться к соседу. Несмотря на очевидную бедность здешних жителей, на подоконниках верхних этажей весело цвели левкои, а в клетках щебетали птицы.
На одном из домов висело объявление:
Требуются рабочие руки для изготовления цветов и украшений из перьев
Виктору стало понятно, почему у некоторых прохожих в волосах застряли посеребренные веточки и нитки.
В одном углу проходного двора были выставлены пустые бочки — видимо, из крошечного трактира с террасой, увитой чахлым вьюнком, в другом валялась ржавая утварь, трухлявые оконные рамы и печные трубы.
У сарая Тетушки, расположенного на первом этаже здания эпохи Людовика XIII, сохранилась «подставка для мула» — возможно, единственная сохранившаяся в Париже. Этот невысокий металлический треножник когда-то служил для того, чтобы какой-нибудь толстый монах или пожилой профессор Сорбонны могли без посторонней помощи забраться в седло. У порога мастерской столяра щенок резвился в стружках, пахнущих хвоей.
Квартира старьевщицы располагалась на втором этаже: там, дома, Александрина Пийот хранила самый ценный товар, который предлагала только серьезным клиентам. Виктор не раз приобретал у нее, не торгуясь, редкие книги и фотографии, в том числе три снимка Гюстава ле Гре.
[653]
Если сарай Тетушки был похож на свинарник, то ее двухкомнатная квартирка сияла чистотой. Стены, кровать и три кресла с кретоновой обивкой были словно из кукольного домика. На полках стояли горшки с анютиными глазками и резедой, фарфор и книги с золотым обрезом; к каждой был прикреплен ярлычок с указанием цены. Виктор с интересом стал разглядывать эти сокровища, но вскоре разочарованно отметил, что редких и действительно ценных томов среди них нет. И все же, хотя это был второсортный товар, распродав его, Тетушка Старьевщица могла бы несколько месяцев провести на курорте. Но она не собиралась оставлять свое занятие, понимая, что без него ее жизнь потеряет смысл.
— Торговля — моя страсть. Каждое утро я повторяю себе: «Ну уж сегодня ты точно добудешь нечто небывалое!». Я верчу в руках старинные вещицы из Кур де Массакр, хожу по залам, и порой та или иная вещь словно шепчет мне: «Мы созданы друг для друга, забери меня…» Чашечку кофе, мсье Легри?
Она принесла к кофе тарелочку лукума, вытащила откуда-то из складок юбки кисет и свернула папироску, лукаво поглядывая на Виктора. Потом повернула ключ в ящике письменного стола, достала оттуда коробочку из-под мигренина и приоткрыла ее.
— Вашу руку, пожалуйста.
Виктор повиновался, и хозяйка положила ему на ладонь крохотную книжечку.
— Это что, сделано для ребенка? — спросил он.
— Рассмотрите хорошенько.
Пять бумажных лент были сложены гармошкой и грубо сшиты, так что получилась крошеная записная книжка в пять сантиметров длиной и четыре шириной. Обложкой послужил папирус, испещренный иероглифами, на обратной стороне неразборчиво нацарапан адрес.
— Мне стало интересно, что означают эти формулы, — объяснила Александрина Пийот.
Виктор раскрыл книжечку: она была вся заполнена цифрами, знаками сложения, процентами и латинскими терминами.
— Ваша миниатюра чем-то пахнет… С каких это пор вы ловите рыбу?
— Эту книжечку при мне достали из рыбьего брюха, а точнее из карпа. Как он ее проглотил — загадка!
— Это было давно?
— В четверг. Я как обычно обедала в «Уютном уголке». Хозяйка трактира, Аделаида Лезюер, — моя приятельница. Это было в тот самый день, когда случился ураган. К счастью, когда он начался, я уже была дома.
Виктор снова задумчиво пролистал блокнот. Страницы были расчерчены как в расчетной книжке. На одной он увидел надпись:
RMAT
Fa ri u e pa f s
2, re l’Arc v
С RET N
На других были записаны полустертые цифры, и только два слова целиком:
cinnamum и
murra. Уцелевшая фраза заканчивала книжку:
PENTAOUR CREAVIT
— Какая-то тарабарщина! Ясно одно — эти листочки не имеют никакой ценности и их не так давно скрепили. Боюсь, никто не захочет пополнить свою библиотеку книгой, даже такой миниатюрной, если она воняет рыбой.
— Мсье Легри, вы что, пытаетесь заговорить мне зубы, чтобы получить ее задаром? На вас не похоже! Впрочем, я не собираюсь с ней расставаться. Она будет моим талисманом. Можете смеяться, но я убеждена, что у вещей бывает несколько жизней. Конечно, эти каракули не такие древние, но мой мизинчик нашептывает мне,
[654] что тут кроется какая-то тайна. В детстве я читала сказку о карпе, проглотившем волшебное кольцо. Эти буквы… А вдруг, если правильно их произнести, можно вызвать черта?
Сказав это, она надолго умолкла. Виктор тоже не говорил ни слова. В комнате стояла такая тишина, что шум во дворе казался громче, чем обычно. Там звучали смех и веселые голоса, крики молочника, расхваливающего свои сыры и масло…
Виктор напомнил мадам Пийот про монографии Шевреля.
— Заходите денька через два-три. Если я не найду их здесь, они наверняка внизу, а если они там, то чтобы их найти, мне понадобится время, а главное — силы. Что касается записной книжки, надеюсь, вы не сердитесь на меня, мсье Легри. Я так же любопытна, как и вы, и мне ужасно хочется узнать, что означает эта тарабарщина. Я обратилась за помощью к вашему знакомому, коллекционеру медалей, но, увы, он не сумел помочь.
— Вы имеете в виду Альфонса Баллю? Так вот в чем дело! — и Виктор расхохотался. — Представляете, его сестра, которая работает у нас консьержкой, заподозрила, что он… состоит с вами в интимной связи.
Виктор ликовал: без всяких усилий с его стороны ему удалось выполнить просьбу мадам Баллю. «Правда сама идет ко мне в руки», — самодовольно подумал он.
— Да ну?! Нужен мне этот чинуша из военного министерства! Вы же его видели — тощий, как швабра, начищенный, как ружье новобранца, и неуклюжий, как медведь! Если б я и захотела завести интрижку, то выбрала бы кого-нибудь посимпатичнее. Да только я давно пришла к заключению, что от мужчин одни проблемы.
— Мужчины то же самое говорят о женщинах… Мадам Пийот, может, вы разрешите мне скопировать то, что написано в этой таинственной книжице?
— Почему бы нет, мсье Легри! Я вас уважаю и доверяю вам. Эх, была бы я годика на три-четыре помоложе…
Виктор ее уже не слушал: он старательно переписывал в свою записную книжку каждую букву и цифру, уверенный, что загадка заинтересует и Жозефа.
Перед уходом он попросил разрешения помыть руки: ему показалось, что и они пропитались резким запахом рыбы.
Глава восьмая
16 сентября
Бютт-о-Кай просыпался. Жан-Пьер Верберен шел по немощеной улице, вдоль которой струился ручеек грязной воды, а на стенах домов мелькал дрожащий свет газовых фонарей. Кое-как залатанные, эти стены грозили в любую минуту рухнуть прямо у вас на глазах. Женщина выплеснула помои прямо перед домом, хлопали двери, кричали младенцы, на старом деревянном ящике кукарекал петух. На улице Барро слышалась смачная ругань — это угольщики и поденщики расходились по домам после ночной смены.
Из заводских труб шел серый дым. Телеги молочников грохотали по улицам. Освященные керосиновыми лапами лавки. Громыхание омнибуса…
— Что это за бульвар? — обратился Жан Пьер к молодому рабочему, что спешил на завод с сумкой через плечо и корзиной с обедом в руке.
— Бульвар Италии, — ответил тот.
Жан-Пьер Верберен понял, что его цель близка. Ему очень не хотелось выходить из дома, и он буквально заставил себя отправиться на улицу Корвизар. Ему было стыдно, что он подвел Бренголо, и он хотел искупить свою вину. Записка, которую должен был доставить Шарло, с объяснениями и приглашением отведать фасоль с бараниной в воскресенье у Брансионских ворот, не дошла до адресата: мальчишка не застал Бренголо дома.
Жан Пьер Верберен сразу узнал поместье, описанное Бренголо. Оно было обнесено высокими стенами, и Жан-Пьер колебался. Войти означало без спросу вторгнуться на чужую территорию, да и подниматься с больной спиной по полуразвалившимся ступеням — нелегкая задача. Но тут он заметил дыру в стене, сквозь которую виднелся запущенный сад. Пригнувшись, Жан Пьер пролез в нее и ступил на траву.
Он шел очень медленно, хватаясь за ветки, обходя корни и осторожно спускаясь по склонам. А на берегу пруда поскользнулся на глине и плюхнулся на живот.
Поднялся на ноги Жан Пьер с трудом. Мокрые брюки прилипли к бедрам, холод проникал под одежду, ныла спина, но он не мог уйти, не извинившись перед приятелем. И упрямо продолжил путь.
Углубившись в рощу, он вдруг почувствовал, что ему стало не по себе. Казалось, за ним кто-то наблюдает. Он резко обернулся. Никого. Только потрескавшаяся статуя Девы Марии. Невдалеке, на островке посреди водоема возвышалось что-то непонятное, чуть дальше виднелось что-то вроде хижины, сложенной из камней и веток… Не это ли дворец Бренголо?
Верберен устремился к хижине, как потерпевший кораблекрушение к спасательному плоту. Сейчас он согреется и выпьет чашечку кофе, слушая дружеские упреки.
Каково же было его разочарование, когда он обнаружил, что лачуга явно пустует уже не первый день! Может, он пришел не туда? Однако все соответствовало описанию Бренголо. Или заблудился в предрассветных сумерках? Нет, все точно: он хорошо помнил и адрес, и описание местности.
Жан-Пьер повернул обратно, но в последний момент заметил пень и, кряхтя от боли, перешагнул через него. Не задерживаясь, прошел мимо каменных львов-привратников, охранявших вход в поместье, и направился к низенькому домику с наспех залатанной досками дверью, решив, что это и есть жилище Бренголо.
— Точно. Скорее всего, он перебрался сюда после урагана.
Он попытался открыть дверь, но все усилия оказались тщетными, она не поддавалась. Только сейчас Жан-Пьер заметил замок.
Он окликнул друга. Ответом ему была тишина.
Верберен пошел прочь, внимательно глядя под ноги и стараясь больше не падать. Из-под кучки опавших листьев выглядывал бумажный прямоугольник. Это была раскрытая книга, лежавшая домиком. Он поднял ее и повертел в руках: «Песнь нищих» Жана Ришпена.
— Это же книга Бренголо!
Книга была открыта на стихотворении «Кровавая идиллия». К странице прилипла рекламная карточка салона-парикмахерской. Но что это? Какие-то пятна…
— Похоже на ржавчину или… на кровь! — выдохнул Жан-Пьер.
Его охватил ужас. С Бренголо случилось что-то страшное! Инстинкт самосохранения подсказывал ему, что надо немедленно бежать отсюда, но ведь Бренголо его друг… Жан-Пьер поборол страх и решил осмотреть все вокруг. Кое-как он перелез через разрушенную часть стены и направился к каменным львам. Увидев узкий ров, пошел вдоль него, с трудом сохраняя равновесие. Здесь его ждала еще одна находка: перочинный нож.
— Боже мой! На рукоятке выгравировано сердечко! Это ножик Бренголо.
Ужас охватил все его существо. Верберен вздрогнул и испуганно огляделся.
Бежать! Надо немедленно бежать отсюда!
Эфросинья Пиньо мыла витрину книжной лавки «Эльзевир».
— Сейчас, когда фонари уже погасили, если еще и стекла останутся заляпанными, никто не разглядит, что у нас продается, — ворчала она, выжимая тряпку, с которой стекала грязная вода.
— Да хватит тереть стекла, и так все видно! — засмеялась Мишлен Баллю, подходя. — Вы отлично постарались, чего не скажешь о мсье Легри. Я на него в обиде.
— Да как у вас язык поворачивается говорить такое?! Благодаря ему вы сохранили свою комнату, да и в мансарду он вас пустил!
— Так и есть, но речь не об этом. Вы ведь, наверное, слышали, мой кузен Альфонс бесследно пропал! У меня комок к горлу подкатывает, когда я думаю о том, что с ним могло случиться! Я обратилась за помощью к мсье Виктору, и что? Ничего!
— А может, мсье Баллю выполняет какое-нибудь ответственное задание? Он ведь человек служивый, а у военных принято держать язык за зубами… Вы, небось, слышали про эту странную историю?
— Какую еще историю?
— Про Альфреда Дрейфуса, которого подозревают в шпионаже.
— Что значит «подозревают»? Альфонс говорит, он действительно изменник и заслуживает не разжалования и ссылки, а смертной казни!
— В прошлом году его сослали на Чертов остров.
[655] Мсье Легри и мсье Мори обсуждали вчера вечером статью, где говорится, что Дрейфуса обвинили несправедливо, и упоминается о каком-то секретном документе, закодированном послании, которое немецкий военный атташе переправил в Италию, мол, чертов Дрейфус становится слишком требовательным. «Дело тут нечисто», — сказал мсье Мори.
— Нечисто? Говорят, в этих документах содержится неопровержимое доказательство!
— А в статье написано, что, хотя эту записку, и передали в Военный суд, адвокаты ее не видели. Значит, можно предположить, что дело сфабриковано… По крайней мере так полагают мсье Легри и мсье Мори. А мой Жозеф повторяет их слова как попугай! Мне это не нравится. Я прошу его быть осторожнее, а он посылает меня к черту!
Она выжала тряпку над ведром.
— Вполне естественно, что ваш сын разделяет их взгляды, ведь жена и теща мсье Легри — его родственники, — заметила мадам Баллю.
Рука Эфросиньи с тряпкой застыла у оконного переплета.
— Да, но сам-то Жозеф шарантонец, по моей линии, а по отцу вообще потомственный голландец из Гронингена.
— Да, а мадам Таша и ее мать — они ведь еврейки, как и Дрейфус, не так ли?
— Ничего подобного! Мадам Легри — француженка, пусть только по мужу, мадам Херсон — русская, а Альфред Дрейфус — эльзасец. Вы имеете что-то против русских и эльзасцев?
Мишлен Баллю возмущенно выдохнула.
— Эти иностранки — еврейки, и Дрейфус тоже!
Эфросинья с грозным видом нависла над консьержкой. Она была крупнее и выше ее на голову. Мишлен Баллю съежилась.
— Если так рассуждать, то моя внучка Дафнэ — тоже иностранка, поскольку моя сноха Айрис наполовину англичанка, наполовину японка! И с теми, кому это не нравится, я готова разобраться!
— Но я ничего такого не имела в виду, — пошла на попятную консьержка, — я лишь сказала, что…
— Впредь думайте, прежде чем соберетесь что-то сказать, мадам Баллю! — Обе вздрогнули от неожиданности, услышав голос Жозефа.
— Успокойся, котик, мадам Баллю оговорилась, — поспешно сказала Эфросинья.
— У меня с собой заметка Эмиля Золя, напечатанная в «Фигаро» 16 мая. Я вам ее зачитаю, — заявил Жозеф. — «Мы готовы разрушить границы, мечтаем о содружестве народов… говорим, что все мы — братья, хотим избавить людей от нищеты, объединиться в сострадании к ним! Но есть среди нас горстка дураков и интриганов, которые кричат каждое утро: “Смерть евреям!”».
Жозеф читал страстно, голос его дрожал, и прохожие настороженно замедляли шаг. Эфросинья застыла от ужаса, но не решалась прервать его. Мадам Баллю готова была провалиться сквозь землю.
Закончив читать, Жозеф добавил:
— Мама, вытри поскорее стекла! мы там, внутри, чувствуем себя как в баке для кипячения белья! — И тут он заметил покупательницу. — О! Здравствуйте, мадам де Реовиль, прошу вас, заходите, я придержу дверь!
Бывшая мадам де Бри поднесла к глазам лорнет и высокомерно, словно сеньора своих вассалов, окинула взглядом всех троих. Ее лицо, и без того почти неподвижное из-за одностороннего паралича, казалось, окончательно окаменело. Ее теперешний супруг, полковник де Реовиль, вдалбливал ей: те, кто осмелится, вопреки исчерпывающим доказательствам, оспаривать тот факт, что капитан Дрейфус — предатель, враги Франции. Она пришла в книжную лавку «Эльзевир», чтобы заказать «Разочарованное сердце» Эдуара Дельпи,
[656] но, услышав пламенную речь Жозефа, отказалась от своего намерения и молча прошла мимо магазина.
— Это, наверное, из-за погоды, — растерянно пробормотал Жозеф. — Похоже, собирается гроза, и нервы у всех шалят.
— Жожо, не сердись на Мишлен, у нее нет новостей от кузена, и это ее беспокоит. Ей бы так хотелось, чтобы мсье Легри помог ей и наведался к одной особе, торгующей антиквариатом…
— А сколько лет мсье Баллю? — спросил Жозеф.
— Тридцать четыре, — ответила консьержка.
— В таком случае, он сам отвечает за свои поступки. Если бы счел нужным, он прислал бы вам записку. Ну хорошо, — смягчился он, заметив слезы на глазах мадам Баллю, — я напомню Виктору про вашу просьбу, как только он почтит нас своим присутствием. Опять опаздывает…
— Осторожно! — схватила его за руку консьержка. — К нам идет Примолен, она всегда подслушивает… Здравствуйте, мадам Примолен, как ваше люмбаго, вам уже лучше? — заискивающе осведомилась она.
Виктор энергично крутил педали. Ему хотелось только одного — ехать куда глаза глядят, пытаясь убежать от своих страхов, от себя самого и даже от своей любви к Таша, потому что любовь эту разъедала ревность. Быстрая езда словно очищала его, ветер бил в лицо, и Виктору казалось, что он становится другим человеком.
Он мчался на набережную Малакэ в надежде наверстать время, потраченное на починку проколотой шины. Жозеф опять обвинит его в том, что он забросил работу в лавке. И будет прав. Если любовь к книгам и не ослабла в нем, с ней теперь соперничали не только увлечение фотографией, но и интерес к синематографу. Он нащупал бумажник, где лежал заветный кусочек картона:
Синематограф братьев Люмьер
Входной билет
Сеансы проводятся каждый день,
включая воскресенья и праздничные дни,
с 2 до 6 часов и с 8.30 до 10.30
Виктор был вчера в синематографе, но ему хотелось посмотреть все еще раз. Сюжеты коротеньких фильмов были очень простыми — это мог быть завтрак малыша, партия в карты или снос стены, которая, о чудо, тут же вырастала заново. Виктора потряс этот удивительный эффект. А в ленте, снятой в кузнице, с экрана внезапно повалил дым! Виктор предвкушал новые незабываемые впечатления: Жорж Мельес обещал показать в театре «Робер-Уден» эпизоды, которые снял в своем владении в Монтрее и в Нормандии летом с помощью кинетографа.
[657]
Насвистывая мотив «Хабанеры» Эммануэля Шабрие,
[658] он вошел в книжную лавку и, оставив велосипед в задней комнатке, проследовал к покупателям. Эфросинья Пиньо и Мишлен Баллю уже удалились: первая, взяв корзинку, пошла на рынок, вторая была вынуждена отправиться мыть ступени. Жожо беседовал с бывшим преподавателем химии из Коллеж де Франс, только что избавившись от будущего инженера, который искал книги о строительстве мостов и дорог.
— Рад видеть вас обоих! — приветствовал и Виктор. — Жозеф, вчера вечером я не успел показать вам кое-что любопытное. А на вас, мсье Мандоль, я очень рассчитываю…
— Речь пойдет о монографиях Шевреля?
— Нет, о загадочных формулах. Я переписал их из одной книжицы, которую показала мне дама. Она как раз обещала достать то, что вы ищете. Мсье Мори наверху?
— Он изучает последние поступления от букинистов, — сообщил Жозеф.
— Очень хорошо! — обрадовался Виктор. Он открыл свой блокнот и рассказал озадаченным слушателям, что формулы были записаны в крошечной книжечке, которую извлекли из желудка карпа.
— Бессмыслица! — пробормотал Жозеф.
— Минутку… Вы позволите? — Мсье Мандоль выхватил у Виктора блокнот и поправил пенсне.
Cinnamum, murra — это просто.
…nyx, us, ardu, oes — можно догадаться, что речь идет об
onyx, tus, nardus и aloe, — пробормотал он.
— Что означают эти слова?
— Все очень просто, мсье Легри, это латынь:
…nyx, us, ardu, oes означает оникс, ладан, нард и алоэ.
Cinnamum и murra — корица и мирра.
[659] Все это пахучие вещества, думаю, они входят в состав какого-то раствора, например лекарства. А вот цифры… Вероятно, это дозировка.
— А что означает
Pentaour creavit?
—
Pentaour — это, возможно, имя собственное, похоже на что-то египетское.
Creavit — это третье лицо единственного числа глагола
creo, creare, в прошедшем времени изъявительного наклонения, что может означать «Пентаур создал» или «Пентаур его создал».
— А это
CRETN? Сокращение от «кретин»? Я пошутил, конечно. А
2, re l’Arc v — это может быть адрес — улица Арк-де-ля-Виктуар, дом 2… А еще выше,
RMAT… Тут я сдаюсь!
— Неужели вы признаете свое поражение, Жозеф? Ведь криптограммы — ваше любимое развлечение!
— Хорошо, тогда дайте мне на время этот ценный документ.
Виктор неохотно повиновался, надеясь, что в блокноте нет ничего такого, что он не хотел бы показывать окружающим.
— Благодарю вас за помощь, мсье Мандоль.
— Не стоит. Лучше побывайте еще раз у той дамы — не знаю ее имени…
— Александрина Пийот, так называемая Тетушка…
— Знакомое имя! Я слышал его от мамы! — воскликнул Жозеф. — Мишлен Баллю подозревает, что ее кузен переехал к ней жить. Мы-то считаем, что Альфонс имеет право сам устраивать свою жизнь, но мадам Баллю, когда чем-то раздражена, становится просто невыносимой! Вы бы слышали, что она сейчас говорила на улице…
— Нет-нет, не продолжайте, Жозеф! Мне не хочется омрачать такой чудесный день: смотрите, небо прояснилось! Я воспользуюсь этим, чтобы нанести визит мадам Пийот. Если повезет, у меня есть шанс застать ее дома.
— Мне тоже пора, — сказал мсье Мандоль, — меня ждут в Коллеж де Франс. Я рассчитываю на вас, мсье Легри.
Бывший учитель вышел, и дверь за ним закрылась, звякнув колокольчиком. Жозеф устало закатил глаза.
— Как же он мне надоел со своим Шеврелем! А вы тоже хороши! Это неслыханно! Вы провели здесь всего пять минут и снова удираете! — возмущенно воскликнул Жозеф.
— Послушайте, разве не вы только что просили, чтобы я помог мадам Баллю? Боюсь, я опять проколю шину, так что лучше пешком… Я доберусь туда минут за двадцать. Присмотрите за моим велосипедом.
— Услуга за услугу: у вашей сказки о цветке есть продолжение? Я начал рассказывать ее Дафнэ, и она тут же заснула. Что там было дальше?
— Да я уже забыл, о чем там речь, — растерялся Виктор.
— Об уродливом цветке, который отправился навстречу солнцу.
Виктор почувствовал себя Шахерезадой.
— М-да… Когда безобразный цветок вернулся, он стал неслыханно красив! Пчелы слетались к нему, радостно жужжа. Бабочки, привлеченные его чудесным ароматом, наперебой махали над ним крылышками… Э-э-э… Жозеф, это смешно! Неужели вы всерьез хотите, чтобы…
— А как вы думали?! Мне тоже надо иногда отдыхать! Если не буду высыпаться, я стану для вас бесполезен. А ваша сказка действует на мою дочку лучше, чем успокаивающая микстурка.
— Ну спасибо.
— Да не за что, это чистая правда! Итак, безобразный цветок стал безумно счастлив…
— До поры до времени. Потому что через несколько дней он осознал, что из-за такой бешеной популярности у него не остается ни единой минутки на себя. Поэтому, когда дуновением ветерка его пригнуло к тонкой былинке, он спросил у нее: «Скажи, как тебе удается быть такой маленькой?». И она ответила: «Все очень просто, я дружу с луной». Вот и все, вы довольны, Жозеф?
— Я понял, это бесконечная история…
— Конечно! Вы и сами можете сочинить такую.
Виктор неторопливо шел по пассажу дю Коммерс. Напротив дома 8 в 1794 году располагался читальный зал вдовы де Бриссо, где были собраны труды по юриспруденции, принадлежавшие когда-то ее мужу-жирондисту. Когда его повесили, вдова с сыном находилась под наблюдением полиции. Недалеко от читальни стоял дом, где в 1793 году Марат писал свои статьи, подписывая их словами «Друг народа». «Казалось, все это происходило вчера», — думал Виктор, представляя себя одним из революционеров, арестованных за распространение запрещенных памфлетов.
Он очнулся от размышлений лишь у Кур де Роан. Под окнами домов росли каштаны; лошади жевали в стойле сено.
Из сарая с приоткрытыми створками высыпали полосатые котята, а за ними — кошка.
«Кажется, мне повезло: не придется идти на улицу Друо», — подумал Виктор. Все говорило о том, что Тетушка дома.
Он заглянул в сарай. После яркого света глаза не сразу привыкли к полумраку, но, приглядевшись, он увидел там и пыльную модель трехмачтового парусного судна, и амфору без ручки, и чучело выдры, и букетики искусственных цветов, и глобус…
— Тетушка! — крикнул он.
Ему почему-то стало не по себе, словно среди старых вещей бродили тени их бывших хозяев, готовые окружить незваного гостя и бросить в темницу, где он будет прозябать до самой смерти.
Виктор поспешил выйти. Вид тощих кошек, растянувшихся на солнышке, его немного успокоил. Сложив руку козырьком, он поднял взгляд на окна второго этажа. Увы, они были занавешены, и он смог различить лишь стоявшие на подоконнике горшки с геранью.
Поднявшись, он постучал, подождал немного и, не получив ответа, повернул ручку. Дверь отворилась. Войдя, он споткнулся о скамеечку для ног и раздраженно отшвырнул ее в сторону. Ему вспомнилась неприятная сценка из детства: когда ему было шесть лет, он проснулся среди ночи, побежал в спальню родителей и, ворвавшись туда, наткнулся на сервировочный столик. Грохот, крики, ярость отца…
Виктор прошел в комнату мадам Пийот. Сквозняк шевелил занавески на приоткрытых окнах. В мягком полумраке полки вдоль стен, заставленные безделушками и коробочками, казались геометрическим орнаментом, нарисованным прямо на обоях. На пол спланировал какой-то конверт. Виктор поднял его и, выпрямившись, вздрогнул, увидев силуэт, прислонившийся к сундуку.
— Вы здесь! Что вы задумали? Вы что, не слышали, как я стучал?
Тетушка медленно повернулась к Виктору. Он улыбнулся, радуясь, что застал ее дома, но через долю секунды его улыбка исчезла. Поза женщины была неестественной, и он вдруг понял, что ее ноги не касаются пола.
Глава девятая
Вторая половина того же дня
Этим осенним днем коридоры префектуры казались мрачнее и грязнее обычного.
Огюстен Вальми медленно поднимался по ступеням главного полицейского управления в свой кабинет, ранее принадлежавший инспектору Лекашеру, — невзрачное помещение с геометрическим темно-коричневым рисунком на обоях, который действовал Вальми на нервы. Единственное, что ему здесь нравилось, — это раковина, установленная под зеркалом с облезлой амальгамой.
Он шел по коридору бледно-зеленого цвета, когда услышал, как его окликнул дневальный.
— Господин инспектор, начальник управления приказал вам незамедлительно отправиться в Кур де Роан. Комиссару Перо из Шестого округа позвонили: некто обнаружил труп женщины в доме 12. Комиссар Перо побывал там и установил факт смерти. Он отправил туда двух своих полицейских, Шаваньяка и Жербекура, которые охраняют место преступления. Начальник настаивает, чтобы именно вы провели расследование.
— Но Шестой округ закреплен за Раулем Перо! Я занят по горло, скопилось много бумаг, которые нужно разобрать. Мое присутствие действительно необходимо?
— Я лишь передаю вам указания. Начальник уточнил, что тревогу поднял некий Виктор Легри, хорошо известный полиции нашего округа, и еще — что дело серьезное и не подлежит огласке.
Когда девять месяцев назад Огюстен Вальми принимал дела от инспектора Аристида Лекашера, тот предупредил его насчет Виктора Легри. Лекашер сообщил, что сей книготорговец имеет обыкновение соперничать с полицией. Мало того, что сует повсюду нос, мешая расследованию, — еще и совершает ошибки, которые всякий раз должны были бы привести к катастрофе, но почему-то все выходит наоборот: при помощи своего шурина или других лиц, а также благодаря необычайной удаче, он задерживает убийц с такой же легкостью, с какой первоклассный стрелок попадает в яблочко.
Огюстену Вальми было тридцать семь, и он успел прослыть талантливым сыщиком. Он тщательно следил за собой, отличался спокойным, даже флегматичным характером и никому не доверял. Когда Лекашер предупредил его о возможном вмешательстве Виктора Легри в дела полиции, Вальми лишь невозмутимо пожал плечами. Он был уверен, что проблем с сыщиком-любителем у него не возникнет. Значит, мсье Легри появился на сцене! В Кур де Роан погибла женщина, и это чертов книготорговец первый оказался на месте преступления.
Огюстен Вальми отправился туда незамедлительно. Его не покидало странное ощущение, будто он забыл что-то очень важное. Руки! Он собирался намылить их, когда ему передали приказ начальника. Не выполнив этот ритуал, Вальми чувствовал себя не в своей тарелке. Он развернул носовой платок и тщательно вытер пальцы. Затем изучил свое лицо в карманном зеркальце, поправил воротник, расчесал на пробор жесткие каштановые волосы и одернул рукава модного пальто из мягкой вигони.
[660]
— Вы не передвигали мебель?
Еще не оправившись от волнения, Виктор молча покачал головой. Позвонив в полицию, он выпил бокал коньяку в небольшом кафе, а потом стоял у сарая Тетушки в ожидании своего давнего приятеля комиссара Рауля Перо.
[661] Но того отстранили от расследования в пользу преемника Аристида Лекашера, нового инспектора, фамилия которого напоминала об известном сражении времен Революции.
[662] При виде него Виктор отметил, что тот держится неестественно прямо, точно кол проглотил.
— Начнем с самого начала, мсье Легри. У вас была назначена встреча с мадам Пийот?
Здесь только что погиб человек, и смерть ощущалась так близко, что Огюстен Вальми умирал от желания поскорее вымыть руки. Если бы не этот книготорговец, он бы без колебаний вошел в квартиру, чтобы воспользоваться рукомойником.
— Сколько можно повторять: меня привела в этот квартал случайность, мадам Пийот обещала поискать для меня книги, которые нужны одному из моих клиентов, и вот…
— Признайте, любопытное совпадение, особенно если учесть ваше пристрастие к расследованию преступлений. Ваше присутствие на месте вероятного убийства не выглядит случайным.
— А вы не думаете, что это самоубийство?
— Скамеечка для ног наталкивает на подобную мысль. Но странный факт — она слишком далеко от трупа. Хотя… женщина могла оттолкнуть ее, когда затянулся узел. Поскольку вы утверждаете, что ничего не передвигали…
Виктор отвел взгляд от пронзавших его серо-голубых глаз инспектора и стал разглядывать три кресла, столик на одной ножке, кровать и полки вдоль стен. Сам он на всякий случай решил умолчать о том, что споткнулся об эту скамеечку. Инспектор задернул занавески, и холодный дневной свет, проникая сквозь прозрачный красноватый кретон, создавал в комнате тревожно-гнетущую атмосферу.
— Не понимаю, почему бы она могла покончить с собой? В последний раз, когда я с ней беседовал, она была весела и довольна жизнью.
— Мсье Легри, для вас было бы лучше, если бы мадам Пийот повесилась сама, потому что если ей кто-то помог, боюсь, вы будете главным подозреваемым.
— У вас нет никаких улик! Я пришел сюда к одиннадцати. Мой шурин и один из клиентов могут подтвердить, что до этого я полчаса находился в лавке. А тело мадам Пийот уже окоченело.
— Что ж, надеюсь, судебно-медицинский эксперт подтвердит ваши показания и установит, что смерть наступила до вашего прихода. Но меня смущает одна деталь: где вы были до встречи со своим помощником?
— Я покинул свой дом в половине девятого, но по дороге проткнул велосипедную шину и вынужден был заняться ее починкой.
— Это кто-нибудь может подтвердить?
— Откуда мне знать? В это время дня по бульвару Капуцинов прогуливаются сотни прохожих!
— Что вы делали на бульваре Капуцинов? Он находится на правом берегу, а мы с вами — на левом, неподалеку от вашей лавки.
— Я живу на улице Фонтен.
— Подытожим: вы выехали с улицы Фонтен на велосипеде, проткнули шину, починили ее и приехали в лавку поздним утром. В котором часу вы пешком отправились с улицы Сен-Пер в Кур де Роан?
— В одиннадцать или в пять минут двенадцатого. Я не смотрел на часы.
— На то, чтобы починить шину, вам понадобилось два часа? Вы заметно нервничаете, мсье Легри.
— Я больше не стану отвечать на ваши вопросы, пока сюда не прибудут судебно-медицинский эксперт и другие ваши коллеги.
— Не беспокойтесь, они появятся с минуты на минуту. Я уверен, мы раскроем преступление по горячим следам. Что находится во второй комнате?
— Кухня, которая также служит столовой.
— Пойду взгляну. До скорого, мсье Легри!
Инспектор Вальми прошелся по квартире в поисках крана с водой, а Виктор нащупал в глубине кармана помятый конверт, который подобрал на полу. Сидя в кафе в ожидании инспектора, он несколько раз перечитал послание, которое находилось в конверте, а оно вызывало немало вопросов. Почему Александрина Пийот решила завещать свое состояние ему, ведь она его почти не знала? И означает ли этот конверт, что она действительно покончила с собой?
Завещание
Я, нижеподписавшаяся Александрина Пийот, перекупщица, проживающая по адресу Париж, Кур де Роан 12, завещаю господину Виктору Легри, торговцу книгами с улицы Сен-Пер, все мое имущество, находящееся в квартире, лавке и сарае.
Составлено и написано мною лично
в Париже 2 февраля 1896 года.
Далее шла подпись.
Виктор не знал, как поступить с этим документом. Если он оставит его у себя, а инспектор узнает о том, что старьевщица отписала ему все свое имущество, подозрения в отношении него еще более окрепнут, и его арестуют. Может, лучше спрятать завещание на полке между книгами, чтобы полицейские обнаружили его позже? Но Виктор не питал иллюзий: профессионалы найдут все что угодно. Неужели эта бумага существует лишь для того, чтобы указать на него как на убийцу?
Огюстен Вальми снял перчатки и с наслаждением окунул руки в миску, где была замочена белая фасоль. Она напомнила ему скользкую гальку, по которой он ступал в жаркий полдень, когда плескался в реке Гиль, недалеко от дома родителей. Увидит ли он когда-нибудь родные Альпы? И покинул бы их когда-нибудь вообще, если бы в одно воскресенье, когда ему шел десятый год, не увидел девушку в горной речке с кинжалом между лопаток? Это был первый в его жизни труп.
Он осмотрел кухню, заметил вафельное полотенце, висевшее на оконном шпингалете, потянулся к нему, но передумал. Вытер руки носовым платком, аккуратно взял полотенце и положил в бумажный пакет, который достал из кармана пальто.
— Когда ты прекратишь таскать мне полузадушенных мышей? Вот место для твоих охотничьих трофеев!
Таша брезгливо взяла мышь за хвост и, бросив в мусорное ведро, поспешно закрыла крышку. Кошка отчаянно мяукала, требуя вернуть добычу, но Таша вымыла руки и вышла, заперев кошку на кухне. Потом надела строгую черную кофточку с высоким воротником и воланами на рукавах и юбку синего бархата. Ей нравилась сдержанность этого наряда: в нем проще будет пресечь ухаживания Мориса Ломье. А что до него… Если бы только она могла о нем не думать!
Утром Виктор сообщил ей, что сможет прийти в кафе «Прокоп» только когда закроется книжная лавка, и добавил:
— Я понимаю, как тебе хочется пойти туда. Ты иди, не дожидайся меня — встретишься с друзьями, насладишься атмосферой искусства…
Таша с нежностью погладила подаренное мужем колечко с аквамарином, которое никогда не снимала. Надев пару кружевных перчаток, новую шляпку, украшенную черешней, и шерстяное пальто, заперла дверь квартиры. Мастерская в дальнем углу двора манила ее, словно шепча: «Куда ты собралась? Иди лучше сюда. Твоей картине скучно. Ей хочется, чтобы ты ее завершила».
Стараясь не поворачивать голову в ту сторону, Таша быстрым шагом пересекла двор.
С мольберта на нее с едва заметной улыбкой смотрел Виктор. Она начала писать его портрет, когда ей надоели аллегорические сюжеты и иллюстрации к «Эмалям и камеям» Готье. Она работала увлеченно и вдумчиво, как всегда, стремясь постигнуть внутренний мир того, чей портрет писала, и передать свои впечатления зрителю. Это было нелегкой задачей, но Таша не сдавалась. В
данном случае она пыталась передать противоречивую натуру Виктора — его мужество и ранимость, энергию и медлительность, дружелюбие и почти непреодолимую властность.
Чистый прозрачный воздух, блекнущие краски, возвещающие о приходе осени… Легкой походкой Таша прошла по улицам Фонтен и Пигаль, пересекла площадь Святой Троицы и с удивлением обнаружила, что находится на улице Скриб, рядом с «Гран кафе». Она забрела не туда, куда собиралась. Перед лавкой гаванских сигар стояли, бурно жестикулируя, южноамериканцы, которые проводили ее жадными взглядами. Какой бы простой и скромный туалет Таша ни надела, она всегда привлекала мужское внимание, и это ее сердило. Она взяла экипаж. Угрызения совести терзали ее, словно злобные гарпии.
«Ты лицемерка! — говорила она себе. — Утверждаешь, что обожаешь мужа, но стоит ему выйти за порог, как бежишь на выставку якобы для того, чтобы поддержать коллег, хотя на самом деле хочешь видеть
его! Ты одержима мыслями о
нем, и тебе стоит немалых усилий удержаться от того, чтобы с
ним связаться. Ты много раз видела
его во сне и хотя, проснувшись, уверяла себя, что это нелепо, мысли о
нем тебя не оставляют. И ведь ты не решилась открыться перед своим любимым Виктором, лучшим из мужей! Вовсе нет! Притворщица несчастная!»
Таша гнала назойливые мысли, но чувство вины не исчезало. Стоило ей узнать, что она может увидеть
его, как она тут же устремилась
ему навстречу. И то, что Виктор сам отправил ее на вернисаж, не оправдание.
В ней словно спорили два человека. «Еще не поздно все отменить», — подсказывал один, в то время как другой нашептывал: «Зачем отказываться от встречи? Почему бы просто не поболтать с
ним о том о сем. Соблюдая приличия, оставаясь отстраненно-вежливой. Разве это преступление — поинтересоваться, как у
него дела?»
Виктор старался курить меньше, но он был рад, когда ему позволили выйти для этого на улицу, пока судебно-медицинский эксперт производил осмотр тела, а полицейские методично обыскивали квартиру. Он был рад, что больше не видит несчастную мадам Пийот.
Время шло, сгущались сумерки. Виктор попросил у инспектора разрешения позвонить своему помощнику и супруге. Тот кивнул, и Виктор отправился в кафе на бульваре Сен-Жермен, но вернулся оттуда ни с чем: телефон книжной лавки был занят, а у Кэндзи и на улице Фонтен никто не отвечал. Должно быть, Таша уже в «Прокопе».
Виктор вдруг понял, что страшно проголодался, купил кулек жареного картофеля, и только потом поднялся в квартиру Тетушки. Несчастная лежала на своей кровати. Врач, который долго осматривал ее, наконец со вздохом выпрямился и, растирая затекшую спину, принялся что-то докладывать инспектору Вальми. Тот сделал Виктору знак подойти.
— Дорогой мсье Легри, доктор Шеналь сообщил мне, что, по его мнению, женщина скончалась более пятнадцати часов назад. Точнее будет известно, когда произведут вскрытие. Таким образом, если коллеги и супруга подтвердят ваши показания, вы вне подозрений.
— Вы что, собираетесь вызвать мадам Легри в префектуру?! — в ужасе воскликнул Виктор.
— Могу побеседовать с ней дома. Я не тороплюсь. Мы с доктором склоняемся к версии самоубийства, остается только прояснить мотивы. И понять, какую роль сыграла эта несчастная скамеечка для ног… Впрочем, это вас не касается. Однако я прошу вас не покидать город, пока расследование не будет закончено. Ах да, чуть не забыл!
Огюстен Вальми взял чернильницу, перо и чистый лист бумаги.
— Будьте любезны, напишите ваш домашний адрес и адрес вашей лавки.
Виктора не обмануло показное благодушие инспектора. Попрощавшись с ним и с судебно-медицинским экспертом, он отправился на перекресток де Бюси, откуда собирался доехать на фиакре на улицу Фонтен, переодеться. По дороге он пару раз обернулся, уверенный, что за ним следят, и с облегчением убедился, что это не так.
Глава десятая
Вечер того же дня
Жан-Пьер Верберен тщательно все осмотрел, но не нашел больше никаких следов своего друга Бренголо. Он подумал, что имеет смысл поинтересоваться местом, обозначенным на карточке, что лежала в книге.
В омнибусе было тесно, но плавное движение успокаивало. Потом Жан-Пьер шел по улицам, пробираясь сквозь толпу.
Улица Антрепренер была освещена слабо, и салон-парикмахерскую было видно сразу: под оранжевой вывеской с изображением огромных ножниц горели три газовых фонаря, и крупная вывеска бросалась в глаза:
Модест Шамлан
Мытье головы для мужчин и женщин. Стрижка.
Уход за лицом. Борода и усы.
Салон не предоставляет услуг в кредит.
Миловидная девушка в фартучке с оборками предложила ему присесть и подождать, пока она и владелец салона закончат беседу с двумя клиентами. Хозяин крутился вокруг дородного господина, подравнивая ему бакенбарды и попутно комментируя новости из газет.
— Я считаю, что эти белые жезлы, которыми собираются снабдить наших полицейских, — просто абсурд. Разве это помешает машинам давить пешеходов?!
— О, от этого быстро откажутся, — скептически заметил клиент. — Отменили ведь оплату за проезд в омнибусе!
— Но пока что, — продолжил парикмахер, — полицейские гордятся своими жезлами, им кажется, они похожи на французских маршалов. Они даже называют префекта полиции маршалом правопорядка.
Девушка, склонившись к седовласой даме, плечи которой были прикрыты специальной накидкой, говорила, намазывая ей щеки вязким, как смола, кремом:
— Мы стремимся к прогрессу, потому что нетерпеливы. И все же вряд ли пойдем на то, чтобы отправлять назначения больным с помощью почтовых голубей, как это делает один шотландский доктор.
Дама в ответ промычала что-то невразумительное: не решаясь открыть рот из-за крема.
— Повторите, мадам Бюрган, я не разобрала!
Клиентка вытерла губы накидкой.
— Это ненадежный способ, ведь голубя в любой момент могут подстрелить!
Парикмахер энергичным движением стер с щек почтенного господина мыльную пену и принялся расхваливать ему чудодейственное средство, которое можно использовать и как лосьон после бритья, и как средство от выпадения волос. Клиент, видимо, чтобы отвязаться от надоедливого парикмахера, согласился купить флакон. Хозяин салона проводил его до дверей:
— До скорой встречи, мсье Фендорж, надеюсь, вам у нас понравилось: вас не только обслужили по первому разряду, но и снабдили последними новостями!
Он подал клиенту шляпу и пальто, смахнув с них щеткой пылинки, и получил щедрые чаевые.
— Что ж, приступим? — обратился он к Жану-Пьеру Верберену.
Тот и охнуть не успел, как его укутали в пеньюар, обмотали шею скатанным в жгут полотенцем и намазали помазком подбородок. Несмотря на протесты, ему подкрутили густые усы и, властным движением откинув голову назад, защелкали ножницами. Ловко приведя шевелюру клиента в порядок, парикмахер щедро плеснул ему на голову лосьона, и Верберен почувствовал, как струйки затекли ему за воротник. Он взглянул на свое отражение в зеркале, перед которым стояла целая батарея флаконов и пузырьков и лежали всевозможные щетки и расчески. На него смотрел незнакомец — помолодевший и элегантный. Парикмахер, который во время работы беспрерывно болтал о чем угодно, начиная с обсуждения визита русского царя в Копенгаген
[663] и заканчивая информацией о последних моделях велосипедов, бегах и урагане, произошедшем десятого числа, в четверг, произнес:
— А вы не слишком разговорчивы, мсье. Надеюсь, вы остались довольны стрижкой?
Девушка тем временем уже прощалась со своей клиенткой:
— Всего доброго, мадам Бурган, не забудьте нанести крем на ночь, и завтра у вас будет прекрасный цвет лица! — напутствовала она клиентку.
Хлопнула дверь.
— Спасибо, все отлично, — пробормотал Жан-Пьер Верберен.
Пока ему отсчитывали сдачу, он набирался смелости и наконец спросил:
— Вы случайно не знаете моего друга? Его зовут Жан-Батист Бренгар, для близких — Бренголо.
Парикмахер и его помощница отрицательно покачали головой.
— Он клоун? Фокусник? С таким именем…
— Нет, он… э-э-э… путешественник, — пояснил Верберен.
Девушка взяла веник и принялась подметать ошметки волос на полу. Верберена очаровал ее хорошенький вздернутый носик, аппетитные ямочки на щеках, светлые кудри, завитушки на висках и сине-зеленые глаза.
— Люси, закройте салон, — распорядился хозяин. — Я убегаю, жена будет ворчать, если суп остынет!
— А почему вы решили, что этот ваш… Бренголо посещает наш салон? — спросила Люси у Жана-Пьера.
— Я нашел карточку вашего салона в его книге, он использовал ее как закладку.
— Здесь бывают не только постоянные клиенты, — сказала девушка. — Вот вы, например, пришли к нам впервые. Мы с мсье Шамланом иногда обслуживаем совершенно незнакомых людей. Оставьте мне ваш адрес, и если что-нибудь узнаю о вашем приятеле, я вас извещу. — И она протянула Верберену тетрадку, где записывала выручку.
Он написал:
Жан-Пьер Верберен
тупик де Лабрадор 4а
Пятнадцатый округ
— Это недалеко от Брансьонского моста, — уточнил он.
— У вас красивый почерк.
— Я почти тридцать лет работал делопроизводителем.
— Завидую образованным людям! — призналась девушка. — Мой жених работает в военном министерстве. Хотя какой он мне жених! — печально добавила она. — Вот уже неделю он не дает о себе знать…
Смутившись под ее пристальным взглядом, Верберен сослался на поздний час и удалился. Он корил себя за то, что стушевался: наверное, надо было рассказать обо всем, что с ним приключилось: и про Бренголо, и про его книгу, и про кровавые отпечатки, и про найденный ножик. Но он всю жизнь испытывал трепет перед противоположным полом (единственным исключением была Монетт). Вдруг эта молодая особа сочла бы его поведение двусмысленным? К тому же он боялся, что станет запинаться и краснеть. Он и не подозревал, что Люси Гремий с первого взгляда прониклась к нему симпатией.
— Какой приятный мужчина! — прошептала она, снова берясь за веник.
Морис Ломье и Мишель Форестье встретились на улице Ансьен-Комеди у дома 13, где находилось кафе «Прокоп», одно из самых старых в Париже. Морис указал другу на великолепный балкон с кованой решеткой и сообщил, что Фонтенель, Шамфор и Ривароль
[664] сочиняли здесь каламбуры, которые, к сожалению, не вошли ни в одно издание произведений.
— Мими осталась дома, сидит у камина с грогом, у нее сильный насморк, — сообщил Ломье. — И это к лучшему: она мастерица закатывать сцены, а если учесть, что здесь будут хорошенькие женщины…
— Сколько полотен ты выставляешь?
— Всего четыре, мне нужно найти заказчиков.
Жарко натопленный зал был полон. Таша прошла мимо работ Мориса Ломье не задерживаясь, она считала эти поделки недостойными его таланта. А вот у пейзажа, изображавшего шахты на севере Франции, замедлила шаг: ей показалось, они написаны углем. Рядом с автором, бледным и худым, стояла хорошенькая, как кукла, молодая женщина, с темными волосами и множеством украшений на шее и пальцах. Она схватила Таша за руку и потянула к столику, на котором были разложены миниатюры, некоторые размером не больше медальона. Все они были посвящены национальному костюму Греции, родины мадмуазель Электры Стаматис. Так она представилась Таша, болтая без умолку.
— Я тут самая одаренная, а меня задвинули в дальний угол! Теперь, когда умер Верлен, один из моих соотечественников, Жан Мореас
[665] наконец избран королем поэтов! Ах! Верлен недостойно обругал его в своем недавно вышедшем сборнике «Поношения»,
[666] он обвинил Мореаса в том, что тот якобы возомнил себя основателем школы… Ходят слухи, будто подружка Верлена Эжени Кранц страшно нуждается и что она чуть ли не торгует на базаре трубками своего великого любовника…
Ее злоба, сильный акцент и просторечные выражения вызвали у Таша отвращение, и она поспешила отойти к скульптуре белого мрамора, изображавшей обнаженную пышнобедрую женщину с двумя ведрами в руках.
— Безвкусица и разврат! — отрезала дама в зеленой шляпке.
— Мадам, эта молочница — олицетворение крестьянского труда! — возразил итальянский скульптор, раскатисто произнося звук «р».
— Вам нет причин оправдываться, мсье. Во Франции принято считать опасными всех, чей образ мысли отличается от общепринятого, — спокойно заявил человек с внушительной бородой и носом с горбинкой.
— Мсье Франс! Как я рада вас видеть! — воскликнула Таша.
Анатоль Франс поцеловал ей руку и прошептал:
— Тише, дитя мое, я всего лишь обычный посетитель. Здесь есть талантливые художники, им реклама гораздо нужнее. Простите, я вас оставлю, хочу выразить почтение Огюсту Родену, вице-председателю комитета по возведению памятника Верлену в Люксембургском саду.
[667]
Таша проследила за писателем взглядом: он подошел к коренастому человеку, тоже с густой бородой, который оживленно беседовал с… Она его тут же узнала, хоть он и стоял вполоборота. Чуть постаревший, с сединой на висках. У нее комок застрял в горле. К тому же
он украдкой поглядывал на нее! Она смутилась и отвернулась, опасаясь, что
он сразу все поймет, прочитает в ее глазах. Глаза никогда не лгут. Боже! Как глупо было прийти сюда! Таша притворилась, будто разглядывает бюст Дидро и стоявшие рядом другие бронзовые скульптуры необычных вытянутых пропорций.
— Мсье Кемперс, — говорил автору Роден, — вы делаете большие успехи. Фотографии, которые вы мне отправили, не смогли передать, насколько хороши ваши работы. Мне особенно нравится влюбленный, пытающийся удержать свою возлюбленную.
— Я принимал участие в десятке выставок в Берлине, — ответил тот, — и критики были ко мне весьма благосклонны. Но ваше мнение бесценно для меня. Я был в Кале этим летом, ваши «Граждане Кале» — просто чудо! Каждый персонаж — отдельная история. Здесь так убедительно передано движение, эмоции людей, готовых отправиться на казнь ради спасения своего города! Гордая осанка говорит о том, что они достойны звания Человека. Они храбры — и в то же время исполнены отчаяния. А «Поцелуй»! Сколько любовного пыла, чувственности! Вы воспеваете вечную женственность, это прекрасно!
— Дорогой мой, подобно кусту, который обкорнал садовник, женщина сохраняет красоту, даже когда ее уродует беспощадная мода.
— Вы правы, женщина — украшение жизни.
«Неужели для них и я была бы всего лишь моделью?» — подумала Таша.
Знакомый хрипловатый голос, безупречный слог, манера произносить носовые звуки вызвали в ней невыносимую боль.
Он говорил по-французски бегло, не прилагая видимых усилий.
— Вы любить Дидро? — тихо обратился к ней плотный мужчина с дергающейся щекой. — Я принести сюда часть своих работ, девяносто три других оставаться в мастерской. Вы согласиться на них взглянуть?
Она отрицательно покачала головой и пошла к выходу, но Анатоль Франс пригласил ее выпить с ним бокал шампанского. Они направились к буфету, над которым висели портреты Вольтера, Д’Аламбера, Пирона, Руссо, Мирабо.
[668]
— Подумать только, здесь я слушал, как Гюстав Эмар, забыв про своих любимых краснокожих, рассказывал анекдоты, Эмиль Гудо декламировал сонеты, Верлен читал свое первое произведение, «Мадам Обен». Казалье собирал каждый четверг и воскресенье литераторов-новичков, мы пели на мотив Каде Русселя: «Ах! Ах! “Прокоп” — чудесное кафе!». — Он вздохнул. — Где наши молодые годы? Увы! Если раньше вся литературная жизнь Парижа проходила в кафе «Прокоп», теперь молодые поэты обретают славу на Монмартре!
Мимо них прошла быстрым шагом женщина, на лице которой было очень много косметики, явно ради того, чтобы выглядеть моложе. Она остановилась возле Мориса Ломье, который в этот момент чокался с Мишелем Форестье.
— Наконец-то! — воскликнул Форестье. — Морис, это моя тетя, мадам Фелисите Дюкрест, страстная поклонница современного искусства.
Художник посмотрел на мадам Дюкрест: тонкий прямой нос, кроваво-красный рот и мелкие ровные зубы. «А она ничего…», — подумал он.
— Мой друг работает в технике клуазоне,
[669] но вынужден растрачивать свой талант на куда более примитивные вещи.
— Ты склонен к преувеличению, — сказала племяннику дама и повернулась к Ломье. — Ваши картины вовсе не примитивны, они лаконичны, и это очень современно.
Морис Ломье был польщен.
— Вы будете разочарованы, я не способен превзойти неописуемую мазню, которую нынче вывесили в салоне на Елисейских полях.
— Вы слишком категоричны. Мне нравится академичность, классические жанровые сценки… Рано или поздно начинаешь уставать от фиолетовых лошадей, оранжевых женщин и шоколадных деревьев… Я шучу, молодой человек, — заметила дама, увидев выражение лица Ломье. — Для меня нет художника лучше Гогена. Хотя мне нравится и Ренуар, а несколько его полотен украшают мое скромное жилище.
— Черт возьми, в наше время всюду царит вульгарность! — воскликнул Мишель Форестье. — А критики превозносят посредственность! Например «После бани». Они пишут, что это ода материнству, а я вижу лишь толстых щекастых купидонов, которые пристают к робким нимфам. Что за пошлость! Мои гипсовые святые и мадонны с большим правом могут именоваться произведениями искусства…
— Ну-ну, дорогой племянник, — похлопала его по руке перчаткой мадам Дюкрест, — придет и твой час, и ваш тоже, мсье…
Перед тем как оставить их, Морис Ломье огляделся и с удовольствием увидел стоявшую неподалеку Таша. Он потянул ее за руку.
— Но, Морис, это невежливо… — попыталась воспротивиться она.
— Он прав, зачем вам этот старый сатир, мадмуазель! — воскликнул Мишель Форестье.
— Как не стыдно, мсье, это же великий Анатоль Франс!
— Да хоть президент Республики, это ничего не меняет. Разрешите представиться, меня зовут Мишель Форестье, мы с Морисом вместе учились в школе искусств, на отделении скульптуры.
— Здесь меня знают как Таша Херсон, но теперь я мадам Легри, — представилась Таша.
— Боже мой, как здесь душно, я вот-вот потеряю сознание! Надо же было выбрать эти кости именно сегодня! — проворчала Фелисите Дюкрест.
— Простите, не понял… — оторопел Ломье.
— Мсье, нам с этой милой девушкой нужно посекретничать.
И она увела Таша в другой конец зала, где было почти пусто — лишь несколько особо любопытных посетителей разглядывали статуэтки шотландских горцев в килтах.
— О чем вы? — прошептала Таша.
— О корсете, дорогая, — косточки расходятся в стороны и великолепно поддерживают грудь. Это новая модель. Выглядишь в ней очень эффектно, но при этом страшно жарко и неудобно.
— Мне трудно вас понять, я вообще не ношу корсет, — тихо призналась Таша.
—
Good morrrning, ladies, my name is Ellen Mac Gregorrr, — громогласно заявила внушительная матрона, подходя к ним. Она писала маслом шотландцев в окружении стада длинношерстных овец.
— Кто эта рыжеволосая Венера? — спросил Мишель Форестье у Ломье. — Фантастическая женщина! Жаль, Фелисите ее увела…
— Таша занимается живописью. Но, увы, она замужем за книготорговцем, а он ужасно ревнив.
— Мне нет дела до чьих-то мужей. Это несносное племя, от которого стоило бы избавиться. Но… что это с ней? — И Мишель Форестье со всех ног бросился к Таша, которая чуть ли не упала в его объятия. Он помог ей дойти до стула, и она попросила Фелисите принести ей стакан воды.
— Что с вами?
— Здесь так душно!
— Вам лучше?
— Да, только слегка подташнивает, — пробормотала она.
Воспользовавшись моментом, Мишель Форестье сунул клочок бумаги в ее сумочку.
— Тут имя и адрес, умоляю, не откажите в свидании! Увидев вас, я почувствовал…
Подошла Фелисите с водой, и он умолк. Таша, сделав глоток воды, поднялась.
— Благодарю. Мне пора домой.
— Позвольте хотя бы нанять для вас экипаж.
— Спасибо за заботу, но, думаю, мне лучше пройтись.
— Одной?! Ночью?! После того, что с вами было? Я вас провожу…
— Нет, мсье. Этим займусь я, — остановил его стройный, гладко выбритый мужчина с каштановыми волосами.
К удивлению Форестье и его тетушки, Таша не протестовала. Они изумленно смотрели, как пара удаляется.
— Если она так легко согласилась уйти с этим Кемперсом, — буркнул Форестье, — то почему противится моим ухаживаниям?..
— Ты взял фамилию матери, Ганс? — поинтересовалась Таша, когда они зашли в кабачок на площади Одеона.
— Я решил навсегда покончить с прошлым. Поскольку мы с Фридой разошлись, я…
— Значит, ты ее бросил, — Таша старалась говорить непринужденным тоном. — И наверняка нашел новую Галатею. Кто она, певица, писательница, художница, скульпторша?
Они сидели так близко друг к другу, что она спрятала руки под стол, чтобы устоять перед искушением и не погладить его по макушке, как часто делала когда-то.
Он грустно рассмеялся и, осушив полкружки пива, ответил:
— Ошибаешься, это она меня бросила: влюбилась в офицеришку из Лейпцига. Теперь они растят нашего отпрыска.
— У тебя есть сын?
— Гельмут, ему уже пять. А у тебя?
— Я вышла замуж за книготорговца, его зовут Виктор Легри, и мы очень любим друг друга. Детей у нас нет.
— Понятно. Судя по всему, он тебя никогда не критикует. Поэтому в твоих картинах, хотя ты, несомненно, выросла по сравнению с берлинским периодом, слишком много светлых оттенков, да и перспектива порой искажена. Или таков твой авторский замысел?
Таша решила не отвечать на этот укол.
— Ты шпионил за мной? — спросила она.
— Я в Париже уже два месяца. Старые связи помогли мне получить доступ к частным коллекциям, в том числе к тем, в которых есть и твои работы.
— Я должна гордиться таким интересом? И поблагодарить тебя за похвалу?
— А почему бы и нет? Ты ведь ничего не забыла. А мы с тобой пережили незабываемые моменты…
— Да, втайне от твоей жены. И не говори, что ты страдал из-за нашего разрыва!
— Страдал.
— И сожалеешь, что мы расстались…
В ожидании ответа ее сердце ухнуло куда-то вниз.
— Да, — ответил он серьезно.
— Слишком поздно, Ганс!
— Я знаю. И все равно рад тебя видеть. Ты сердишься на меня, но… То, что я говорил тебе по поводу твоих работ, я считал правильным тогда и не изменил своей точки зрения сейчас. Не смотри на меня так! Ты очень талантлива, и хотя мои замечания казались тебе обидными, я лишь хотел помочь. Мне тоже не удалось избежать нападок, но именно искренние оценки настоящих друзей помогли мне добиться успеха.
— Браво, Ганс! — с иронией воскликнула Таша. — Раз уж тебя превозносит до небес Роден, думаю, ты и правда способен разъяснить, что подразумевается под правильной перспективой и композицией.
Он печально вздохнул.
— Ты ничуть не изменилось. И все равно мне жаль, что ты меня оставила…
— Сначала я, потом твоя супруга. Не повод ли задуматься? Может, женщин раздражает твой менторский тон?
— У каждого свои недостатки. Однако признай: мы очень подходим друг другу. Никогда, слышишь меня, и ни с какой женщиной — ни до тебя, ни после — я не испытывал такого физического наслаждения.
Очарованная звучанием его бархатистого голоса, Таша погрузилась в их общее прошлое. Воспоминание о желании, которое он ей внушал и с которым она неистово боролась, заставило ее прийти сегодня в кафе «Прокоп». Но она горячо любила Виктора, и с ним ей было хорошо, ведь их связывала любовь, основанная на взаимном уважении… Неужели все дело в том, что Ганс был ее первым мужчиной, и ее тело до сих пор помнит его ласки?
Она встала.
— Мне пора, прощай.
— Ладно тебе, давай помиримся. Да, я справлялся о тебе. Заходил на улицу Сен-Пер, беседовал с Виктором Легри. Должен признать, как это ни горько, он славный человек.
Таша в ужасе посмотрела на него.
— Он знает, кто ты?!
— Нет, успокойся. Я для него обычный клиент. К тому же скоро покину Париж.
Таша ощутила облегчение и одновременно легкую грусть.
— Подожди меня, — попросил он. — Я на минутку зайду в «Прокоп», чтобы объяснить, куда запропастился, и вернусь, чтобы проводить тебя домой. Обещаю, буду вести себя благоразумно.
Когда он ушел, Таша захотелось ускользнуть. Зачем ей возвращаться в ту, другую жизнь? И все же она почему-то осталась, дождалась его возвращения.
— Ну вот, я испачкалась маслом, не поищешь мне «Бензин Коллас»,
[670] сынок? — попросила Эфросинья, лакомясь форелью с миндалем.
Жозеф недовольно поморщился, но повиновался. Айрис и Кэндзи молча переглянулись.
— Мсье Мори, какая неприятность! Я прочла в одной из газет, которые рву для туалета, что цунами ужасной силы разрушил три японских провинции, погибло двадцать семь тысяч человек! Надеюсь, никто из вашей семьи не пострадал!
— Успокойтесь, мадам Пиньо, у меня нет родственников в провинциях Мияги, Ивате и Аомори.
— Тем лучше. А в Киото у вас есть родственники?
— Троюродный кузен.
— Он, наверное, как и вы, обожает прогресс. В вашей стране пустили первый электрический трамвай в двадцать шесть вагонов, который может проехать восемнадцать километров.
— Моя страна Франция, но я рад, что вы так интересуетесь Японией.
— Что ж поделаешь, если моя внучка тоже имеет к Японии отношение! Как знать, может, в один прекрасный день я отправлюсь туда вместе с вами. Вот пока и собираю информацию.
— Мама, держи свой пятновыводитель, — протянул ей бутылочку Жозеф. — Пахнет он не очень, думаю, лучше воспользоваться им после ужина. Айрис тебе поможет.
— Что ж, форель вам удалась, — заметила Эфросинья, — но, если бы ее готовила я, то жарила бы чуть дольше и добавила чуточку молока и муки. Ну и, конечно, положила бы меньше масла.
— Дорогая Эфросинья, — улыбнулась Айрис, — если путешествие к самураям, которого вы так ждете, действительно состоится, туда отправится целая делегация…
Все недоуменно посмотрели на нее, не понимая, к чему она клонит. Айрис смущенно потупилась:
— У нас скоро будет прибавление…
Кэндзи и Жозеф молча уставились друг на друга. Эфросинья поперхнулась.
— Что… Что это значит? — пробормотал Жозеф.
— Я сегодня была у доктора Рейно, и он подтвердил: я беременна. Малыш родится в апреле следующего года.
Жозеф был рад и напуган одновременно. Прокормит ли он еще одну кроху?
Он поцеловал Айрис, и Кэндзи тоже обнял дочь, мечтая о внуке. Что до Эфросиньи, то она скороговоркой забормотала свои «Хвала Господу!», «Иисус-Мария-Иосиф!» — и всевозможные советы.
— Надо ввести в рацион хоть немного мяса, не то родите хилого мальчишку с соком репы вместо крови в венах! И вообще, с сегодняшнего дня я беру стряпню на себя!
— Меня зовет Дафнэ, извините… — сказала Айрис и вышла.
— У тебя будет сестричка! — объявила она малышке и добавила то, что не решилась сказать в лицо свекрови: — А я все равно не стану есть мясо! И сама буду готовить!
Она села за пианино. Ей никак не давалось адажио из Первой сонаты Баха. Айрис знала, что у нее нет способностей пианистки, но ей нравилось играть. Она мечтала о том, что у Дафнэ, когда малышка подрастет, это будет получаться лучше, чем у матери. А еще о том, что во время беременности у нее будет время, чтобы закончить сказку о коте с острова Мэн и даже начать новую, о тигре-вегетарианце, начало которой она придумала бессонной ночью.
Жозеф, Эфросинья и Кэндзи тоже пришли в гостиную. Жозеф, не вслушиваясь в неуверенные звуки, извлекаемые женой из инструмента, погрузился в мысли о своем творчестве, которое — он этого страстно желал — в конце концов принесет ему успех и богатство. Теперь ему придется содержать четверых, а это не так-то легко! Он вновь вернулся к сюжету романа «Адский фиакр», но довольно скоро зашел в тупик.
«Ну хорошо, начало у меня есть, но что же будет дальше?..» — спросил себя Жозеф и почти тут же задремал под звуки Баха.
Эфросинья мысленно подсчитывала пеленки и слюнявчики, которые предстояло приобрести, не говоря уже о колыбельке, ее тоже придется покупать, ведь колыбельку Дафнэ непутевые сын и невестка зачем-то отдали в пользование двум гадким собачонкам, которые моментально разгрызли ее в щепки.
Тем временем Кэндзи представлял себя старым, сгорбленным, опирающимся на любимую трость с набалдашником в форме лошадиной головы, в сопровождении целой толпы озорников. Еще один внук? Значит, старость уже на пороге! Расстроенный, он вышел на улицу, сославшись на мигрень. Но путь его лежал не на Сен-Пер, нет! Он нуждался в поддержке: ему хотелось получить доказательства того, что он еще полон сил.
Когда он позвонил в квартиру на улице Дюн, Джина уже собиралась ложиться спать. В расшитой гладью сорочке из белого нансука
[671] и чепчике с оборками, она стелила постель. Ее кровать стояла в углу просторной комнаты с палевыми обоями, где висели вперемешку копии японских гравюр и акварели Таша.
Она приоткрыла дверь. Кэндзи был взволнован, он прерывисто дышал:
— Прости, что пришел без предупреждения! Я так хотел тебя видеть, ждать не было сил… Мысль о том, что проведу эту ночь в одиночестве, для меня невыносима. Если я мешаю, готов подремать на диване, а завтра рано утром уйти…
Джина легонько стукнула его кулачком в грудь, делая вид, что рассержена, хотя в глубине души ликовала.
— Кажется, мы договорились…
— Умоляю, всего один поцелуй, чашка зеленого чая, и я уйду!
— Ну уж нет, я тебя не отпущу! Значит, ты меня любишь?
Ей хотелось услышать от него эти слова, ведь до сих пор он всегда уходил от прямого ответа.
— Ты сама знаешь.
— Так скажи это!
Он сжал ее в объятиях.
— Да, люблю!
Виктор метался по квартире как тигр в клетке: спальня, лаборатория, кухня, коридор, спальня. Кошка следовала за ним, но он ее не замечал.
Таша рассердится! Что придумать в свое оправдание, как объяснить ей, почему он не пришел в «Прокоп»? И почему она задерживается? Рассказать ей про это самоубийство? Или убийство… Нет, она придет в ярость, узнав, что он начал очередное расследование! А еще его мучила мысль о том, что он скрыл от полиции завещание Тетушки…
Он услышал шаги и голоса. Подошел к окну. Две нечеткие тени на тротуаре то расходились, то сближались. Таша. Но не одна. Мужчина поддерживал ее под локоть, а она склонилась головой к его плечу, а он шел прямо, словно не замечая ее восхитительной близости. Внезапно Таша резко повернулась и очень быстрым шагом направилась в мастерскую. Мужчина несколько секунд помедлил и двинулся к воротам.
Виктор стоял, прижав лоб к стеклу, и слушал, как неистово бьется сердце. Наконец, сделав над собой усилие, пересек двор. Войдя в мастерскую, увидел на кровати Таша. Она зажгла всего одну свечу и теперь лежала неподвижно.
— Прости, я не мог… у меня возникла проблема. Торговка, которая обещала книги… она… Что с тобой, ты заболела?
— Нет, просто устала. Все эти самодовольные мазилы, не признающие женщин в искусстве… А еще я снова столкнулась с антисемитизмом. Мне стало плохо. Знакомый Ломье подвез меня на фиакре.
— Я звонил, чтобы предупредить, но тебя уже не было дома… Ни с Кэндзи, ни с Жозефом мне тоже не удалось связаться…
— Это неважно, любимый, ты ничего не потерял, эта выставка — просто собрание безвкусицы!
— Ты останешься здесь?
— Ты иди, я скоро приду.
Виктор вернулся в квартиру. Он солгал ей, она ему тоже. От этой мысли его затошнило. Он запер кошку на кухне и нырнул под одеяло. Когда Таша легла рядом, ему захотелось ее обнять, но она отвернулась.
Виктора мучило чувство вины. Ну почему он не пошел в кафе «Прокоп» прямиком с Кур де Роан? Все из-за этого инспектора!
Наконец все мысли оставили Виктора, и он отдался во власть Морфея.
А Таша снилось, что ее преследует разъяренная толпа, и в последнюю минуту ее спасает от толпы брюнет, чье лицо она никак не может разглядеть.
Глава одиннадцатая
17 сентября
Ночь была теплой. Через несколько часов дневной свет проникнет сквозь шторы, и все пойдет своим чередом. В полумраке Огюстен Вальми не различал коричневые прямоугольники бежевых обоев, которыми были оклеены стены, и кабинет казался ему почти приятным.
Он зевнул, посмотрел на свои ногти и удобно устроился в кресле, приготовившись выслушать судебно-медицинского эксперта.
— Рассмотрев под микроскопом полотенце с кухни мадам Пийот, — начал тот, — мы обнаружили мельчайшие частички эпидермиса, которые могли попасть туда, если бы шею сильно сдавили вафельной тканью. Таким образом, жертву могли сначала удушить, а затем повесить.
— А более точный вывод сделать нельзя?
— Убийцы редко вешают свои жертвы.
— Не так уж мало самоубийств, которые принимают за убийства, привлекая к ответственности невиновных. Дело Каласа
[672] — самый известный тому пример.
— Того самого, в защиту которого выступил Вольтер?
— Именно. Эксперт, утверждавший, что Жан Калас убил собственного сына, в прошлом сам был палачом. У него спросили, мог ли человек повеситься на притолоке двери, и он ответил, что такое случается — хотя и редко.
— Зачем нам обсуждать события двухвековой давности?! Лучше скажите, что нам дают эти частички кожи на полотенце?
— Этого недостаточно для подтверждения версии об убийстве. Мадам Пийот могла и сама им вытираться… Однако когда шею затягивает удавка, от нее остается характерный след, так называемая странгуляционная борозда. При суициде она почти горизонтально идет через гортань и трахею, в то время как у повешенных поднимается к затылку. В данном случае мы имеем второе, то есть мадам Пийот сначала была задушена, возможно, с помощью полотенца, а затем повешена.
— Следовательно, это убийство?
— Согласно установленным фактам, да.
Огюстен Вальми покинул полицейское управление только к двум часам ночи. Он возвращался домой пешком, вдоль Сены. Поравнявшись с мостом Нотр-Дам, он почему-то вспомнил Жавера из «Отверженных». Именно здесь глубокой ночью, терзаемый угрызениями совести, тот бросился в воду. Огюстен Вальми вздрогнул. Ему был симпатичен инспектор, старавшийся держаться холодно и отстраненно, но не чуждый человечности и сострадания. «Отверженные» и упомянутое сегодня дело Каласа вызывали в нем меланхолию, он терял уверенность в себе.
— Не нравится мне эта история… Однако если эту несчастную женщину все-таки убили, я это выясню. Прежде всего следует найти мотив.
Кошка вьюном вилась вокруг ног Виктора и пронзительно мяукала, требуя еду. Он даже не сразу услышал стук в дверь. Едва успев накинуть халат, Виктор провел инспектора Вальми в фотолабораторию, чтобы Таша могла одеться. С взъерошенными после сна волосами и в халате он стоял перед безукоризненно одетым полицейским и чувствовал себя не в своей тарелке.
— Чем обязан столь раннему визиту?
— Примите мои извинения, я, должно быть, вытащил вас из постели. Но меня ждет тяжелый день, и я решил начать его с визита к вам, потому что у меня хорошая новость. Сегодня ночью мы изучали бумаги мадам Пийот. Своим наследником она назначила вас, мсье Легри, отписав вам все свое движимое имущество. Вам надлежит уплатить налоги и расторгнуть договор аренды на квартиру и сарай. Вот ключи.
«Вот все и выяснилось!» — подумал Виктор.
— Вы пришли, чтобы меня арестовать?
— Почему?
— Но у вас есть отличный мотив!
Огюстен Вальми изобразил улыбку.
— Ну что вы, мсье Легри, разве я могу заподозрить в вас преступника? Среди безделушек мадам Пийот нет ничего ценного, а продажа всего этого добра отравит вам существование на несколько недель, если не больше. Если только последнюю волю мадам Пийот не оспорит какой-нибудь неизвестный нам родственник. Впрочем, судя по всему, она была совершенно одинока. Версию о самоубийстве подтвердило медицинское освидетельствование, которое погибшая проходила еще в июле: мадам Пийот страдала серьезным заболеванием сердца. Она была обречена и, вполне вероятно, знала об этом. Следовательно, мы не будем производить вскрытие.
— Вскрытие? Кто-то умер? — воскликнула Таша, входя. Она была в бледно-зеленых блузке и юбке, и этот цвет очень шел к ее белой коже и рыжим волосам, свободно спадавшим на плечи.
«Какая хорошенькая!» — подумал инспектор Вальми.
— Мадам Легри? Я инспектор полиции Вальми.
Таша вопросительно посмотрела на Виктора. Он сделал вид, что занят кошкой.
— Доброе утро, мсье Вальми. Если я вам не нужна, не буду нарушать ваш тет-а-тет.
— Ошибаетесь, мадам, требуется ваше присутствие. О, это пустая формальность! Скажите, ваш супруг не отлучался от вас в ночь со вторника на среду?
— Позвольте, но… — возмутилась Таша.
— Дело в том, что вчера он имел несчастье обнаружить тело некоей мадам Пийот, старьевщицы. Ее повесили… Невиновность вашего супруга очевидна, однако я обязан взять у вас свидетельские показания, таков порядок.
Виктор боялся поднять голову и встретиться глазами с Таша, а потому по-прежнему гладил кошку.
— Теперь ошибаетесь вы, мсье Вальми. Разумеется, я в курсе дела, мне всего лишь хотелось вас проверить. Да, муж был со мной этой ночью, как и всегда. И надеюсь, так будет и впредь.
— Нисколько не сомневаюсь! Разве можно оставить такую обворожительную даму одну!
— Благодарю за комплимент, инспектор. Однако вы, мужчины, порой бываете легкомысленны, а потому мы, женщины, всегда готовы к худшему.
Инспектор поцеловал Таша руку, задержав ее в своей немного дольше, чем требовала простая любезность. Он был очарован этой женщиной: красота и молодость сочетались в ней с острым умом и достоинством.
Виктора возмутило поведение инспектора. «Мужлан! Он что, не знает, что женской руки губами следует едва коснуться?!»
— Только безумец способен огорчить такую женщину, как вы, мадам, — пробормотал инспектор. — Мсье Легри, прошу вас ознакомиться с вашим наследством, полученным от мадам Пийот. Если найдете что-нибудь, проливающее свет на возможную причину самоубийства, прошу незамедлительно об этом сообщить.
Кошка проводила гостя до самых дверей.
— Ты опять солгал мне! — воскликнула Таша, закрыв за инспектором дверь. — Сказал, что старьевщица исчезла, а она, оказывается, умерла! И возможно, убита!
— Я не хотел тебя волновать.
— Но ты попал под подозрение!
— Это уже в прошлом, медицинская экспертиза доказала, что я тут ни при чем.
Виктор пытался ее обнять, но она вырвалась и отпрянула.
— Всегда одно и то же! Лжец, лжец, гадкий лжец!
— А ты, любовь моя, всегда говоришь правду? Тогда скажи, кто этот человек, который провожал тебя, когда ты возвращалась из «Прокопа»?
Таша залилась краской, но быстро взяла себя в руки.
— Это приятель Ломье, скульптор, не припомню его имя… Я говорила тебе, мне стало плохо, и он любезно предложил проводить меня домой.
— И был очень нежен… Или мне показалось?
— Прекрати, Виктор! Ты изводишь меня своей ревностью! И мне надоели эти твои расследования! — Она зарыдала и бросилась вон, чуть не наступив на кошку.
Виктор подхватил ее и сжал в объятиях.
— Давай не будем ссориться! Я доверяю тебе, а ты, пожалуйста, ответь мне тем же! Возможно, вчера мы не поняли друг друга…
Таша всхлипнула и подняла к нему лицо.
— Обещай мне, что будешь осторожен!
— Дорогая, ну что может быть опасного в том, чтобы разобрать всякое старье и безделушки? Я только одного не могу понять: почему мадам Пийот завещала все мне?..
— Может, она была в тебя влюблена?
— Хочешь поменяться со мной ролями? — пошутил Виктор. — Мне надо позвонить Жозефу, хочу, чтобы он присоединился ко мне в Кур де Роан. Я позавтракаю в городе.
Таша слышала, как Виктор беседует с Жожо, и думала о том, что этот лукавый инспектор лишь сделал вид, что не подозревает Виктора. Но потом все затмил образ Ганса.
Люси Гремий проснулась в дурном настроении. Она опять провела ночь в одиночестве на двуспальной кровати, которую купила, когда стала встречаться с Альфонсом Баллю, и это была для нее серьезная трата, образовавшая ощутимую брешь в бюджете. Не говоря уж о том, что кровать заняла очень много места в комнатке, которую снимала Люси. Там умещался еще только громоздкий шифоньер орехового дерева с резными дверцами, а клетка с двумя канарейками и маленький туалетный столик, на котором стояли таз и кувшин для умывания, едва втиснулись между окном и шифоньером.
Каким бы тесным ни было это гнездышко, Люси пришлось немало потрудиться, чтобы позволить его себе, ведь в 1894 году она приехала из Бордо без гроша в кармане. Ей нравилось работать в парикмахерской у Модеста Шамлана, он не приставал к ней, не критиковал и всегда вовремя платил. Но Люси этого было мало, и хотя ухажеры у нее были всегда — Люси Гремий была хорошенькой, — ей хотелось более серьезных отношений. Она мечтала о постоянном партнере, который в конце концов сделает ей предложение, и тогда ей не надо будет больше работать. Детей у них будет двое. И, конечно же, просторная светлая квартира.
Когда она познакомилась с Альфонсом Баллю, ей показалось, что он — тот, кто ей нужен. И вот, пожалуйста, Альфонс исчез! Почему? У нее появилась соперница? Необходимо все выяснить и добиться от любовника объяснений. Люси отправила Модесту Шамлану записку, отпросившись с работы по причине ежемесячного недомогания, припудрила носик и спустилась вниз.
Во дворе она увидела Жаклин, двенадцатилетнюю дочку портье, болезненную девочку, которая постоянно читала в журналах романы с продолжением, а затем воображала себя прекрасной бедной модисткой, в которую влюбился принц, переодетый нищим. Люси подозвала девочку.
— Жаклин, я дам тебе десять су, если ты отнесешь это послание в парикмахерскую.
— У меня нет времени, я должна дочитать роман Поля Феваля
[673] и потом пересказать его маме.
— Ну и лентяйка же ты! Хорошо, двадцать су. Это очень большие деньги! Ты сможешь купить себе шелковую ленточку в косу!
Жаклин смилостивилась. Она нехотя взяла конверт и поплелась со двора, еле переставляя ноги. Люси Гремий убедилась, что девочка ушла, и направилась к площади Богренель.
— Вам телеграмма! — объявил Адемар Фендорж накануне вечером, кладя конверт на сервировочный
столик семейного пансиона. Арманда Симоне вскрыла послание и прочла:
Не болтай об исчезновении Альфонса Баллю. Иначе все узнают, что почтенная хозяйка семейного пансиона — бывшая потаскуха.
Мадам Симоне провела бессонную ночь. Кто это написал, мужчина или женщина? Откуда ему известно о ее прошлом? К чему эти угрозы? Анонимка, даже спрятанная под бельем в глубине комода наводила на Арманду Симоне ужас. Но ей не хватало мужества ее уничтожить. Кто пытается запугать честную вдову? Один из квартиросъемщиков? Сосед? Александрина Пийот? Или сам Альфонс Баллю, который опасается, что она предаст огласке его непристойное поведение? Если так, сюда он больше не вернется — она уже отправила пожитки бравого капитана на улицу Виоле.
— Вы чем-то обеспокоены, душа моя? — поинтересовался Адемар Фендорж.
Покончив с завтраком, он зашел на кухню, где Арманда Симоне давала служанке указания. Фендоржу больше нравились молоденькие девушки, но он мудро рассудил, что в его возрасте следует соблюдать осторожность и жениться не по любви, а по расчету. Именно поэтому он в последнее время стал оказывать хозяйке знаки внимания.
— Цены опять подскочили! Завтра постный день, так что будем есть рыбу на обед и ужин.
В дверь позвонили. Катрин вышла, а потом вернулась и сообщила хозяйке, что к ней пришла некая Люси Гремий.
— Очаровательная парикмахерша, — весело прошептал Адемар Фендорж.
— Я приму ее в гостиной, — объявила Арманда Симоне.
Она однажды видела в окно эту девицу под ручку с Альфонсом Баллю и сразу возненавидела Люси за молодость и красоту.
Знает она этих жеманниц! Охмурят какого-нибудь простофилю и потом всю жизнь пьют его кровь. Уж ей ли, Арманде Симоне, не знать, насколько они лицемерны!
Люси Гремий нервно ходила по комнате. Хозяйка сухо с ней поздоровалась.
— Мадам, скажите, бога ради, что случилось с мсье Баллю? Он заболел? Или занят по службе? Он не показывался у меня уже почти неделю!
— А почему он должен информировать вас о своих планах?
— Потому что мы с ним друзья! — весело объявила Люси Гремий.
— Мсье Баллю покинул мой пансион в субботу без каких-либо объяснений. Не получив от него вестей, я сделала вывод, что он уехал. Тайком.
— Но это невозможно! Он ведь военный!
— Почему же? — проворчала Арманда Симоне, сдувая пыль с засушенного поблекшего букета. — Военные тоже люди.
— Он бы меня предупредил! Скажите, у него есть в Париже родственники?
— Мне об этом ничего не известно.
— Но он, кажется, упоминал о какой-то кузине…
— Вы неправильно его поняли. Он сирота.
Люси Гремий поняла, что ей ничего не удастся узнать — хозяйка пансиона настроена к ней столь враждебно, что даже отрицает очевидное. Люси знала, что Альфонс каждую субботу встречается с кузиной, и обижалась за это на любовника. Жаль, что она не спросила ее адрес! Что ж, раз здесь она потерпела неудачу, у нее остается единственный шанс его найти — обратиться в военное министерство. Но Люси не решалась туда отправиться из опасения рассердить Альфонса. Она распрощалась и вышла.
Арманда Симоне бросилась к окну.
Их было нетрудно заметить, этих двоих, пристроившихся в разных углах Кур де Роан. Лохмотья были слишком тщательно изорваны, а позы нарочито беспечны. Виктор понял: инспектор ему не доверяет. И дело не только в том, что он получил от старьевщицы наследство. Если за ним организовали слежку, значит, версия о самоубийстве не нашла подтверждений. Он и сам сомневался, что мадам Пийот покончила с собой — ему не давала покоя пресловутая скамеечка для ног. Она не могла находиться там, где он об нее споткнулся, даже если бы Тетушка оттолкнула ее ногой.
Значит, лишь кто-то третий мог оставить скамеечку слева от сундука. И эта деталь из тех, какие помогают раскрыть даже безупречно спланированные убийства. И хотя инспектор Вальми предположил, что мадам Пийот предпочла сразу расстаться с жизнью, нежели медленно умирать от болезни, Виктору трудно было поверить, что такая энергичная и жизнерадостная женщина способная принять подобное решение. Но тогда каков мог быть мотив убийцы?..
Ночью в его сознании промелькнул какой-то неясный образ, но он не мог понять, как это связано с преступлением. Ему привиделась коробочка из-под мигренина, из которой торговка вытряхнула тогда на ладонь миниатюрную книжечку, воняющую рыбой. И все же это была зацепка, и она манила Виктора, словно запах мыши кошку.
Это состояние было ему хорошо знакомо: оно накатывало внезапно, словно приступ лихорадки, и в такие мгновения разум непостижимым образом улавливал тайную связь событий, скрытые намерения людей и мотивы их действий.
Он решил начать расследование с квартиры мадам Пийот. После обыска тут повсюду валялась одежда, на матрасе лежала скомканная простыня, на полупустых полках осталось несколько книг и безделушек. У Виктора сжалось сердце, он подумал об иронии судьбы: совершая Великий Переход, человек совсем ничего не может взять с собой… А ведь все эти вещи так много значили для несчастной Тетушки! Он поднял упавший горшок с резедой и аккуратно поставил на полку — между фарфоровыми фигурками собачек.
Он обшарил всю квартиру, но так и не нашел того, что искал. Вероятно, коробочку из-под мигренина забрали полицейские… Или убийца? А может, Александрина Пийот унесла ее и спрятала среди хлама в сарае… «Рано или поздно мне придется тут все разобрать», — подумал Виктор, но пока у него еще не хватало на это решимости.
Он перекусил бифштексом с картофелем в ресторанчике на улице Эперон и вернулся в квартиру в ожидании Жозефа. Тот пришел через час, запыхавшийся и мрачный.
— Кэндзи мечет громы и молнии, он уверяет, что вы обещали весь день быть в лавке, а я должен с утра до ночи разносить заказы. Я сказал, что отправляюсь к Шанморю, букинисту с моста Сен-Мишель.
— Которого постоянно арестовывают за неподчинение властям?
— Именно. Он обещал оставить для вас книгу с экслибрисом Антуана Шевалье.
[674] Возможно, он врет, но я слышал, как он хвастал этой покупкой перед своим соседом, тоже уличным торговцем.
— Будем надеяться, что Кэндзи не потребует от него подтверждения этих слов, — проворчал Виктор.
— Ну, рассказывайте, зачем вы меня вызвали? Здесь все перевернуто вверх дном, разве можно что-то отыскать в таком бардаке?
Виктор изложил ему ход событий, начиная с откровений Тетушки и до не слишком приятного визита инспектора Вальми на улицу Фонтен.
— Александрина Пийот назначила меня своим наследником. Полиция, похоже, склоняется к тому, что ее убили… Я стал предметом их пристального внимания, я…
— Постойте! Александрина Пийот — это та самая, которая, по мнению мадам Баллю, похитила ее кузена Альфонса?
Виктор кивнул. Он совсем забыл про Альфонса. Какова его роль в этом деле? И куда же он исчез?
— Итак, мы снова начинаем расследование! — с воодушевлением воскликнул Жозеф. — Что у нас есть?
— Помните загадочные формулы, которые я переписал в свой блокнот? Кстати, вы мне его так и не вернули!
— Конечно помню! Да они у меня из головы не идут! Я полночи пытался понять, что это может означать.
— Миниатюрную книжечку, из которой я их скопировал, мадам Пийот хранила в коробочке из-под мигренина.
— Ну и что?
— Не могу ее отыскать. И перепоручаю эту миссию вам, поскольку Кэндзи жаждет видеть меня в книжной лавке. Имейте в виду, квартиру я уже обшарил, осталось поискать в сарае, но там беспорядок еще хуже, чем здесь. Боюсь, на поиски уйдет не один день. Уходя, запрете дверь на ключ. И не обращайте внимания на субъектов, что бродят поблизости, наблюдая за нами.
— Жаль, инспектор Лекашер ушел на покой… Он предоставлял нам полную свободу действий. Ну, ладно, идите, вас ждут, а я, как всегда, займусь самой черной работой.
— Перестаньте, Жозеф! Я вам очень благодарен! И люблю вас не только как соратника, но и как родственника.
— Кстати, вам нравится роль дядюшки?
— Что за странный вопрос?
— Мы с Айрис ждем появления на свет еще одного маленького Пиньо.
— Но это же здорово!
Виктор завидовал шурину. У них с Айрис вот-вот родится второй ребенок, а они с Таша… Виктор успокаивал себя мыслью, что не годится на роль отца.
Наконец Виктор ушел, и Жозеф глубоко задумался. Ему казалось, он понимал, что переживает Виктор, у которого пока нет еще своих детей. Но ведь рано или поздно это неизбежно произойдет! Зато они снова столкнулись с загадочным преступлением. И пусть пока все выглядит туманно, они несомненно получат удовольствие, расследуя этот случай.
— Подведем итоги, — пробормотал Жозеф себе под нос. — Некто Пентаур что-то изобрел, записал в книжечке формулу, рыба ее слопала, хозяйка таверны извлекла книжечку из ее брюха и отдала своей подруге Александрине. Та спрятала подарок в коробочку из-под мигренина, и ее укокошили… И что же дальше?..
Он решил сдвинуть мебель и тщательно осмотреть паркет. Проползав по полу на четвереньках около часа, он так ничего и не обнаружил. Тогда Жозеф занялся полками. Там стояли произведения Даниэля Дефо, Шарля Перро, Александра Дюма с иллюстрациями Гранвиля и Родольфа Топфера.
[675] Там же почему-то стояла книга в восьмую долю листа, озаглавленная «Планеты и их влияние».
В конце концов Жозеф выбился из сил. Он растянулся прямо на полу, смежил веки и заснул. Ему привиделось, что он оказался на луне — у расщелины, по краям которой лежат стопки книг, — и идет по ковру из белых страниц, подсчитывая, сколько прибыли получит, продав все это. На всех обложках без исключения стояло одно и то же имя: Жозеф Пиньо. Стопки книг все росли, выстраиваясь в огромные серые башни, и опасно кренились, грозя рухнуть и погрести под собой автора. Жозеф попытался убежать, но ноги у него вдруг сделались ватными…
Он открыл глаза. Уже утро? Нелепая мысль пришла ему в голову: как же можно подружиться с луной? Он пробормотал себе под нос:
— Безобразный цветок замахал лепестками и, поднявшись вверх… Непонятно, что произошло дальше, потому что он отправился на темную сторону луны, которую никому не видно. Я тоже ничего не вижу. Мигренин, ты где?..
Жозеф чувствовал себя таким уставшим! Он повернул голову, посмотрел на полку с книгами, и его внезапно осенило:
— Обратная сторона луны!
Он схватил «Планеты и их влияние», и из книги выпал перевязанный сиреневой ленточкой сверток. Жозеф развернул его и увидел десяток расплывчатых фотографий старого аукциониста без головного убора с поднятой, как у дирижера, палочкой и пачку писем, датированных 1883 годом. Все они почему-то оканчивались одинаково:
Меркурий, посланник богов, кладет свое сердце к твоим несравненным ногам.
Еще там были счета и копия документа:
ВЫПИСКА ИЗ СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ
Коммуна Мезон-Бланш
В 1840 году, 17 июля, в пять часов вечера, зарегистрировано рождение Александрины Эжени Просперины Пийот, женского пола, родившейся накануне, 16 июля, в три часа утра, в доме своих родителей, отца Антуана Пийота, двадцати трех лет, краснодеревщика, и матери Филомены Фурнье, двадцати лет, кастелянши, проживающих по адресу: улица Эсперанс 12а.
Составлено нами, Эженом Сюльпис Бурсо, мэром, заведующим отделом записи актов гражданского состояния коммуны Мезон-Бланш, на основе предъявления ребенка и заявления, сделанного его отцом, в присутствии Мишеля Андре Реми, тридцати девяти лет, каменщика, проживающего…
Жозеф хотел было вложить листочки обратно в «Планеты и их влияние», но передумал. Раз уж он не нашел коробочку из-под мигренина, так хотя бы принесет Виктору этот документ.
Модест Шамлан великодушно отпустил свою помощницу пораньше — симптомы ее недуга были ему хорошо известны по собственной супруге.
Пройдя по улицам, освещенной лучами закатного солнца, Люси Гремий почему-то чуть не заблудилась и только в сумерках добралась до квартала «Деревня будущего», созданного около сорока лет назад неким Шовло.
[676] Он назвал улицы и переулки нового квартала в честь побед, одержанных Францией в войне с Италией в 1859 году, а также в честь национальных героев и завоеванных территорий. Люси Гремий с трудом отыскала в свете масляных фонарей табличку с надписью «Тупик Лабрадора» и свернула туда.
Жан-Пьер Верберен сидел за столом, разложив на нем головку сыра и свежий багет и наливал себе бокал вина. Он изучал рекламную брошюру, где рабочим и пенсионерам предлагали жилье за скромную сумму в девятьсот девяносто пять франков. Домик площадью не больше двадцати пяти квадратных метров нужно было обустроить самостоятельно. В смету входили лишь каркас здания и крыша ценой восемь франков за метр. Там, где была глинистая почва, как в случае Верберена, владевшего кусочком земли на окраине Жантийи, советовали ставить фундамент на слой песка. Жан-Пьер совсем запутался в подсчетах, когда услышал стук в дверь.
Увидев незваную гостью, он собирался уже захлопнуть дверь, но девушка его остановила:
— Мсье Верберен, не бойтесь, я вас не съем! О, вижу, вы ужинаете, простите…
— Ничего страшного, садитесь, пожалуйста! — и он смущенно протер ладонью плетеный стул.
— Красиво! Сами сшили? — воскликнула она, показывая на кресло, прикрытое покрывалом из разноцветных кусочков ткани.
— Это Монетт, моя жена. Она пришивала по лоскутку каждую неделю, приговаривая, что, когда покинет меня, мне нужно будет лишь пересчитать лоскутки, чтобы узнать, сколько дней она боролась с болезнью.
— Мне жаль. И вы пересчитали?
— Нет, я и так никогда не забуду: девяносто два дня. Я сохранил восемь лоскутков, которые она не успела пришить. Она была уверена, что не проживет больше ста дней.
Люси было очень жаль его, и она стала лихорадочно искать повод сменить тему. Тут ее взгляд наткнулся на брошюру.
— Хотите построить себе домик?
— Да, у меня есть небольшой клочок земли и кое-какие сбережения, и вот теперь, когда образовалось достаточно свободного времени… Это, конечно, не бог весть что, но меня устроит и такой. Здесь все обветшало, да и сосед мне не нравится — бывший мясник, пристрастился к выпивке…
— А вы сможете сами справиться со строительством?
— Думаю да. Монетт говорила, у меня золотые руки, я ведь сам сделал здесь всю мебель.
— Вам можно только позавидовать!
— У вас руки не хуже, вы отлично стрижете…
— Знаете, я ведь пришла поговорить с вами о той рекламной карточке, которую ваш друг…
— Бренгар, Жан-Батист Бренгар по прозвищу Бренголо. Да, он использовал ее как закладку.
— Мой жених, капитан Альфонс Баллю из военного министерства, тоже носил с собой такую карточку. Он исчез неделю назад, и… Конечно, вряд ли такое возможно, но… я подумала… а вдруг ваш друг с ним подружился. Мне больше некуда обратиться.
Жан-Пьер Верберен поджал губы и с сомнением покачал головой.
— Вряд ли. Бренголо не из тех, кто захаживает в министерства. Я сказал, что он путешественник, но на самом деле он обычный бродяга. Живет одним днем и спит под открытым небом.
Вопреки его предположениям, Люси Гремий эта новость не обескуражила.
— Ну и что! Это все глупые предрассудки! Бывает и так, что люди из разных слоев общества сходятся…
— Пожалуй, у этих двоих есть нечто общее: Бренголо тоже бесследно пропал.
— Вот видите! А где он живет?
— Когда мы в последний раз виделись, он обитал в заброшенном доме недалеко от улицы Корвизар.
— Почему бы нам не пойти туда вместе?
— Прямо сейчас?!
— Может, завтра?.. Нет, лучше в воскресенье, у меня выходной. А сейчас знаете что? Я бы с удовольствием съела бутерброд с камамбером, я очень проголодалась!
Жан-Пьер засуетился, доставая тарелку, а Люси тайком за ним наблюдала. Ее умиляла его застенчивость, ей нравилось его выразительное лицо, коротко стриженные волосы, серебристым венчиком обрамлявшие макушку, добрые карие глаза с морщинками вокруг них. В конце концов, не такой уж он и старый. И Люси представила себе, как он вручает ей ключи от кукольного домика, покрашенного в яркие цвета, в точности как на странице брошюры, лежащей на столе. Жан-Пьер что-то говорил, но она, погрузившись в мечты, слушала его рассеянно.
— Это сборник «Песнь нищих». Бренголо имеет обыкновение избавляться от книг, как только их прочтет. Но эта была для него особенной, он ею дорожил… А вы читали Жана Ришпена?
— Не говорите мне, что не получали «Двух сфинксов» Абеля Эрмана,
[677] эта книга вышла еще в начале месяца!
— Сожалею, мадам де Салиньяк, но из двух экземпляров, что у нас были, оба уже проданы. Я закажу еще один специально для вас, только наберитесь терпения, — заверил ее Виктор.
Кэндзи тихонько улизнул, и как нарочно покупатели сплошным потоком потянулись в книжную лавку «Эльзевир». Матильда де Флавиньоль назначила здесь встречу Хельге Беккер, с которой собиралась отправиться на соревнования велосипедистов. Они все не уходили, и Виктор уже терял терпение, а тут появилась еще и графиня де Салиньяк со своими претензиями, а следом — какой-то любитель средневековых романов.
— Я недавно встретила мадам Легри: она была на велосипеде! Итак, она тоже не устояла перед «механическим волшебником», как называют его журналисты? — поинтересовалась Матильда де Флавиньоль.
— О да, я ее учу, — закивала фрейлейн Беккер, — и она очень одаренная ученица.
— Но костюм! Это же неприлично! — пробормотала графиня де Салиньяк. Она не скрывала своего презрения к юбке-брюкам, в которую наряжалась Хельга Беккер.
— Зато практично, — парировала та. — Хотя, не спорю, такая одежда больше подходит молодежи, чем нам. Кстати, я где-то читала, что самому юному велосипедисту Франции всего три года, он живет в Лиможе, а его отец — глава национального общества велосипедистов. Этот ребенок настоящее чудо! Он увлекается еще и греблей, и управляется с лодкой даже лучше, чем с велосипедом!
— Интересно, а ходить он при этом научился? — с иронией поинтересовался любитель средневековых текстов.
— Конечно! И я думаю, если он займется танцами, то несомненно освоит покоривший парижские салоны вальс-бостон, — выдохнула Матильда де Флавиньоль, желавшая выглядеть в глазах Виктора современной и просвещенной.
— А что вы думаете о фотографии, сделанной с помощью рентгеновских лучей, герр Легри? — спросила Хельга Беккер.
— Какой ужас! — воскликнула графиня. — Показывать то, что находится под кожей, еще более неприлично, чем открывать ноги! Нет, я решительно ненавижу прогресс!
Они с медиевистом обменялись возмущенными взглядами, но Хельга Беккер решительно возразила:
— Вы неправы! Благодаря Вильгельму Конраду Рентгену, моему соотечественнику из Вюрцбурга, открывшему такое излучение, медицина совершит гигантский скачок!
— Мсье Легри, ходят слухи, вы побывали на первом кинематографическом сеансе братьев Люмьер в подвале «Гран кафе». Это правда? — Матильда де Флавиньоль не оставляла попытки завязать с Виктором беседу. Если бы она только знала, что он готов стереть в порошок всех присутствующих, включая ее самое.
Спасение явилось в образе Жозефа. Едва закрыв за собой дверь, он победоносно замахал каким-то листком.
— Я выяснил, где она жила раньше, — в Тринадцатом округе!
Виктор пробежал бумагу глазами.
— Вы уверены? Речь идет о коммуне Мезон-Бланш.
— Я позвонил Исидору Гувье, и он предоставил мне сведения об истории присоединения к Парижу этой части коммуны Иври. Это произошло в 1860 году. На самом деле Шестнадцатый округ должен был стать Тринадцатым. Но как известно, число это несчастливое, и даже была поговорка, мол, выйти замуж в Тринадцатом округе означало остаться старой девой, вот богачи и выбрали себе шестнадцатый номер, а тринадцатый достался беднякам.
— А что за улица Эсперанс?
— Она в Бютт-о-Кай, районе, который до 1860 года был… чтобы не соврать… — Жозеф заглянул в свои записи. — Вот… был одной из деревушек, которая вместе с Пти-Жантийи, называемом также Ледник, и Бель-Эр образовывала Мезон-Бланш.
— Значит, там и будем искать, едва удастся отсюда улизнуть.
— Завтра?
— Завтра я собирался заняться проявкой пленок. А вы дежурите в лавке.
— Что ж, к утру я наверняка что-нибудь придумаю и, как только освобожусь, присоединюсь к вам на улице Фонтен. А пока разрешаю вам похвалить меня за находку.
— Конечно-конечно, вы воистину заслужили похвалу!
Глава двенадцатая
18 сентября
Кэндзи пригласил Джину на ужин в «Максим». Они лакомились устрицами, омарами и морским языком, пили шампанское и слушали цыганский оркестр. Правда, в начале вечера ресторан заполонили богатые, но не отличавшиеся изысканностью манер буржуа, но Джина с удовольствием заметила в зеркалах с золочеными рамами с изображениями наяд и водяных лилий отражение княгини Шиме, урожденной Клары Вард. После десяти вечера появились и знаменитые завсегдатаи: великий князь Кирилл и звезды сцены — Режан, Лиана де Пужи, Эмильена д’Алансон, Каролина Отеро.
[678]
Дома Кэндзи налил себе воды с содой и, сделав пару осторожных глотков, чтобы успокоить желчный пузырь, дававший о себе знать после обильного застолья, спустился в лавку, где давно уже хлопотал Жозеф.
— Учтите, сегодня я никуда вас не отпущу, — пробормотал Кэндзи слабым голосом.
— Об этом не может быть и речи, я ни за что не упустил бы прелестную Венеру, что посетила нас вчера за пять минут до закрытия. Она обещала, что придет сегодня, чтобы изучить ассортимент наших книг. Она не только хороша собой, но и на редкость эрудирована. Так что можете отдохнуть, вы ведь, похоже, почревоугодничали вволю, а я с удовольствием займусь покупательницей.
— Мне обидны ваши намеки! — нахмурился Кэндзи. — Вам известно, что сказал Карем?
[679] «Если люди перестанут наслаждаться едой, они не будут писать писем, не смогут изысканно выражаться и общаться с друзьями, и всему придет конец». Так что я сам приму эту клиентку. А вы уже доставили все заказы?
Изобразив раскаяние, Жозеф признал, что не заходил накануне ни к Саломее де Флавиньоль в Пасси, ни к профессору Мандолю на площадь Пантеона, ни к студенту-архитектору.
— Так займитесь этим сейчас! — распорядился Кэндзи.
— Непременно! — обрадовался Жозеф, притворяясь расстроенным, и тут же отнес все упакованные книги в кафе «Потерянное время». Ничего страшного не произойдет, если клиенты получат их чуть позже.
— Только не говорите ничего мсье Мори, это сюрприз, — предупредил он хозяйку кафе, привыкшую к его чудачествам.
Нестор Бельгран широко зевнул, потянулся и замер. Из страха встать с левой ноги он предпочитал вообще не вставать. Зачем пускаться в столь рискованное предприятие, если конечности причиняют такие страдания, а славная Аделаида, как водится, придет ему на помощь.
Скрестив руки на затылке, он думал о том, как станет на досуге писать мемуары. Если воспоминания двух известных полицейских пользуются таким успехом, что же будет, когда на суд публике будут представлены откровения настоящего преступника! Кто лучше, чем он, сумеет описать лжемонахинь, умоляющих торговок на Центральном рынке пожертвовать на приюты для сироток? Разве не он был в начале своей криминальной карьеры их пособником, разве не он притворялся ангелом-хранителем подвыпивших господ, помогая добраться до дома и обчищая по пути? Разве не прибегал он, вместе с двумя приятелями, откликавшимися на прозвища Гнилой Томат и Ущипни-Меня-За-Нос к «приему папаши Франсуа»? Он представлял, как напишет рецепт популярного убийства:
Вооружившись шелковым шейным платком, вы набрасываетесь на клиента со спины и душите. Затем выгребаете у него из карманов монеты. Теперь у вас есть деньги, женщины и новая шляпа! Занавес.
— Лучший жизненный урок — папаши Франсуа пинок! — пропел он.
Нестор Бельгран отказался от этого многообещающего литературного проекта лишь потому, что не так-то просто было перевести на нормальный французский язык нарочито путанное (чтоб было понятно только посвященным) воровское арго, да и вряд ли удалось бы найти издателя, который не выдал бы своего автора полиции. Не говоря уже о том, что Нестор Бельгран не был обучен грамоте.
— Ненес! Иди сюда, булки закончились! — услышал он хорошо знакомый визгливый голос.
Он спустился на первый этаж, в узкую темную комнатушку с двумя столиками, где можно было поесть за восемь су: два — за хлеб, четыре — за мясо с овощами. Два су за вино надо было уплатить заранее. Каждый посетитель брал себе приборы на входе и шел к стойке, где колдовала над кастрюлями кухарка. Сейчас она, руки в боки, поглядывала на любовника. Ему было около сорока и красивым его было трудно назвать: квадратное лицо с мощными челюстями, короткая бычья шея, коренастая фигура, сильные руки и ноги.
Аделаида, хоть и была старше его на шесть лет, все еще оставалась вполне привлекательной: талия у нее была по-прежнему тонкой, а темперамент — пылким. Эта женщина с фиалковыми глазами и светлыми волосами подобрала его прямо на улице, недалеко от ее харчевни, где, тяжело раненный в драке, он истекал кровью. Поправившись, Нестор остался в «Уютной каморке», присматривая за заведением, с хозяйкой которого его связывало отныне что-то вроде соглашения. Они не обменивались любовными клятвами, но привязались друг к другу и уже не хотели расставаться.
Нестор занимался закупками, подсчитывал выручку, забирая из нее сумму, причитавшуюся ему на табак и мелкие расходы, а Аделаида готовила еду, мыла посуду и убирала. Если по случаю праздника или свадьбы клиентов было слишком много, они нанимали еще одного работника, но обычно справлялись сами, и ссоры между ними случались редко: со своей спасительницей Нестор вел себя смирно.
— Булки? Сколько нужно?
— Хватит десятка, со вчерашнего дня еще остались, я их слегка обжарила. Сейчас мало народу. Ах, да! Еще возьми фунт сала и три десятка яиц, пусть матушка Блондо запишет на наш счет.
Он ушел, и Аделаида вздохнула с облегчением. Наконец-то она осталась одна. Можно проветрить комнату и принарядиться. Она быстро справится с блюдом дня, это будет омлет с ветчиной. Она уже направилась к лестнице, когда в заведение вошли двое мужчин, непохожих на ее обычных посетителей.
— Мадам Аделаида Лезюер? Мы друзья Александрины Пийот, — заявил более элегантный.
— Мы с трудом вас нашли. К счастью, ваш ресторанчик широко известен, и нам наконец указали нужное направление, — добавил тот, что помоложе.
— Что ж, здравствуйте, господа. Мы виделись с Александриной на прошлой неделе, в то самое утро, когда один чудак выменял у меня карпа на антрекот.
— У нас для вас плохая новость, — понизил голос Виктор. — Позавчера мадам Пийот покончила с собой. Она повесилась.
Аделаида Лезюер ахнула, всплеснула руками, задев при этом буфет, и вскрикнула — на сей раз от боли.
— Да что вы говорите! Не могла она совершить такую глупость! Александрина любила жизнь, да и побоялась бы гореть в аду!
— Увы, такова действительность. Простите, а что у вас с рукой? — спросил Виктор.
— Я порезалась, когда чистила карпа в тот самый четверг. Александрина приходила сюда каждые две недели, как часы. И тут какой-то тип, с виду настоящий голодранец, предложил мне огромную рыбину в обмен на обед и бутылку красного вина. Александрина сидела за стойкой, попивая кир,
[680] и ждала, когда приготовится мясо под белым соусом. Было одиннадцать, в заведении почти никого, а мне предстояло в обед кормить каменщиков-итальянцев. Когда тот тип предложил мне карпа, Александрина прошла со мной на кухню и понюхала рыбину, чтобы проверить, не протухла ли она. Она обожает жареную рыбу, и я пригласила ее пообедать со мной и моим ненаглядным Нестором, как только обслужу рабочих.
— Тогда вы и порезались? — поинтересовался Виктор.
— Ну да. Александрина перевязала мне палец платком, Нестор не выносит вида крови. Довольно странно, учитывая его прошлое. Александрина занялась рыбой вместо меня, я пошла в зал, а потом вернулась на кухню. «Посмотри-ка сюда!» — воскликнула Александрина. Оказывается, когда вспорола карпу брюхо и хотела выпотрошить, она нашла у него в желудке что-то вроде полотняного мешочка. Мы его разорвали, и внутри оказалась крохотная записная книжка, исчерканая какими-то непонятными буквами и цифрами.
— Надеюсь, вы ее выбросили! Такие находки приносят несчастье, — сказал Жозеф.
— Александрина предложила мне за нее сто су, сказав, что книжечка напомнила ей тетрадки, какие мы в детстве мастерили, когда играли в школу. Я и согласилась. А в том, что карп проглотил эту штуковину, я не вижу ничего удивительного, эти бестии хватают все подряд!
— Но где же тот бродяга поймал свою рыбину?
— Мы пытались его расспросить, но он был уже сильно пьян. Болтал что-то бессвязное о проклятом доме, о чудище на пруду… Мой Нестор считает, что речь шла о заброшенном поместье недалеко отсюда. Может, и так. Мы все тут не можем дождаться, чтобы его снесли! Люди побаиваются туда ходить, говорят, по ночам там светятся болотные огни. Короче, двое каменщиков схватили бродягу под мышки и выпроводили отсюда. Я не приваживаю пьянчужек, это портит репутацию заведения. Он прикорнул на скамейке, а часа через два, когда Нестор вышел купить табака, там уже никого не было. Ох, бедняжка Александрина! — Аделаида пригорюнилась и даже промокнула глаза фартуком, но коммерческая жилка взяла верх над горем, и она предложила гостям выпить по глоточку. Виктор заказал вермут, Жозеф — бокал вина.
— А что если бродяга выловил рыбу в Бьевре? — предположил Жозеф.
— Вы смеетесь! Это не река, а сточная канава, если учесть, сколько дряни туда сливают дубильные цеха! Мы бы не смогли проглотить ни кусочка такой рыбы, а эта была просто объеденье.
— Архангел предположил, что бродяга стащил рыбину у торговца, но тот клялся, что это не так, — вмешался в беседу плотный коренастый мужчина, внося в ресторанчик картонную коробку.
— Познакомьтесь, это Нестор. Нестор, эти господа — друзья Александрины. Ты только вообрази: она повесилась!
Нестор Бельгран свернул себе папироску и, склонившись к Аделаиде, прошептал ей на ухо:
— Осторожно! Это, возможно, дознаватели из полиции.
— А кто такой Архангел? Один из ваших посетителей? — спросил Виктор.
— Ну да, можно и так сказать. У него мастерская в двух шагах отсюда — настоящий рай с настоящими святыми!
— Он что, монах? — удивился Жозеф.
— Нет, он отливает гипсовые статуи святых, которыми украшают часовни, — объяснила Аделаида, не замечая выразительного взгляда Нестора. — Он и сам рыбак, любитель уклейки. Как только выдается свободная минутка, закидывает удочку в Лa Варенн.
— И где же находится его рай?
— Посреди улицы Мишаль, вы сразу увидите.
Виктор и Жозеф попрощались.
— Успокойся, Ненес, — сказала Аделаида Нестору, — эти не из полиции, тех я за версту чую, от них у меня сразу крапивница начинается. А тут ни одного прыщика!
В этом пригороде Парижа не было добротных каменных домов, только покосившиеся хибары, часто столь плотно заселенные, что двоим-троим жильцам приходилось делить одну кровать. Улицы были едва намечены среди наделов земли, в летнюю пору засеянных пшеницей и маком. Зная, что нищета и преступность часто идут рука об руку, Жозеф шел осторожно, озираясь по сторонам. Виктор же думал о том, что здесь, на узких улочках, больше похожих на тропинки, вдоль которых располагались забегаловки, бакалеи и фруктовые лавки, можно сделать неплохие фотографии торговца ослиным молоком, продавцов метел и скребков или точильщика.
— Починка старых ведер, кузнечных мехов, зонтов! — заорал лудильщик в дырявом берете, когда они подошли к улице Мишаль.
В углу двора, заваленного мешками с гипсом и бревнами, стояли, словно на посту, Святой Николай и Святая Роза Лимская, сработанные из какого-то белого с желтоватым отливом материала. Над потрескавшейся дверью висела табличка:
Мишель Форестье
Скульптор-формовщик
Имитация мрамора, гипс, древесина
Виктор и Жозеф вошли и увидели двух подростков, которые переносили от стеллажа к ящику статуэтки разного размера под присмотром парня, развалившегося на соломенном тюфяке.
— Здравствуйте, вы здесь главный? — обратился к нему Виктор.
Тот поднялся. Если густые светлые волосы и делали его слегка похожим на ангела, то атлетическое сложение и грязный халат скорее подошли бы грузчику. Он внимательно смотрел на гостей, поглаживая выбритый подбородок.
— Хотите сделать заказ?
— Нам посоветовали обратиться к Архангелу.
— Это меня так называют.
— Говорят, вы рыбак.
Парень улыбнулся.
— Архангелы никогда не грешат.
[681] А если серьезно, то мне и правда нравится посидеть с удочкой в свободное время. Хотя я кручусь тут, как белка в колесе. И от пустых разговоров мои доходы не увеличатся.
— Мы пришли к вам от мадам Лезюер.
— Вот как? И что же? — Он повернулся к подмастерьям. — Пошевеливайтесь, ребята, надо подготовить еще три заказа на доставку. Арман, осторожнее, не поломай! Этих пострелов надо все время подгонять, — снова обернулся к Виктору и Жозефу Архангел. — Если они будут прохлаждаться, наш хозяин, фабрикант из Бондье,
[682] будет очень недоволен.
Увидев удивленные лица Виктора и Жозефа, он пояснил:
— Он продает статуи в лавке на улице Сен-Сюльпис, где я вкалываю большую часть недели, и направляет ко мне мальчишек, чтобы я их обучал. Когда работа закончена, они ее упаковывают. Итак, что там хотела Аделаида?
— Она рассказала нам историю о чудо-карпе. Вы тогда еще сказали, что его, должно быть, стащили с лотка торговца рыбой…
— Да, помню. Конечно так и было, иначе где этот босяк мог выудить такой отменный экземпляр, неужто в Сене? Если б я устроился на Новом мосту, то поймал бы только какую-нибудь мелюзгу. Правда, в Марне водится неплохая рыба, но карпов там все равно нет!
— Вы знаете этого бродягу?
— Бренголо? Его знают все! Он вечно слоняется тут, ищет, чем поживиться. В последний раз я видел его дней двадцать назад и даже позволил переночевать здесь две ночи. Он, конечно, пьяница и пустозвон, но неплохой человек.
— Где же он живет?
Архангел покачал головой.
— Этого вам никто не скажет. Бренголо из тех, кому не сидится на месте!
— А вы не знаете, где тут какой-то заброшенный дом? — спросил Жозеф.
— Ну и любопытны же вы! — присвистнул Архангел. — Это недалеко от улицы Корвизар. В один прекрасный день он рухнет, и наверняка будут жертвы, потому что ребятня играет там в жандармов и воров, а молодые парни и девчонки — в зверя с двумя спинами.
[683] Там повесили табличку: «Частная собственность, вход запрещен, за нарушение — штраф», но все бесполезно. Поскорее бы его снесли! Поговаривают, в лачуге обитает привидение, а ночами там видели болотные огни. Ну вот что, господа, — Архангел смотрел уже сердито, — если вам охота поболтать, я буду свободен завтра в этот же час, а теперь мне надо работать. Я как раз начал обтачивать ствол липы, из которого выйдет херувим, не хуже, чем у Микеланджело, и возьмусь за него, как только Арман и Гастон помогут мне отлить ноги и туловища еще нескольких святых. А самое приятное я оставил на вечер: буду отливать с натуры обворожительную девушку…
— Это как, с натуры? — удивился Виктор.
— Очень просто! Намажу ей кожу смесью гипса и масла.
— Но она же задохнется! — воскликнул Жозеф.
— Ничего подобного, — успокоил Архангел. — Как только смесь высохнет, я выну ее из формы, как пирог, а в оболочку залью специальный состав. Мне заказал ее не служитель культа, а один богач, что торгует заморскими фруктами. Это дело требует особого мастерства, но зрители до двадцати лет на сеанс не допускаются! — И Архангел наградил пинком Армана, который подслушивал разговор.
— Я читаю ваши мысли, Жозеф. Ответ — нет. И потом, на решетке висит замок.
Они уже некоторое время шли по улице Корвизар, пытаясь найти заброшенный дом, когда начался страшный ливень.
— Взгляните-ка сюда! В эту дыру легко пролезть!
Виктор взобрался на каменистый пригорок, надеясь увидеть объект их поисков. У него внезапно закружилась голова, и он почувствовал, что теряет равновесие.
Ему стало не по себе, этот дикий заросший сад пугал его, тут, казалось, витали странные видения. И он подумал, что, как ни велико его желание найти и расспросить бродягу, лучше будет как можно скорее покинуть это неприятное место.
Жозеф же проявлял невиданный энтузиазм. Он забыл свои страхи и представлял себя членом экспедиции доктора Дэвида Ливингстона,
[684] мужественно шлепая по грязи и сражаясь с кустарниками. Он чувствовал себя первооткрывателем неизведанных территорий и каждые два метра устанавливал воображаемый флаг. Жаль только, он не прихватил с собой мачете… Лишь начавшийся ливень охладил его пыл, и он повернул обратно.
Выбраться из зарослей кустарников было нелегко, и Виктор выбранил себя за тягу к приключениям. Хорошо еще, тут нет жандармов, и никто не может обвинить его в нарушении неприкосновенности частного владения.
— Я считаю, надо прекратить поиски этого… как его, Бренголо, — сказал он напарнику. — В конце концов, даже полиция не может определить, было это самоубийство или убийство… Я слишком увлекся интригующей версией, согласно которой Александрину Пийот убили из-за коробочки, в которой она хранила миниатюрную книжку….
— А мне кажется, это весьма правдоподобно.
— Всего лишь гипотеза. Возможно, старьевщица кому-то продала или подарила книжечку. И повесилась по каким-то одной ей известным причинам.
— Вчера вы были более решительно настроены. Что это с вами, я вас не узнаю — делаете шаг вперед, и тут же пятитесь назад!
Они дошли уже до проспекта Италии. У лавки фермера какой-то бродяжка напевал дрожащим голосом:
— «Моя голубка, она упорхнула!»
Жозеф охотно подхватил бы припев, но Виктор уже тянул его за руку к стоянке фиакров, где, несмотря на дождливую погоду, дворник поливал мостовую.
— Угомонитесь, вам сегодня еще предстоит работать в лавке.
Жозеф притих, но подумал про себя: «Если он воображает, что я отступлюсь, то ошибается! Я все равно разгадаю эту шараду! Не зря мама утверждает, что я упрям, как осел!»
Эфросинья напевала, накрывая на стол:
Нету лучше котлет, чем на рю д’Арбалет,
Хочешь нежное жиго
[685] — дуй на рю де Тюрбиго…
Мадам Пиньо и не подозревала, что автором слов был Жюль Жуи.
[686] Она думала только о том, что невестка опять вынудила ее готовить морской язык под соусом, тогда как она предпочла бы говяжью вырезку с капустой.
В дверь позвонили. Пришла Мишлен Баллю, растрепанная, в шали наизнанку.
— Что случилось? У вас неприятности?
Консьержка кивнула:
— Только вам могу рассказать. Я вам помешала?
— Нет-нет, ничего страшного. Жозеф еще не вернулся, ужин я приготовила, так что мы можем спокойно посидеть на кухне и поболтать.
— Как же я устала! Еще немного, и заработаю язву.
— А меня мучают мозоли, надо купить пластырь, говорят, это лучшее средство.
Мишлен Баллю уселась и тут же разразилась рыданиями.
— Ну-ну, успокойтесь, расскажите, что случилось? Вам не дают отпуск? Давайте-ка я вам чего-нибудь налью. Как насчет испанского вина? Мигом согреетесь, и вам полегчает.
— Ой нет, спасибо, здесь и без того жарко… — отказалась мадам Баллю. — Дело в том, что мой кузен…
— Альфонс?
— Слава богу, у меня только один кузен. Так вот, сегодня утром… — Она всхлипнула. Эфросинья налила себе полный стакан малаги и тоже уселась.
— Ох, уж этот ваш Альфонс!
Мишлен Баллю взяла себя в руки.
— Сегодня утром ко мне приходили из военного министерства и задавали кучу вопросов: давно ли я видела Альфонса, знаю ли я, куда он переехал, говорил ли о своих планах… После смерти Онезима он мой единственный родственник, но вот уже неделю как и носа не кажет на службу! То есть выходит, что мой Альфонс — дезертир!
— Он наверняка с этой своей подружкой. Вот уж она взяла над ним власть! Когда мужчинам приспичит, они становятся хуже гиен! Точно вам говорю — во всем виновата женщина, он просто потерял голову.
Айрис, ведя за руку Дафнэ, которая скакала, размахивая бубном, пришла узнать, когда будет готов ужин.
— Думаю, мы дождемся Жозефа, но ребенка можно уже покормить, — ответила Эфросинья. — Кушай, радость моя, и отправляйся смотреть интересные сны!
Дафнэ вопросительно взглянула на нее:
— Закрыть глазки и смотреть?
— Ну разве не умница! Она у нас сообразительная, как все Курлак и Пиньо, — восхитилась Эфросинья.
— Вы поужинаете с нами, мадам Баллю? — предложила Айрис, усаживая дочь на колени.
— Ах нет, спасибо, вдруг он даст о себе знать… Я ведь ушла, даже не предупредив Лулу, на меня это совсем не похоже!
— Иисус-Мария-Иосиф! — вздохнула Эфросинья, подливая себе вина.
— Вы о ком говорите?
— О кузене мадам Баллю, который работает в военном министерстве. Он пропал.
— Я уверена, этому найдется объяснение, и он рано или поздно объявится, — сказала Айрис.
— Вашими бы устами… Я просила мсье Легри о помощи, но мне кажется, он не воспринял это всерьез. А вы говорили с Жозефом? — повернулась к Эфросинье мадам Баллю.
Та кивнула.
— Если ваш кузен не подает признаков жизни… Простите за нескромный вопрос, мадам Баллю, но, возможно, у него есть подруга? — отважилась спросить Айрис.
— И не одна! — рявкнула консьержка. — В этом деле Альфонс просто чемпион! Только я никак не пойму, чем могла привлечь его женщина, которая годится ему в матери! Еще подцепит от нее гонорею!
— Мишлен, замолчите! — проворчала Эфросинья, прикрывая ладонями уши Дафнэ.
Консьержка громко высморкалась.
— Простите меня. Подумать только, я стираю ему белье, крахмалю воротнички, делаю запеканки. А что мне теперь делать с его мундиром?
— Может, отнести ему? — раздался мужской голос, и все три женщины
вздрогнули, а Дафнэ закричала:
— Папа!
— Ты надел тапочки, котик мой? Я натерла полы.
Жозефа возмутило упоминание о таких глупостях, как тапочки и полы.
— Вы знаете его адрес? — обратился он к мадам Баллю.
— Да, пансион Симоне, улица Виоле 37, Гренель.
— Хорошо, мадам Баллю, даю вам слово, как только у меня появится немного свободного времени, я отправлюсь туда и все выясню!
Мадам Баллю рассыпалась в благодарностях и ушла, Эфросинья отправилась за тапочками, Айрис увела Дафнэ спать, а Жозеф, оставшись один, задумался о том, как бы ему получить завтра выходной.
«До вечера придется поработать, учитывая, что в субботу Виктор будет в разъездах, а Кэндзи уедет к своей возлюбленной… Значит, мне следует посетить сначала улицу Корвизар, а потом — Виоле… Не слишком ли это будет для одного дня?..»
Плавучую прачечную у Нового моста, искореженную в прошлом году ураганом, кое-как починили, и прачки снова отстирывали там белье. Неблагодарный труд! Роза Варле поняла это с самого начала, когда в середине лета нанялась в помощницы к гладильщице с улицы Пуллетье. С шести утра до поздней ночи мальчишка-подручный носил ей от хозяйки тонкое, среднее и грубое белье, которое приходилось сортировать, замачивать, намыливать, тереть, выжимать и складывать. Брюки, носовые платки, рубашки, простыни и полотенца она тщательно пересчитывала из опасения, что что-нибудь потеряется. Роза платила сорок сантимов за место в прачечной, пять сантимов за ведро, куда складывала выстиранное белье, а еще за аренду помещения для просушки — все это обходилось ей в сорок пять сантимов, а она зарабатывала три франка в день. Она знала, что к сорока годам превратится в развалину, ее будет мучить варикоз, и скорее всего она станет прикладываться к бутылке. Это произойдет, конечно, еще не скоро, однако, когда торчишь то у раскаленного котла, то на ветру у реки, рискуешь получить воспаление легких.
И все же Роза дорожила своей работой. Она нередко наблюдала потасовки между товарками, и старалась вести себя тише воды ниже травы, не поддаваясь искушению выпить абсента. А когда ей поручали отнести тюк чистого белья какому-нибудь холостяку, никогда не отвечала на заигрывания.
Зато ей нравилось танцевать, и она позволяла себе пропустить рюмочку абсента в субботу вечером с подругой Роландой. Именно там она в прошлом месяце танцевала с мужчиной, который ей настолько понравился, что она дала ему свой адрес. С тех пор каждый раз, возвращаясь домой на набережную Анжу 13, где снимала мансарду, Роза мечтала увидеть у подножия лестницы его широкоплечую фигуру. Не то чтобы она питала какие-то надежды, ей ведь уже приходилось слышать заверения в любви, а потом горько плакать, проснувшись в одиночестве в измятой постели. Да и мать ее ругала:
— Хорошо еще, что ты в подоле не принесла! Даю руку на отсечение, в Париже такая недотепа окажется в чьей-нибудь постели быстрее, чем любая уличная девка. Но учти, мы с отцом тебе такого не простим!
В сумерках остров Сен-Луи с его маленькими лавками, плохо освещенными пустынными улицами и окна со ставнями напоминал Розе родной город.
Она постояла немного, заглядевшись на судно, медленно двигавшееся к порту Берси. Будь у нее деньги, она зашла бы в таверну «Встреча моряков» и заказала мясные биточки и пирожок с рисом. А если бы повезло, могла бы завлечь какого-нибудь мужчину, и тот бы ее угостил. Она готова была лечь с кем-нибудь в постель, но при условии, что не придется сожалеть о последствиях.
Газовые фонари на мосту Марии отражались в черной воде. Розе нравились строгие и изящные арки, преданно охранявшие ее, покуда она стирала внизу белье. Ее взгляд упал на порт Сен-Поль, откуда мигали огромные глаза барж. Она уже хотела пересечь мощеный двор своего дома, когда кто-то преградил ей путь. Роза испуганно отпрянула.
— Не бойтесь, это всего лишь я. Вот наконец решился прийти. Меня подвела модель, она не пришла. Мне стало так одиноко…
— Архангел! — радостно прошептала Роза.
Глава тринадцатая
19 сентября
При виде каждого снимка у него начинало быстрее биться сердце. Он погружал в ванночку с проявителем девственно-чистый лист, и начиналась магия: там, где секунду назад не было ничего, проступали темные пятнышки: одно, другое, третье… Они увеличивались, сливались друг с другом и наконец превращались в изображение — причем довольно часто оно сильно отличалось от той картинки, которую Виктор видел в видоискатель фотоаппарата, нажимая на спуск. Сейчас он наблюдал, как появилась лежащая Таша, обнаженная, небрежно положившая руку на лобок, похожая на чувственную и целомудренную «Олимпию» Мане. На ее лице читалась чуть насмешливая улыбка, головой она опиралась на левую руку (которая вышла чуть размытой), и Виктору казалось, что Таша вот-вот кивнет ему, приглашая подойти поближе.
Почему из всех женщин он выбрал эту? Да, она красива, а их тела, соединяясь, испытывают неистовое блаженство. Но для него было немыслимо представить страсть как «контакт двух эпидермисов», как описал ее Шамфор.
[687] Из какой загадочной алхимии она возникала?
В памяти всплыли странные слова, переписанные из миниатюрной книжечки Александрины Пийот. Какая-то формула, предположил профессор Мандоль. Лекарство? Мазь? Эликсир молодости? Наркотик? Он прошел в спальню.
Открыв блокнот, достал старую фармакопею с полки книжного шкафа.
— Циннамон: кустарник, произрастающий в теплых районах Азии. Мирра: камедистая ароматическая смола, получаемая с бальзамического тополя. Нард: травянистое экзотическое растение… Что там еще? Алоэ…
Приход почтальона прервал его поиски. Тот принес почту и «Иллюстрасьон», еженедельный журнал, который они выписывали с Таша. Он не устоял перед соблазном пробежать его глазами и прочел формальное опровержение предполагаемого побега капитана Дрейфуса, все еще находящегося в ссылке на Чертовом острове. Эмиль Шотан, бывший министр колоний, сообщал общественности, что осужденный, отныне закованный в цепи, особо охраняется унтер-офицером с револьвером за поясным ремнем, которому дан приказ стрелять прямо в голову при малейшей попытке к бегству.
— Бесподобно, — проворчал Виктор.
Взгляд на часы вынудил его закрыть журнал и фармакопею: Эфросинья не задержится, поэтому благоразумнее выйти из дома вовремя, жаль, киносеанс Жоржа Мельеса начнется лишь в половине первого.
«Надо будет показать этот список мсье Шодре, аптекарю. Может, у него возникнет логичная гипотеза?»
Пока возился с фотографиями, он прокрутил в голове последовательность событий, которая накануне привела их с Жозефом на территорию поместья на улице Корвизар. Он упрекал себя в малодушии.
«Я постоянно колеблюсь между двумя противоположными версиями. Александрина Пийот покончила с собой или это было убийство? Я обязан докопаться до истины».
Как только закончится показ в театре Робер-Гуден, он заскочит в книжную лавку за Жозефом.
Идея заболеть ангиной была просто отличной! Жозеф пожаловался тестю на самочувствие и к четырем часам был свободен.
«Бедняжка мадам Керсон, согревающие компрессы, это так неприятно… Неужели она думает, что я не узнал ее голос?! Благодаря ей я организую свою экспедицию тихо и мирно», — думал Жозеф, идя по улице Висконти. К счастью, Эфросинья в это время как раз посвящала Мели Беллак в основы игры «желтый гном». Они сидели в бывшей квартире Виктора на улице Сен-Пер.
— Главное — не говорите маме, она способна отказаться даже от игры ради того, чтобы приготовить мне гоголь-моголь и горчичный порошок! — попросил он Кэндзи.
Отец Жозефа, букинист с набережной Вольтера, оставил сыну в наследство квартирку, до того забитую старыми книгами и вещами, что она напоминала ему пещеру контрабандиста. Вход был со двора, рядом располагались каретные сараи.
Согласно неизменному ритуалу Жозеф погладил кончиками пальцев фотографию, прикрепленную кнопками к перегородке. На него, улыбаясь, смотрел пухленький букинист, облокотившись на парапет.
— Здравствуй, папа! Как там, наверху? У меня потрясающая новость: ты снова будешь дедом. Будь бдителен, отведи от меня неприятности, потому что мне нужна защита, особенно сегодня вечером.
Он долго собирал свое исследовательское снаряжение и после тщетных попыток найти лампу Румкорфа схватил свечи и спички. Он отыскал компас, валявшийся в коробке, доверху наполненной изъеденными молью шерстяными вещами, которые Эфросинья свято хранила на случай очередной войны, вытащил новую записную книжку из-под «Жиля Бласа», оценил вес заржавевшей сабли национальной гвардии, отложил ее, сунул в карман несколько карандашей. Уже собираясь выйти, он взял еще моток бечевки и ножницы.
— Ну вот, я ухожу, но скоро вернусь.
Сгибаясь под тяжестью ноши, он заскочил на кухню, откуда стащил четверть палки колбасы, полбатона и нож. Эта кража отягощала его совесть, пока он не добрался до лавки «Маленький мавр». Там, среди мешков с сушеными овощами и бочек с сельдью, хозяин предлагал отличный кофе. Жозеф зашел на минутку, радуясь своей выдумке с мнимой болезнью, пробудившей в нем ностальгическое воспоминание о тех случаях, когда мальчишкой он ускользал от надоедливого надзора матери.
— Чем обязан такой честью? Мы нечасто видим вас, мсье Пиньо, — заметила официантка.
— Работа, мадам Бушарда, работа. Кстати, вас не затруднит отнести записку моей супруге?
Он нацарапал для Айрис записку, прося ее успокоить мать и ложиться спать, так как он вернется поздно.
— Это ведь на улице Сены 31? — уточнила мадам Бушарда, кладя в карман записку и чаевые.
— Все верно, третий этаж. Спасибо, мадам Бушарда, до встречи!
Фиакр привез его на улицу Сенк-Диаман, где он надеялся еще раз поговорить с Аделаидой Лезюер. Если повезет, ее бандитского вида дружка не будет дома. Ехал он довольно долго, и за это время заново пережил давнее ночное вторжение в развалины мрачной Счетной палаты.
[688] Там он едва избежал смерти, и даже воспоминание об этом пугало и волновало.
Ставни в «Уютной каморке» были закрыты. Удивившись, что хозяева покинули кабачок в субботу вечером, Жозеф расспросил шорника, лавка которого располагалась по соседству.
— Аделаида? Она в больнице из-за раны на руке, которая воспалилась и сильно распухла. У бедняжки так подскочила температура, что Тотор заволновался, — объяснил мужчина, не вынимая папиросу изо рта.
— В какой больнице?
— Я ничего об этом не знаю. Тотор молчит, как рыба!
«Решительно, куда ни закинь удочку — всюду попадается эта проклятая рыба! Придется идти в замок с призраками», — подумал Жозеф.
Он сбился с пути и сориентировался только дойдя до колодца с конической крышей, из которого брали воду жители квартала Бют-о-Кай. Повернул назад. Выйдя на бульвар Италии, а затем на улицу Корвизар, заметил наконец аллею, ведущую к зарослям кустарника, которую окрестил «Автономной территорией Пиньо, известного французского географа».
Он шагал взад-вперед по тротуару, пока не улетучились последние прохожие, и только тогда углубился в чащу. Пока не было необходимости зажигать свечу, меркнущего дневного света было достаточно, чтобы прокладывать себе дорогу. Он вооружился веткой, чтобы раздирать ею стебли плюща и ломоноса, обвившиеся вокруг деревьев. Казалось, этот зеленый ад ждал его прихода, он словно вбирал его в себя, тут же скрывая его следы.
— Вот булыжники Виктора. Здесь я увяз в грязи, до сих пор видны мои следы. Только бы не угодить в болото! А вдруг я что-нибудь себе сломаю, или меня укусит змея, или я окажусь в зарослях ядовитого плюща? Нужны крепкие ноги, чтобы дойти до конца этого проклятого лабиринта, он то поднимается вверх, то спускается. Я бы здесь все выровнял, засыпал землей и построил диспансер или школу, где местным жителям станут вдалбливать, что их предки были галлами.
Он без конца терял равновесие, бранился и, не заметив ступеньку, покрытую опавшими листьями, чуть не врезался в акацию. Мох, выстилавший аллею, был пропитан водой сильнее, чем саварен — ромом.
[689] В мокрых насквозь ботинках он осмотрел водоем, где плавало что-то, напоминавшее куски пробковой коры. Присмотревшись, он понял, что это дохлые рыбы.
— Это еще что за дрянь? Морда как у шакала… Отвратительно! Сюда бы санитарную службу, чтобы вычистить всю эту зловонную клоаку. И поставить аптечный киоск, в котором бесплатно раздавали бы хинин. А это что посередине?
Он прищурился, чтобы рассмотреть что-то вроде островка, на котором возвышалась облезлая статуя с воздетыми к небу руками.
— Ну, голубушка, тебя немного подштукатурят, а потом наденут на голову симпатичный фригийский колпак, чтобы все помнили достижения Республики. А аборигены будут возлагать к твоим ногам кокосовые орехи.
Пока он ступал по доскам и щебню, у него между ног проскочила лесная мышь. Жозеф зажег свечу, капля воска обожгла запястье. Боевое ранение.
Парк поредел, над деревьями показалась острая крыша дома. Приближаясь, Жозеф различил двух львов, сидящих на задних лапах.
Даже самые отважные завоеватели делают передышки, чтобы записать свои наблюдения, которыми будут наслаждаться потомки.
Он прикрепил свечу к лапе одного из львов, чтобы сумбурно описать неизведанные земли, на которые ступил.
Ну и куда ему идти?
Он решил направиться к центральному зданию. Ветхая дверь отворилась, стоило ее посильнее толкнуть. Он вошел и закашлялся от зловония. Справа находилась просторная комната с тремя окнами без рам. Из мебели здесь имелся только деревянный ящик, перевернутый так, чтобы получилось подобие стола. На него были брошены какие-то засаленные тряпки. Рядом лежал мятый перегонный куб. Слева обнаружилась темная узкая комната. Скрипучий паркет был покрыт слоем земли и камешков. Свеча осветила матрас, из которого с шумом высыпалась целая ватага крыс.
Мерзкое отродье!
Коридор заканчивался лестницей с железными перилами. Ступени были такими ветхими, что он боялся, как бы они под ним не провалились. Тем не менее он дошел до лестничной площадки, а следующий пролет привел его на второй этаж, где все было так же, как на первом.
На западной стороне располагалась такая же пустая комната, как и внизу, с той лишь разницей, что ставни, хоть и поломанные, здесь были закрыты. Со стен свисали лоскуты обоев, а пол был усеян отбросами, некоторые из них, казалось, были органического происхождения. Отблеск свечи скользнул на облупившийся потолок, пробежал по пыльному лоскуту, который, должно быть, когда-то был обивкой. Пахло плесенью и грибами. Взгляд привлек какой-то зеленый стебелек. Он нагнулся. Это была тонкая бархатная ленточка, которую он поднял и положил между страницами блокнота.
В восточном крыле воздух был таким спертым (ставни давно были плотно закрыты), что Жозеф зажал нос. Камин с крохотным очагом и два заколоченных стенных шкафа свидетельствовали о давнем отсутствии человека.
— Отличные декорации для двойного убийства на улице Морг, — проворчал он, рассматривая одно из заколоченных окон.
Ему стало любопытно, какой вид открывался бы из окна, если бы не мешали ставни. Наверное, он увидел бы сад и крышу вычурного левого крыла. Надо будет наведаться туда чуть позже.
Пламя свечи позволило ему прочесть надписи, нацарапанные углем. Большинство из них были непристойными, некоторые дополнялись рисунками, имевшими целью пояснить утверждения, касающиеся анатомических подвигов, которые индивиды мужского пола намеревались совершить в неопределенном будущем. На разрушенном карнизе виднелась надпись, отличавшаяся от этих постыдных обещаний:
Марсель Топен, катафалк на колесах![690]
Жозеф презрительно фыркнул, переписывая в записную книжку эти свидетельства примитивной культуры. Ему хотелось поскорее убраться отсюда, тем более что пауки, которым, похоже, нравилось в этом законопаченном помещении, все здесь оплели своими сетями.
Но он не успел никуда уйти, так как внезапно он услышал шум, и, похоже, это были чьи-то шаги. Жозеф остановился, придя в ужас от мысли, что он отрезан от цивилизации, заперт в этой мрачной постройке, проглотившей и переварившей одного за другим всех предыдущих обитателей. Призраки вновь вступали во владение этим местом, куда они вернулись из-за вторжения чужака. Здесь было что-то сверхъестественное, и учащенный пульс Жозефа это подтверждал. Окна отказывались открываться, а у подножья лестницы притаилось чудище, созданное, вероятно, при помощи обряда вуду.
Жозеф никак не мог вдохнуть воздух. Стоит ли подниматься выше? С дрожью в коленях он уже хотел было на это решиться, когда вдруг понял, что ритмичный шум, столь напоминающий шаги, раздается как раз с верхнего пролета.
Близость опасности привела его в чувство. Он стал тихо пробираться вперед. Незваный гость бродил у него над головой. Кажется, этот призрак носил страшно тяжелые ботинки.
Свет, окруженный оранжеватым ореолом, мелькнул на этаже. Жозеф загасил свечу и пригнулся. Кто-то спускался, насвистывая. Жозеф знал мотив: эту колыбельную пела ему каждый вечер мать, не осознавая, что порождает в малыше чувство страха. Но слов было уже не вспомнить.
Скрежет, покашливание, хлопнувшая дверь.
Жозеф подбежал к одной из сломанных ставен. Под орешником возник расплывчатый силуэт и исчез.
Не заботясь о надежности ступеней, Жозеф помчался вниз. Пот застилал глаза, он предпочитал не думать о том, что ожидало его снаружи, и влетел бы в кустарник, если бы не споткнулся о какое-то препятствие. Он рухнул, как куль с мукой. А придя в себя, нашарил в кармане свечу и спички.
Залезть в подвал? Ну уж нет! Там, наверное, полно тараканов и крыс. Лучше пойти за тем типом!
Но незнакомец в тяжеленных ботинках был уже далеко, а Жозеф не мог позволить себе остаться в памяти потомков трусливым исследователем, пренебрегшим своим долгом и повернувшим назад в самый ответственный момент. А вдруг там, внизу, пещера, где растут огромные кристаллы, от которых пришел бы в восторг сам Линденброк?
И собравшись с духом, он шагнул к лестнице, бормоча, как жюльверновский герой: «Там, вероятно, остались следы доисторической жизни, и я обязан их отыскать. Вперед, профессор!» «Вот докембрийские отложения! Мы на верном пути, пошли! Вперед!»
В отличие от хлипких деревянных пролетов, по которым ему пришлось подниматься до этого, лестница в повал оказалась каменной и весьма надежной. Запах, ударивший в ноздри на этот раз, напоминал вонь разлагающейся плоти.
— У них забился туалет? Или это кладовая огромного паука-птицееда? Спокойно, представь, что читатели заинтересовались твоими приключениями, позабыв о своих хлопотах, не замечая окружающего мира. Насладись пережитым опытом. Ты просто глянешь и тут же уберешься восвояси.
Он приблизился к углублению в стене, нише, наполненной странными предметами.
— Должно быть, здесь обитают анималисты. Похоже на останки… Они воняют! Может, куклы?..
Жозеф вскрикнул от ужаса, чуть не уронив свечу. Но даже в такой ситуации он не забывал о своем блокноте. Дрожащей рукой он вывел:
Нога без большого пальца, собаки, кошки, наполовину обмотанные бинтами и…
— Мамочки!
…мумифицировавшийся труп овцы…
От приступа тошноты он согнулся пополам. Ему казалось, он сейчас выблюет все, что у него внутри, но вдруг под нишей что-то блеснуло. Рука нащупала нечто твердое, застрявшее между двух кирпичей. Он поднял металлическую безделушку, слегка выгнутую, с крошечным колечком на обратной стороне, похожую на пуговицу от униформы. Выделялась рельефная надпись: «Колониальный пехотный полк». У него мелькнула мысль об Альфонсе Баллю. Альфонс Баллю замешан в этом деле?
Волнение, вызванное эти предположением, остановило приступ тошноты. Не чувствуя, как на руку капает горячий воск, он вскарабкался по ступеням, движимой одной мыслью — наполнить легкие кислородом.
Обессилевший исследователь добрался до дыры на улице Корвизар.
— Надо отмыться, прежде чем лечь спать, от меня, кажется, воняет… Бальзамирование! Я обнаружил в Париже место, где изготавливают мумии!..
Глава четырнадцатая
20 сентября
Из-под полуприкрытых век Айрис наблюдала за Жозефом. Он смотрел в потолок, сложив руки на одеяле, скрестив пальцы. Переносицу прорезала вертикальная морщинка, что, как она знала по опыту, свидетельствовало о мыслительных усилиях.
В последнее время Жозеф изменился. Не то чтобы он с меньшей нежностью стал относиться к ней и дочери или забросил работу. Она чувствовала, он чем-то озабочен. Когда он возвращался по вечерам, он не бросался к дочке, чтобы поиграть с ней. Ему трудно было набросать план будущего романа, а выход в свет «Мести призрака» его не воодушевил. Может, причина была в том, что он снова станет отцом?
На этот раз он явился домой поздно ночью. Она слышала, как он умывался. На рассвете, когда дал себя знать токсикоз, она обнаружила в корзине для грязного белья его одежду, всю в пятнах и с отвратительным запахом. Она точно знала, что он явился в столь поздний час не из-за женщины.
Он заснул. А она смотрела, как он сопит, вытянувшись на спине, с приоткрытым ртом, подложив руку под затылок, и улыбается во сне.
«Мой хитрый братец, видимо, заморочил ему голову, и он снова принялся за очередное расследование. Ведут себя как мальчишки! Лишь бы и на этот раз они остались целы и невредимы…»
Тихонько встав, она накинула халат и на цыпочках вышла. Усевшись у пианино, разложила на закрытой крышке листочки: кот с острова Мэн, высадившись в Шербурге, бродил вдоль доков, как вдруг встретил себе подобного. Айрис подумала и решила, что у представителей семейства кошачьих не существует языкового барьера, а потому им нет необходимости таскать с собой двуязычный словарь.
— Блэки, так будут звать кота-француза, — прошептала она. — А что касается нашего героя с острова Ман, назовем его Шорти. Шорти сетовал на отсутствие хвоста, — закончила она, услышав мелкие шажки.
Это была Дафнэ, которой почему-то тоже не спалось.
Жозеф уже минут десять колотил в дверь, решив во что бы то ни стало поговорить с Виктором. Тот, с припухшим лицом, наконец отворил.
— Жозеф! Что это на вас нашло? Сегодня воскресенье! У вас круги под глазами, вы плохо спали?
— Мне нужно срочно рассказать вам одну вещь. Вообразите, я вернулся на улицу Корвизар, и…
— Так вот почему я не застал вас в лавке! Кэндзи сказал, у вас ангина! Я чуть не заявился к вам, хорошо еще, вовремя спохватился, зная вашу мамашу и ее сильнодействующие средства. Когда она берется вас лечить, я всякий раз опасаюсь, что однажды это закончится трагически. Заходите, не то я простужусь до смерти! — проворчал он, дрожа в своей пижаме.
— Таша спит?
— Нет, заперлась в ванной. Мигрень, головокружение… это меня беспокоит…
— Может, она тоже простудилась?
— Почему «тоже»? Вы правда заболели?
— Да нет, заболела мадам Керсон. Ничего страшного, Кэндзи позаботится о ней. Между прочим, после такой ночи, как сегодняшняя, у меня может начаться воспаление легких, но вам, кажется, на это наплевать!
Появилась Таша, бледная и пошатывающаяся. Виктор бросился к ней и проводил в комнату.
Вздохнув, Жозеф опустился на стул и вытянул из стопки под столом газету. Это был выпуск «Пасс-парту». Он пробежал глазами несколько рубрик, обратив внимание на заметку, которая была обведена красным карандашом:
Зловещая находка
Уличная торговка чуть не умерла от разрыва сердца, обнаружив фрагмент человеческого черепа в порту Сен-Николя. Полиция ведет расследование.
— Невероятно! Это ведь моя газета! Я сам выделил эту заметку! Черт возьми, ну, мама! Что мне с ней делать!
Он достал следующую газету, нервно пролистал ее и не мог сдержать негодования.
— Она рылась в моей кладовке! Я этого так не оставлю!
Преступная торговля
В Руанском порту обнаружены три поддельные мумии, предназначенные для коллекционеров. После того как из свежих трупов были извлечены внутренности, преступники набили их бумагой и обмотали бинтами. Рядом с телами, украшенными дешевыми амулетами, находилось около тридцати животных, также мумифицированных, из которых полдюжины — кошки.
Так значит, Эфросинья снова нарушила строгий запрет. Она позволила себе стащить часть его ценнейшего собрания о необычных происшествиях. Он посмотрел дату последнего выпуска: 10 января 1896 года — и продолжил чтение:
Как отличить подлинник от контрафакта? Фальсификаторы подделывают предметы искусства, вводя в заблуждение даже знатоков. Примером может служить скандал со скипетром Карла Великого, который выставлялся в галерее Аполлона в Лувре с 1805-го по 1882 год, после чего обман был раскрыт. Этот скипетр оказался всего лишь посохом менестреля.[691]
— Ну, это просто нахальство! Стянуть у меня такой ценный материал, чтобы сложить газеты у Виктора и использовать для розжига плиты! Проучить бы ее как следует! — воскликнул раздосадованный Жозеф.
— Это за что же? — прогремел голос позади него.
Эфросинья в ярости швырнула хозяйственную сумку к раковине.
— За что мне такое наказание? Собственный сын угрожает физической расправой!
— Это была метафора, — пробормотал Жозеф.
— Мета что? Ну давай, насмехайся над матерью, побеседуй с ней языке «бессмертных» академиков! Я вкалывала с восьми лет, у меня не было привилегии учиться в школе! Твой несчастный отец научил меня читать. Ах, если бы он был здесь, он бы тебе показал! Да, я женщина простая, и тебе придется с этим смириться! И вообще я ухожу, так что предупреди мсье Легри, что я приду сюда попозже!
И она величественно удалилась.
— Хорошо нападать на других, когда сам виноват! — крикнул Жозеф.
Продолжение статьи отвлекло его от инцидента.
Что касается мумий, спрятанных среди ящиков с апельсинами на грузовом судне «Дакар», возможно, их погрузили на борт во время остановки в Каире. Вероятно, в Египте таможенники проявляют великодушие, соблазнившись магарычом. Но египтян можно понять — экономике их страны был нанесен такой урон Европой и Америкой, что жители зачастую нарушают закон, пытаясь заработать немного денег. Впрочем, покупатели-европейцы, прекрасно понимая незаконность торговли антиквариатом, тем не менее охотятся за египетскими древностями. Ловкие арабы, пользуясь ситуацией, выкапывают свежезахороненные тела и мумифицируют их, выдавая за останки фараонов. Только на этот раз…
— С кем тут была перебранка?
Виктор подошел к Жозефу, недовольному, что пришлось прервать чтение.
— С матерью. Она утащила сюда мои газеты. Я сказал, что об этом думаю, а она разозлилась. Как Таша?
— Она приболела, и я позвонил доктору Рейно.
— Может, уйдем в какое-нибудь спокойное место, где нам никто не помешает? То, что мне надо рассказать, чрезвычайно важно, и как нарочно…
— Вы предлагаете мне оставить супругу в таком состоянии?
— Всего на час. В любом случае, мама с ней побудет. Она вышла на улицу — обижаться. Пойдите, объясните ей все, она поймет. У вас это получится лучше, чем у меня.
— Вы ее обидели?
— Ну, это уж слишком! — воскликнул Жозеф, сворачивая газету в трубочку.
— Успокойтесь! Я пошел одеваться. «Бибулюс» вам подойдет?
Виктор был не особенно религиозен. Его представления о загробной жизни сводились к одному большому вопросительному знаку. Но при этом он верил, что дорогие и любимые люди, уйдя из жизни, продолжают наблюдать за живыми и помогать им, и еще верил, что места могут хранить память о тех событиях, которые там когда-то произошли. В харчевню «Бибулюс» на улице Толозе когда-то захаживала Таша. Потому она была дорога его сердцу. Заходя туда, он с наслаждением вдыхал запах пива и табака. Кофеварка, газовые фонари, коридор, заканчивающийся бильярдной, — всего этого не было в то время, когда Таша встречалась со своими друзьями-художниками в мастерской под названием «Телемская капелла», однако старая обстановка навсегда осталась у него в памяти.
Фирмен, краснощекий трактирщик, с гордостью показал фотографию своих наследников и, поправив очки, стал расхваливать четырехлетнего Рюпера и Серве, которому было два с половиной. Усевшись друг напротив друга на плетеных стульях, Виктор и Жозеф не признавались себе в тоске по былым временам, когда зал был заставлен простыми трехногими столами и бочками вместо стульев. Жозеф рассказал о своей экспедиции и тут же зачитал статью из «Пасс-парту».
— Любопытное, что вы просмотрели эту газету именно сегодня утром!
— Да, в самом деле. Вы ведь могли выкинуть ее, ничего не подозревая. Но вот видите красный карандаш? Это означает, что заметка уже привлекла мое внимание. Я отложил газету в сторону, а мама… Ну не будем больше об этом. Не могу же я повесить замок на дверь! Она бы мне этого не простила. Как бы то ни было, я бы…
Внезапно Жозеф, сам тому удивившись, стал довольно громко и фальшиво насвистывать мелодию, услышанную в доме на улице Корвизар, чувствуя, как у него на затылке волосы встают дыбом. Виктор наблюдал за ним, нервно постукивая по столу.
— Жозеф, вы не обидитесь, если я проявлю нетерпение?
— Что? Да нет, я привык! Есть связь между тем, что напечатано здесь, и Аделаидой Лезюер, это очевидно! Как она порезалась? Когда чистила карпа, принесенного бродягой! Где, по его словам, он его выловил? В водоеме, полном дохлой рыбы, в двух шагах от барака, где валяются руки, ноги, перебинтованные кошки и собаки и иссушенный баран.
— Прочтите концовку еще раз.
Однако на этот раз произошел несчастный случай. Жан Дуссар двадцати четырех лет, отец тройняшек, был госпитализирован после жалобы на ранение плеча во время разгрузки «Дакара». Когда весь багаж тщательно осмотрели, были обнаружены останки, описать которые нам не позволяет приличие, настолько их состояние было плачевным. Компаньон мсье Дуссара заявил: «Жить-то надо! Мы рады любой работе. Бригадир зовет нас, и мы разгружаем все, что прикажут».
— Кто подписал репортаж?
—
Вирус, точнее Антонен Клюзель собственной персоной.
— Он предоставил нам слишком мало сведений. Одно из двух — либо окончание было напечатано в следующем номере, либо Клюзель решил придержать информацию. Единственный способ узнать правду — это встретиться с ним. Я предлагаю сделать это завтра. У меня мало надежды застать его в офисе в воскресенье, и потом, я хочу посвятить день Таша.
— Отличная идея. Если симптомы у этого грузчика окажутся такими же, как у Аделаиды Лезюер — отек руки, высокая температура — мы будем уверены, что эти случаи связаны между собой… Мумии, вы отдаете себе отчет? Мумии в Париже!
— Мумии… Вы уверены, что вас не обмануло воображение? Останки животных — вы ведь говорили об овцах? — которые вы видели в отблеске свечи, могли быть принесены с подпольной скотобойни.
— Странное место для скотобойни! Полагаю, еще одна вечерняя прогулка могла бы вас разубедить. Вам имеет смысл отправиться со мной, чтобы воочию убедиться, что это не галлюцинации.
— Хорошо. Хотя день обещает быть нелегким.
Виктор поднялся. Он чувствовал себя уставшим.
— Постойте! Я вам не показал еще вот это! Я нашел ее в том месте, которое вы называете подпольной скотобойней.
Виктор покрутил в руке пуговицу.
— «Колониальный пехотный полк», — разобрал он.
— Ну! Кого вам это напоминает?
— Альфонса Баллю? — предположил Виктор.
— Кого же еще? Он ведь пропал, да? К тому же мама рассказывала, что двое военных приходили к Мишлен Баллю, чтобы допросить ее. И вот, я сказал себе, старина Жожо, придумай план, чтобы удостовериться в этом, и я его придумал, этот план. Я возьму у мадам Баллю сменную форму ее кузена, найдя предлог. Я знаю, она у нее, мадам ведь всегда кричит, что гладит вещи своего дорогого Альфонса. Затем отнесу ее к нему домой, на улицу Виоле 376, и потребую у хозяйки поменять ее на вторую форму, а если на ней не хватает пуговицы…
— Но если она сейчас на нем?
— По крайней мере мы узнаем, правда ли, что он удрал! Мне хочется хоть какой-то ясности после всех этих туманных догадок.
Виктор вздохнул, не выдержав натиска шурина. Тот даже проводил его на улицу Фонтен, чтобы справиться о здоровье Таша. После гоголя-моголя и материнских забот Эфросиньи ей стало гораздо лучше, и она отменила вызов доктора Рейно. Когда Виктор предложил прогуляться по Жуанвилю, она с радостью согласилась. Помирившись с матерью, Жозеф ушел, бурча себе под нос, что его одного занимает это расследование.
Виктор же уединился в лаборатории. В полудреме он закрыл глаза. Перед ним мелькали карусели, речные трамвайчики, игроки в карты. Потом он увидел площадь Опера, по ней шла женщина… потом его внутреннему взору предстал берег моря… волны разбивались о скалы… Показ в театре Робер-Гуден впечатлил его больше, чем киносеанс братьев Люмьер. Одни картинки сменялись другими… Он предчувствовал, что Жорж Мельес со своими помощниками создадут фантасмагории, которые превзойдут самые смелые мечты, и больше всего на свете ему хотелось в этом поучаствовать.
Арманда Симоне рассмотрела непрошеного гостя. Белокурый и голубоглазый, он мог показаться весьма привлекательным, если бы не небольшой горб.
Когда, держа сверток в руках, он изложил ей свою просьбу, она не предложила ему сесть и отказалась выполнить его желание.
— Мне очень жаль, но я против вторжений к моим постояльцам в их отсутствие. Поскольку вы были так любезны и принесли мсье Баллю его сменную форму, я повешу ее на вешалку до его возвращения.
— Так он действительно уехал? А куда? Его кузина, да и я сам очень хотели бы переговорить с ним.
«Не вы одни», — подумала Арманда Симоне, униженная допросом, которому ее подверг накануне чиновник из военного министерства.
— Я сдаю меблированные комнаты, а не заведую общежитием. Мои постояльцы — взрослые люди, свободные в своих передвижениях, пока они вносят плату. Мсье Баллю заплатил за месяц вперед, поэтому меня мало интересуют его похождения. Возможно, ему поручили сверхсекретную миссию.
— Вряд ли! Мишлен, то есть мадам Баллю, допрашивал военный, начальник ее кузена. Он тоже ищет Альфонса. В любом случае, с ваших слов она знает, что он удалился в обществе перекупщицы в прошлую субботу. А после его следы теряются.
Она подняла бровь, шокированная фамильярностью его речи.
— Скажите мне хотя бы одно: он надел форму перед тем, как скрыться?
Собеседница не желала отвечать. А если этот горбун и есть автор письма, угрожающий раскрыть ее беспутное прошлое? Вдруг эта сцена — хитрость, предназначенная для того, чтобы испытать ее? Она покачала головой.
— Я этого не знаю.
— Ну, это легко проверить, вам следует всего лишь порыться в его шкафу!
Она отпрянула и возмущенно приказала ему убраться.
— Какое нахальство! Попросить меня, его хозяйку, порыться у него в комнате! Вы меня путаете с консьержкой?
Этот намек на мадам Баллю окончательно вывел Жозефа из себя, и он удалился, не попрощавшись.
Он столкнулся с тремя людьми, двумя мужчинами и женщиной пожилого возраста, которые, по всей видимости, подслушивали их разговор. Они тут же принялись наперебой обсуждать останки доисторических животных, обнаруженные недавно в одном из карьеров.
— Сумасшедший дом! — бросил Жозеф служанке, которая провожала его до двери.
— Тише, мсье, зайдемте-ка на минутку на кухню, у меня есть что сказать, — шепнула хорошенькая девушка, осторожно оглядев коридор. — Проходя мимо салона, я слышала, как вы расспрашивали мадам Симоне. Мсье Баллю был одет в свою форму, когда пришла та женщина. А новый полосатый костюм висит в его комнате. Он — его любимый, странно, что мсье за ним не пришел!
— Мадмуазель, вы оказали мне огромную услугу! — воскликнул Жозеф.
Она шепнула, покраснев:
— Меня зовут Катрин.
Жозеф стоял на остановке омнибусов. Жаль, что эта грациозная субретка не смогла описать ему, в каком состоянии форма, в которой ушел Альфонс. Все ли пуговицы на месте? Мундир, который он выпросил у Мишлен Баллю после долгих увещеваний, и который должен был вернуть обратно, был безупречен. И хотя Жозеф не смог все как следует разузнать, у него уже появилась уверенность: капитан Баллю действительно пропал.
Он пересчитал монетки в кармане. Фиакр был доступной для него роскошью. Он удалился как раз в тот момент, когда Люси Гремий, разодетая и завитая, подошла к остановке омнибуса, который должен был отвезти ее к бывшему переписчику.
Они поужинали на авеню Шуази, недалеко от газового завода, в небольшом кафе, хозяином которого был отец бывшего коллеги Жана-Пьера Верберена.
После ужина они принялись бродить, дожидаясь наступления темноты.
Молчаливые и испуганные, они рассматривали решетку с замком, надеясь, что она чудесным образом приоткроется. Уже два раза они ходили осматривать дыру в заборе, ведущую в поместье. Напрасно Жан-Пьер уверял девушку, что это единственный вход на пустырь, она отказывалась туда лезть.
— А если кто-нибудь увидит? И потом, я не так одета. Лучше вам пойти туда одному, я вас здесь подожду.
— Квартал пользуется дурной репутацией, особенно ночью, мне не хочется оставлять вас одну. Лучше отложить до завтра.
Так они переговаривались шепотом, когда, покачиваясь, к ним приблизился какой-то здоровяк. Они бросились в темный закоулок, в нескольких шагах от фонаря.
Здоровяк был под хмельком. Шатаясь, он опустился перед дырой на колени и произнес ряд ругательств, заканчивавшихся воинственным криком:
— Я сдеру с него заживо кожу, с этого чертова бродяги!
Ему пришлось приложить почти столько же усилий, чтобы пролезть в дыру, сколько требуется младенцу, чтобы выбраться из материнского чрева.
Когда Нестор Бельгран выпрямился и вновь обрел шаткое равновесие, он ничуть не был похож на младенца. Человек, затаившийся в гуще ветвей, прежде чем исчезнуть, пробормотал сквозь зубы:
— Добро пожаловать в мои владения, паршивая собака!
Нестор Бельгран не расслышал его шепота, утонувшего в шуме листвы.
Несмотря на остроту взгляда, человек из тени не заметил с другой стороны парочку, тоже стоявшую в полумраке. Он был озабочен лишь этим пьянчужкой, неверной походкой бросившимся к дому, ничуть не заметив, что за ним наблюдают.
— Вы дрожите, — сказал Верберен, положив руку на талию Люси.
— Ведь этот человек ищет вашего друга? Какое жуткое место!.. Умоляю, пойдемте отсюда!
Они пошли, пошатываясь, по неровному тротуару. Люси вцепилась в спутника, будто боялась, что ее от него оттащат. Однако ей нечего было опасаться — он прижимал ее даже крепче, чем собственную супругу.
Глава пятнадцатая
21 сентября
Мели Беллак чуть не плакала. Она рассчитывала задобрить Эфросинью, приготовив первоклассный обед по рецепту, который не могла знать мадам Пиньо. Почему эта женщина к ней придирается? И зачем вмешивается в дела других? Мели Беллак отыгралась на луке, безжалостно измельчив его и решительно бросив в кастрюлю, где он присоединился к главной причине спора — филейной части говядины, которую, по словам Эфросиньи, готовить таким способом
преступно.
— Мсье Мори обожает мясо, запеченное в духовке! Вы рискуете вызвать у него несварение!
— La charonha!
[692] — в который раз процедила сквозь зубы Мели.
Она ужасно жалела, что согласилась на это место. С мсье Мори совершенно невозможно поговорить, а в его квартире полно возмутительных гравюр с изображением обнаженных узкоглазых мужчин и женщин в непристойных позах. На их создание художника вдохновил сам дьявол, не иначе! И в довершение всего еще и мадам Пиньо, которая повсюду сует свой длинный нос…
С карандашом за ухом Кэндзи складывал в стопку демонстрационные экземпляры книг, выставленные в витрине и выцветшие на солнце. Он мурлыкал под нос песенку Мели Беллак, не замечая, что мешает попыткам Жозефа припомнить мотив, который насвистывал незнакомец в доме с призраками.
Именно этот момент выбрала Матильда де Флавиньоль, чтобы появиться в книжной лавке в наряде из поплина в крупную клетку и круглой шляпке, украшенной пышным бантом.
— Какими судьбами? — поинтересовался Кэндзи.
Матильда де Флавиньоль слегка растерялась, но тут же развернула рекламку велосипедов «Буксель» и «Дюбуа», гордясь, что ей удалось ее выклянчить у расклейщика афиш.
— Отдам Хельге Беккер, она их коллекционирует. Она случайно не здесь?
С простодушным видом она осмотрела лавку и увидела одного Жозефа. В глубине души она надеялась встретить Виктора Легри.
Но тот именно в это время беседовал с букинистом Шанморю, пытаясь добиться с его помощью осуществления своих и Жозефа планов. Для этого ему пришлось потратить немало силы убеждения и даже несколько франков, так что когда он появился, Матильда де Флавиньоль уже убралась восвояси. Виктор поставил велосипед рядом со шкафом, где Кэндзи хранил сувениры, привезенные из путешествий. Жозеф тоже проскользнул к этому убежищу.
Наклонившись к стопке книг Артура Шницлера — то была повесть «Смерть», переведенная с немецкого и вышедшая в издательстве «Перрен», — Кэндзи вспоминал, как Джина сказала, что они могут встретиться лишь на следующей неделе. Он настаивал, но в ответ слышал: «Я ужасно выгляжу, у меня синие круги под глазами. Лучше меня такой не видеть…» Надо ли было настоять? А вдруг она потом упрекнет его, что он ее послушал? Женщин так сложно понять! Можно ли быть уверенным, что их запрет не предназначен для того, чтобы его нарушить? Он судорожно вздохнул. Он сожалел о своих прежних связях, в частности, об отношениях с Евдоксией Аллар. С ней не было никакого жеманства, они раздевались, совершали что должно, одевались и назначали следующую встречу, в интервале с пяти до семи.
— Эта хозяйка пансиона — лицемерка, она не позволила мне подняться к Альфонсу, потому что скрывает что-то подозрительное! А если она его прикончила и повесила в шкафу рядом с полосатым костюмом?
— Вы преувеличиваете, Жозеф. Успокойтесь, а то мы не сможем одурачить Кэндзи.
Будто только и ждавший этой реплики, колокольчик прозвенел. К
Кэндзи направился любопытный персонаж. Под расстегнутым пальто виднелась зелено-желтая рубашка, подбородок был укутан кашне. На ногах красовались деревянные сабо, громко стучавшие по полу. Длинные светлые волосы прикрыты бобровой шапкой. Незнакомец зарос бородой до самых глаз — маленьких, небесно-голубого цвета, похожих на яркие камешки, вдавленные глубоко в лицо. Войдя, он немедленно устремился к новинкам.
— Hello, дорогой собрат. Надеюсь, ваша лавка примет мой план социального обновления, и когда я создам профсоюз, будет подчиняться его правилам.
— Что это будут за правила, мсье Шанморю? — холодно спросил Кэндзи.
— Не продавать ни одного произведения по цене ниже установленной мною. Комитет утвердит расценки. Все книги будут рассортированы в алфавитном порядке, на этикетке указано заглавие и цена, приложена закладка, а на карточке, составленной на старофранцузском, будут написаны разумные советы по уходу за книгами, а также строгий запрет сыпать на них пепел от сигарет.
— А из кого будет состоять этот комитет?
— В основном из меня. Но я еще с вами об этом поговорю. Hic et nunc меня интересует совсем другое. Два ваших компаньона обещали мне прийти оценить тома, украшенные экслибрисом каноника Антуана Шевалье, которыми набита моя кладовка, как бочка селедкой. Раритет 1650 года.
— А что это вы сказали вначале? На каком языке?
— Латынь, мсье Мори, латынь. Я сказал: «здесь и сейчас».
Виктор и Жозеф показались из задней комнаты. У обоих были такие детски невинные лица, что это сразу показалось Кэндзи подозрительным.
— Я намеревался пойти в Друо, — запротестовал Кэндзи.
— Клянусь собственной матерью, вернусь к полудню! — завопил Жозеф.
— Аккуратнее с клятвами, а не то ваши выходки отразятся на здоровье вашей матери и положат конец терпению вашего тестя!
«Они принимают меня за идиота! Шанморю, раритет! Как же!» — размышлял Кэндзи, следя за тремя мошенниками через витрину.
— Главное, держите язык за зубами и не забудьте упаковать два тома с пресловутым экслибрисом, — посоветовал Виктор Шанморю, чьи сабо уже стучали по тротуару улицы Сен-Пер.
Полицейский Шаваньяк и Жербекур, подручные комиссара Рауля Перо, следили за Роанским двором, замерев, как два огородных пугала. Они должны были отслеживать визиты в дом Александрины Пийот Виктора и Жозефа. Шаваньяк сделал знак Жербекуру быть начеку: подозреваемые как раз проскользнули к сараю.
При виде свалки, где, возможно, была погребена коробочка из-под мигренина, Виктор тяжело вздохнул. Жозеф тоже.
— Представьте, что через тысячи лет археологи, перерывая этот квартал, найдут чучело выдры, шляпки, корсет и кринолин. Какой вывод они сделают? Наверняка решат, что предки были маленькими волосатыми млекопитающими, носившими дырявые шляпы и запиравшими своих врагов в клетках из китового уса.
— Жозеф, мы торопимся! Давайте не тратить время на всякие глупости!
Следующий час они потратили на то, что копались в грудах странных предметов, назначение которых было порой сложно определить. Например, там была ракетка для бадминтона без ручки, но зато с прикрепленными к ней искусственными цветами. Иногда перед ними вдруг открывалось месторождение вафельниц или рудная жила ложек для абсента. Заметив какую-нибудь коробочку, они старались поскорее вытащить ее из-под груды хлама, а потом, чихая от пыли, смотрели на упаковку из-под ливонских капель, шоколада Menier или ликера на травах.
— Это бесполезно, мы зря теряем время, — в конце концов заметил Виктор.
— Не совсем, — возразил Жозеф, держа пачку листочков в руке. — Здесь говорится о жирах и стеариновой кислоте, а подписано Шеврелем. Это понравится мсье Мандолю!
— Браво, Жозеф! Он будет в восторге, а мы воспользуемся этим, чтобы спросить о химической формуле из книжечки. Или вы хотите подвергнуть мсье Шодре такому же допросу?
— Нет, спасибо, он мне постоянно талдычит об Эжене де Миркуре, чьи работы я никак не могу достать. Ну что, мы правда сматываемся? Здорово! Вы позволите?
Жозеф нацарапал несколько слов в своем блокноте, почему-то насвистывая мотив, услышанный на улице Корвизар. Сдерживая раздражение, Виктор проворчал:
— Вы мне все уши прожужжали своими трелями!
— Не сердитесь, Виктор, когда я слышу надоевшую мелодию, слова которой забыл, она отпечатывается у меня в мозгу, и я месяц не могу от нее отделаться. Мы правда уходим? В самом деле?
— Это все равно что искать иголку в стоге сена. Уводите Шаваньяка и возвращайтесь домой, а я займусь Жербекуром и сбегаю в «Пасс-парту». Встречаемся сегодня вечером в «Потерянном времени», оттуда и отправимся в этот чертов особняк.
Выйдя из фиакра, Ганс некоторое время выждал. Отправиться на улицу Фонтен — сложное испытание. Все это время он вспоминал о Таша со всей теплотой былой нежности и мучительной тоской. Приехав в Париж, он пробежал по всем местам, где мог надеяться на мимолетную встречу: посещал тех же людей, что и она, даже нашел удовольствие в беседе с эти проклятым книготорговцем, за которого она вышла замуж. Утверждали, будто тот раскрывает преступления. Что из того? Ганс был не из таких. Его мало что интересовало, кроме собственных желаний. Согласившись принять участие в выставке в «Прокопе», он уступил своим амбициям, а также желанию возобновить отношения с женщиной, чей образ не давал ему покоя и чье лицо он запечатлел на нескольких своих скульптурах. Статуи, расставленные по мастерской, обладали не только лицом, но и телом Таша. Он был убежден, что сумеет убедить ее уступить. Ведь он испытывал к ней такое сильное влечение. Лишь бы она была одна.
Ему повезло: дверь открыла сама Таша. На ней была юбка и светло-серая блузка, похожая на ту, которую она носила в Берлине и под которой угадывалось обнаженное тело. Она тут же хотела захлопнуть дверь, но он удержал ее.
— Разве я некстати? Ведь ты, похоже, одна.
— Виктор здесь неподалеку, он сейчас вернется.
— Лгунья, я знаю, что его нет! Нам нужно столько всего сказать друг другу. Я тебе рассказывал о книге, которую друг Доде и Родена, корреспондент «Нойе фрай пресс», Теодор Герцль,
[693] написал по делу капитана Дрейфуса? Это должно тебя заинтересовать, там речь идет о необходимости создать государство для евреев.
— Отныне я француженка, моя фамилия Легри, — возразила она, пятясь.
— Боюсь, смены гражданства недостаточно. В России или во Франции, ты все равно еврейка.
— Во Франции не устраивают погромов.
— Но здесь есть антисемиты. Разве ты не видишь? Дело Дрейфуса помогло все увидеть в верном свете. Твой Легри не сможет тебя защитить, а я смогу! И никто не будут желать тебя так, как я.
— Замолчи!
— Зачем с этим бороться? Ты и сама горишь желанием!
Он взял ее за плечи и привлек к себе. Она уступила с такой безучастностью, что Гансу показалось, будто он сжимает в объятиях куклу. Он отпустил ее, и она тут же попыталась ускользнуть, но он рывком приблизил ее к себе и стал целовать в губы. Она же не оказывала ни малейшего сопротивления. Сильные пальцы скульптора мяли ее одежду, жадно гладили бедра. Вместе они качнулись в сторону алькова. Несмотря на то, что голос внутри Таша кричал: «Нет!» — они медленно опустились на кровать, и Ганс, оказавшись сверху, рванул на ней блузу. Она не произнесла ни звука, будто загипнотизированная, но он слышал, как она с усилием дышала. Внезапно она резко оттолкнула его, почувствовав, что уже готова уступить.
— Нет, Ганс! — сказала она тихо. — Все кончено. Невозможно ничего вернуть.
— Но почему?
— Ты можешь цепляться за прошлое, если это доставляет тебе удовольствие, но для меня прошлое уже ушло.
— Не будь злюкой, ведь ты хочешь этого!
— Я вижу, ты остался таким же властным. Ничто и никто не может противиться твоим решениям, не так ли? — холодно бросила она ему.
Теперь она смотрела на него с презрением. Он не привык, чтобы с ним так обращались, и, охваченный яростью, грубо тряхнул ее. Она споткнулась обо что-то мягкое. Возмущенное мяуканье прервало их рукопашную схватку. Маленькая кошка, превратившись в комок вздыбленной шерсти, выпустила коготки и бросилась на обидчика хозяйки.
— Мерзкое животное! — завопил он и побежал к выходу, а кошка помчалась за ним.
Таша воспользовалась этим. Слизнув с запястья кровь и прижимая к груди порванную блузку, она бросилась запирать дверь.
— Спасибо, Кисточка! Ты спасла меня от себя самой! — шепнула она кошке, которая терлась у ее ног.
Наспех одевшись, Таша выглянула в окно в поисках кого-нибудь, кто помог бы ей избавиться от непрошенного посетителя.
— Не делай глупостей, открой! — умолял под дверью Ганс. — Прошу тебя, впусти! Ну, будь умницей!
— Уходи! Остановимся на этом, чтобы не опуститься до бранных слов, — сказала она.
Тут она увидела в окошко, как дочки столяра принялись бегать друг за другом вокруг фонтана, напевая веселую песенку. Таша схватила сумочку, открыла дверь, грубо оттолкнув Ганса, и кинулась на улицу.
— Зоя! Хлоя! Подождите меня!
Подбежав к девчушкам, она схватила их за руки и пошла вместе с ними. Она прошла всего несколько метров, как с ней поравнялся пустой фиакр. Она вскочила в него как раз в тот момент, когда Ганс собирался схватить ее за руку.
Куда ехать? В книжную лавку? Нет, только не туда! На улицу Сены, к Айрис, чтобы собраться с мыслями! Слезы застилали ей глаза, она стала искать платок и нащупала скомканную бумажку в глубине сумки. Улица Сен-Сюльпис, Мишель Форестье. Она смутно вспомнила друга Ломье, который поспешил к ней на помощь в «Прокопе», когда ей стало плохо, и воспользовался этим, чтобы распустить руки.
«Решительно, все они одинаковы!»
Она порвала бумажку на мелкие кусочки и засунула их между сиденьем и спинкой фиакра, в то время как экипаж выехал на набережную Малакэ. Улица Сен-Сюльпис напомнила ей Люксембургский сад и первые уроки езды на велосипеде с Хельгой Беккер. Прогулка вокруг водоема больше всего пойдет ей на пользу. Пройтись по саду, съесть горячую вафлю, забыть о минутной слабости, изгнать Ганса из своих мыслей. Постучав в перегородку, она велела кучеру изменить маршрут, выйдя на углу улицы Феру.
Едва она ступила на тротуар, как к ней подбежала немолодая, но шикарная женщина в каракулевом туалете.
— Вы помните меня? Фелисите Дюкрест, мы познакомились недавно в «Прокопе»! — воскликнула она, смеясь.
Таша узнала тетку Мишеля Форестье, жеманницу с торчащими, как у кролика, зубами.
— Простите мою нескромность, вы идете к моему племяннику?
Да как она смеет!
— Я хочу прогуляться по Люксембургскому саду. Я не знала, что ваш племянник здесь живет, — добавила она с наигранным удивлением.
— Он и работает здесь! Я подумала, раз у вас есть время, не согласитесь ли вы выпить чашечку чая у меня дома? Одинокой женщине как я лестно поболтать с художницей, а вы могли бы полюбоваться моими картинами — Ренуаром и Гогеном. Я живу на площади Вогезов.
Таша, не раздумывая, согласилась. Если Ганс попытается отыскать ее, ему придется побегать по Парижу.
— Моя карета стоит на улице Гизард.
Виктор поднялся на второй этаж здания, в котором располагалась редакция «Пасс-парту» на улице Гранж-Бательер. Давно он не вдыхал запах свежих чернил, а вид Антонена Клюзеля (он же Вирус) вместе с этим обонятельным воспоминанием вызвал у него ностальгию. Далеко уже было то время, когда он посещал гулкий мир газеты, для которой когда-то писал статьи!
— Мсье Клюзель, я проследил за маршрутом царя, он прибыл в Бреслау 5 сентября, ожидается 5 октября в Шербуре, почтив своим августейшим присутствием Лилль, Копенгаген и Балморал. Поместить это на первую полосу? — спросил молодой репортер в кепке.
— Читатели уже пресытились приторными, как кремовый торт, новостями. Поищите что-нибудь более оригинальное. Подождите-ка, вот: загадочный Тимбукту, занятый нашими славными войсками в 1893 году!
— Эта новость уже протухла.
— Ну хорошо, большие маневры или скорое открытие «Триумфа республики» Далу.
[694] Это ваша работа, старина, будьте изобретательны. О! Боже мой! Легри!
Не успел Виктор опомниться, как его затащили в офис, где сидела пухленькая секретарша, постукивая по клавиатуре печатной машинки.
— Элали! Ты все так же верна своей работе, — заметил он.
— Тем более что отныне это ее священная обязанность. В июне мы поженились, — заявил Антонен Клюзель жестом собственника положив руку ей на плечо. — Радость моя, у нас больше нет секретов друг от друга, однако если тебе вдруг сию минуту захотелось полакомиться пирожным с кремом, я ничего не имею против.
— Можешь не волноваться, я ухожу, — проворчала Элали, хлопая дверью.
Антонен Клюзель закурил гаванскую сигару. Колечки дыма поднялись над письменным столом, из-под которого он быстренько достал бутылку Кюрасао.
— Поднимем бокал за встречу, приятель! Это две мои маленькие слабости, — заметил он, показав на сигару и бокал. — Жаль только, врачи запрещают! Вот я и нарушаю предписания, пользуясь малейшим отсутствием своей очаровательной супруги.
— Мне кажется, вы в отличной форме.
— Ах, быть и казаться — разные вещи!.. Ну, и на какой след напал сыщик? Не хмурьтесь, ваше появление позволяет надеяться на интереснейшую историю с преступлениями и тайнами.
— Это верно! Я прочел номер «Пасс-парту» за 10 января, и мне хотелось бы узнать подробности этой истории с «Дакаром».
— С «Дакаром»? Покажите… Ах да, припоминаю! Дорогой мой, не верьте журналистам: они наживаются на читательской страсти к грязным историям. — Антонен Клюзель открыл окно. — Вот, скрываю следы преступления, не хочу, чтобы милая Элали читала мне нотации. Устраивайтесь в этом кресле, а то вы так суетитесь, что у меня от вас голова кружится.
— Даю руку на отсечение, вы что-то знаете!
— Не стоит играть с огнем, Легри. К тому же статья от десятого января — это устаревшие сведения, газетная хроника хороша только с пылу с жару. Никто, кроме вас, не собирает старые газеты.
— Ну же, Антонен, я ведь не требую невозможного.
— Опять темная история, Легри? Ну хорошо, сдаюсь. Даже если я ничего не расскажу, вы все равно до всего докопаетесь, Это лишь вопрос времени.
— Что это вы осторожничаете? Ведь я — сама сдержанность!
— А может, я еще сохранил остатки профессиональной этики!
— Из альтруизма?
— Из осторожности, дорогой мой, из осторожности. Вы должны обещать…
— Я обещаю.
— Вирус посчитал благоразумным не тревожить своих подписчиков, я замял дело под давлением военно-морских властей. Но вам я готов предоставить информацию. Какая жалость, с «Дакаром» у нас были бы такие тиражи…
Он приподнял стопку материалов и вытащил из-под нее папку. В папке лежали два листка, которые он и протянул Виктору.
— Читайте, это первая составленная мною версия.
Полиция только что обнаружила, что в Руанском порту осуществляется незаконная торговля предметами, которые справедливо вызывают отвращение у любого порядочного человека. Речь идет о торговле фальшивыми мумиями, которые преступники изготавливают из неопознанных трупов, извлекая внутренности, набивая их бумагой и обматывая бинтами. Кроме того, полиция обнаружила около тридцати мумий животных, в том числе десять кошек. Все они были спрятаны между ящиками с бананами, которые перевозило судно «Дакар». Очевидно, именно так мумии и попадали в столицу. На этот раз намерениям фальсификаторов помешала трагическая случайность: двадцатичетырехлетний грузчик Жан Дуссар, выгружая тюки, случайно поранил руку осколком кости, который прорвал ткань и торчал наружу. Доктор Садейян диагностировал у Жана Дуссара тяжелое отравление. А через две недели, несмотря на усилия врачей, несчастный скончался от сибирской язвы.
— Сибирской язвы! — воскликнул Виктор.
— Это установлено, дорогой мой. Я сам говорил с этим врачом, и у него не было никаких сомнений.
— А для чего скрывать информацию? Ведь вы даже цензурой временами пренебрегаете!
— Все указывает на то, что сумки, содержимое которых было предназначено для изготовления мумий, побывали в нашей дорогой столице. Сами посудите, что было бы, объяви мы об этом во всеуслышание. Врачам только бы и осталось, что успокаивать бдительных мамаш, которые со всеми царапинами и ссадинами волокли бы своих деток в больницы в ожидании страшного приговора. А полиция! Стоило бы Гюстену или Фифине припоздниться с возвращением домой, как в семействах поднималась бы истерика: все, их ребеночка уже зарезали и выпотрошили!
— А как же этика?
— Этика! Пф! Она тлеет, как эта сигара, а пепел от нее лучше замести под коврик… Будьте так любезны, прихватите с собой этот окурок, а я воспользуюсь вашей газетой как веером, ведь запах никотина должен рассеяться не долее чем через пять минут! Мое почтение вашей супруге.
В конце улицы де Бираг показалась площадь Вогезов. Фелисите Дюкрест жила в верхнем полуэтаже здания восемнадцатого века, постороенного из красного кирпича и с островерхой крышей. Кучер гнал фиакр в каретный сарай на улице Беарн, две женщины прошли по саду, прогрохотал омнибус, ехавший по маршруту Бастилия-Ваграм. И Королевская площадь, по которой когда-то прогуливались Нинон де Ланкло, Марион Делорм, мадам де Севинье, Рашель, Виктор Гюго и Теофиль Готье, вновь погрузилась в сон. Три стороны огромного четырехугольника площади были пусты, а вдоль четвертой протянулись скромные лавки — фруктовая, книжная, бакалейная и лавка старьевщика.
Квартира Фелисите Дюкрест состояла из нескольких комнат. Простенки гостиной, когда-то украшенные позолотой, изрядно облезли, а мраморный камин казался неуместно помпезным. Оттоманки, комнатные растения, мебель эпохи Директории и калорифер плохо сочетались друг с другом. В двух спальнях стены были обиты желтым утрехтским бархатом. Служанка в кружевном фартучке хлопотала в довольно тесной кухне, готовясь подать мясной пирог. В гостиной же хозяйка устроила музей: из всей мебели там были лишь несколько стульев черешневого дерева и диван, обитый тканью либерти с цветочным узором. Множество картин висели на стенах, выкрашенных в белый цвет — это сразу очаровало Таша: сдержанная белизна выгодно подчеркивала яркие оттенки полотен.
Особенно она отметила молодую женщину в лодке, в светлом одеянии и в темной шляпке, написанную Ренуаром в начале его карьеры.
— Мне нравятся эти красные и синие пятна на общем зеленом фоне, в этом есть что-то от Курбе, — заметила Таша.
Она надолго остановилась перед фермой, написанной Гогеном на Мартинике в 1887 году.
Вкусы хозяйки были разнообразны, от гравюр Дюрера до карикатур Домье. Другие произведения, более современные, заинтересовали Таша меньше, зато ей очень польстило, когда она обнаружила один из собственных натюрмортов, вазу с грушами и яблоками.
— Где вы купили эту гуашь?
— Я выпросила ее у одного из друзей сэра Регинальда Лимингтона. Он согласился уступить ее с хорошей скидкой. Неловко об этом говорить, но мое финансовое положение начинает страдать от моих прихотей.
Они сели, и Фелисите Дюкрест позвонила прислуге. На столике для триктрака как по волшебству появилось блюдо с закусками.
— Угощайтесь, я обожаю эти канапе с сыром и всегда пью бокал мадеры перед ужином, но если вы предпочитаете этот безвкусный британский напиток…
— Спасибо, чай я пью только за завтраком.
С некоторой неприязнью Таша наблюдала, как слишком красные губы хозяйки поглотили канапе.
— Вы произвели огромное впечатление на моего племянника, — вымолвила Фелисите Дюкрест. — Когда увидела вас рядом с магазином, где он работает, я подумала… Но я ошиблась, и тем лучше. Мишель очарователен, но он страшный ловелас. Он разъезжает по балам и приемам, делает всякие глупости, расплачиваться за которые приходится мне. Бывает, он напивается и бьет посуду, а иногда оставляет в обременительном положении девушек, скорее простушек, чем развратниц. Я устала утешать их разбитые сердца, а точнее — давать им адреса… ну, знаете, дам, делающих незаконные аборты… Кроме всего прочего, это стоит больших денег.
Таша встала.
— Уверяю вас, я счастлива в браке. Тем не менее если бы мне взбрело в голову наставить рога своему супругу, я бы уж точно выбрала для этого кого-нибудь другого, но не вашего племянника. Благодарю за приглашение, ваша коллекция восхитительна! — крикнула она уже у дверей.
Если бы не сирены, тихонько напевавшие ему свои протяжные песни о нераскрытых тайнах, Виктор без сожалений отказался бы от мысли снова забраться в заброшенный сад и полуразвалившийся дом, тем более после рассказа Жозефа. Однако тот почти силой всучил ему свечу и первым двинулся вперед.
— Статуя с головой шакала, дохлая рыба, человеческие останки… Все-таки вы большой выдумщик! Вы хоть сознаете, что речь идет о нарушении неприкосновенности жилища? — ворчал Виктор, когда они подошли к водоему.
— Посветите-ка в этот угол, вот сюда. Странно, ничего нет. И рыба… словно испарилась. Клянусь, это не было галлюцинацией! Может, был сильный ветер…
Как только они вошли в здание, в нос Виктору ударил гнилостный запах. Тут Жозеф явно ничего не придумал. Поднимаясь по лестнице вслед за шурином, Виктор колебался, как лучше: заткнуть нос или дышать с открытым ртом? Он выбрал второй вариант, тогда как с удовольствием остановился бы на третьем — незамедлительном и отчаянном бегстве. Но имидж, который он сам себе создал и которым так гордился, имидж сыщика, которому нет равных, мешал уступить этому соблазну.
Когда отблеск свечи робко колыхнулся, осветив ту мерзость, что была свалена на полу, он с трудом подавил приступ тошноты.
— Какой ужас!..
— Что мы возьмем? — шепнул Жозеф, который уже знал, что увидит, и был к этому готов.
— Вы что, на рынке?! Не трогайте! — воскликнул Виктор в тот момент, когда шурин был готов распеленать мумию кошки. — У нас есть сумка?
— Да, я прихватил мамину.
— Надо будет ее сжечь. Замотайте руку платком, я не шучу!
— Ну хорошо. Вы мне поможете или нет?
— Я бы с удовольствием, но мой костюм стоит двести франков…
Тут оба замерли, так как на лестнице послышались приглушенные шаги, затем показался какой-то смутный силуэт, который тут же, заметив их, метнулся к выходу. Жозеф схватил первое попавшееся под руку, запихнул в сумку и бросился за Виктором, который, пересилив страх, помчался за тенью через парк. Свечи сразу погасли, и Виктор с Жозефом наугад преследовали незнакомца, двигаясь по направлению к ореховой роще. В конце концов им удалось настичь его и схватить. Он нисколько не сопротивлялся.
— Прошу вас, отпустите меня! — взмолился незнакомец.
Они дотащили его до стены, отделявшей имение от улицы Корвизар. В бледном свете фонаря им наконец удалось разглядеть свою добычу: тщедушный мужчина лет пятидесяти, с глубокими морщинами на лбу и щеках, с седыми волосами и темными глазами.
— Кто вы? Чем здесь занимаетесь? — строго спросил Жозеф.
— Да отпустите вы его, наконец, тупицы! — вдруг крикнул высокий голос.
Он принадлежал молодой женщине, светловолосой и кудрявой, которая так яростно сверлила взглядом Виктора и Жозефа, словно хотела обратить их в камень.
— А вот и еще одна! Так вас много?
— Мы с Жаном-Пьером ищем своих друзей. Разве это запрещено?
— На территории частного владения? Кого же вы ищете?
— Какая вам разница? Мы не сделали ничего дурного, — уверенно сказала блондинка. — Мы пытаемся найти мсье Бренгара и мсье Баллю, они пропали где-то в этих местах.
— Баллю? Вы сказали Баллю? Альфонс Баллю?
— Вы его знаете?! — спросила изумленная женщина.
— А как же! Это кузен консьержки из дома, расположенного рядом с книжной лавкой.
— Жозеф, помолчите хоть минуту, я постараюсь объяснить все понятнее. Но прежде всего давайте представимся. Меня зовут Виктор Легри, а это мой шурин и компаньон Жозеф Пиньо.
— И писатель, — заметил Жозеф.
— Я — Жан Пьер Верберен, а мадмуазель — Люси Гремий, невеста мсье Баллю.
— Невеста — это громко сказано, — возразила Люси.
Полчаса спустя бывший переписчик и парикмахерша, перебивая друг друга и прерываясь из-за постоянных замечаний Жозефа, поведали о том, как был заселен заброшенный дом и как исчез Жан-Батист Бренгар, он же — Бренголо. Альфонс Баллю тоже испарился. Непонятно было, что связывало двоих пропавших, кроме рекламной карточки парикмахерской, где работала мадмуазель Гремий.
— Так значит, бродягу, который продал карпа Аделаиде Лезюер, зовут Бренголо, — подытожил Жозеф.
— Какого карпа? — спросила Люси.
— Неважно. И вы утверждаете, что он живет в этом поместье?
— Да, — подтвердил Жан-Пьер Верберен. — Он поселился здесь в середине августа, когда меня выгнали из моей хижины в Шантийи.
Жозеф задумался. А что если насвистывал тогда не кто иной, как Бренголо? «Какова же его роль? Хорошо бы разыскать его».
— У нас есть доказательство, что Альфонс Баллю был здесь, — сказал Жозеф. — Это пуговица от формы, я проверял, точно такие же пришиты на его сменном мундире. Если он заметил останки, которые гниют в подвале, он должен был драпать отсюда со всех ног.
— Какие останки?
— Типа этих, — ответил Жозеф и, обмотав правую кисть платком, осторожно вытащил из сумки человеческую руку.
Люси завизжала и вцепилась в плечо Жана-Пьера Верберена, которому и самому стало не по себе.
— Мертвец! — закричала она. — Разрезанный на куски!
— Там больше трупов животных, чем людей. Вероятно, из них изготавливают поддельные мумии, — объяснил Виктор.
— И Альфонс замешан в этом?!
— Либо он преследует преступников, либо входит в их банду, — ответил Жозеф.
— Он?! Не может быть! Он слишком добрый и, извините меня, слишком глупый.
— Мсье Мори, мой тесть, утверждает, что преступление рождается из глупости и алчности.
— Тем хуже для мсье Мори! Альфонс и мухи не обидит!
— Это уж слишком для военного! — пробормотал Виктор.
— Я охотно верю вам, мадмуазель, если только эта муха не охраняет сокровище. Возьмите, например, тех, кто позволяет крестьянам находить трюфели и…
— Мсье, и все же я опасаюсь, что мой друг Бренголо убит, — вмешался Верберен. — Видите эту книгу? Это «Песнь нищих» Жана Ришпена. Она принадлежит ему. Я нашел ее недалеко от разрушенного дома, и на странице, где поэт описывает убийство, можно видеть кровавый отпечаток ладони.
— Ну вот, мы запутались в этом деле безнадежнее, чем пресловутая муха в паутине! — простонал Жозеф.
— Мой компаньон прав. Лучше всего сейчас вернуться и лечь спать. Завтра утром мы объединим усилия, чтобы раскрыть тайну этого жилища.
— Завтра я работаю, — возразила Люси.
— А я не чувствую себя способным продолжить это дело, у меня слишком слабые нервы, чтобы выдержать такие волнения. Мне очень жаль, — добавил Жан-Пьер.
— Ваша реакция естественна. Ну а мы с Жозефом продолжим, — пообещал Виктор. — Если разгадаем эту загадку, я дам вам знать.
Они обменялись адресами и устремились друг за другом в проход, образованный деревьями, ветви которых низко смыкались над головой. Когда они выпрямились и отряхнулись, Виктор предложил всем вместе сесть в фиакр, но Верберен и его спутница отклонили его предложение.
— По-вашему им можно верить?
— Мне кажется, да. Жозеф, сложите эту сумку, свой платок и его содержимое в тщательно закрытую коробку. Никто не должен ее обнаружить. Положите ее в подвал.
— Почему?
— Я настоятельно прошу вас об этом. И помойтесь с мылом с ног до головы перед малейшим контактом с близкими. Обещаете?
— Ну да!
— А мы с вами продолжим на рассвете.
— Вы забываете об одной детали: Кэндзи.
— В таком случае я беру утренний осмотр на себя.
— Ну вот, так всегда! На самом интересном месте!
Они вышли, переругиваясь, на бульвар Италии, в то время как на противоположной стороне спешил в обратном направлении тот человек, что следил за парочкой из-за кустов. Он спешил обратно на свой пост, досадуя на себя из-за задержки, вызванной случившейся некстати ссорой. Теперь, из-за усталости и навалившихся дел, ему придется значительно сократить время наблюдения.
Устроившись рядом с Таша, Виктор никак не мог уснуть. Он размышлял. Куда мог деться Альфонс Баллю? Он дезертировал? Причастен ли он к смерти Александрины Пийот? Нельзя было отбрасывать эту версию. В конце концов, Баллю бывал в ее лавке.
«Может, с ним произошел несчастный случай? Тогда об этом знали бы в штабе… А его личные вещи? Ведь они остались на улице Виоле».
Виктор не мог выбросить из головы мысль об этом подозрительном исчезновении. Он бесшумно поднялся, прошел на кухню, где кошка настоятельно потребовала от него еще паштета. Он брызнул себе в лицо холодной водой и рухнул на стул. Виктор был взволнован и полон мрачных предчувствий. А инспектора Вальми, несмотря на его добродушный вид, не проведешь.
Глава шестнадцатая
22 сентября
Если бы Таша не обещала швейцарскому заказчику «Эмалей и камей», находящемуся проездом в Париже, встретиться с ним рано утром, Виктор отложил бы запланированный обыск на улице Корвизар. Они расстались после тем более пылких поцелуев, что совесть каждого из них была нечиста. Вспоминая посещение Ганса, Таша ощущала отвращение женщины, считавшей себя виновной в недостойной слабости, а Виктор, накануне вернувшийся поздно, не знал что придумать в свое оправдание.
Жозеф был в лавке и почти сразу снял трубку. Однако разговор не получился, так как он говорил невнятно, что несомненно означало, что Кэндзи был где-то рядом. Испытывая смешанные чувства, Виктор решил в одиночку осуществить намеченную программу — вернуться на улицу Корвизар за мумифицированными останками, чтобы отправить их на экспертизу.
Южный ветер нежил улицы, омытые косым светом. Виктор сел в фиакр, который мчался полным ходом по дремавшему городу, и быстро достиг цели.
На умытых ночными дождями мостовых каждая капля преломляла солнечные лучи. Успокоившись, Виктор шел как бесцельно слоняющийся школьник, заново переживая давнее посещение Лондона, где в школьные каникулы парки превращались в экзотические леса.
На краю водоема, недалеко от остова сделанного на скорую руку жилища, вырисовался женский образ с рукой, устремленной в лазурную даль. Два каменных льва показались ему старыми приятелями. Он заинтересовался левым крылом, но на дощатом заграждении, заменявшем дверь, висел большой замок, который без инструмента не откроешь. Он займется им позже. Виктор натянул толстые перчатки и поправил на плече сумку. Взглянув на развалины пристройки для прислуги, он прошел в центральную часть и в волнении остановился на пороге. Внутренне он оправдывал внезапную робость тем, что глазам следовало вначале привыкнуть к темноте.
Наконец он решился. Запах падали показался ему не таким сильным. Будучи менее организованным, чем Жозеф, он взял с собой только спички. Виктор чиркнул спичкой и углубился под землю, к месту, где накануне ночью валялись страшные отходы. Но напрасно он обжигал себе пальцы — он заметил лишь мышь, проскользнувшую под камень. Он обшарил все вокруг. Ничего. Кто-то навел порядок. Горло сдавило от волнения, когда он смотрел на притоптанный, тщательно подметенный земляной пол. Все его существо исполнилось ужасом и паникой. Виктор резко повернул и бросился бежать.
Забравшись в кусты, он благодарил Провидение за то, что сохранило ему жизнь, которая была у него вполне счастливой, и умолял хранить его и впредь. Он просил лишь еще одну небольшую милость: согласиться на то, чтобы он целым и невредимым выбрался из этого страшного места.
Соседи ресторанчика «Уютная каморка» предоставили противоречивые сведения. Одни говорили, что хозяйку срочно увезли к августинкам Сакре-Кер де Мари, другие — в Международную больницу. Споры дошли до кулачных боев. Шорник, мастерская которого прилегала к харчевне, высказал иное мнение: Аделаида Лезюер борется со смертью в больнице де Лурсин, которая с недавнего времени носит имя хирурга Брока.
— Я знаю об этом от ее мужа, Нестора. Он так переживает, что забывает поесть, и вчера вечером я приглашал его на ужин. Перед тем как напиться в стельку он рассказал мне подробности. На рассвете он все еще был не в себе и молол вздор, но это не помешало ему пойти проведать свою ненаглядную.
— А что за вздор он молол?
— Об этом, мсье, я обещал не болтать, вопрос чести!
Виктор понял, что настаивать бесполезно. Он вернулся назад, поднялся по улице Корвизар и пошел по улице Паскаля.
Встретившая его медсестра, тучная брюнетка с томными глазами, объяснила, что в их заведении, вообще-то предназначавшемся для женщин с венерическими заболеваниями и заболеваниями кожи, действительно находится труп несчастной, которая страдала от заражения крови и скончалась на рассвете.
— Моги ли я встретиться с лечившим ее врачом? Я — журналист, — заявил Виктор, показывая старое удостоверение, выданное Изидором Гувье.
Медсестра оценила все «против» — доктор Сомбрен отдыхал после изнурительного утра — и «за» — этот посетитель был таким милым мальчиком. «За» одержало верх.
Виктор терпеть не мог запах фенола, пропитывающий палаты, в которых на одинаковых белых кроватях лежали больные. В основном это были женщины. Пациентки с интересом уставились на элегантного мужчину, и возможно, каждой казалось, что он пришел сюда, чтобы вылечить именно ее, а потому одна за другой они одаривали его улыбкой.
Недовольный, что его потревожили, врач отыгрался за вторжение, ущипнув за талию медсестру, и та поспешила удалиться. Виктора пригласили присесть в узком кабинете, где тоже пахло дезинфицирующим средством.
— Журналисты находят удовольствие в том, что суют нос в чужие дела, им все непристойности подавай.
— Я здесь по личному делу. Я обедаю в заведении у мадам Лезюер, мы стали друзьями, и, зная, что ее может видеть лишь член семьи, я позволил себе сообщить о том, что я журналист.
— Должен сказать, мы вынуждены были изолировать тело из гигиенических соображений. Я почти уверен, что у этой пациентки сибирская язва. Вскрытие покажет. Это очень неприятно, и мне бы не хотелось, чтобы вы предали этот факт огласке. Должно быть, она имела контакт с зараженным мясом, которое порой попадается на рынке или в лавках. Если с таким мясом неаккуратно обращаться, достаточно простой царапины…
— Как же, по-вашему, заразилась мадам Лезюер?
— У нее ведь был ресторанчик, да? Ее муж говорил о рыбьей кости… Это возможно, малейшая рана может спровоцировать заражение сибирской язвой. Через два дня после инцидента на коже становится заметной точка как после укуса вши, провоцирующая жжение и зуд. Затем появляется гнойничок, постепенно усиливается боль и развивается отек, образуются новые гнойнички. Если не лечиться антисептическими средствами и хинной настойкой, болезнь распространяется в клеточной ткани, поражает мышцы и внутренние органы. К сожалению, чаще всего исход летален.
— Может ли болезнь передаваться при употреблении в пищу зараженного мяса? — спросил Виктор, вспомнив, что ел на прошлой неделе бифштекс с картофелем в ресторанчике на улице Эперон.
— В жареном мясе иногда остаются бактерии, да, это возможно. Все зависит от качества кулинарной обработки. Главное, чтобы мясо было первого сорта и, конечно, хорошо прожарено. Вот и все, мсье. Я предупредил службу здравоохранения. Вам остается лишь сохранять рекомендуемое в таких случаях молчание. Сожалею, что пришлось рассказать вам то, о чем я поведал мужу этой женщины, тяжко переживающему ее кончину. Поскольку вы их друг, вам бы лучше присмотреть за ним, горе может побудить его совершить какую-нибудь глупость…
Сидя на скамье на бульваре Араго, какие-то бродяги с удовольствием жевали кусок хлеба с сыром. Виктор жалел, что, в отличие от своей сестры, не отказался от мясной пищи, как хотел было сделать после посещения скотобойни де ла Вилетт в 1894 году.
[695]
Подумать только, это было два года назад! Куда уходят эти прожитые дни, недели и месяцы?.. И тем не менее это по-прежнему я, здесь, в Париже… Итак, Аделаида Лезюер порезала палец, когда чистила рыбу, выловленную в водоеме рядом с домом, где хранились зараженные останки. Эта версия неправдоподобна: мумифицированные фрагменты лежали в подвале, далеко от водоема… Ах, да! Торнадо! Бродяга продал карпа именно в этот день. Но ветер не мог проникнуть в повал. Если только не эта штуковина с песьей головой, которую осматривал Жозеф… Ураган ее опрокинул, она свалилась в пруд, рыбы стали ее есть — и мадам Аделаида Лезюер скончалась. Так же, как грузчик с «Дакара», о печальной кончине которого поведал Антонен Клюзель и симптомы у которого были такими же. А Александрина Пийот была убита за то, что владела записной книжкой с формулами, которые, вероятно, служат для изготовления какого-нибудь напитка. Эта записная книжка каким-то чудом попала в желудок карпа, резвившегося в водоеме заброшенного поместья. Бродяга по имени Бренголо выловил рыбку и отнес мадам Лезюер, подцепившей смертельную заразу. Все это нелепо… но складывается в единую картину. Правда, остаются неизвестные. Что с Альфонсом Баллю? Должен ли Виктор побеспокоиться об этом Несторе? И потом, половину из того, что записано в блокноте, невозможно разобрать! Надо немедленно предупредить Жозефа.
Вытаращив глаза, Жозеф самозабвенно перечитывал обрывки фраз, переписанные Виктором. К великому раздражению Кэндзи, погрузившемуся в свои карточки, он, не переставая, насвистывал мелодию, услышанную в проклятом доме. Поглощенный надписью C RE T N, которую в данный момент связывал с именем Корантен, он вздрогнул, когда звякнула дверь.
— Мсье Пиньо, подвиньте мне стул!
Олимпия де Салиньяк произнесла эти слова таким высокомерным тоном, каким генерал мог бы приказать своим войскам порубить себя на мелкие кусочки, и продолжила:
— У моих племянников, близнецов, такие способности к игре на фортепиано, что в три года они уже играют в четыре руки.
— Хорошо что не наоборот, — проворчал Жозеф.
— Что вы сказали, молодой человек?
— Ничего, это я так.
— Мне нужен подходящий учебник по сольфеджио, и поторопитесь!.. А как ваша дочь? Говорят, у нее есть музыкальный слух, в чем я сильно сомневаюсь.
— О! Моя дочь пока всего лишь ползает на четвереньках.
Кэндзи счел разумным выйти из своего убежища и лично заняться графиней, которая уже вышла из себя. В этот момент раздался резкий звонок.
— Извините меня, телефон, — сказал Жозеф, а Кэндзи повел графиню в дальнюю комнату.
— Алло! А, это вы?.. Что?!.. Сибирская язва?! — воскликнул Жозеф, прижав трубку к уху. — Да, я один… Нет, я не кричу… Вот черт! Я держал эту дрянь так близко!.. Легко сказать ничем не рискую!.. Да нет, по крайней мере, я их не трогал… Нет, у меня нет ни порезов, ни царапин… Я в точности последовал вашему совету, натерся мылом с головы до пят… Ну да, читайте теперь нотации!.. Я все сложил в подвал, упаковал в коробку… Да знаю, знаю, вы так же рисковали… Да, я вам доверяю… Кладу трубку, Кэндзи идет!
— Кто это? — спросил Кэндзи.
— Один покупатель. Сам не знает, чего хочет.
— Предложите графине сесть, спуститесь в хранилище и найдите мне «Мемуары парижского буржуа» доктора Верона.
Жозеф с готовностью повиновался. В хранилище он уселся в полумраке на сложенные стопкой книги.
«Ошибаешься, — убеждал он себя, — ты ничем не рискуешь. Виктор прав».
Он осмотрел свои бумажные владения и сосредоточился на поисках пяти томов «Мемуаров» доктора Верона.
Каково же было его удивление, когда после ухода мегеры, вместо того чтобы раскритиковать поведение зятя, тесть отпустил его за два часа до закрытия!
— Учитывая, что покупателей сегодня мало, я и один справлюсь. Дафнэ обрадуется, если папа придет пораньше.
Жозеф повиновался, удивившись непривычной предупредительности Кэндзи. Радость охватила его, когда он вошел квартиру, его маленький мирок, островок покоя и любви. Он прошел мимо кухни, где суетилась Эфросинья, и бросился целовать Айрис, у которой растрепались волосы и разрумянились щеки после прогулки в Тюильри с Дафнэ. Малышка развлекалась тем, что строила стену из кубиков, которую тут же ломала, и была в восторге, когда папа согласился присоединиться к этой увлекательной игре.
Внезапно Жозеф увидел букву C. Он положил ее рядом с R, E, T и N. Рассердившись, что у нее отобрали кубики, девочка хотела забрать свое добро, но Жозеф ей помешал. Он только что поместил букву А в середину ряда. Получалось название, и в нем зарождалась смутная идея.
— Найди букву, круглую, как колечко, моя радость, мы сейчас поиграем в новую игру.
Дафнэ тут же оставила свою стену, сломав ее, чтобы извлечь букву О. Она наблюдала, как рука отца меняет кубики, передвигая их.
— Чего-то не хватает, но чего?
— Чего? — повторила Дафнэ.
Заинтригованная Айрис оставила свои дела и склонилась над ковром.
— Какое название ты ищешь?
— Название города… мне кажется…
— C…A…REN…TON. Надо положить H рядом с C, получится Charenton, Шарантон, местечко, известное больницей для умалишенных. Надеюсь, ты не собираешься туда отправиться?
— Дорогая, ты просто волшебница! Шерлок Холмс, которого женщины оставляют равнодушным, влюбился бы в тебя!
— Шар! — воскликнула Дафнэ.
— Мне достаточно и моего собственного Шерлока. Ты случайно не взялся за новое расследование?
— Я?! Ни в коем случае! Я разгадываю ребус, который вырезал из «Пасс-парту»!
Не заметив недоверчивого выражения на лице жены, он бросился в спальню, где лежал справочник маленьких городских коммун, расположенных в окрестностях Парижа.
— Шантийи… Шапонваль… Шарантон! Осталось лишь рассмотреть улицы на плане. 2, re l’Arc v… Де л’Аршевеше! Тройное ура! Ну, и кто здесь лучший? Не хватает еще одного названия, этого R MA Т. Единственный способ разобраться — это сказать, что кое-что забыл и вернуться в лавку. Оттуда можно позвонить в справочную службу…
Это Жозеф и сделал, сокрушаясь, что ценный блокнот остался на прилавке. Но когда дошел до улицы Сен-Пер 18, он увидел, что окна лавки закрыты ставнями.
— Птичка вылетела из гнезда на час раньше! Какое невезенье!
К счастью, в «Потерянном времени» тоже был телефон, и Жозеф наконец услышал в трубке монотонный голос:
— «Романт», фабрика по производству духов, улица де л’Аршевеше 12, находится в…
— Я уже знаю! —
воскликнул Жозеф. — Она находится в Шарантоне!
— Вы!.. Я получил вашу записку сегодня утром.
Невозмутимость Кэндзи внезапно улетучилась. Он так поспешно встал, что уронил свой стул.
— Я подождала, пока лавка опустеет, мне бы не хотелось вас компрометировать. Вот я и вернулась, мой дорогой микадо. Компаньонов на горизонте нет?
— Нет. Вы остаетесь в Париже? — спросил он, взволнованный душистыми мехами и загадочным взглядом темноволосой Евдоксии Максимовой.
— Вопреки желанию моего мужа! Но как устоять перед зовом Искусства? Вообразите, кинематограф настаивает на участии Фьямметты в трех-четырехминутном скетче, который будет называться «Подвязка невесты». Это будет более романтическая версия спектакля, в котором, если помните, я играла в прошлом году в театре «Иден». Злюка, ты так и не пришел ко мне в ложу, однако…
Помнил ли он! Его бросало в дрожь, стоило только вспомнить о Евдоксии, игравшей роль жены некоего Педро, который отправился воевать на Кубу. Посреди сцены стояла огромная кровать, и соблазнительная Евдоксия раскинулась на ней, смущая и волнуя зрителей низко открытой грудью, отсутствием корсета, чулок и нижних юбок, в одной только тонкой сорочке, ложившейся мягкими складками…
— Оставим прошлое, я здесь, ведь так? Это доставляет вам удовольствие?
— Огромное! — прошептал он.
У этой женщины был дар волновать его до исступления.
— Программа еще не совсем ясна, поэтому я настроена остаться здесь до весны. Одна из моих подруг, Ольга Вологда, — она танцует в кордебалете Опера, — любезно предложила остановиться у нее. Любовник снимает для нее квартиру возле сквера Монтолон… Ах! Я буду чувствовать себя одиноко в этом городе, где у каждой достойной женщины есть поклонник… Я полагаю, ваши отношения с этой дамой… не припомню ее имени… отныне не позволяют вам встречаться со мной. Вы благоразумный человек, а верность — это добродетель, которой я, дурная девчонка, не подвержена.
Она сняла соболиные меха, продемонстрировав роскошное декольте.
— Как жаль, мой дорогой Микадо, я больше не смогу вкусить прелести твоего общества! А я так предвкушала нашу встречу… Оставляю вам свой адрес, надеюсь, вы проведаете меня, так, по-дружески.
Она одарила его многообещающей улыбкой и, шурша юбками, выплыла за дверь, а он так и не успел ей ответить.
Кэндзи поднял свой стул и только потом взглянул на визитку: сквер Монтолон. Он весь был охвачен пламенем.
С Евдоксией все становилось так просто! Если бы мог, он немедленно бросился бы за ней, и это было бы столь же естественным, как стремление утолить голод или жажду. Его охватила дрожь. Он не хотел погружаться в прошлое, но помимо воли на него нахлынули сладостные воспоминания о связи с этой искусной соблазнительницей, связи, окрашенной чувственным наслаждением и сулящей осуществление всех мыслимых эротических желаний. С Евдоксией не нужно быть нежным и настойчивым…
Сквер Монтолон. Отныне он был убежден, что сдастся, какими бы глубокими и искренними ни были его чувства к Джине. Евдоксия Максимова — это авантюра, запретное лакомство, сводящее с ума. Джина — это надежность, с ней хотелось говорить, шутить, ее хотелось слушать и только потом заниматься любовью…
Он положил визитку в бумажник. Сквер Монтолон. Ему придется соблюдать конспирацию. Способен ли он воевать на два фронта без малейшего чувства вины? Ведь Джина ничего не узнает, а то, о чем не знаешь, не может причинить боль.
Стоя на пороге забегаловки под названием «Пьяный кучер», где топил горе в вине, Нестор Бельгран невидящим взглядом смотрел, как поливальщик пытается пристроить на голове своей лошаденки соломенную шляпу с прорезями для ушей, а шляпа никак не желает держаться ровно.
Взад-вперед по бульвару расхаживали двое полицейских, то и дело вытирая пот со лба. Они с подозрением оглядели Нестора, его помятую физиономию и красный носище. Однако пьянчужка вел себя смирно, порядок не нарушал, а полицейским было лень его задерживать. Они просто прошли мимо. Нестор икнул, и слезы потекли по его щекам. Умерла! Она умерла из-за бродяги, продавшего ей испорченную рыбу. Ему, Нестору, не дали даже с ней попрощаться.
«Эти мерзкие студенты-медики выпотрошат ее, как карпа! Не беспокойся, Аделаида, я за тебя отомщу!»
Нестор решил вернуться в дом на улице Корвизар. Он много раз видел бродягу, продавшего отравленную рыбу, и знал, что тот прячется в том парке за оградой заброшенного дома. Чего бы ему это ни стоило, он выманит его.
Мысли, проносившиеся в голове, только пуще распаляли его гнев и горе. Оборвалась счастливая жизнь в «Уютной каморке». С кончиной Аделаиды исчез уютный мирок, защищавший его от всех невзгод. Никогда больше он не прижмет к себе жаркое тело любовницы, которая была столь ему преданна, что даже носила ему кофе в постель. Никогда больше он не пойдет покупать булки к матушке Газелль, булочная которой благоухала хрустящим хлебом, или яйца к матушке Блондо. Отныне он один, без крыши, без денег. Все, что у него осталось — боль в пояснице. Перед ним открывалась лишь одна перспектива — лачуги Орлеана, городка Жанны д’Арк, притоны рецидивистов и нищих. Казалось, изголодавшийся вечер с жадностью пожирал дневной свет. Нестор выругался. Он слишком плотно поужинал, ноги отекли, и ему не хотелось никуда идти. Но желание отомстить за Аделаиду заставляло его собрать волю в кулак.
Две проститутки ходили взад-вперед по тротуару недалеко от бледного газового фонаря. Они сказали что-то ехидное в его адрес, и он обложил их, не замедляя шага.
Нестор заметил пролом в стене. Не раздумывая, он пролез к здоровенному валуну с надписью «Ноно любит Нини», и тихо усмехнулся, найдя неподалеку старую консервную банку, пустую бутылку и сломанный фонарь. Тот, другой побывал здесь, а раз так, он его разыщет.
Опустив голову, он пошел по аллее, ведшей к поместью. Он знал этот дом, так как не раз распивал в нем винцо, а парк выбалтывал ему свои секреты.
«Подожди-ка, я сниму с тебя шкуру, и ты узнаешь, что почем».
Свет между зарослями приближался. Он пробирался от дерева к дереву, идя вдоль тропинки, параллельной аллее. Прокричала сова.
— Вот же он!
Присев на корточки в высокой траве, он ощутил то же, что чувствовал, когда готовился совершить злодеяние.
Свет был почти рядом. Нестор прижался к земле. Через мгновение он понял, в чем дело. Это были огни тележки. Вдруг она свернула с дороги и поехала по извилистой тропинке. Нестор вскочил и тихо двинулся вдогонку. Он вдруг почувствовал себя охотником, выслеживающим добычу.
Тележка исчезла. Слабый свет мерцал на втором этаже. Должно быть, нищий выбрал себе жилье в одной из комнат. Нестор принялся было подниматься по лестнице, но гнилое дерево не выдержало его веса, и ступеньки провалились. Он упал вперед, вытянув руки, чтобы смягчить падение, и понял, что поранил себе ладони.
Свет переместился влево. Взобравшись на кучу кирпичей, он мельком увидел огромную тень, устремившуюся к другому выходу. Он взглянул на строительный мусор, которым был усеян пол, и достал свой нож с ограничителем.
Его внимание привлекла приоткрытая дверь. Он прислушался, анализируя малейший шорох, но услышал лишь собственное дыхание и скрип досок.
«Он там», — сказал он себе.
Внезапно все погрузилось во тьму. Он зажег спичку. Вторая лестница вела вниз. Он отважился пойти по ступенькам, ведя рукой по стене, пропитавшейся запахом гнили. Он чиркнул второй спичкой. Ботинки попали в какую-то лужу, и что-то проскользнуло у ног, чуть задев край брюк.
Черт, крысы!
Позади послышался скрежет. Он резко обернулся, сжимая нож, и смутно увидел какую-то фигуру. Упав на колени, он поднял руку, чтобы защититься. Металлический предмет размозжил ему ладонь. Он взвыл, уронив нож, на него кто-то навалился, и чьи-то жесткие пальцы сомкнулись на его шее.
Ночь была тяжелой. К грохоту молотка, который словно взрывал изнутри его череп, добавились мучительные бессвязные образы. Они мелькали в сознании, перетекая один в другой: руки подвешивают к балке женщину, задушенную петлей; голубь превращается в чудовище — получеловека-полуптицу; платье из тонкой блестящей ткани тает, тает, пока от него не остается крошечная красная лужица; человечек, заточенный в бутылку, взрывается, обращается в конфетти, конфетти засыпает дом подобно сухим листьям, а из пруда испаряется вода…
На коже выступил холодный пот. Он проснулся и сел в кровати, тяжело дыша. Эти дневные галлюцинации хуже ночных кошмаров. Но отныне и те и другие будут его постоянными спутниками, и ему никуда от них не скрыться.
Глава семнадцатая
23 сентября
Кошка мирно спала, свернувшись в ногах хозяев, но вот один из них неловко потянулся, потревожив ее, она мягко спрыгнула на пол и затаилась под кроватью. Виктор только что вернулся в реальность мрачного утра и ворочался, пытаясь утишить боль, сковавшую шею. Остеохондроз, только этого еще не хватало. Он повернулся к Таша, которая все еще спала, приоткрыв губы и ровно дыша. Она застонала. Кто ей снится? Его настойчивый взгляд словно разогнал ее сон, она приоткрыла глаза и некоторое время собиралась с мыслями.
— Виктор, который час?
— Еще слишком рано, — прошептал он и прижал ее к себе. Замерев, они насладились мгновением нежности, лишенным желания.
— В последние дни я чувствую, что ты как-то отдалилась от меня, моя милая. Ты не переутомилась?
Она высвободилась из его объятий, вздохнула и наконец произнесла:
— Я виделась с Гансом Рихтером.
— Тем, из Берлина?
Вот уж кого он выбросил из головы! Когда-то он ревновал к нему, так же, как и ко всем остальным мужчинам, которые приближались к Таша, но эта связь была в прошлом, том прошлом, в котором он, Виктор, еще не существовал в ее жизни.
— И что? Что ты почувствовала?
— Огорчение, — поспешила она ответить. — Я о нем не вспоминала. Он давно уже — восемь лет, целую вечность, — перестал что-либо значить для меня, и его присутствие в Париже вызывает неприятные воспоминания. Он участвовал в выставке под фамилией своей матери, Кэмперс.
— Он хочет обосноваться здесь?
— Он здесь временно, живет в пассаже Радзивилл 33, планирует скоро уехать. А пока он докучает мне, и я боюсь случайно встретиться с ним где-нибудь.
Она почувствовала огромное облегчение, избавившись от груза, давившего на нее с тех пор, как Ганс, раздосадованный, что она убежала от его страстного напора, написал ей, требуя новой встречи у него дома. Она сожгла его письмо. Она понимала, что без Виктор ей не избавиться от навязчивого ухажера.
— Ты хочешь, чтобы я с ним объяснился?
— Я бы хотела, чтобы он смирился с тем, что я твоя жена и что никогда уже не вернуть то, что когда-то нас связывало.
Виктор ликовал. Это было самым изысканным доказательством любви, которое она могла ему предоставить. Поручив ему роль примирителя, она давала Виктору возможность хотя бы на время освободиться от недоверия, которое его терзало. Ненавистный образ человека, прижавшегося к его Дульсинее в темном дворе, рассеялся. Он поцеловал ее плечо, ладонь, вырез ночной рубашки, и вот его руки, движимые страстью, которую он не мог контролировать, проникли под тонкий батист и сдавили округлые теплые груди.
По ритмичному движению, от которого тряслась кровать, кошка поняла, что лучше перебраться на кухню и провести остаток ночи там. К тому же у нее оставалось еще полблюдца молока, и это было неплохим утешением.
Покупатель был одет так, словно натянул на себя первое, что попалось под руку. Он был в глухо застегнутом, на редкость уродливом рединготе и бархатных брюках, заштопанных в нескольких местах. Довершали образ широкополая фетровая шляпа, белая борода и длинная фарфоровая трубка, которая, хоть была погашена, не покидала его рта. Утверждали, будто он сказочно богат. Жозеф как раз пытался ему продать «Любовь Психеи и Купидона» Жана Лафонтена, оригинальное издание, вышедшее в 1669 году у Клода Барбена.
— Такая редкость, в старинном сафьяновом переплете, украшенном Трауцем.
[696] Всего тысяча пятьсот франков, это почти даром!
— Даже не знаю… — пробормотал человек.
Жозеф принял вдохновенный вид и принялся читать:
Внизу Латоны сын с божественной сестрой
И мать их гневная волшебною струёй
Дождят на злых людей, чтоб сделать их зверями.
Вот пальцы одного уж стали плавниками…
[697]
— Признайте, искушение велико! — сказал он.
— Да… Что ж, сдаюсь. Доставьте ее при первой возможности ко мне на улицу Вожирар.
— Мсье барон, сперва я должен получить аванс — таков порядок.
Жозеф положил три голубые бумажки в ящик, который запер на ключ, и проводил покупателя до двери.
— Вы действительно эксперт в искусстве убеждения, — заметил Виктор, присутствовавший при сцене.
— Барон де Вебер только что оплатил нам все счета за полгода, поблагодарите старину Лафонтена. У меня есть новости: я расшифровал адрес на миниатюрной книжечке! Это фабрика духов «Романт» в Шарантоне, улица де л’Аршевеше 12а и 12б.
Виктор предложил отдать кисть руки, подобранную в подвале заброшенного здания, на исследование специалисту мсье Мандолю. Мандоль был родом из городка Санлис, а в Париже снимал целый этаж в доме на площади Пантеон.
Жозеф неохотно спустился в хранилище, где накануне сжег сумку, которую теперь тщетно пыталась отыскать Эфросинья. Он взял руку, надежно укутанную в тряпки, и прихватил монографии Шевреля из запасов Тетушки.
— Если вы сядете на омнибус, то поедете в нем один. Это здорово воняет.
Виктор забрал принесенный Жозефом сверток с таким выражением на лице, с каким, вероятно, осужденный поднимается на эшафот.
Тремя часами позже он вернулся, сияя, и нетерпеливо притопывал, пока две покупательницы придирчиво выбирали книги. Когда они наконец ушли со сборником Франсуа Коппе,
[698] он велел Жозефу набросить щеколду.
— Мели дома?
— Нет, она ушла за покупками. Ну, а Мандоля тебе удалось отловить?
— Мне повезло, он был дома. Хотя «повезло» — слишком сильно сказано. Там стоит такая вонь, что по сравнению с ней этот сверток пахнет ландышами.
— Насчет ландышей вы преувеличиваете, — пробормотал Жозеф, который, прежде чем слушать дальше, предпочел снова отправить сверток в подвал.
Они устроились на двух стульях, занимавших единственное свободное от книг пространство.
— Бюст статуи с песьей головой, который вы, как утверждаете, разглядели — это, бесспорно, египетский бог Анубис. Он был покровителем бальзамировщиков и — вместе с Осирисом — судьей в загробном мире. Скорее всего мы имеем дело с подпольной торговлей фальшивыми древностями. Представляете, Жозеф, увлечение древнеегипетскими предметами искусства сейчас чрезвычайно велико. Частные коллекционеры и работники музеев буквально с ума посходили. Соответственно, увеличилось число расхитителей гробниц и изготовителей фальшивых реликвий.
— Вам бы пришло в голову купить разлагающуюся руку и держать ее в гостиной?
— Мне — нет, а любителям древностей — да. Незаконная торговля мумиями процветает. Спрос превышает предложение. Порой умельцы бальзамируют свежий труп, обматывают бинтами и, снабдив подлинными украшениями, продают покупателю за очень большие деньги. Размах некоторых афер поражает воображение. Владелец одной из таких мумий обнаружил, что брюшная полость его приобретения набита газетной бумагой, а точнее, номерами «Таймс».
— Идеальный способ усвоить язык Байрона!
— В 1892 году в Берлинском королевском музее была выставлена целая когорта египетских царей и цариц самых древних династий. Многие из их величеств сохранились столь хорошо, что их прекрасный цвет лица вызвал подозрения знатоков. В результате они установили, что семнадцать мумий поддельные. Они были изготовлены в Александрии изобретательными, но не слишком порядочными египтологами.
— Ну, если уж и ученым нельзя доверять… Ну а что с нашей рукой?
— Она принадлежит обезьяне.
— Мы ведь не будем продолжать лезть из кожи вон ради шимпанзе или уистити! Зря я согласился положить наш трофей в мамину добротную хозяйственную сумку! Только вещь испортил.
— Мадам Пийот не покончила с собой, ее убили. Альфонс Баллю исчез. Жан-Батист Бренгар — тоже. А тут еще торговля мумиями, которая может привести к эпидемии сибирской язвы. Неужели вам все это безразлично?
— Но по большому счету мы по-прежнему ничего не знаем. Я запишу в свой блокнот то, что вам рассказал профессор, но меня это мало интересует.
Виктор вздохнул, готовый признать поражение. Упавший духом Жозеф схватил блокнот. Тоненькая ленточка зеленого бархата служила ему закладкой.
— Смотри-ка, а о нем-то я и забыл! Я нашел это рядом с пуговицей от формы.
— Кто угодно мог потерять. Архангел рассказывал, что в том доме частенько играют дети.
— Это улика или нет?
— Сдаюсь, положите ее к остальным предметам и держите наготове. Я устал. Думаю, велосипедная прогулка проветрит мне голову.
Виктор оставил велосипед на попечение консьержки, сидевшей верхом на табурете перед плитой, где на медленном огне томилась свинина. Девятиэтажное здание, в котором поселился Ганс Рихтер, долгое время считалось самым высоким в столице. Две узкие слабоосвещенные аллеи, начинающиеся на улице Валуа, тянулись до улицы Бонзанфан и объединялись в темный проход, заканчивавшийся лестницей, которая вела в другие закоулки. Двойная лестница была разделена перилами, так что те, кто поднимался, никогда не сталкивались со спускающимися. Виктор торопился, убежденный, что удача не может сопутствовать ему дважды и что если он застал мсье Мандоля в его жилище, маловероятно, что так выйдет и со скульптором.
Он едва не заблудился в лабиринте коридоров, но ему повезло: пышная дама с восхитительным декольте подсказала ему, куда идти. Наконец Виктор постучал в нужную дверь, та отворилась, и он увидел человека, которого, как он помнил, не так давно уже встречал в своей книжной лавке.
— Мсье Легри, чем обязан… Входите же и простите мой вид, я поздно лег.
Ступая за хозяином, одетым в домашний халат, Виктор пробирался среди статуй из бронзы и обожженной глины, изображавших, в своем большинстве, обнаженных женщин. Они быстро подошли к крошечному столику, на котором стояла плитка и куча грязной посуды.
— Кофе? — предложил Ганс.
— Нет, спасибо. Я буду краток. Моя супруга запрещает вам преследовать ее.
— Не понимаю, Таша боится меня или своих собственных порывов?
— Я был бы вам признателен, если бы вы взяли назад эти непристойные слова, — ответил Виктор, у которого непроизвольно сжались кулаки.
— Я приму во внимание вашу просьбу. Пусть Таша не беспокоится, я больше не буду настаивать на встрече. Она принадлежит вам, постарайтесь быть достойным ее и способным ее удержать. Эта бабочка порхает там, где ей вздумается.
— Да как вы смеете?!
Ганс принял оборонительную позицию, но на его лице вызывающее выражение мешалось с беспокойством. Виктор же не двинулся с места, не зная, как следует начать драку. Ударить в подбородок? В нос? В низ живота? Он представил себя зрителем, оценил нелепость ситуации и порекомендовал Виктору-боксеру сдаться. Его руки опустились.
— Я не собираюсь опускаться до драки, потому что доверяю своей жене.
— Браво, вы благородны! Если только это не свидетельство трусости.
Ганс даже сделал какой-то выпад, хотя на самом деле не был расположен к драке. Виктор был ему чем-то симпатичен. А что касается Таша, лучше временно от нее отказаться, чем рисковать получить фингал.
Он протянул Виктору руку:
— Оставим этот разговор, мсье Легри, не буду вас провожать. Прощайте, и лучше нам больше не встречаться.
На выходе Виктор резко обернулся и бросил:
— Ваше общество было мне куда приятнее, когда вы нанесли визит в нашу лавку, чтобы приобрести книги по истории искусства. Мой компаньон, который любит придумывать пословицы, сказал бы: маска украшает фата.
Отблагодарив консьержку чаевыми, Виктор сел на велосипед. Он ехал, не останавливаясь, вдоль Пети-Шам, замедлив ход лишь на улице Вольне. Он остановился там перед фасадом художественно-литературного кружка, чтобы полюбоваться фризом, который тянулся под карнизом второго этажа. Он был членом этого клуба в то время, когда встречался с Одеттой Валуа. Здесь он наводил справки о выходе книг и писал письма в роскошном зале корреспонденции. Слуги в коротких штанах сколь угодно наполняли его тарелку и бокал, а один раз в год у него была привилегия посетить новую театральную постановку.
Одетта… Тогда он был другим человеком — ветреным, светским. Любовь к Таша совершенно изменила его.
Он выехал на бульвары. Торговцы хрусталем, сапожники, ювелиры, лавки с безделушками, отели и рестораны зазывали покупателей. Пользуясь солнечным деньком, господа потягивали вермут на террасе кафе, дамы беседовали под каштанами и там же женщина, одетая в черное, сдавала стулья напрокат.
Его внимание привлек салон цирюльника, обитый ярко-желтыми панелями. Под вывеской находилась любопытная картинка: из прядей прямых, вьющихся и кудрявых волос всевозможных оттенков хозяин парикмахерской собрал изображение процессии жрецов перед египетской пирамидой. «Буквально все ведет меня в Египет», — сказал себе Виктор и вдруг увидел витрину парфюмерного магазина. Он попросил лакея в красном пиджаке присмотреть за своим транспортным средством, намереваясь купить бензойной смолы для Таша. Этот подарок смягчит неприятное впечатление, которое оставила у него в душе встреча с Гансом Рихтером.
Он прохаживался между прилавками, где женщины в мехах подставляли продавщицам запястья, а затем вдыхали аромат, который должен был превзойти запах лилий и роз. Он пренебрег новинками от
Lubin, Houbigant, Bourjois или
Pinaud, несмотря на то, что продавщица — девушка в бирюзовой блузке — всячески старалась привлечь к ним его внимание. Через несколько метров он остановился перед флаконом, вокруг которого была обвита зеленая ленточка, похожая на ту, что показал ему Жозеф. Бирюзовая блузка примчалась на выручку.
— Мсье хочет понюхать «Улыбку Индии»? Или вам просто нужен совет?
Он разглядывал палевый шелк, которым была выстелена изнутри коробочка с духами. Внезапно сердце забилось так быстро, словно он оказался за рулем вожделенного автомобиля «Серполе»
[699] от Регинальда Лимингтона, о котором мечтал год назад. Ему показалось, будто в тот момент мигнула маленькая красная лампочка, висевшая в книжной лавке рядом с бюстом Мольера. Что ему говорил Жозеф?..
«Ну и болван же я, улица де л’Аршевеше 12а и 126, фабрика «Романт»!»
— Мадмуазель, духи «Романт» такого же качества, как и у производителей-конкурентов?
— Отличного. Но духи не выбирают, как обычный товар, поскольку не все всем подходит. Есть духи для блондинок, рыжих и брюнеток. «Улыбка Индии» лучшего всего подходит брюнеткам, запах слегка пряный, чуть с кислинкой, однако…
— Я беру!
Расстроенная продавщица поставила флакон, с которого уже хотела снять колпачок, чтобы полить из него пальцы Виктора.
— Я полагаю, это подарок? Мы завернем его для вас.
— Минуточку! У вас есть бензойная смола?
Продавщица едва сдерживала улыбку. «У него уж точно нет ни жены, ни любовницы!» — сделала она вывод.
— Бензойную смолу тоже завернуть?
Виктор кивнул. Итак, формула из книжечки, проглоченной карпом, была формулой духов. Алоэ, нард, оникс, циннамон, мирра, — ароматические вещества, в определенной дозировке входящие в состав единого аромата. Но как фабрика «Романт» из Шарантона связана с происхождением эссенции, созданной неким Пентауром?
[700] И какое отношение это имеет к смерти Александрины Пийот, у которой, в коробочке из-под мигренина, хранилась эта формула?
— Ваши свертки, мсье. Извольте оплатить на кассе, — с заискивающим видом сказала бирюзовая девушка.
Инспектор Вальми развернул бурную деятельность. Он долго и нудно расспрашивал соседей Александрины Пийот. Торговка пухом и пером, которой было едва пятнадцать, замерев от страха, опустив глаза, с пальцами, исколотыми и распухшими от постоянного перебирания перьев, рискнула намекнуть на военного, встречавшегося ей здесь несколько раз, мсье Альфонса Баллю.
— Он такой мерзавец! Он затаскивал меня в темный угол, требовал, чтобы я задрала юбку, и демонстрировал мне свой член… Только не говорите никому, а не то я лишусь места! И так уже мной все помыкают, заставляют бегать для них в лавку и относить любовные записки!
Испытывая одновременно отвращение и удовлетворение, Огюстен Вальми пошел помыть руки — ему казалось, будто он испачкался, слушая рассказ девчонки про всякие гнусности. Один из его подчиненных занялся поисками вышеупомянутого Баллю. К концу дня выяснили, что тот обедает у кузины, консьержки с улицы Сен-Пер, где как раз расположена книжная лавка господина Легри. Узнали и адрес этого чиновника военного министерства: улица Виоле 37.
Если мадам Арманда Симоне не выказала волнения по поводу визита полиции, то лишь благодаря своей выдержке. На самом деле в горле у нее пересохло, сердце сжалось, а колени дрожали, но она давно уже научилась не выказывать своего смятения. Указав инспектору на кресло, она села напротив и приготовилась отвечать на вопросы.
— Правда ли, что одного из ваших жильцов зовут Альфонс Баллю?
— Совершенно верно. Но в данный момент он отсутствует.
— Это отсутствие беспокоит генерала Варне, секретарем которого он является, поскольку разрешение на это ему не выдавалось. У вас есть предположения, где он может находиться?
— Жильцы редко предупреждают меня о своих передвижениях.
Она лгала. Огюстен Вальми догадался об этом по бегающему взгляду и по тому, как нервно она покусывала губы.
— Правда? Разве вы не начинаете беспокоиться, если они подолгу отсутствуют?
— Не особенно. Может, прикажете еще и письмами с ними обмениваться!
— Вы помните, в какой день исчез капитан Баллю?
Арманда Симоне сделала вид, будто размышляет.
Она и в самом деле размышляла: что опаснее, признаться или смолчать?
— В последний раз я разговаривала с ним в субботу 12 сентября. Он встретился с женщиной на улице, и они вместе удалились.
— Черт возьми, прошло уже полторы недели! Не могли бы вы ее описать?
— Она казалась старше его.
— Ее одежда? Прическа?
— С чего бы мне обращать на это внимание?
Недовольный инспектор встал. Дама оказалась упрямой. Однако официальный вызов на допрос, возможно, ее образумит. Заодно он пригласит эту кузину, Мишлен Баллю, так же, как и Виктора Легри, этого проныру, который вместе со своим родственничком перевернул вверх дном сарай перекупщицы. Выходя, он машинально провел пальцем по колпаку над камином. Ему пришлось долго тереть серый от пыли палец белоснежным платком, прежде чем он надел замшевые перчатки.
Арманда Симоне прислонилась к дверной раме. Она была в ярости. Какое право они имеют вмешиваться в ее частную жизнь? Неучтивые замечания, назидательные речи, немой укор по поводу чистоты жилища! Ей никогда не нравились визиты полицейских, и если этот наглец в перчатках надеялся ее запугать, то он ошибался, как и незнакомец, принудивший ее к молчанию.
Кэндзи и Виктор долго обсуждали книжные дела, пока Жозеф беседовал то со специалистом по Стендалю, то с последователем Огюста Конта, обрушив при этом целую гору книг в поисках фолианта для маркиза, увлекавшегося генеалогией.
Когда все разошлись, Кэндзи взялся за свои любимые карточки, терзаясь все тем же вопросом: если он хоть однажды уступит очарованию Евдоксии, означает ли это, что он потеряет Джину?
— Жозеф, найдите мне несколько книг по парфюмерии, — попросил Виктор, тихо добавив: — Есть новости, надо поговорить с глазу на глаз.
Как только они зашли в дальнюю комнату, он прошептал:
— Дайте мне ту зеленую ленточку!
Жозеф достал ее из блокнота, в то время как Виктор рвал сиреневую бумагу, в которую была завернута «Улыбка Индии». Они сравнили ленточки, одинаковые по размеру и текстуре.
— Вы записались на ускоренные курсы магии? Как вам это удалось?
— Пути Господни неисповедимы. Теперь пора нанести визит на фабрику «Романт». Я могу сделать вид, будто снимаю фоторепортаж.
— Отличная мысль, это поможет все выведать. Я сейчас туда позвоню. Завтра вас устроит?
— Я только что предупредил Кэндзи, что завтра мы с вами идем к Шанморю проверять списки иллюстрированных изданий.
— Готовьте ваш фотоаппарат, если они согласятся, я дам вам сегодня вечером по телефону два сигнала, а после отбоя — еще один. Это будет означать: встречаемся у моего дома в восемь утра.
Когда они вернулись, Эфросинья, засучив рукава, как живое воплощение Правосудия, вырисовалась в дверном проеме.
— Мама, я ж тебя просил…
— Я знаю, запретная территория! Бессовестный сын, это ведь твоя мать! А между тем бедняжка Мишлен так страдает из-за своего кузена, которого ты обещал разыскать. И вы тоже, мсье Легри!
— Мы очень заняты, но с завтрашнего дня…
— Ага, понятно, когда рак на горе свиснет! Скажи-ка, Жозеф, ты случайно не видел мою зеленую сумку?
— Нет.
— Ну и куда она могла запропаститься?
Она бросила подозрительный взгляд на сына, который притворился, будто листает книгу заказов.
— А это точно не ты?
— Что — я? Ну подумай, зачем бы мне понадобилась твоя зеленая сумка?
Эфросинья так яростно хлопнула дверью, что колокольчик чуть не отвалился. Кэндзи отвлекся от своей дилеммы и, опустив очки, пристально посмотрел на компаньонов.
— Мальчишки, играющие в конспираторов! Вам не совестно, в вашем-то возрасте!
Жозеф приготовился отпираться, но Виктор его опередил.
— Не могли же мы признаться Эфросинье, что кузен ее лучшей подруги завел шашни с торговкой сыром с центрального рынка!
Слово «шашни» вновь пробудило у Кэндзи угрызения совести, и он вернулся к своим карточкам.
Глава восемнадцатая
24 сентября
Территорию фабрики окружала серая стена. За ней, в глубине парка, находилось собственно предприятие, а также лавки, склады и ателье. Навстречу Жозефу и Виктору, который нес на плече фотоаппарат на штативе, спешил низенький кругленький человечек в высоком, побитом молью цилиндре. Признав в гостях фотографа и его ассистента, он принялся исступленно махать им.
— Если он считает себя семафором, а нас двумя ореховыми скорлупками в море, то он недалек от истины, — проворчал Жозеф, поеживаясь на ветру.
— Приветствую вас, господа, вы, должно быть, из газеты «Пасс-парту»? Мне поручили показать вам наше предприятие. Мое имя Матиас Эрве, я — нос.
— Нос?! — воскликнул Жозеф, рассматривая картофелину, которая возвышалась над усами, смахивавшими на тюленьи.
— Я, если хотите, — из тех волшебников, которые создают аромат и душу духов. Мой мозг, хоть он и скромных размеров, способен определить состав и дозировку компонентов самого сложного и гармоничного запаха. Мой предшественник был невероятно одарен, но я надеюсь его затмить. Идите следом за мной, в нашем распоряжении всего час, не то мои дистилляторы меня заждутся.
Они прошли вдоль конюшен, где запряженные в двуколки лошади мотали головами и били копытами, с нетерпением ожидая, когда их освободят от сбруи. Матиас Эрве начал рассказывать:
— Фабрика «Романт» была основана в 1873 году Луи Романтом, братом Шарля Романта, министра финансов с июня по сентябрь 1890 года. Луи Романт женился на мадмуазель Сюрже, богатой наследнице из Граса. Ее отец создал там завод по перегонке лаванды, что позволило супругам покинуть Прованс и создать эту фабрику. А теперь следуйте за мной.
Он объяснил им, что они не смогут попасть в помещение, где создают духи, поскольку этот процесс окутан тайной и строго охраняется от посторонних глаз.
— Разглашать наши приемы запрещено. Тем не менее, желая просветить ваших читателей, господин директор разрешает вам сфотографировать механический аппарат для смешивания.
Он подошел к металлическому круглому столу, установленному на вертикальном стержне. За счет работы небольшого мотора начинали вращаться зазубренные железные полкуруги — к ним ремешками были прикреплены сосуды с экстрактами.
Виктор решил взять с собой камеру формата 18×24 на треноге и десяток пластинок. Нужно было произвести впечатление на персонал, а с простым
Pocket Kodak с такой задачей было не справиться — этот фотоаппарат слишком мал. Пока Виктор готовился к съемке, Матиас Эрве принял величественную позу и выпятил грудь, ни на минуту не переставая болтать.
— Мы используем также экстракторы — жестяные цилиндры, в которых лопастями перемешиваются жиры и спирт, необходимые для создания ароматов. Дирекция не желает, чтобы и этот процесс предавался огласке. Вы закончили?
Виктор расставил снаряжение. У него не было намерения делать ни единого снимка: кроме всего прочего здесь было слишком темно.
Матиас Эрве повел их в зал, где духи «одевали».
Запыхавшись, они оказались под застекленной крышей, где гудел женский рой. Дыхание затруднил сильный свежий запах, исходящий от десятков растений. Мелкоцветная роза, розовый клевер, апельсиновое дерево, ирис, папоротник, мимоза, корица давали сильнейший аромат, к которому примешивался запах ванили и мускуса. Жозеф чихнул.
— Ну вот, теперь это надолго, — проворчал он.
Женщины указывали на них друг другу кивком подбородка, посмеиваясь. Работать здесь было и так нелегко, но тяжелее других приходилось тем, кто изготавливал рисовую и мыльную пудру. Когда ее засыпали в полотняные мешочки, а затем взбивали и трясли их, чтобы придать нужную форму, в воздух поднималось столько пудры, что работники становились похожими на учеников булочника. Готовые мешочки раскладывали по украшенным кружевом коробочкам, похожим на коробочки из-под драже.
Жозеф никак не мог остановиться и почти беспрестанно чихал, а Виктора пробрал сухой кашель. Ко всему прочему он опасался, что пудра проникла сквозь упаковку и привела в негодное состояние его фотоматериалы.
Они прошли в следующую мастерскую, где изготавливали упаковку для духов.
— Эти хрустальные флаконы производятся вручную в Баккаре. Наш директор предпочитает квадратные и прямоугольные формы, но ему случается поддаться игривому порыву, создав, например, вот такую амфору в греческом стиле. Как чудесно сочетается с этой формой янтарный отблеск стекла! Духи — не только запах, но и образ, сначала они становятся предметом вожделения, а потом — орудием соблазна!
Он расхаживал взад-вперед возле парня, который аккуратно укладывал на сатин удлиненный флакон с двумя ручками, перевязанный голубой тесьмой.
— Как вы можете убедиться, мы производим еще и кремы на основе животного или растительного жира. А вот это мыльце — сама изысканность, так и хочется намылиться с головы до пят!..Мы гордимся своей зубной пастой «Полли», нашим кремом «Мимозетт», ставшим классикой, пастой «Романт» для смягчения кожи рук, которая восхищает, очаровывает кокеток, и которую прописывают известные врачи своим пациентам от обморожения, кремом «Летнее облако», благодаря которому мужчины могут отныне бриться без воды и мыла.
— И без бритвы? — спросил Жозеф.
Виктор снова принялся расставлять штатив.
— Сейчас вы можете наблюдать важнейший процесс розлива духов во флаконы, — продолжал их проводник по царству ароматов.
Этим важным процессом занимались женщины в белых передниках. Они работали в командах по четыре человека, разливая духи по флаконам из огромных, объемом в двадцать-тридцать литров, сосудов с изумрудной, гранатово-алой, оранжевой и розовой ароматной жидкостью. Полный флакон затыкали плотно притертой стеклянной пробкой, наклеивали на него этикетку, клали в кожаную коробочку и перевязывали ее лентой.
— Мы следим, чтобы упаковка гармонировала с цветом духов, чтобы ленточка была изящной, прочной и легко развязывалась. У этих дам пальчики ловкие, как у фей. Они не станут вязать неуклюжие узлы, как простые модистки.
Виктор с сочувствием посмотрел на «фей». День-деньской стоять возле сосудов с духами и нюхать оглушающе сильный аромат — у них наверняка под вечер начинается мигрень.
— Знаете, господа, чтобы правильно надушиться, достаточно нанести несколько капель туда, где прощупывается пульс. Или одну-две капли на подушку и простыни. От этого меняется жизнь! — заявил человечек и начал декламировать:
Читатель, знал ли ты, как сладостно душе,
Себя медлительно, блаженно опьяняя,
Пить ладан, что висит, свод церкви наполняя,
Иль едким мускусом пропахшее саше?
[701]
— А вот эти, покрытые пылью, на полочке, — это какие-то особенные духи? — спросил Жозеф. Он указал Виктору на зеленую ленточку, похожую на ту, что украшала «Улыбку Индии».
Смутившись, человечек попытался уйти от ответа и шагнул в сторону, но Виктор преградил ему путь.
— Нет, просто их производство прекратили.
— По какой причине?
— Мне ее официально не сообщили.
— Вы хотите сказать, что в курсе дела? — оживился Виктор.
— Мы не глухи, не слепы, много чего слышим и знаем.
— Так о чем шепчутся в коридорах заведения «Романт»?
— Если я вам расскажу и вы это опубликуете, я получу выговор.
— Мы клянемся хранить молчание.
— Вы, журналисты?! За кого вы меня принимаете!
— Мы торжественно обещаем сохранить все в тайне, — шепнул Жозеф, разворачивая банковский билет под носом у человечка.
Тот посмотрел вокруг и спрятал купюру.
— В конце концов, это всего лишь слухи, и никто не знает, кто их распускает. Говорят, произошла ошибка в процессе изготовления духов. Наша дирекция была вынуждена отозвать из магазинов весь запас «Вечной женственности», так же, как и те флаконы, которые были предназначены для экспорта. Дело замяли, опасаясь скандала. Ведь у нас есть клиенты в мире
high life, сливки общества, настоящие воображалы. За такие дела и фабрику прикрыть могут! Так нам объяснила Жинетт, а она все точно знает.
— Жинетт?
— Жинетт Мерсье. Неприятная особа. Она работала здесь год старшим мастером, для нас это было тяжелое время. Я рад был узнать о ее уходе, сразу после праздника, организованного в честь мсье Маню. Бедолага! Его выставили вон, хоть и сделали это красиво: в его честь отлили серебряную медаль, на которой был выгравирован его профиль.
— Так его уволили?
— Официально нам сообщили, что он добровольно вышел досрочно на пенсию, но на самом деле его выгнали, решив, что это он виноват в истории с «Вечной женственностью». Мне-то кажется, что Жинетт намеренно его очернила. У нее была связь с Сержем Романтом, сыном хозяина, сорокалетним холостяком, бабником и развратником, довольно бестолковым управленцем. А расплатиться за все пришлось бедняге Бенуа.
— А какую же должность он занимал?
— Ту же, на которой сейчас я. Я его преемник. Он посвятил меня в профессию. Он ведь самоучка, сам до всего дошел. Вначале у человека есть просто способности, но постепенно он совершенствуется. Для этого нужно обонятельное сознание, фантазия, вкус, упорство, метододика, размышле…
— А почему же эта самая Жинетт его невзлюбила? — перебил его Виктор.
— Я не знаю. Возможно, завидовала. Может, сама хотела создавать композиции, тем более что любовник уже пресытился ею. Она была настоящей ведьмой, помыкавшей всем персоналом, и ни один из нас не жалеет о ее уходе. Надеюсь, Бенуа удалось куда-нибудь устроиться, он ведь еще не стар, а на пенсию, которую ему выплачивают, не проживешь.
— Вы симпатизируете своему сопернику? — заметил Жозеф.
— Да, потому что он славный человек. Один раз он одолжил мне кругленькую сумму, чтобы я прожил до зарплаты. Я воспользовался его знаниями, чтобы занять его место, но он не держал за это зла. Великодушие — редкое качество. Он не заслужил того, чтобы с ним обошлись как с паршивой овцой. Профессия — вся его жизнь. Он продолжал исследования и дома. Я два раза заходил к нему, до сих пор не могу забыть его консьержа…
— Где он живет?
— Бульвар де Берси 28. Если узнают, что я все это рассказал…
— Не беспокойтесь, нам просто хотелось бы порасспросить его о вашей работе.
— Моих разъяснений недостаточно?
— Два рассказа лучше, чем один. Его мы тоже вознаградим, что, как вы понимаете, не будет лишним для его финансов, — объяснил Виктор.
— Только не упоминайте моего имени. Вам удалось хоть что-то снять? Да? В таком случае, господа, имею честь.
— Нюхач постарался поскорее нас выпроводить! — воскликнул Жозеф, когда они оказались на улице. — Для человека, сожалеющего, что отнял работу у коллеги, он не особенно сострадателен. Не удосужился даже узнать, как сейчас живет этот Маню.
— Вот этим я и займусь, — пробормотал Виктор.
— Вы? А я как же?
— А вы, дорогой шурин, отнесете мой аппарат в лавку, смените Кэндзи и как следует поразмышляете над этой загадкой.
— Ловко вы от меня избавились!
Жюль Фрике одинаково ненавидел и детей и квартиросъемщиков.
Первых он щедро награждал пинками, тумаками и оплеухами. Он использовал любую возможность унизить того, кто не мог за себя постоять. К этой трусливой жестокости добавлялось удовольствие прятать от детей их сокровища. В комнате, прилегающей к крошечной столовой его квартирки, было собрано множество таких трофеев: однорукая кукла, мячик, около двадцати волчков, фарфоровые шарики, стеклянные фигурки, плюшевый ослик, пять скакалок, — было бы чем заполнить магазин подержанных игрушек. А что до сладостей — леденцов, карамелек, пастилок и жевательных шариков, — их он держал в шкафу, и они были любимым десертом консьержа.
Квартиросъемщиков он не менее щедро одаривал притворной предупредительностью, но если приносил им почту, то умудрялся перепутать некоторые письма, а то и не отдавал их вообще. Под тщательно вычищенными ковриками у дверей скапливалась грязь. По лестницам, натертым мастикой, было опасно ходить, а после дверных ручек, испачканных смолой, руки становились отвратительно липкими.
Самые нищие из жильцов подвергались самым ярым нападкам. Если им случалось задержаться с платой, таз грязной воды мог некстати вылиться им на
ноги, когда они выходили в вестибюль. На лестничной клетке неожиданно прорывало канализационную трубу, замочные скважины оказывались забитыми воском, а тараканы (которых переносили в спичечных коробках) заполоняли мансарды несчастных.
Хуже всех было Мадлен Дюмериль, старушке-матраснице, которая всю жизнь прочесывала шерсть на матрасах, взбивала соломенные тюфяки и чистила обшивку кресел под мостом Марии. Родственница, скончавшаяся недавно где-то в Пикардии, оставила ей немного денег, которые она получала в качестве регулярных выплат и которые позволяли ей платить за каморку, покупать картофель и бульон, а раз в неделю — мешок угля, чтобы согреться в холодное время года. Жюль Фрике не мог ей этого простить, равно как и правительству, которое, по его мнению, обязано высылать таких, как она, из столицы, а не оставлять жить под одной крышей с добропорядочными гражданами.
Вот у этой-то женщины, которая, согнувшись в три погибели и тяжко опираясь на две клюки, собиралась войти в дом 28 на бульваре Берси, Виктор и спросил о Бенуа Маню.
— Хотите, я помогу вам донести покупки? — предложил он, протянув руку к почти пустой сетке.
Она недоверчиво осмотрела его единственным глазом — второй был спрятан под квадратиком из черной ткани.
— Благодарю вас, я как-нибудь сама.
— Раз вы живете здесь, быть может, подскажете. Я ищу мсье Бенуа Маню.
Прежде чем она успела открыть рот, консьерж выскочил из своего закутка и вырос перед Виктором.
— Мамаша Выпей-Море вам уж точно не поможет! Она слишком редко просыхает, чтобы помнить соседей!
— Это неправда, я и в молодости не выпивала, а уж теперь и подавно!
— Ваше прозвище говорит само за себя! Да и все голодранцы имеют обыкновение прикладываться к бутыли.
— Если меня так и прозвали, то потому, что летом, под мостом, мы умирали от жары, и я пила воду литрами! — возразила возмущенная старушка.
Но тут в их перепалку вмешался Виктор.
— Мсье, относитесь к этой даме с уважением.
— К даме! Скажете тоже! Только ведь вам, мсье, нужен именно я, нравится вам это или нет. Ваш Маню, этот странный тип, который не удосуживался вовремя платить за жилье, исчез, испарился еще в феврале! Не заплатив! Несколько дней я переживал, что его не видно. Я подумал было, что у него срочная работа и он скоро явится. Как бы не так! Мы с домовладельцем ждали долго, но в конце концов вынуждены были воспользоваться моей отмычкой — на случай, если нас от этого мошенника избавила старуха с косой. И что же: никого! Хозяин обратился в полицию — никаких следов. Вещи на месте, документы, мебель, реторты, из-за которых, кстати, он десятки раз мог устроить пожар, одежда… Домовладельцу не хотелось тратиться на хранение, и он поручил мне сбыть все это с рук. Я позвал перекупщика, и в квартире поселился другой жилец, каналья Пьер Андре, который еще хуже, чем Маню. Ведь он, представьте себе, поэт! До чего дошла Франция!
— А мне очень нравился мсье Бенуа, — пробормотала старушка. — И заметьте, мсье Андре очень любезный.
— Не удивительно! Рыбак рыбака видит издалека. Вы довольны, я вам все выложил, ведь так? А эта старуха, бьюсь об заклад, сама ничего и не заметила!
— У «этой старухи» есть имя, и если бы вы позволили, она бы мне все рассказала не хуже вашего.
— Вот она, благодарность! А кто вы, собственно, такой? Родственник Маню? Если так, то вот, я подсчитал сумму его долга, — извольте оплатить!
Виктор достал из кармана удостоверение, выданное Изидором Гувье, и потряс им перед лицом консьержа.
— Я журналист. Могу обеспечить вам такую репутацию, что мало не покажется.
Жюль Фрике так поспешно скрылся в своей квартирке, будто его укусила бешеная собака. Старушка рассмеялась.
— Это правда, что вы пишете статьи? Я расскажу вам кое-что еще, о чем умолчал консьерж. Он все видел, как и я. Я как раз шла из булочной.
— Что же вы оба видели?
— Этот славный мсье Маню забрался в фиакр и уехал, как только кучер махнул хлыстом. С тех пор он здесь и не показывается. А в фиакре, как мне показалось, сидела дама. Добрый мсье Бенуа в конце концов завоевал чье-то сердце. Я рада за него. Всего хорошего, мсье.
Порывы ветра колыхали поверхность Сены, по которой плавали ветки и клочья промасленной бумаги. Боясь, что шляпа улетит, Виктор решил снять ее, проходя по мосту Берси. Возможно ли, чтобы Бенуа Маню оставил свое жилье ради чувственных шалостей? Он посмотрел на эту ситуацию с другой стороны: если бы Таша велела ему немедленно к ней переехать, согласился бы он вообще ничего с собой не брать?
«Это маловероятно. Я забрал бы некоторые сувениры. Но откуда нам знать, может, этот Маню набил пару чемоданов, которые тайно вынес за несколько дней до побега. Но он исчез в феврале! То есть уже полгода не дает о себе знать!»
Два часа спустя, изнуренный долгой ходьбой и насквозь промокший под сильным дождем, он поделился своими размышлениями с Жозефом, который один хозяйничал в лавке.
— Исчез! Они как будто заразились друг от друга этой манерой бесследно пропадать. И куда они все подевались?! — воскликнул он.
— Блокнот был сделан из чеков. Его заполнил Бенуа Маню? Формула духов, адрес «Романта» это подтверждают. Видно, он выронил эту книжечку в доме на улице Корвизар, а точнее — возле водоема, где ею полакомился карп… Но что он там делал? Этот человек — нос, а запахи там, однако, не могут быть ему приятны!
Виктор потер виски, пытаясь сосредоточиться. Ему была нужна тишина. Жозеф, в свою очередь, пытался привести мысли в порядок с помощью музыки. Он машинально стал напевать мелодию, которая не оставляла его в покое.
— Мои мысли путаются, вы не могли бы помолчать? — проворчал Виктор.
— Этот мотив постоянно вертится у меня в голове. Я его слышал в ту ночь, когда обыскивал поместье, там его насвистывал какой-то тип. Самое ужасное, я знаю эту песню, мама…
— Жаль, мы не знаем, как выглядит ваш свистун. Я пойду домой, у меня голова раскалывается, завтра поговорим.
— Завтра не рассчитывайте на меня раньше обеда. Я веду Дафнэ в мэрию, на кукольный спектакль. Айрис будет ожидать доктора Рейно, а моя мать займется генеральной уборкой у вас на улице Фонтен.
Узнав о такой перспективе, Виктор решил посвятить утро фотоделу, которое ему пришлось забросить из-за расследования. Ему нужно было бежать как можно дальше от веников и щеток, которые совсем скоро будут плясать сарабанду в его жилище.
Глава девятнадцатая
25 сентября
При других обстоятельствах это было бы приятно — оказаться в центре внимания. Но сейчас Жозеф не слишком радовался тому интересу, который он вызвал. В праздничном зале мэрии установили скамейки, принесенные из соседней школы. На них теснились жены лавочников, буржуазки и служанки, пытающиеся усмирить свою детвору. За их ироничными взглядами скрывалась зависть к этому единственному среди них папаше с такой послушной девочкой. Дафнэ гордо восседала на его коленях, завороженная видом деревянной ширмы-будочки с алым занавесом, поставленной на возвышении. В первых рядах сидели дети постарше: девочки в бархатных платьях с кружевными воротничками и шляпках с завязками и мальчики в костюмах флотских офицеров и фуражках с козырьком. Они галдели, топали, шаркали башмаками по каменному полу, под удивленным и не одобряющим взглядом миндалевидных глаз маленькой девочки. Дафнэ не так часто выпадала возможность встречаться с другими детьми, и их поведение было ей непонятно. А еще она с нетерпением ожидала, когда наконец ей откроется чудесная тайна.
Сухая пожилая дама с седым шиньоном села за арфу и, едва поднялся занавес, принялась щипать струны. Дафнэ протянула ручонки, словно надеясь поймать мелодию, которая вдруг потекла, как извилистая речка. Но когда курносый круглолицый персонаж в коричневом суконном жакете и треуголке побил палкой бездельника за то, что тот стащил его яблоки, те же самые ручонки прижались к исказившемуся от страха лицу. Жозеф попытался успокоить дочурку, но кукловод, просовывая перчатки под платья кукол, тем временем пронзительным голосом озвучивал всех персонажей, и, к великому удовольствию публики, их проделки неизменно заканчивались взбучкой, какую Гиньоль устраивал Ньяфрону.
[702]
Начался антракт, а за ним музыкальная интермедия, «Баллада толстых индюков» Эммануэля Шабрие,
[703] которая успокоила Дафнэ. Жозеф старался развлечь малышку, подбрасывая ее на коленях — точно скакун, уносящий сказочную принцессу туда, где нет горя, — в далекую страну, в замок, защищенный рвами, толстыми стенами и пушками. Но вторая часть спектакля оказалась еще более мучительной. Кукольник остановил свой выбор на старых народных песнях. Песенки про кадета Русселя и его три дома,
[704] дикого соловья и язык любви, о нантской темнице и ее узнике имели счастье понравиться Дафнэ. Но когда король приказал бить в барабан, а маркиза умерла, понюхав отравленный букет,
[705] и потом, когда король Рено нес в руках собственные кишки, а земля поглотила его прекрасную супругу,
[706] Дафнэ отчаянно разревелась. Няни и жены торговцев хмурили брови, глядя на девочку, которая извивалась, пытаясь выбраться из отцовских объятий. Апофеоз настал, когда Гиньоль, в окружении крохотных куколок, смело сразился с безумцем в окровавленном фартуке, который угрожал ему топором.
Трое маленьких детей
Собирали в поле колоски… —
прогнусавил кукловод, которого Жозеф уже тихо проклинал.
А когда вернулись,
Их убил мясник,
Разрезал на куски
А после засолил.
Жозефу пришлось побеспокоить с десяток раздраженных матрон, наступая им на ноги и рассыпаясь в извинениях, когда он ринулся к выходу, унося свою орущую наследницу, в то время как в песенке все еще только начиналось.
На улице Дафнэ отвлекли от ее переживаний мальчишки, бежавшие гурьбой из школы на улице Мадам: эти ожившие марионетки в коротких штанишках понравились ей куда больше страшной куклы-мясника. А румяная булочка, купленная отцом, окончательно примирила ее с действительностью.
Жозеф вытер дочке слезы, и они сели передохнуть на лавке перед церковью Сен-Жермен-де-Пре.
«И это они называют спектаклем для детей! Этот ужас заслуживает того, чтобы… Стоп! Ведь это та самая мелодия, которую я слышал в бараке на улице Корвизар! «Легенда о Святом Николае», эта ужасная мамина считалочка, ставшая причиной стольких ночных кошмаров! Каким же я был кретином, что не вспомнил ее раньше!»
Он нагнулся к Дафнэ.
— Ты знаешь, моя милая, там в конце концов все заканчивается хорошо. Хочешь, я тебе спою?
«Детки, ваш сон потревожу,
Ведь я — Святой Николай».
Рукой он махнул
И жизнь им вернул.
— А сейчас, мой цыпленок, ты пойдешь к маме есть кашку, а потом баиньки!
— Нет! Я не хочу спать! — возразила Дафнэ. — Еще день!
Жозеф встал. Он дышал тяжело, так, будто только что бегом поднялся по лестнице.
Верберен утверждал, что Бренголо поселился на улице Корвизар в середине августа. Архангел же говорил, что тот бродит по Бют-о-Кай дней двадцать. Либо у этих двоих нет чувства времени, либо один из них лжет. Если Бренголо еще здесь, он может оказаться инфицированным сибирской язвой, и тогда…
«Так кто же тогда свистел? Верберен утверждает, Бренголо исчез. Где искать правду? Я не знаю адреса Верберена, остается Архангел. Нужно все уточнить, и поскорее».
Жозефу пришлось четырежды рассказывать дочери одну и ту же сказку, всякий раз приукрашивая ее новыми деталями, прежде чем Дафнэ, наконец, уснула. В конце концов она безропотно приняла печальную судьбу трех маленьких жертв мясника, ведь в итоге Святой Николай собрал их по кусочкам и вдохнул в них жизнь.
Доктор посоветовал Айрис побольше отдыхать. Перед уходом Жозеф рассеянно поцеловал жену, прилегшую после обеда. Айрис вздохнула. Она чувствовала себя брошенной. Неужели она обречена на жизнь в четырех стенах, и ее единственное развлечение — вышивать салфетки в ожидании очередного ребенка? Станет ли она похожей на женщин, обезображенных бесконечными беременностями, которые в гостиных у своих подруг обсуждают свое состояние и сроки родин? Когда жила в Лондоне, а затем в Сен-Манде, она ждала от жизни чего-то большего, чем просто роль матери семейства. Ей хотелось путешествовать, исследовать дальние страны, стать знаменитой. Прагматизм одержал верх над ребячеством, и когда появился Жозеф, она с радостью согласилась соединить с ним свою жизнь. Рождение Дафнэ дополнило их счастье. Она обожала девочку, играла с ней, как с куклой. Но теперь она знала, что эти радости сопровождают обязанности и тяжелый труд. Сможет ли она вынести все это снова? Посильна ли для нее необходимость постоянно заботиться теперь уже о двух детях? Сможет ли она любить второго малыша столь же горячо и полно, как любит свою дочурку? При мысли, что за вторым ребенком последует еще один, а потом еще и еще, она стиснула зубы. Эфросинья с каждым годом будет все больше командовать ею, навязывая свои требования, наводя критику…
На краткий миг воспоминание о настойчивом внимании художника Мориса Ломье вызвало в душе сожаление. Она любила Жозефа и не представляла, что может изменить ему, и все же сожалела о том, что ей больше не приходится отвергать ухаживания других мужчин. Она понимала, почему Кэндзи так стремился нравиться женщинам: когда соблазняешь кого-то, начинаешь больше верить в себя.
Она встала, нашла тетрадь со сказками — ее единственное средство от уныния и тоски, и перо побежало по бумаге:
Блэки объяснил Шорти, что кошка с девятью хвостами не сможет разрешить его проблему, так как речь шла всего лишь о плетке, используемой в парусном флоте для наказания бастовавших матросов… Ее-то и называли «кошкой-девятихвосткой».
Ресторанчик «Уютная каморка» был все еще закрыт, и это свидетельствовало о том, что у мужа покойной Аделаиды Лезюер не лежала к нему душа. Спеша добраться до мастерской Мишеля Форестье, Жозеф поскользнулся на очистках и едва не угодил в навозную кучу. Куры с кудахтаньем разлетелись, а кумушки, высунувшись из окон, зубоскалили:
— Вот умора! Да он пьян в стельку!
— Ну конечно! Эй, пьянчуга! Мотай, пока я тебя не взгрела!
Он поспешил в тесный дворик и притаился за кучей грязных матрасов и старых половиков. А когда все стихло, вышел на улицу Мишаль. По пути он миновал лавку упаковщика, мясника, водопроводчика, обогнул подводу, перегородившую дорогу, и даже обошел старушку, задремавшую на крыльце перед дверью.
Предоставленные самим себе подмастерья Гастон и Арман неплохо проводили время: они влезли на дерево и потихоньку выкурили там трубку, а потом принялись показывать друг другу языки и корчить рожицы — Святой Николай и Роза Лимская с осуждением взирали на их непристойное поведение, — а потом принялись играть в «кинет»: нужно было так ударить по заостренному с обоих концов колышку, чтобы он отлетел как можно дальше. Кончилось тем, что Гастон едва не выбил глаз не вовремя появившемуся Жозефу.
— Так вам за это платят, лодыри? Где Архангел?
Подмастерья готовы были прыснуть от смеха. Гастон лениво прошелся от одного мешка с гипсом к другому.
— У него интрижка в самом разгаре, так что, как закончит дела, он сразу удерет к Розе, своей любовнице.
Арман чертил носком деревянного башмака круги в пыли, насвистывая все ту же «Легенду о Святом Николае».
— Ты знаешь эту мелодию?! — воскликнул удивленный Жозеф.
— Еще бы! Патрон напевает ее с утра до ночи. Она просто намертво впечатывается в котелок и не выходит оттуда!
Вот это открытие! Неужели свистун из дома с привидениями и Архангел — одно лицо?!
— А где живет эта Роза?
— С чего бы мы стали вам это говорить?
— Вот этот аргумент подходит? — и Жозеф достал из кармана монетку в один франк.
— И все?! Ну нет, с вас пять франков, не меньше!
— Пять франков! Вы решили, что перед вами владелец золотых приисков?!
Жозеф выложил на ладонь всю мелочь, какая была в кармане.
— Придется довольствоваться тремя франками двадцатью шестью сантимами.
После долгих переговоров с товарищем Арман наконец согласился.
— Она живет на набережной Анжу 13. Ее зовут Роза Варле.
— Выходит, Архангел вам докладывает о своих романах?
— Да нет, просто он обронил записную книжку, — пробормотал Гастон.
— Значит, ты умеешь читать?
— Меня отец научил, он грамотный, работает кучером на катафалке.
— Отличная профессия! — прошептал Жозеф, огорченный тем, что пришлось так дорого заплатить за сведения, которые не казались ему надежными.
— Кроме шуток! А по вечерам отец играет в настоящем театре. Вместе с приятелями таскает носилки, на которых восседает китайская императрица!
Пожав плечами, Жозеф кое-как записал имя и адрес, которые сообщил подмастерье, и ушел. Как жаль, что именно теперь Виктора нет на месте!
— Забавно, едва я переступаю порог, как вы уходите. Я вам, случайно, не мешаю?
— Да что вы, Эфросинья, что вы напридумывали? У меня просто встреча.
Отправившись следом за Таша, которую пригласила к себе Рафаэлла де Гувлин, заказавшая портрет, Виктор положил в карман Pocket Kodak. Прослонявшись бесцельно два часа по улицам, не переставая размышлять о смерти Александрины Пийот, он проголодался. Он оказался рядом с церковью Сен-Филипп-дю-Руле. И вместо того чтобы заглянуть в один из шикарных местных ресторанов, выбрал кабачок, который посещали кучера фиакров. Полное меню, состоявшее из супа, помидоров с петрушкой, бараньих ребрышек, десерта и фруктового пюре обошлось ему всего в сорок су. Облокотившись на барную стойку, клиенты косо поглядывали на него, пробуя пальцем похлебку — не слишком ли горячая. Официант, подметавший опилки на каменном полу между горшками с углем, то и дело оглядывался на Виктора через плечо, будто пытаясь понять, что забыл в их заведении этот элегантно одетый господин.
Виктор предпочел уйти и дошел до «Неаполитанца» на бульваре Капуцинов, чтобы выпить там хорошего кофе. Длинноволосый мужчина с моноклем подсел за столик к высокому дородному человеку, напоминавшему ветхозаветного пророка, чей огромный кожаный портфель занимал целый стул. Он узнал критика Эрнеста Лаженесса и писателя Катюля Мендеса.
[707] Пока угодливый официант выставлял на только что протертый столик мороженое и газированную воду, они обменивались последними сплетнями из мира литературы. Указывая на ресторан-кафе «Американец», расположенный на противоположной стороне, Катюль Мендес заговорил о хроникере Орельене Шолле.
[708]
— Вы слышали, что он предложил одному управляющему? «Хотите, я подскажу вам отличную сделку? Покупать убеждения по той цене, какую они стоят, и перепродавать тому, кто в них верит!»
Виктор оценил остроту. Он хотел бы услышать побольше, но мешала собравшаяся поблизости толпа. Поднявшись из-за столика, он присоединился к сборищу, окружившему стоявший напротив автомобиль с бензиновым двигателем и пневматическими шинами Данлопа.
[709] Его владелец щеголял в меховой шубе, сомбреро, очках с затемненными стеклами и к тому же курил фарфоровую трубку.
— Барон де Вебер! — прошептал Виктор.
Эксцентричный старик объяснял зевакам, что его автомобиль, созданный Эдуардом Роше и Теофилем Шнейдером,
[710] может развивать скорость до 35 километров в час.
— Одна из таких машин поднялась до ущелья Галибье, что до этого не удавалось ни одному транспортному средству помимо лошадей!
Першеронов, жевавших овес неподалеку от этого чуда, автомобиль, казалось, нимало не впечатлил. С восхищением и завистью Виктор рассматривал хромированный металл, который так хотелось потрогать. Он отошел на несколько шагов, и взгляд упал на вывеску парфюмерного магазина. Не здесь ли он покупал бензойную смолу и «Улыбку Индии» с зеленой ленточкой фабрики «Романт»? Сутулая фигура Жоржа Фейдо на мгновение возникла перед витриной, где к нему подошел нервный мужчина с резкими движениями, одетый в красную куртку. Виктор узнал фотографа Феликса Турнашона, или Надара,
[711] работами которого он восхищался и с которым с удовольствием бы побеседовал. Но его мысли неприятным образом вернулись к Гансу. Он никак не мог избавиться от подозрений. Тщетно желая развеять их, он попытался переключиться на чудо техники, красующееся перед любопытной толпой. От мысли о том, что вечером следует непременно поговорить о скульпторе с Таша, у него засосало под ложечкой. Лучше уж бродить по городу, чем запереться сейчас у себя, на улице Фонтен.
Жан-Пьер Верберен переминался с ноги на ногу на углу дома перед парикмахерской. Так он мог остаться незамеченным и наблюдать за Люси Гремий, видя лишь ее профиль и руки, державшие крошечные ножницы. Она взяла крошечную кисточку и принялась покрывать розовым лаком ногти клиентки, тощей и длинной, точно жердь. Затем достала из ящичка расческу и принялась приводить в порядок ее прическу. Хозяин тем временем запустил руку в банку с кремом для укладки и принялся приглаживать непослушную шевелюру мальчишки, сидевшего перед ним на высоком стуле. Тот отчаянно вертел головой, а когда парикмахер закончил, с наслаждением почесал макушку, сведя на нет все его усилия. Как привлечь внимание молодой женщины? Жан-Пьер Верберен колебался. Войти в салон? Приоткрыть дверь? Он не осмеливался объявиться с той самой ночи, когда они пытались разыскать пропавших. Девушка, обществом которой он имел счастье насладиться, волновала его. Он был слишком стар и некрасив и не мог надеяться, что она на него польстится. Он даже начал тихо ненавидеть этого Альфонса Баллю, в которого она влюблена. Хвала Всевышнему, спровадившему этого типа куда подальше.
Наконец он решился и тихонько постучал в окно. Люси его заметила и поторопилась завершить работу.
— Плохая новость? — спросила она, вглядываясь в его печальное лицо.
— Ваш жених…
— Альфонс… он не является моим официальным женихом. Но что случилось?
После небольшой паузы он внезапно выложил:
— Его нашли убитым в этом проклятом доме!
Она застонала, схватив его за руку.
— Вы хотите сказать, что его…
Он запутался в собственной лжи, но отступать было поздно.
— Убили! Не знаю подробностей, но я получил записку от книготорговца, которого мы встретили там четыре дня назад. Она какая-то странная, но общий смысл вполне ясен.
— О! Покажите мне ее!
— Я так разволновался, что забыл ее захватить.
— В таком случае почему бы нам не прочесть ее сегодня вечером у вас дома? — и она наградила его своей самой очаровательной улыбкой.
Он ожидал слез, обморока, всего чего угодно, но только не этого. Растерявшись, он открыл рот, но не смог произнести ни звука.
— Вы находите неприличным принимать меня у себя? Не стоит возражать, бесполезно. Тогда хотя бы согласитесь поужинать вместе. Я хожу в кафе на площади Коммерс, там вкусно и недорого… Я скоро заканчиваю, а вы могли бы пока погулять.
— Ну конечно, я с радостью соглашаюсь. Но только за ужин плачу я.
— Это ужасно: представить, что Альфонс… А ваш друг, этот Бренголо?
— Он не был упомянут.
У него разыгралось воображение или Люси и впрямь чмокнула его в щеку? Он уже жалел о своей лжи: сможет ли он выпутаться из нее, не ударив в грязь лицом?
Что ж, завтра он может заявить, что книготорговец ошибся.
Виктор ждал Таша, сидя на кровати, а кошка свернулась у него на коленях. Он листал блокнот, пробегая глазами записи из крошечной книжечки Тетушки. В предыдущих расследованиях тайна раскрывалась лишь с определенного момента, когда собиралось необходимое количество сведений, которые оставалось лишь объединить между собой. Сложнее всего было — выбрать нужную нить из спутанного клубка, угадать подлинную нить Ариадны. Он и прежде несколько раз выбирал тупиковый путь. Лучше ли справится на этот раз? Сейчас на кону несколько жизней. Он составил ребус из цифр и имен, связанных стрелками, вокруг которых закручивались спирали. А что если изложить дело в нескольких фразах? Он написал:
Бенуа Маню была известна формула духов, выведенная еще древними египтянами, которую хотела получить некая Жинетт, работавшая старшим мастером на парфюмерной фабрике «Романт». Убила ли она его? Или убедила ей помочь? Подытоживаем. Бренголо приносит свой улов в «Уютную каморку». Кто-то присутствует при сделке и…
Появление Таша вынудило его быстро сунуть блокнот в карман. Кошка бросилась навстречу хозяйке.
— Кисточка, ты прямо как собачонка! — воскликнула она, бросая жакет на спинку стула.
Подойдя к Виктору, Таша прижалась к нему и вздохнула:
— Портрет выйдет кошмарный. Дама настаивает на чудовищном желтом пальто и юбке в клеточку. А ее ненаглядных собачонок в бантиках невозможно заставить усидеть на месте!
— Это тебе, — пробормотал он, протягивая ей флакон бензойной смолы.
Обрадовавшись, она сразу надушилась и захотела обрызгать и его. Он, смеясь, стал отбиваться, и их стычка закончилась нежными объятиями. В тот момент, когда она покусывала его ухо, он прошептал:
— Я разговаривал с твоим Гансом. Он полный кретин. Представь, он мне заявил, что провожал тебя до дома после выставки в «Прокопе», и ты позволила ему тебя обнять.
Она резко высвободилась и с вызовом посмотрела на него.
— Это ложь! — твердо сказала Таша, повысив голос.
Видя его недоверчивое и огорченное лицо, она смягчилась. Она была права, все отрицая, она чувствовала это, потому что если Виктор узнает правду, они оба будут страдать.
— Мы уже обсуждали эту историю, но раз уж ты настаиваешь… Когда я встретила Ганса в «Прокопе», у меня началось головокружение, ну так, пустяки, от удивления или от жары… Ко мне подошел один приятель Ломье, Мишель Форестье. Он настаивал на том, чтобы проводить меня. Он пытался приставать ко мне, но я поставила его на место, вот и все.
— Любопытное совпадение, ведь я его знаю!
— Правда? Откуда?
Он сжал губы. Он опасался совершить оплошность, ведь расследование еще не закончено.
Она подождала его ответа и с облегчением поняла, что он хочет закрыть эту тему. Ему было неприятно признаться себе, что его счастье зависит от умения держать язык за зубами. Что будет, если Виктор когда-нибудь поговорит с Фелисите Дюкрест? Она поспешила закрыться в ванной.
В дверь постучали. Виктор машинально крикнул:
— Входите!
В мастерскую, запыхавшись, влетел Жозеф.
— Вы дома! Какая удача! Я, похоже, знаю, кто насвистывал в бараке на улице Корвизар, когда я там был! И у меня есть адрес его любовницы! Архангел! Он каким-то образом связан с незаконной торговлей мумиями!
Пока пунцовый Жозеф произносил свою речь, не замечая отчаянных знаков, которые подавал Виктор, дверь ванной медленно отворилась. И лишь когда появилась ошеломленная Таша, он смущенно замолчал и отвел глаза.
— Выкладывайте все! Оба! — возмущенно воскликнула она.
— Послушай, дорогая, это глупая шутка, которую Жозеф…
— Лицемер! Обманщик! Ты опять взялся за старое! Тоже мне, поборник справедливости! А вы, Жозеф, вам должно быть стыдно, вы скоро снова будете отцом, и… вот! — подытожила она с дрожью в голосе.
Виктор ломал голову, пытаясь отыскать правдоподобное объяснение. Она вытянула палец в его сторону.
— И не думай мне зубы заговаривать, я не идиотка. Я требую правды!
— Дело в том, что… все очень запутано, — пробормотал Жозеф.
— Ну так упростите, а если не получится, ничего страшного: у нас впереди еще целая ночь.
Ясно дав понять, что она не отступит, Таша села в кресло и похлопала ладонью по колену, подзывая Кошку, которая не замедлила занять свое место на ручках у хозяйки.
Вернувшись из небытия, Альфонс Баллю вновь оказался в этом запертом помещении, где его держали пленником уже целую вечность. Из этого места, населенного призраками, исходил зловонный запах, от которого его постоянно мутило. Печка, для растопки которой имелись лишь опилки, и лошадиная попона не помогали согреться, и он стучал зубами. В самый первый день с него сняли путы, которыми он был связан. Вначале он принуждал себя ходить взад-вперед, чтобы не окоченеть, сейчас для этого уже не было ни желания, ни сил. Чего от него ждали? Он об этом не знал. Его тюремщик никогда с ним не заговаривал, он лишь приоткрывал дверь, чтобы поставить еду, затем крепко запирал ее и уходил, насвистывая детскую считалочку.
В обычной жизни Альфонс Баллю был здравомыслящим человеком, самовлюбленным, лишенным малейшего сострадания к ближнему. В Африке его военная служба ограничивалась парой-тройкой показательных маршей во главе отряда; остальное время он просиживал штаны в сенегальском штабе, штампуя толстые пачки бумаг, с удовольствием посещал приемы, которые устраивал губернатор, и утолял сладострастие с прекрасными женщинами, чья кожа была черной, словно эбеновое дерево. Правда, по мнению самого Альфонса, он прекрасно справлялся с миссией просветителя, возложенной на него родиной.
Прошлое превращалось в лихорадочный сон. Он все больше погружался в оцепенение, словно его разум и тело были одурманены наркотическим веществом, лишавшим его способности понимать, кто он и что с ним происходит…
Глава двадцатая
26 сентября
Роза Варле проснулась внезапно. В ночном кошмаре ей привиделось чудище: оно скрывалось во тьме пещеры, рыча на девушку и сверкая желтыми зрачками. Рык перешел в низкое гудение, когда Роза открыла глаза. Оказалось, это было всего лишь буксирное судно, подходившее к острову Ситэ. Она встала, приблизилась к окну, облокотилась на подгнивший подоконник. Тревога постепенно оставляла ее. Забылись и дурной сон, и изматывающая работа, и крошечная сырая комнатушка под самой крышей, и невезение в любви. В оконной раме двигались живые картины: над рекой растекался молочный туман, волны сонно шлепали по каменной набережной Анжу; легкий ветер трогал ветви осин; рыбаки удили колюшек с утлых суденышек. Вот по Сене проплыла шаланда, а собачий парикмахер, как всегда, устроился на своем привычном месте на берегу. Под мостом де Сюлли купали коней, а на мосту устанавливал мольберт и потрепанный шелковый зонтик пожилой художник в шерстяном пиджаке и панаме.
На колокольне пробило семь. По субботам Роза пользовалась привилегией встать попозже. Она наспех оделась и налила себе кофе, забелив его каплей молока.
Она не знала, что в этот самый момент в мощеном дворе, обсаженном кустарниками, человек в клетчатом костюме и шляпе-котелке изводил консьержку, пока не выбил из нее нужные сведения, а именно: Роза Варле действительно живет в этом доме и вот-вот должна появиться.
Жозеф приоткрыл тяжелую дверь, подбитую гвоздями, и подошел к Виктору и Таша, которые сидели под фонарем на своих велосипедах.
— Я все уточнил. Она молодая, темноволосая, и в руках у нее будет большая корзина. Смотрите-ка, вот она! Сделаем безразличный вид.
Таша предпочла встать чуть свет, чем отказаться от принятого ночью решения. На этот раз она будет участвовать в расследовании вместо того чтобы сходить с ума, боясь, что с мужем что-то случилось.
Если бы Роза Варле догадалась, что на велосипедах, ехавших на почтительном от нее расстоянии, сидят ее преследователи, она бы рванула прочь, как заяц от гончих. Но Роза, разумеется, не могла помыслить себя столь важной персоной, удостоившейся настоящей слежки, а потому неторопливо дошла до улицы Пуллетье, поздоровавшись на ходу со старой продавщицей из табачного киоска — тощей очкастой старухой и ее сонными детьми.
— Вы не видали моего Гектора? Опять им овладел демон карамболя!
[712] Папаша Майен рассказал, что около полуночи он едва не затеял драку в кафе, — а все оттого, что пропустил удар накатом! Чертов бильярд, он нас погубит!
Девушка постаралась как могла успокоить безутешную продавщицу и поспешила в прачечную. Преследователи до боли в глазах вглядывались в окна, но за плотными занавесками ничего было не разобрать.
Роза подошла к застеленному голубым кретоном столу, на котором возвышалась невообразимая гора мятых рубашек и платьев. Над коксовой печью, подвешенные к перекладине, сушились кружевные чепчики; полки были забиты свертками с выстиранным бельем; на столе возле печи остывали до нужной температуры чугунные утюги. Гладильщицы, взопревшие, красные от жара, трудились не покладая рук среди хаоса щеток, ушатов с горячей и холодной водой и мисок с крахмалом.
Наполнив корзину, Роза засеменила к улице Сен-Луи-ан-л‘Иль, представлявшей собой прямую линию, вдоль которой лепились тесные лавчонки со ступеньками. У многих ремесленников — сапожников, рамочников, слесарей, краснодеревщиков, — не было даже такого угла, они раскладывали товар прямо на земле в конце темных закоулков, где на их присутствие указывала лишь скромная вывеска. Торговец рыбой мыл свой прилавок, щедро поливая его водой. На углу улицы Ле Регратье владелец кабака проветривал прокуренное заведение. Другие торговцы — кондитер, антиквар, флорист — откроют свои ставни лишь к полудню. Из булочной же доносился запах свежего хлеба, которым соблазнилась Роза Варле. Жуя слоеный пирожок с яблочной начинкой, она наклонилась к подвальному окну, чтобы поговорить со стариком в круглой шапочке и халате. Затем завернула в молочный магазин Брюна. Купив там кусок сыра, который вместе с багетом и составит ее обед, она ускорила шаг.
Взобравшись на багажник Виктора, Жозеф цеплялся за шурина, рискуя перевернуть их обоих. Он пытался делать вид, будто ему удобно, а сам боялся в любой момент грохнуться на мостовую. Но разве не прав Кэндзи, который говорит: «Если хочешь победить, ты уже близок к победе»?
[713] Каждый преодоленный метр укреплял его уверенность в себе, если так и будет продолжаться, к сумеркам он одержит самую главную свою победу — над самим собой. Что до Таша, то она как ни в чем не бывало ехала впереди, правда, постоянно оглядывалась, желая удостовериться, что Виктор едет следом.
Как только они выехали на остров Сите, подул сильный ветер. В лицо летели листья и мелкие веточки, в глаза то и дело попадали соринки, так что они с трудом преследовали прачку, которой и самой нелегко было продвигаться вперед. Наконец она прошла Новый мост и спустилась по лестнице, у подножья которой ее поглотило судно-прачечная. Виктор остановился рядом с Таша на полукруглой площадке.
— Она может пробыть там целый день. Тебе лучше вернуться, милая.
— И речи быть не может, я остаюсь!
Неподалеку остановился фиакр. Женщина, укутанная в черную накидку, спрыгнула на землю и направилась к берегу.
— Надо же! Это тетя Мишеля Форестье, я встречалась с ней в «Прокопе»! — воскликнула Таша, которая сразу насторожилась, заметив женщину, столкновения которой с Виктором она опасалась.
— Это невозможно, должно быть, ты путаешь!
Она хотела бы, чтобы это было так, однако в судно-прачечную точно вошла Фелисите Дюкрест.
— Чем она здесь занимается?
— Неужели они сообщники? Ну и дела! Голову сломаешь! — проворчал Жозеф.
Снова показалась дама в черной накидке, которая держала за запястье плачущую Розу Варле. Они поднялись к карете, и непрошенная гостья, плащ которой развевался на ветру, словно крылья огромного насекомого, почти силой затолкала в нее девушку.
Не обменявшись ни словом, ни взглядом, трое сообщников оседлали велосипеды, собираясь преследовать фиакр.
Опустив голову и сжав зубы, они выехали на левый берег, по которому промчались до порта Сен-Бернар. Пальцы Виктора окоченели, он жалел, что из-за спешки не успел надеть перчатки. Жозеф ехал позади, тоже дрожа от холода, а Таша, которая возглавляла процессию, в своих брючках до колена и коричневой саржевой куртке, уж точно сполна насладилась утренней свежестью. Ее густые рыжие волосы были собраны в тяжелый узел и прикрыты шляпкой из бирюзового бархата. Несколько локонов выбились из прически, ветер тянул и трепал их. Виктор старался сохранять дистанцию, опасаясь, что их присутствие заметят. Он нервничал.
По мере того как фиакр углублялся в квартал де ла Гар, Виктора стало одолевать нехорошее предчувствие. Это направление ему не нравилось. Убежденный, что не лучше к этому маршруту относился и Жозеф, он тем не менее ехал вдоль госпиталя Сальпетриер, затем — мимо бойни де Вильжюиф, где забивали старых и больных лошадей, пересек площадь Италии, выехал на бульвар с тем же названием. Его тревога росла… И наконец, уже нисколько не удивившись, он увидел, как фиакр повернул на улицу Корвизар и остановился перед усадьбой, куда он предпочел бы никогда больше не заходить.
Таша остановилась за углом у забора. Виктор спрятался за тележкой, полной щебня. Когда фиакр затормозил, из него показались тетка Мишеля Форестье и Роза Варле. Они пролезли в дыру в заборе. Виктор шепнул Таша, чтобы та осталась у велосипедов, и жестом указал Жозефу на заброшенный дом.
— Где они? — прошептал Жозеф, когда они тоже оказались на заброшенной территории.
— А сам как думаешь?
Колючие кусты не желали пускать незваных гостей, цепляясь за одежду. Когда, изрядно потрепанные, они выбрались из зарослей и Жозеф хотел было рвануться вперед, Виктор удержал его:
— Погоди, надо дать им время… А теперь пошли!
Они проскользнули в дом и двинулись ощупью по коридору, то и дело задевая руками паутину. Жозеф успел подумать, что пауки со всего Парижа, должно быть, решили поселиться именно в этом отвратительном здании. Внизу мерцал свет. Женский голос резко произнес:
— Конечная остановка, ласточка моя, а вот и твой дружок!
Другой женский голос, совсем юный, воскликнул:
— Ты! Но что ты здесь делаешь?!
Первый голос продолжал:
— Вот так сюрприз, а? Хорошенько повеселитесь вместе. Скоро вы расстанетесь, голубки, и не вы одни!
Прежде чем Роза смогла ответить, кружок света дрогнул и поплыл в направлении Виктора и Жозефа.
— Обратный ход! — шепнул Виктор.
Они кинулись в ближайшие заросли. Присев на корточки на скользкой почве, они различили тень, которая, повернув в двери ключ, удалилась.
— Но там ведь Таша! Она ее узнает! — закричал Виктор.
Они бросились за женщиной, но не смогли ее догнать. Когда оказались на улице, фиакр уже удалялся, а Таша зачем-то устремилась за ним. Она на секунду отпустила руль и успокаивающе махнула Виктору.
— Не расстраивайтесь, Виктор, она и сама способна свести счеты с этой гадюкой. А нам нужно освободить пленников.
Виктор пребывал в ступоре. Если Таша будет ранена — а большего бедствия он и представить себе не мог — он этого не вынесет.
Несмотря на многочисленные уроки Хельги Беккер, гонка с одного конца столицы на другой оказалась суровым испытанием для Таша. Ей было неудобно сидеть, все тело затекло, и она устала жать на педали. К тому же Таша продрогла, а ее глаза слезились от ветра и того напряжения, с которым она всматривалась в фиакр. На улице Сен-Антуан она едва не врезалась в тильбюри.
[714]
Фиакр останавливался на площади Вогезов, а затем отправился дальше, уже без своей пассажирки. Не раздумывая, Таша устремилась к дому, где жила Фелисите Дюкрест, и, спрятав велосипед за мусорными баками, взбежала на третий этаж с такой скоростью, что сердце чуть не выскочило из груди. Надавила на задвижку, открыла дверь. Когда она появилась в гостиной с зеркалами, Фелисите как раз резко обернулась. Какое-то время женщины молча разглядывали друг друга. У Таша перехватило дыхание, язык словно прилип к небу. Она следила за жестами своей противницы, которая, сжав губы и скривившись, медленно расстегивала накидку.
— Это грубо: врываться в дом к людям, которые вас не приглашали, — прошептала она.
И бросаясь на самозванку, швырнула ей в лицо свою накидку. Но Таша, ожидавшая нападения, увернулась и схватила фикус в горшке, держа его, как щит. Фелисите дернула за растение, выдрав его с корнем, и принялась хлестать им незваную гостью по ногам. Когда цветок сломался, она метнулась к камину, вооружилась кочергой и снова набросилась на Таша — та в последний момент отскочила в сторону, едва избежав удара по голове. Отбросив бесполезный горшок, она схватила мехи и что было сил дунула ими прямо в нос сопернице. Та зажмурилась от неожиданности, отшатнулась, споткнулась об оттоманку и чуть было не растянулась на полу. В ярости стукнув кочергой по полу, она ринулась на Таша, и некоторое время они метались по спальне, обитой утрехтстким бархатом.
[715] Потом они оказались в кухне у стола, заваленного грязной посудой. На блюде красовалась поджаренная баранья нога, в которую была воткнута длинная вилка с двумя зубцами.
— Милочка, напрасно вы вторглись в мою частную жизнь! Полагаете, я не заметила вас, когда вы катили за мной на этом железном монстре? Чего вы добиваетесь?
— Хочу отправить вас за решетку. В доме на улице Корвизар творятся темные делишки, которыми непременно заинтересуется правосудие.
— Правосудие! Не бросайтесь словами, смысл которых вам не ясен. Правосудие — это удел Господа, и лишь Его одного. А то, что вы называете человеческим правосудием, — завуалированное лицемерие. Но раз уж вы так жаждете справедливости, то получайте ордалию
[716] от меня.
Перед глазами Таша сверкнула молния, и она в последний миг загородилась шумовкой, подобранной в тот же момент, что и вилка, которую Фелисите в нее запустила. Противницы добрались до столовой, где они медленно ходили по кругу, не спуская друг с друга глаз. Внезапно Фелисите Дюкрест подскочила к натюрморту с вазочкой, работе Таша.
— Дрянь! Если ты не попросишь пощады, я разорву твою картину!
— Какое мне дело до этой мазни! Зато я искромсаю твою ренуаровскую лодку!
— Не смей!..
В Таша полетел стул вишневого дерева, та отпрянула, и он разбился о стену, едва не задев драгоценного Ренуара. Таша схватила одну из отломавшихся ножек, бросилась к Фелисите и огрела ее по затылку. Фелисите запнулась, сделала пару шагов, покачнулась и рухнула на
пол. Таша тут же опустилась на колени рядом и принялась щупать ее пульс. Слава богу, жива! Но чем ее связать? Жаль, конечно, резать обивку дивана уж слишком хороша эта либерти
[717] в мелкий цветочек, — но выбора нет…
Минут пятнадцать Виктор и Жозеф яростно ломились в полусгнившую дверь. Наконец им удалось ее разбить и они хотели было устремиться внутрь, как вдруг натолкнулись на следующее препятствие. Перед ними была прочная дубовая дверь, которую они с Виктором не заметили во время своего недавнего вторжения, вероятно, потому, что она не была заперта. Огромный навесной замок на внушительных железных скобах не позволял им рассчитывать легко проникнуть в подвал.
— Черт возьми, совсем новый, ни пятнышка ржавчины! Нам понадобится ножовка по металлу или кувалда! — воскликнул Жозеф.
— Может, камень подойдет? Я много узнал, читая о приемах грабителей.
— Ну тогда вам карты в руки.
Виктор подумал о Таша, надеясь, что с ней не случится ничего дурного. Как же ему хотелось, чтобы она была далеко от всего этого ужаса!
Жозеф пытался отыскать камень потяжелее. Это требовало времени. Виктор наблюдал за ним, нервно затягиваясь сигаретой.
— Поторопитесь, Жозеф.
— Готово! Сейчас увидите, что будет!
Сжав зубы, Жозеф сражался с замком, не добившись иного результата, кроме того, что ободрал пальцы. Один яростный удар стал роковым для указательного пальца на левой руке. Он аж подпрыгнул, чертыхаясь.
— Жозеф, покажите палец!
— О, как больно! Не знаю, смогу ли я в ближайшее время писать, — ответил он, со злостью глядя на невредимый замок.
— Ну, ничего страшного, небольшой ушиб, — успокоил Виктор. — Дайте, перевяжу.
Он замотал носовой платок вокруг пальца Жозефа, который морщился и ойкал, как нежная барышня.
— Вы бы иначе заговорили, будь это ваш палец! Ну и что нам теперь делать? Не можем же мы бросить здесь этих людей!
Выбивать двери противоречило принципам Виктора — от этого сильно страдали плечи. Поэтому он предпочел воспользоваться ручкой от ржавой лопаты, которую он заметил под настилом опавших листьев.
— Вот первоклассный рычаг, я сейчас надавлю, должно получиться.
— Успехов, — проворчал Жозеф, нежно прижимая к себе руку с ушибленным пальцем.
Виктор переоценил свои силы. Он то и дело прерывался, чтобы перевести дух и вытереть пот со лба. Ему пришлось сражаться три четверти часа, прежде чем замок наконец был взломан.
Повернувшись к Жозефу, который все это время просто наблюдал за ним и давал дельные советы, он любезным жестом пригласил его пройти первым.
— Почему это я? — вымолвил помощник. — Я ранен.
— Потому что вы умираете от нетерпения. С моей стороны было бы несправедливо захватить первенство в расследовании, которое было так удачно проведено благодаря вашей храбрости. Для вас, не испугавшегося среди ночи призраков и мумий, будет просто игрой освободить пленников среди бела дня!
— Там темно, хоть глаз выколи!
— Я одолжу вам спички.
Они испытали сомнительное удовольствие, снова ступив в темноту коридора, заселенного пауками. Жозеф чиркнул спичкой, пытаясь разглядеть лестницу.
— Есть здесь кто-нибудь? — прошептал он, боясь потревожить восьминогих обитателей тьмы.
— Мы здесь, внизу! Поторопитесь! Он не может пошевелиться, он связан, и этот, второй тоже! — крикнул женский голос.
— Второй? Кто это второй? Мадемуазель Роза? Это вы?
— Да, быстрее, умоляю вас, я никак не могу развязать их!
Потребовался целый коробок спичек, чтобы освободить заключенных. Наконец по влажным ступенькам поднялись четыре пошатывающихся силуэта во главе с Жозефом.
— Архангел! — воскликнул тот, разглядев наконец спутника Розы. — Это ведь вы насвистывали «Легенду о Святом Николае» ночью в субботу, девятнадцатого, в верхней части дома?
Но тот, хоть и смотрел на своего собеседника, казалось, не слышал его. Виктор, правда, уже утратил к нему интерес, с изумлением глядя на третьего узника, бледного человека, с лицом, покрытым отросшей за несколько дней бородой, в порванной военной форме, болтающейся на исхудавшем теле.
— Альфонс! И в каком состоянии! С ума сойти, что вы делали в этом подземелье, зачем эта чокнутая заперла вас там? Кстати, имя Бренголо ни о чем вам не говорит?
Роза Варле, прижавшись к Архангелу, направила указательный палец на заросли, как будто прицелилась из невидимого револьвера. Вытянув шею, Жозеф старался рассмотреть то, на что она указывала. Виктор бросился туда и исчез в орешнике.
Когда Жозеф добежал до шурина, тот уже ухватил какого-то крепкого парня, и оба катались в грязи у водоема. Рукопашная сопровождалась хриплыми восклицаниями. Едва один одерживал верх, как противник валил его на землю, пытаясь окунуть его голову в черную воду. Но прежде чем Жозеф подбежал к Виктору, раздался длинный свисток, и почти сразу два жандарма и капрал подъехали к водоему на велосипедах вместе с молодой рыжеволосой женщиной. Жандармы схватили обоих мужчин и развели их в стороны.
— Кто из них злоумышленник? — крикнул капрал.
— Вот этот здоровяк, — ответила Таша, спрыгивая с велосипеда. — Бог мой, да это же… Мишель Форестье!
— Форестье? Не может быть! — возразил Жозеф. — Он там!
Он показал на Архангела, который, в сопровождении Розы Варле и Альфонса Баллю, присутствовал при поимке.
— Вы ошибаетесь, мсье, я — Пьер Марселен, работник Мишеля.
— Но тогда… Виктор, мы олухи! — закричал Жозеф.
— Уж точно! Я не буду это оспаривать, — согласился ироничный голос.
Все повернулись к элегантному японцу в голубом галстуке-банте, опиравшемуся на трость с нефритовым набалдашником в форме лошадиной головы.
— Кэндзи! А вы-то как узнали?.. — прошептал Виктор, вытирая лицо, залепленное грязью.
— Айрис почувствовала неладное. Она рассказала все Таша, позвонившей ей из комиссариата. Я был у вас, дорогой зять, навещая внучку, и предложил помочь своей дочери, которая, как вы помните, скоро подарит вам нового наследника, если только подобные волнения не скажутся на ее здоровье.
Воспользовавшись общей растерянностью, Мишель Форестье ударил одного из жандармов кулаком в подбородок и, наградив тумаком другого, чуть не свалил его. Но тут Альфонс Баллю, с внезапным приливом ярости, набросился на преступника и удушил бы его, если бы не вмешался капрал.
— Дамы и господа! Я прошу вас успокоиться и направиться за нами в полицию.
— Мне не дает покоя одна деталь, — шепнул Жозеф Виктору. — Как велосипеды могли оказаться в парке?
— Через калитку, замок на которой распилили жандармы, — лениво ответил тот.
У него раскалывалась голова и очень болела спина.
— Мсье Легри, я очень огорчен тем, что вы так скверно сотрудничали с нами. А ведь я предоставил вам полную свободу…
— Свободу под надзором, инспектор Вальми, — возразил Виктор, упорно изучая коричневые прямоугольники на бежевых обоях.
— Я думал, вы излечились от этого странного недуга, о котором предупреждал мой предшественник, и перестали наступать на пятки полиции… Что было бы, если бы не ваша отчаянная супруга?
— Мы с шурином обезвредили бы Форестье.
— Вы, однако, никудышные боксеры. Ладно, полагаю, несмотря ни на что я должен быть вам признателен. Вы помогли распутать преступление, в котором еще многое нужно прояснить. Однако не стану вас благодарить, поскольку ваше вмешательство могло повлечь за собой тяжкие последствия. Поэтому довольствуюсь тем, что пожму вам руку. Предупреждаю, нам придется часто встречаться на протяжении ближайших недель. Велите своим друзьям оставить адреса и разойтись по домам, я буду записывать их показания, начиная с понедельника.
На этой угрожающей ноте Виктор поспешил распрощаться с инспектором. Едва он вышел, инспектор принялся тереть пальцы над раковиной с заляпанным мыльными пятнами зеркалом. Виктору Легри предстоят трудные времена, его так замучают допросами, что вряд ли он скоро захочет снова поиграть в сыщика. Эта мысль была так заманчива, что инспектор мыл руки дольше, чем необходимо, прежде чем вытер их и надел перчатки.
В тускло освещенном коридоре Виктор присоединился к своим приятелям, сидевшим в ряд на скамейке.
— Любопытство вынуждает меня узнать причины, по которым Мишель Форестье и… как зовут эту женщину, которую ты засадила за решетку, дорогая?
— Фелисите Дюкрест.
— Спасибо… и Фелисите Дюкрест заперли вас в подвале, мсье Архангел.
— Пьер Марселен. Я подозревал, что Мишель занимается какими-то махинациями. Однажды вечером я пошел за ним следом в дом на улице Корвизар и увидел, как он перетаскивает мешки и закапывает их в зарослях. Он не заметил меня, но когда я вышел, он меня выследил.
— Вы можете предположить, что находилось в этих мешках?
— Гипс, тяжелый, как бетон. Я пораскинул мозгами и решил, что ошибся. В чем же смысл всей этой истории?
— Это ясно как день, — ответил Жозеф. Всю подноготную этого темного дела можно было бы описать в нескольких словах: крохотная книжечка, рыба, повешение, незаконная торговля мумиями, формула духов…
— Избавим их от этой головоломки. После столь тяжелого дня нам всем лучше отдохнуть. Инспектор разрешает нам разойтись по домам, — сказал Виктор.
— Поблагодарим его за это, — заметил Кэндзи. — Жозеф наверняка торопится к жене, а вы, Виктор, должны предупредить мадам Баллю, что ее кузен жив и находится в больнице. Дорогая, позвольте проводить вас в экипаже до улицы Фонтен! Я попрошу кучера погрузить ваш велосипед.
Он галантно подал руку Таша. Затем ушли Роза и Пьер, она — энергичная и радостная, он — покорный и подавленный. Виктор и Жозеф, замыкавшие процессию, были рады, что положили конец деятельности двух преступников, и в то же время удручены тем, что предстояло еще столько объяснений как с близкими, так и с полицией.
— Ничего, мы и не такое пережили, — беззаботным тоном произнес Жозеф.
Виктор был ему признателен за оптимизм и немедля пригласил выпить анисовой водки в «Ноктамбуле» на улице Шампольон.
— А Айрис? А мадам Баллю… а Таша? Они ведь будут переживать, разве нет?
— «Я страдал, когда у меня не было обуви. И перестал страдать, увидев человека без ног».
— Это Кэндзи придумал эту тарабарщину?
— Нет, Жозеф, Конфуций.
Глава двадцать первая
28 сентября
Виктор толкнул дверь кабинета инспектора, стараясь изобразить на лице непринужденную улыбку. Комнату освещала газовая лампа, придающая ей вид монашеской кельи. В шкафу у стены лежали пыльные стопки личных дел. Инспектор Вальми, склонившись над раковиной, стоял спиной к посетителю. Он не спеша вытер руки и, не произнеся ни слова, показал ему, куда сесть. Виктор рухнул в единственное кресло, которое издало дикий скрежет. Инспектор Вальми скривился, затем сел напротив.
— Вы задали мне трудную задачу, мсье Легри. Вы, кажется, мечтаете упразднить полицию как ненужный орган?..
— Что вы, инспектор, я всего лишь любитель. Есть задачи, с которыми я не справился. Я знал, что мсье Маню пропал, но понятия не имел, что его убили. Вы нашли тело?
Огюстен Вальми спрашивал себя, почему этот книготорговец с такой поспешностью задал ему этот вопрос. И решил не отвечать.
— Все вы одинаковы, — медленно произнес он. — Вы сеете путаницу, вводите всех в заблуждение и считаете при этом, что вас должны чествовать как великого сыщика — раскатать перед вами ковер и приветствовать бурными аплодисментами. А еще вы самозабвенно запутываете следы.
— У меня нет причин хвастать этим, инспектор, я уважаю ваши методы расследования.
— Ну, уж это ложь, мсье Легри, хотя и приятная.
— Я говорю это совершенно искренне и с огромным уважением, поверьте.
— Очень любезно с вашей стороны. Кроме шуток, у меня есть основания обвинить вас в том, что вы чинили препятствия следствию.
— Да, но вы этого не сделаете.
— Почему же?
— У нас с вами общая черта: мы терпеть не можем административную волокиту, и потом, официально, это вы таскаете каштаны из огня. Я с самого начала не сомневался в вашей проницательности, вы единственный сразу поняли, что мадам Пийот убили.
Огюстен Вальми сосредоточенно рассматривал чернильницу. Потом кивнул.
— Это неудивительно, — сказал он с достоинством. — Профессию полицейского невозможно освоить, это то, к чему ты предрасположен с младых ногтей.
Казалось, он вот-вот скажет еще что-то, так как было похоже, что эта фраза приоткрыла дверь, за которой таился сонм воспоминаний, но инспектор подавил свой порыв.
— Мсье Легри, мы ведь с вами прекрасно понимаем друг друга. Я полагаю, вы хотите удовлетворить свое любопытство… Оба подсудимых решились на признание. Они не испытывают ни угрызений совести, ни чувства вины, особенно дама, Фелисите Дюкрест. Она утверждает, что никоим образом не участвовала в убийствах. На самом деле она была мозгом, а ее племянник и пособник — лишь исполнителем.
— Мишель Форестье ее племянник?
Инспектор Вальми соблаговолил улыбнуться.
— Вы принимаете меня за идиота, мсье Легри? Вы же читали прессу. Между нами говоря, журналисты обнародуют лишь ту информацию, которую мы им предоставляем! — Он посмотрел на часы. — Посвятить вас в подробности до или после обеда, которым вы меня угостите? — спросил он.
— Сначала обед! — встрепенулся Виктор. — Что вы скажете насчет «Фуайо»?
— Бедняжка Пулэ, разве это не ужасно? Посмотрите на него, мадам Пиньо, у него даже не осталось сил поднять ложку, я сама его кормлю! Ах, мерзавцы! Попадись они мне…
— Да, вид у него изможденный. Ему бы сейчас добрый кусок зайчатины под соусом и бокал бордо, это сразу придало бы сил.
— Что вы такое говорите! Доктор Рейно прописал ему куриную лапшу. Если Альфонс перегрузит желудок после голодовки пряной пищей, он может умереть!
— Заметьте, Мишлен, во всем нужно уметь видеть нечто позитивное. Его уволили из армии, назначив неплохую пенсию, и он теперь сможет вам помогать. Да и домовладелец не сможет вас выгнать.
— Ну, это уж на его совести. А пока Альфонс занял мою кровать. У вас есть газета?
— Я вам сейчас почитаю, идите же на кухню, не надо, чтобы он это слышал, а то у него волосы встанут дыбом.
На кухне они расселись, и Эфросинья взяла очки.
— Изначально было два сообщника, авантюристка Фелисите Дюкрест и скульптор, который изготавливает статуи святых, — Мишель Форестье.
— Не рассказывайте, читайте.
— Итак, слушайте:
Фелисите Дюкрест родилась в Журсаке департамента Канталь, в 1869 году. В возрасте восемнадцати лет она приехала в Париж и нашла место продавщицы в магазине одежды и колониальных товаров. В 1889 году она вышла замуж за англичанина, Хьюга Стивенса, служащего в бюро путешествий «Кук» в Луксоре…
— Где находится этот Луксор?
— Перестаньте меня перебивать! Извольте слушать дальше.
…Луксоре, деревне, расположенной напротив некрополя в Фивах, бывшей резиденции фараонов. Пара переезжает в Египет, где Хью Стивенс водит туристов на экскурсии. Улицы Луксора переполнены приезжими европейцами, египтологами-любителями и официальными экспедициями, ведущими раскопки. Они приезжают, чтобы посетить гробницы западного берега Нила и пощекотать нервы, разглядывая мумии.
— Какой ужас! — воскликнула Мишлен Баллю. — Вот в кого они хотели превратить единственного родного мне человека — в мумию!
— Да ведь он жив! Успокойтесь, Мишлен, не то перестану читать. Послушайте-ка, нам надо выпить портвейна, так будет легче слушать о злодеяниях, совершенных этими негодяями. Сидите, я налью.
Две женщины чокнулись и с удовольствием пригубили крепкий напиток. Эфросинья продолжила:
Хью Стивенс подрабатывает, осуществляя незаконную торговлю. Его доходы растут, а с ними усиливается и его археологическая лихорадка, ибо для европейцев мумия или один из ее фрагментов являются лучшим сувениром, привезенным из Египта. Тем более что это приобретение окутано тайной, поскольку все знают, что торговля египетским антиквариатом, в частности, мумиями, незаконна. Спрос настолько высок, что предприимчивые египтяне организуют подпольные фабрики человеческих и животных мумий, превращая свежие трупы в мумии, которым можно дать тысячу лет.
— Иисус-Мария-Иосиф! Нужно быть чокнутым, чтобы коллекционировать такую дрянь! — воскликнула Эфросинья, наполняя пустые стаканы. — И эта мерзость приносит доход?
— Ну да, здесь так и написано:
С 1890 до 1892 года пара обогащается, тайно сбывая с рук свои находки коллекционерам и торговцам. В Париже их принимает Мишель Форестье, скульптор, племянник Фелисите. Мишель Форестье находит заброшенное здание в квартале Бют-о-Кай. Именно в этом доме, окруженном парком, он складирует товар, который перевозят на барже. Поэтому он обустроил свою скульптурную мастерскую поблизости, на улице Мишаль.
В конце 1892 года Хью Стивенс умирает. Фелисите вновь берет свою девичью фамилию и возвращается во Францию, везя в багаже загадочный пергамент, содержание которого нам неизвестно.
— Мимина! Мимина, ты здесь? Я хочу пить!
— Мой Пулэ зовет меня! Оставьте мне газету, мадам Пиньо, я почитаю ее перед сном.
— Великолепно! — сказал Огюстен Вальми. — Изысканная кухня, столь же изысканная, как и замыслы мадам Фелисите Дюкрест. Она богата. Она сняла квартиру на площади Вогезов и могла бы жить на свои ежегодные доходы, но ей этого мало. Благодаря формуле, записанной на пергаменте, который был куплен в лавке Луксора, она могла попасть в высший свет. Вы хотели узнать мотив, месье Легри, так вот он!
Он порылся в кармане, вытащил из него листок и прочитал:
— «Ладан и мирра использовались в Египте во времена фараонов. Египтяне не могли устоять перед чарами этого аромата. Они пропитывали ими бинты, в которые заворачивали умерших для путешествия в вечность, они применяли их для всех актов религиозной и общественной жизни. В Александрии был свой квартал парфюмеров и свои фабрики духов…» Пентаур — египетское имя. Это Пентаур создал духи!
Уткнувшись в шоколадное суфле, Виктор разыграл наивность.
— Мадам Дюкрест хотела выпустить в продажу новые духи? Ей это удалось?
— И да и нет. Эта женщина вынашивала план, который не могла одна осуществить. Она посвятила в тайну своего племянника Мишеля. Торговля мумиями не давала большого дохода. В январе Мишель принял последний груз в порту Сен-Николя. За несколько месяцев до этого Фелисите Дюкрест сняла комнату в Шарантоне под именем Жинетт Мерсье, и ей удалось устроиться старшим мастером на парфюмерную фабрику. Для того чтобы преуспеть, двум сообщникам нужен был высококлассный химик. Фелисите Дюкрест хотела нанять «нос». Мишель Форестье должен был оборудовать лабораторию в одном из подвалов дома в Бют-о-Кай. В начале 1896 года Фелисите обнаружила редкую жемчужину. Речь идет о химике сорока шести лет, Бенуа Маню, холостяке, работавшей более тридцати лет на той же парфюмерной фабрике, что и она. Она намеренно испортила партию «Вечной женственности», духов, которые уже разошлись по самым роскошным магазинам. Покупатель, открыв флакон, чуял несусветную вонь! Это происшествие нанесло по фабрике сильнейший удар. Ответственность за случившееся была возложена на Бенуа Маню. Чтобы избежать скандала, его отправили на пенсию. Тогда Фелисите Дюкрест, она же Жинетт Мерсье, сделала ему заманчивое предложение. За серьезное вознаграждение он должен был изготовить духи по обнаруженной ею формуле. Он согласился, как, впрочем и на то, чтобы без предупреждения покинуть свое жилище и устроиться в заброшенном здании. Только Маню был недоверчив. Он записал формулу на клочках бумажки, сшил их и спрятал под стелькой ботинка. Он не знал, что сообщники намеревались убить его, а труп запрятать в статую.
— Как это?
— Обычно тело модели смазывают оливковым маслом, затем наносят на нее гипс и ждут, пока он высохнет. Потом модель извлекают из получившейся формы, а в образовавшуюся полость заливают другую порцию гипса, который, затвердев, превращается в почти готовую статую. Бедняга Маню испытал эту методику на себе, но не имел счастья быть вынутым из формы, а следовательно, умер. Ради шутки и чтобы скрыть его лицо, Мишель Форестье приделал ему голову египетского бога. Но убийцы совершили ошибку: они сочли излишним раздеть труп и установили его на возвышении, среди водоема. Торнадо нарушил их планы. Псевдостатуя разбилась, карп проглотил мини-блокнот с формулой и…
— Я знаю продолжение, — прошептал Виктор, с отвращением отодвинув от себя десерт. — Но как Фелисите Дюкрест и Мишель Форестье добрались до Александрины Пийот и почему они посадили в заточение капитана Баллю?.. Кстати, хотите кофе?
— С удовольствием. Мне нравится этот ресторан, здесь можно встретить интересных личностей. Человек с седыми бакенбардами — это случайно не председатель суда Фердинан Ламастр?
— Да, он столуется здесь. Рюмочку коньяка?
— Охотно. Вы не знаете того, мсье Легри, что Пьер Марселей по прозвищу Архангел присутствовал при обмене карпа в «Уютной каморке» и без всяких задних мыслей рассказал о происшедшем Мишелю Форестье, своему хозяину. Тот немедля позвонил своей сообщнице, которая решила действовать. На следующий же день она отправилась к Александрине Пийот. Никто не должен был знать, что записано в этом мини-блокноте…
— Вы мне не… Как же вы все-таки опознали тело мсье Маню?
Огюстен Вальми посмотрел на свои руки, прежде чем процедить сквозь зубы:
— По медали, мсье Легри, по медали, врученной этому бедняге за его верную службу. Мы обнаружили ее, вычищая бассейн. Где здесь можно помыть руки?
22 октября
— Вот это да! — воскликнул Жозеф. — Это достойно романа Жюля Лермина!
[718]
Он развернул «Пасс-парту» на прилавке и погрузился в чтение:
Вчера в суде Сены открылось заседание по делу, всколыхнувшему общественность. Мы посчитали интересным воспроизвести заявления одной из обвиняемых, мадам Фелисите Дюкрест, опрошенной господином председателем Ламастром.
— Как вам удалось обмануть мадам Пийот?
— Я пришла к ней под именем мадам Ланкур. Я ей сказала, что знаю о том, что в желудке карпа нашли книжицу, и что коллекционирую такие диковинки и хочу ее приобрести. Я сказала также, что за ценой не постою. Вы понимаете, господин председатель, для нас с Мишелем потерять блокнот было бы катастрофой, все наши усилия могли стать напрасными из-за этой канальи Бенуа Маню, который тайком переписал формулы.
— Не отходите от сути дела.
— Александрина Пийот мне поверила, и мы поднялись к ней, где ее ждал военный, любитель медалей. Она достала коробочку из шкафа. Блокнот лежал в коробке, и мы могли спокойно его рассмотреть. Я сделала мадам Пийот предложение, но она мне отказала под предлогом, что ждет экспертизы одного из своих друзей, книготорговца с улицы Сен-Пер, некоего Виктора Легри, хорошо разбирающегося в древних манускриптах. Он вскоре должен был дать ей ответ. Мадам Пийот хотела также узнать мнение присутствующего военного, капитана Альфонса Баллю из военного министерства. Он пообещал навести справки у одного человека из его окружения, служащего патентного бюро. Нужно было нейтрализовать этого свидетеля. Когда он попрощался, я подошла к нему и предложила по низкой цене медали, оставленные в наследство моим покойным мужем. Он легко поддался на обман и безропотно последовал за мной. Он буквально дрожал от нетерпения! Мы окликнули фиакр. Я рассказала ему, что переезжаю из своих владений в пригород, что у меня нет с собой ключа и мне нужно позвонить охраннику, чтобы он нам открыл. На самом деле я предупредила своего племянника, объяснила ему суть дела и попросила подождать меня на улице Корвизар. Мы посадили военного в подвал. Теперь нужно было завладеть блокнотом. Мы вернулись в Роанский двор, к мадам Пийот, прихватив с собой побрякушки, чтобы предложить ей, и веревку… Мадам Пийот была дома. Я представила ей Мишеля под именем мсье Жюие, старого приятеля. Она не хотела нас принимать, но когда Мишель показал ей принесенные на всякий случай серебряные ложки и драгоценности, она передумала. Мы согласились оставить их ей на хранение. Мне нужен был образец ее почерка.
— И вы попросили у нее расписку.
— Да, господин председатель.
— Вы ей продиктовали то, о чем заявили во время следствия:
Я, нижеподписавшаяся, Александрина Пийот, перекупщица, проживающая по адресу: Париж, Роанский двор 12, настоящим удостоверяю, что мсье Жюие, проживающий по адресу улица Ампер 1, оставил в моем жилище несколько ценных вещей, а именно: 18 (восемнадцать) серебряных ложек и 2 (два) золотых кольца.
Составлено и написано мною лично, в Париже…
— Да, именно, господин председатель.
— Так значит, ваш маневр был заранее спланирован?
— О, нет! Все произошло спонтанно.
— И что было дальше?
— Когда она подписала бумагу, Мишель, которой ушел рыться на кухню, быстро накинул ей на шею скрученное полотенце и потянул вверх. Позвонки хрустнули. Мы удостоверились, что она мертва, и подвесили ее к балке, поставив скамейку примерно в одном метре от входа, чтобы запутать следователей. Затем забрали коробку, в которой лежала книжечка, и, на основе текста, продиктованного мадам Пийот, я составила завещание, достойное самых великих фальсификаторов, чтобы скомпрометировать мсье Легри.
— Во время следствия вы говорили, что не принимали участия в убийстве.
— Это правда, господин председатель. Мишель действовал один. После этого… мы повесили полотенце на место и все убрали. Я вложила завещание в конверт и положила на полку. Мы ушли незамеченными. Оставалось уладить одну деталь: заставить молчать Арманду Симоне, хозяйку пансиона, где жил этот недоумок капитан Баллю. Я покопалась в не слишком блестящем прошлом этой дамы и послала ей анонимное письмо с угрозой, чтобы она держала язык за зубами.
— Зачем было держать в заключении Альфонса Баллю?
— Он видел меня у мадам Пийот, и потом, он знал чиновников в патентном бюро. Мишель принял решение избавиться от него, как и от бродяги и бандита Нестора Бельграна. И если бы не эта мерзкая буря…
— Никакой фантазии не хватит придумать такое! Как после этого прикажете книги писать? Ну, если эта гадюка, чтобы спасти свою шкуру, захочет свалить все на своего племянника, о, ей быстро найдут укорот! — проворчал Жозеф, вооружившись ножницами.
Эпилог
7 ноября
Виктор получил разрешение инспектора Вальми уехать на три дня из Франции. Короткое путешествие в Англию показалось ему действенным средством, чтобы справиться с переживаниями, связанными с расследованием дела Форестье-Дюкрест, а также с изменениями, которые вскоре должны были перевернуть его жизнь. Оказалось, что Таша носит под сердцем их ребенка! Это известие наполняло его радостью, но было и причиной мучений. Он скоро станет отцом! Он был из тех людей, которые, получив то, чего истово желали, тут же начинают думать о тяготах, связанных с этим обладанием. И лишь работа помогала ему преодолевать свои сомнения. Поэтому он решил совместить приятное с полезным, отправившись в Кэмбридж, чтобы забрать там гравюры и старинные книги — наследство недавно скончавшегося кузена матери. Ненадолго остановившись в Лондоне, он присутствовал в театре Альгамбра на площади Лейсестер на показе серии фильмов Роберта Уильяма Поля, среди которых были и фильмы братьев Люмьер. Если большинство этих произведений основывалось на современности, то некоторые, в частности, «The Soldier’s Courtship», были скетчами, где были задействованы актеры.
Вернувшись в Париж, Виктор беседовал там с Жоржем Мельесом, проникаясь к нему все большей симпатией. Тот показал ему первому свой «Замок дьявола», вызвав такой же восторг, как когда-то Кэндзи, лет тридцать назад, когда рассказывал мальчику о подвигах легендарного Сунь Укуна, царя обезьян, или сказки о драконах и принцессе Сурабае.
Сидя за кухонным столом, он нехотя ковырял вилкой салат с картошкой и салом, приготовленный Эфросиньей. Не обращая внимания на мяуканье Кисточки, он то беспокоился о Таша, которой долго не было, то задавался вопросом, как удалось Мельесу превратить летучую мышь в мессира сатану, а потом — в облако дыма.
[719] Люди, наконец, научились превращать самые экстравагантные образы в кинокадры. Этот новый вид искусства даст людям неограниченную возможность исследовать самые таинственные сферы воображаемого. И Виктор ощущал все большее желание участвовать в этом опыте.
— Слушая тебя, я теряюсь. Стать матерью — это в твоем случае благословение или кошмар? — спросила Айрис.
Таша вынудила себя улыбнуться. Как объяснить этот поток сложных эмоций, который нахлынул на нее, едва она поняла причину своих недомоганий? Через несколько месяцев она даст начало новой жизни, будет ответственна за нее и в то же время потеряет свою независимость. Но сколько счастья принесет им этот ребенок, Виктору и ей! Это будет их общая радость, они передадут ему свои знания, свой энтузиазм и, конечно, свою нежность…
— Это очень больно?
— Удовольствием назвать трудно, но даже в этих муках что-то есть. Первый крик младенца, первый контакт с тем, кто был частью тебя, а сейчас вдруг обрел отдельную жизнь… Это волшебно.
Она погладила по головке Дафнэ, которая, в обнимку со своей любимой куклой, спала, прислонившись к ее плечу.
— Но лично я бы предпочла, чтобы это счастье не накрыло меня в третий раз. Где можно достать… э-э-э… презервативы? — вздохнув, спросила Айрис.
— В фирме «Бадор». Достаточно написать заказ, и ты будешь получать их по почте. Не беспокойся, на упаковке не будет написано, что внутри. У тебя полно времени, чтобы позаботиться об этом. Ты закончила свою сказку?
— Почти.
Таша пролистала тетрадь с рассказом о коте с острова Мэн.
— Мне нравится. У меня есть несколько мыслей по поводу внешности обоих котов. Кошка будет мне моделью. Ты никогда не думала о том, чтобы опубликовать свою сказку?
Айрис сделала неопределенный жест.
— Позже, когда напишу другие. Одного писателя в семье уже достаточно! — кивнула она на «Ремингтон», на котором печатала тексты мужа.
Жозеф проклинал судьбу. Из-за отсутствия Виктора, а сегодня еще и Кэндзи, сославшегося на необходимость отдохнуть, он не мог вырваться в город, а ведь именно сегодня в Париже устраивались гулянья по поводу приезда царя.
[720]
Всегда готовая сеять раздор, Эфросинья воспользовалась этим, чтобы досадить ему.
— А ты, котик мой, ты-то когда будешь отдыхать?
Ее сын находил жалкое утешение в том, что Мели Беллак тоже сидела под домашним арестом, и на протяжении всего дня ее «Pichounela» перебивала «Легенду о Святом Николае».
«Однако такую возможность нельзя было упускать! В газетах описывают берлину,
[721] две упряжки цугом, пять колясок на восьми рессорах! Я бы поместил в роман как можно больше достоверных деталей…»
В отместку он пробормотал:
— Крикнем: Да здравствует Феликс Фор![722]
Эхо отвечает: Да здравствует царь![723]
Ему пришлось ненадолго прервать размышления, чтобы продать иллюстрированный экземпляр «Жака-фаталиста».
[724] Снова оставшись один, он стал журить себя. Разве сам он не считает себя писателем? Разве не обладает даром нагромождать интриги? И ведь у него под рукой всегда есть пресса, откуда можно почерпнуть самые неожиданные истории. Он схватил блокнот. Надо было поскорее записать слова, которые так и просились на бумагу.
Уже многие годы безобразный старик вынашивал коварный план. Одним темным зимним вечером, ударив хлыстом, он пустил лошадь галопом по самому уродливому бульвару столицы, ознаменовавшему взятие Севастополя. В вихре удушливой пыли Дьяблетто…
Жан-Пьер Верберен жалел, что позволил Люси Гремий увести его на место будущего моста Александра III, первый камень которого скоро заложит русский император. На него давила атмосфера всеобщего лихорадочного веселья, однако он не осмеливался признаться в том своей молодой подруге. Ведь они ничего не смогут рассмотреть, утонув в море рединготов, шляпок с цветочками, плачущей детворы, то и дело отвлекаясь на тычки локтями в бок. Зато поучаствуют в происходящем, а потом, в парикмахерской, хозяйкой которой она станет, Люси будет говорить при первой возможности: «Я тоже там была!».
Внезапно выпустив руку своей подруги, он по ошибке вцепился в рукав какой-то матроны, которая в бешенстве отшвырнула его к провинциалке в шейном платке, затянутом на ее шее так туго, что, казалось, она вот-вот грохнется в обморок — тем не менее девица упорно пробивалась сквозь толпу, видимо, желая вскорости похвастать перед соседями рассказом о своем приключении. Крикун со светлой бородой запел писклявым голосом:
Явились в Париж —
скажите, зачем? —
царь Николай,
императрица
и маленькая Ольга
с худосочной нянькой.
Явились в Париж —
У Жана-Пьера Верберена было чувство, что он вязнет в болоте. Почему его преследует тень покойного друга Жана Батиста Бренгара?.. Какая нелепая смерть! Но ведь любая смерть — не что иное, как нагромождение нелепостей! Монетт, Бренголо, этот мумифицированный парфюмер и тысячи, миллионы предшественников обратились в землю, которую теперь топчет толпа, танцуя вечную джигу!
«Но я ведь тоже ее топчу», — думал он с грустью.
В этот момент кто-то цепко схватил его руку.
— Лучше больше не отпускать друг друга, а то потеряемся! — весело крикнула Люси.
Он кивнул, успокаиваясь и радуясь, что она выбрала его, а не того военного, что томился в подвале. На мгновение он проникся жалостью к тощему бледному человеку, который сразу после освобождения загремел в больницу. Но он стер это воспоминание и думал только о настоящем моменте, прижимаясь к этой веселой, пышущей здоровьем девушке. И с удивлением услышал собственный голос:
— Да здравствует Россия!
— Да здравствует царь! — воскликнула эрцгерцогиня Евдоксия Максимова, высунувшись в окно на набережной Вольтера, откуда тщетно пыталась увидеть императорский кортеж.
Увы, с ней не было того, чьего присутствия она так желала. Кэндзи Мори, ее обожаемый микадо, подарил ей лишь последнюю ночь любви в квартире возле сквере Монтолон, где она жила у одной из своих подруг, балерины Ольги Вологды, которая сняла по баснословной цене комнату у дамы благородного происхождения, посещавшей книжный магазин «Эльзевир».
— Вы отдаете себе отчет, дорогая, что мы переживаем исторический момент? Со своего поражения в 1870 году Франция принимала лишь одно иностранное величество, персидского шаха! — сказала балерина, старательно грассируя.
— Да, это признание союза двух наших стран, хотя французские дипломаты и отказываются произносить слово «союзники». Я слышала, ради этого визита построили вокзал в Булонском лесу. Сегодня вокзал, а завтра, кто знает, — велодром?
Евдоксия вздохнула. То, что ее супруг эрцгерцог входит в конную гвардию Николая II, для нее имело мало значения. Даже то, что ее снимут обнаженной, не так уж ей льстило. Зачем ей все это, если ни один достойный мужчина не ищет с ней встреч?
— Эта комната, должно быть, стоила вам целого состояния!
— Всего пятьсот франков в неделю. Мелочь по сравнению с шестью тысячами, которые потребовались на роскошный салон, четыре окна которого выходит на бульвар Сен-Жермен. Мне повезло, что мы знакомы! Если бы не вы, я бы скучала здесь, вдали от родины и семьи…
— Разве ваш любовник, Амеде Розель, не владеет несколькими фотостудиями? Разве не вы будете играть в следующем году Копелию на сцене Опера?
— Ах, ничто не заменит искренней дружбы! — вздохнула Ольга Вологда.
Евдоксия знала, что Ольга была когда-то любовницей Федора. А сама она ложилась в постель с Амеде. Да, Ольга права, делиться самым ценным — основа прочной любви.
— А я-то воображала, что Олимпия всецело мне доверяет! И вот теперь…
Рафаэлла де Гувлин расхаживала по роскошному кремовому со светло-зеленым салону, где красовалась картина, написанная Таша. Болонка и шиппер цеплялись за вышитые комнатные туфли и каждый раз, когда она разворачивалась, чуть не сбивались с ног.
— Белинда, Шерубен, прекратите мне докучать! Вы уверены в том, что говорите, дорогая моя?
— Абсолютно, — ответила Матильда де Флавиньоль. — Я знаю об этом от Адальберты. Пятьсот франков в неделю за убогую мансарду на набережной Вольтера. Неужели она без гроша?
— И неужели люди — идиоты? Это увлечение Россией просто вульгарно! Нас завалили франко-русскими кремами, франко-русским голландским сыром, франко-русскими каштанами…
— Но ведь донские казаки разбили когда-то лагерь в Париже, а их лошади щипали траву на Елисейских полях, — заметила Матильда де Флавиньоль. — Мой предок…
Рафаэлла де Гувлин резким жестом ее прервала и жестом подозвала к мольберту.
— Это полотно странное… Я немного похожа на королеву Викторию, разве нет? Самое удивительное — мое пальто. По-вашему, какого оно цвета?
— Э-э-э… зеленого, я полагаю.
— А на самом деле оно желтое! Одно из двух: либо у этой Таша Легри — а она русская, заметьте — проблема с восприятием цвета, либо она намеренно выбрала цвет надежды. Жаль, ведь мне гораздо больше к лицу все то, что делает меня похожей на канарейку.
«Бьюсь об заклад, у него желтуха», — подумала Арманда Симоне, когда Альфонс Баллю в сопровождении кузины вошел в холл.
— Я уже не надеялась вас увидеть. Вы болели? — прогнусавила она.
— Да, печеночный приступ. Я и сейчас не совсем здоров. Поэтому планирую завершить свое выздоровление у Мишлен, которая поднимется за моими вещами.
— Я сейчас вернусь, Пулэ.
— Я полагаю, вы рассчитаетесь со мной? — поинтересовалась вдова.
— Разве я похож на проходимца? Получите всю сумму до сантима. Мне жаль покидать такую очаровательную хозяйку, которая с возрастом только хорошеет.
Альфонс Баллю безуспешно попытался обнять свою хозяйку, которая ускользнула от его объятий, как змея при виде скорпиона.
— О, не пытайтесь заморочить мне голову своим притворством, я слишком хорошо знаю мужчин! Вам уже недостаточно вашей цацы, разбирающейся в папильотках?
— Этой жеманницы? Она легкомысленна, пустоголова, непостоянна. Ах, уверяю вас, Арманда, нет ничего лучше зрелой женщины!
— Как вы смеете называть меня Армандой и оскорблять, говоря о моем возрасте?!
Выйдя из столовой, Адемар Фендорж поспешил на помощь к ней на помощь.
— Пристало ли говорить о вашем возрасте, когда вы еще только расцветаете?! Фи! Грубиян! Мадам, не окажете ли вы мне честь пройти со мной в мою комнату, чтобы полюбоваться моляром гиппопотама? Мсье, я вам не кланяюсь!
— Ну, что тут стряслось? — поинтересовалась Мишлен Баллю, появившаяся с двумя внушительными чемоданами в руках. — Ты был желтым, как лимон, а сейчас красен, как помидор!
Мели Беллак приготовила им сырые овощи и пирог с птицей. Поужинав, Кэндзи и Джина устроились в переоборудованной спальне.
— Пинкус отправил мне несколько писем. Он не возражает против развода, однако боится, что его будет непросто оформить, учитывая расстояние, которое нас разделяет. Это первый шаг. Я вам уже рассказывала о Дусе, подруге детства Таша? Она эмигрировала в Нью-Йорк, где Пинкус подыскал ей жилье. Она работает секретаршей у него и у его помощника.
Кэндзи стоял к ней спиной, уставившись в окно. Он был недоволен или зачарован сумерками?
— Дуся, в свою очередь, написала Таша. Она ей рассказала, что у нее был жених в России, учитель математики, который расстался с ней, когда узнал, что она еврейка. Грустная история. Моя вторая дочь, Рулея, отправила мне несколько фотографий Маркуса. Он очень красив, копия отец…
Она не спускала глаз со спины Кэндзи.
— Какое счастье, что Виктор и Таша скоро станут родителями! Правда, я сразу стану еще старее: дважды бабушка…
Кэндзи резко обернулся.
— Вы прежде всего женщина, женщина, которую я люблю! Поэтому, умоляю, прекратите навязывать мне этих младенцев! Полагаю, не получив развода вы никогда не согласитесь переехать жить сюда, со мной…
Она внимательно посмотрела на него, сгорая от смущения, желания и радости.
— Вы неправы, любовь моя! Я всегда мечтала иметь ванну.
Послесловие
В 1896 году, согласно статистике, население планеты составляло 1 миллиард 480 миллионов человек.
Борьба великих держав за раздел мира продолжалась.
Английский авантюрист, доктор Джеймсон, пересекает границу Трансвааля и пытается захватить Йоханнесбург. Отряд взят в плен бурскими войсками, самого Джеймсона заключают в тюрьму. Вот какая заметка была опубликована в «Пти журналь»:
Германский император Вильгельм II отправил поздравительную депешу господину Крюгеру, президенту Южно-Африканской республики (Трансвааль), одержавшему победу над солдатами своей бабки.[726]
В Англии распространялись слухи о неизбежном конфликте с Германией.
Итальянцы, обосновавшиеся в Эритрее и Сомали, сражались в Абиссинии с войсками негуса Менелика II
[727] и потерпели сокрушительное поражение в Адуа. Волнения, прокатившиеся по Италии, привели к отставке кабинета министров во главе с его председателем господином Криспи.
Англичанин лорд Герберт Китченер сражался против Махди,
[728] ставшего правителем Судана.
На Антильских островах уже два года воевали против Испании за свою независимость кубинцы.
Япония подписала с Россией договор о Корее, ставшей кондоминиумом, то есть совместной собственностью двух держав.
В Турции с сентября 1895-го по февраль 1896 года число жертв среди армян достигло 25 тысяч человек. По Криту прокатились кровопролитные столкновения с правительственными войсками.
Джибути стал одной из французских колоний
под названием Берег Французского Сомали.
Генерал Галлиени стал правителем Мадагаскара.
В том же году можно было прочитать в «Иллюстрасьон», что американский электрик господин Рич предложил использовать для бомбардировки городов авиаторпеду.
«Можно лишь порадоваться появлению подобных орудий, так как приближается время, когда мощность средств разрушения сделает войну невозможной».
Между тем во французской пехоте скорость передвижения уменьшилась со 127 до 120 шагов в минуту, а длина шага осталась прежней — 27 сантиметров.
«Быть любопытным, но ничем конкретно не интересоваться — вот в чем заключается работа репортера», — писал Фердинанд Брюнетьер, редактор «Ревю де дё монд», о котором так резко отзывался Верлен.
[729]
Обыватели упивались рубрикой «Происшествия», появившейся во всех газетах. В феврале, после двадцатишестилетнего перерыва, вновь был проведен парад Жирной Коровы.
[730] Фермер из Сены и Уазы с особой заботой растил странного теленка с двумя головами. Согласно полицейской статистике, в Париже насчитывалось невероятное число иностранцев — 181 тысяча человек. Но и эта «тревожная» цифра, по мнению «Пти журналь», была далека от истины: «Большое число иммигрантов из экзотических стран не заявляет о себе, так как им есть что скрывать». Замечательно практичное изобретение переворачивает повседневную жизнь французов: мухоловка, представлявшая собой вращающуюся металлическую пластинку с желобком, намазанным медом или вареньем. В конус, возвышающийся над пластинкой, попадали мухи и другие вредные насекомые. Это нововведение оказалось весьма полезным, особенно когда вдруг выяснилось, что, когда коврики вытряхивают в окно или плюют на землю, это способствует размножению микробов. Французов утешает только рекорд, установленный их соседями англичанами, у которых в мороженое, продававшееся на открытом воздухе, попадали угольная пыль, опилки, соломинки, текстильное волокно, табак, шерсть, мухи, лапки клопов и даже клопы целиком, что в сумме давало 7 миллионов микробов на один кубический сантиметр. Во Франции же в лимонаде известных фирм содержалось всего около 1 миллиона микробов на кубический сантиметр. «Монд иллюстре», в свою очередь, задавалась животрепещущим вопросом: «Следует ли среди других прав человека упомянуть право на плевок?»
Уже стали появляться первые автомобили марки «Форд», однако первенство оставалось за велосипедом, которому отдавали предпочтение даже перед серийным бензиновым автомобилем Леона Болле.
[731] Во Франции насчитывалось 160 тысяч велосипедов, более 25 тысяч из них — в одном Париже. К концу 1896 года 300 фиакров в столице были оснащены шинами фирмы «Мишлен», благодаря чему значительно уменьшился шум от колес с железным ободом. Большим достижением также было то, что на специальных станциях можно было сесть на омнибус. В январе в Вене впервые были применены в хирургии рентгеновские лучи, в то время как в Гамбурге господин Кислинг посредством тех же лучей получил изображение скелета эмбриона.
Во Франции тогда насчитывалось 38 228 969 жителей. В Париже — 2 511 955, в Алжире — 4 393 698.
11 апреля сенат отклонил проект о налоге на доход, предложенный Полем Думером, обрадовав два с половиной миллиона рантье. А 52 500 работников с января по декабрь устроили 465 забастовок.
23 мая было учреждено Министерство почты и телеграфа. В тот же день господин Пубель, изобретатель урн, был назначен послом в Ватикане.
30 мая на банкете в Сен-Манде социалисты решили создать свой блок. Адвокат Александр Мильеран представляет, за неимением лучшего, реформистскую программу. Жан Дени Бреден в издании «Аффер» вкратце ее излагает и комментирует:
«Общественная собственность должна постепенно сменить капиталистическую. Некоторые отрасли промышленности, такие, как сахарная, уже сейчас готовы к социалистическому присвоению […] Социалисты являются интернационалистами, но у них нет “кощунственной и безумной идеи” разрушить родину. Да, они — патриоты. […] Сначала нужно войти в правительство. Так французские социалисты дисциплинируют себя.»
Жан Дени Бреден делает вывод: выходит, социалисты хотят укрепить буржуазную республику!
25 марта по инициативе барона Пьера де Кубертена в Афинах проходили первые Олимпийские игры: 285 атлетов представляли 14 стран. Спиридон Луис
[732] выиграл марафон, самое популярное в Греции состязание.
В Париже все веселились. На Монмартре праздновали Вашалькаду. Королевой была худосочная «бешеная корова» из папье-маше, символизировавшая нужду и лишения, удел поэтов и живописцев. Ремесленники, художники, шансонье, иллюстраторы, юмористы добровольно принимали участие в организации праздника.
В апреле было завершено строительство моста Мирабо. Это был важный участок, соединивший широкую кольцевую артерию левого берега, берущую свое начало с моста Тольбиак.
Появились исследователи нового типа: Эжен Промио, Феликс Мегиш, Шарль Муассон, Франсис Дублие, Габриэль Вейр. Они не носили с собой измерительные инструменты, но были неразлучны со штативом и камерой, в которую входило до ста метров пленки, что обеспечивало пять минут непрерывной работы и долгие годы славы и всеобщего внимания.
В конце мая Франсис Дублие должен был снять в Москве первый новостной фильм: коронацию Николая II, милостью Божией государя всея Руси. Через несколько дней после церемонии, по старому обычаю, народ собрался, чтобы получить полагающиеся по случаю подарки. Более полумиллиона человек — кто босиком и в лохмотьях, кто в национальных костюмах, разнообразие которых весьма велико в этой огромной стране, — собрались в Москве. Неразбериха и давка были неописуемыми — и все ради того, чтобы получить кружку с памятной надписью и сласти. Народные гуляния устроили за городом, на Ходынском поле. В немецкой газете «Берлинер тагеблатт» так была описана эта драма:
В ожидании стояло множество людей ожидании. Когда к вечеру опустели фабрики и лавки, толпа еще увеличилась. Народу все прибывало. К пяти часам уже не было свободного места. Овраг перед лавками — шириной 50–60 метров — был полон людей, тесно прижатых друг к другу. Все вокруг заполнилось жалобами, криками, тяжелым дыханием. Вдруг впереди, слева произошло какое-то движение. /…/ Все длилось не более четверти часа: поле битвы в мирное время. Мужчины, женщины, старики, дети лежали в лужах крови, раздавленные, неузнаваемые.
Франсис Дублие, один из первых журналистов, снимавших репортажи, рискуя собственной жизнью, во всех подробностях запечатлел трагедию. И хотя за это его бросили в тюрьму, проявленную кленку конфисковали, а камеру, которой он снимал, вернули только через полгода, он продолжил путешествие по России, останавливаясь в городах, куда уже было проведено электричество: Севастополе, Архангельске, Тифлисе… Он проявлял негативы в подвалах гостиниц и использовал водку, чтобы пленка поскорее высыхала.
Тем временем реклама компании «Норд-экспресс» заверяла, что еженедельный поезд со спальными вагонами может преодолеть расстояние от Парижа до Москвы за 48 часов.
22 июня в Японии в результате цунами погибли 27 тысяч человек, а город Камаиси был разрушен; 12 августа во время полета на своем планере в Берлине разбился аэронавт Отто Лилиенталь.
[733]
Вот уже два года капитан Альфред Дрейфус находился в ссылке на Чертовом острове. Выдвинутое против него обвинение в шпионаже уже не занимало умы, он был почти забыт. Матье Дрейфус пытался доказать невиновность брата, но никто не хотел его слушать. Матье Дрейфус обратился к английским детективам. В апреле он отправился в Лондон, в агентство, возглавляемое господином Куком. В июле Кук приехал в Париж и рассказывает ему, что корреспондент «Дейли кроникл» во Франции Клиффорд Миллэдж убежден в невиновности Альфреда Дрейфуса и намерен опубликовать в британской и французской прессе информацию о плачевных условиях содержания осужденного.
Как привлечь внимание к человеку, которого история почти забыла? Распространяя о нем ложные слухи, полагал Клиффорд Милладж.
В начале сентября «Дейли кроникл» опубликовала материал со ссылкой на некую газету города Ньюпорта «Саус Уэльс Аргус». Матье Дрейфус рассказывал: «В заметке, автором которой был Клиффорд Миллэдж, речь шла о том, что капитан Дрейфус якобы бежал из ссылки и что эту новость сообщил ему капитан судна «Нон парей». Я убежден, что ни указанная газета, ни капитан, ни его судно никогда не существовали в действительности».
Цель была достигнута, о деле Дрейфуса вновь заговорили. Дрюмон в «Либр пароль» и Анри Рошфор в «Энтранзижан» поносили тех, кто усмотрел в нем возможность юридической ошибки. 14 сентября в газете «Эклер» из-под пера журналиста-антисемита, желавшего изобличить Альфреда Дрейфуса, вышла информация о существовании секретного дела и даже часть его содержания, известная только судьям. Откуда у него эти сведения? От друзей полковника Пикара, выступавшего с требованием пересмотреть дело Дрейфуса. В газете был опубликован этот секретный документ, в котором содержалась фраза «Эта каналья Д.». 18 сентября Люси Дрейфус обратилась в палату депутатов с просьбой о пересмотре дела ее мужа и получила отказ. А в ноябре Бернар Лазар опубликовал брошюру «Юридическая ошибка. Правда о деле Дрейфуса».
«Правда», «дело» — теперь эти слова звучали все чаще…
В 1894 году венгерский журналист Теодор Герцль, корреспондент венской газеты «Neue Freie Presse», присутствовал при разжаловании Альфреда Дрейфуса. Он слышал, как толпа вопила: «Смерть евреям!». Даже в сердце Франции, государства свободы и прав человека, со стороны крайне правых и крайне левых поднимался этот вопль ненависти, столь знакомый современной Европе!
За несколько лет до этого, в Лондоне, Герцль лицезрел чудовищную нищету, скрывавшуюся за роскошным фасадом современной цивилизации. Он почти ничего не знал о еврействе, но увлекался еврейской историей и лелеял надежду создать для своих братьев государство, где они могли бы достойно жить. 19 января 1896 года, после недель упорного труда, он закончил свою работу «Еврейское государство. Опыт современного решения еврейского вопроса», которая была опубликована в Вене 14 февраля 1896 года тиражом три тысячи экземпляров — и в том же году вышла на иврите, английском, французском, русском и румынском языках.
26 сентября департамент вероисповеданий вошел в состав Министерства юстиции, а 27 сентября на Тронной, ныне Национальной площади, был открыт «Триумф республики».
4 октября в ресторане «Жиле» в Булонском лесу чествовали трицикл де Диона,
[734] победивший в гонке «Париж-Марсель-Париж». Со средней скоростью 25 километров в час он проехал расстояние в 1800 километров за семьдесят три часа сорок шесть минут. Рене де Кейфф занял второе место на трицикле Панара и Левассора.
[735] Журналисты и энтузиасты утверждали, будто на отрезке между Версалем и Парижем он развил скорость свыше 60 километров в час!
Франция пережила метеорологически аномальный год, разбушевались ураганы и смерчи, Париж понес огромный ущерб. «Альманах Ашетт» утверждал, что прежде никогда не выпадало столько осадков. Тем не менее ничто не должно было помешать предстоящим празднествам. Через несколько дней должна была открыться «Русская неделя», с участием царя и царицы. 5 октября они высадились в Шербурге, где их встретил президент республики Феликс Фор в сопровождении членов правительства. И дожди наконец закончились.
Царская чета прибыла в Париж на собственном поезде из Санкт-Петербурга на вокзал Ранелаг. В течение нескольких дней перед их приездом в столице орудовал целый полк уборщиков. «Пти журналь» заключал: «Благодаря этому мы наконец осознали, в какой грязи нас вынуждают жить наши драгоценные власти».
Этот визит вызвал у французов воодушевление. Царю было двадцать восемь лет, он был невысок, коренаст, голубоглаз и нравился женщинам. Кортеж из парадных карет, три берлины, две упряжки цугом и пять колясок на восьми рессорах проехали через город. По всему Парижу были установлены декоративные мачты. Настоящий марафон: Версаль, Елисейский дворец, Монетный двор, Нотр-Дам, Пантеон, Дворец Правосудия, пять минут в Святой Капелле, Институт, Дом Инвалидов и наконец апофеоз: закладка первого камня будущего моста Александра III, строительство которого должны были завершить к Всемирной выставке 1900 года.
Поют гимн России и «Марсельезу». Хор детей Лютеции выводит «Бессмертную славу наших предков». Затем Поль Муне из Комеди Франсез выходит вперед и дрожащим голосом декламирует стихи, написанные для этого случая Жозе Мариа де Эредиа:
Поэты и Цари беседуют на «ты».
Я — от своей страны — сегодня не премину
воздать почет Царю, блистательному Сыну
достойного Отца, и поднести цветы.
[736]
После семидневного визита Николай II покинул Францию. Император не присутствовал на премьере кинематографического показа первого настоящего фильма с актерами, снятого Жоржем Мельесом.
Отказ Антуана Люмьера продать ему камеру-проектор разжег желание Мельеса во что бы то ни стало приобрести аппарат такого типа. В январе 1896 года он отправился в Лондон, где встретился с Робертом Уильямом Полем, создателем аниматографа.
[737] Он купил такой аппарат за тысячу франков. Вернувшись в Париж, с помощью своего ассистента Люсьена Релоса и инженера Корстена, после многочисленных проб, он собрал свою первую камеру, названную кинетографом. Мельес сам пробивал в темной комнате, при свете красной лампы, мотки пленки, стуча по шилу молотком. Он разрезал пленку ножницами и вручную наматывал на двадцатиметровую кассету, что позволяло вести съемку в течение одной минуты. Для того чтобы привлечь аудиторию Мельес прикрепил экран к одному зданию на Монмартре, у театра Варьете. Он показывал там каждый вечер короткие рекламные фильмы, нахваливавшие детское питание «Фальер», шоколад «Менье», горчицу «Борнибю», и это привлекало толпы зрителей. В своем поместье Монтрей-су-Буа он готовится создать первую кинематографическую студию в мире. В октябре он занялся полнометражным фильмом в 60 метров. «Замок дьявола» стал его первым фильмом, снятым по специально написанному сценарию, в котором он не только запечатлел свою вторую супругу Жанну д’Альси, но и воплотил на экране фантастический образ дьявола, но не злобного духа, а скорее лукавого Мефистофеля.
В том же году писатель Анатоль Франс стал членом Французской академии. Поставленная в театре «Эвр» драма Альфреда Жарри
[738] «Король Убю» вызвала грандиозный скандал. Сара Бернар в это же время была занята в «Лорензаччо» Альфреда де Мюссе.
[739]
Пьер Боннар написал картину «Партия в карты», Поль Сезанн — полотно «Курильщик», Одилон Редон — «Сновидения», Огюст Ренуар — «Семья художника». Пабло Пикассо в Испании создал картину «Нищий».
Поль Валери опубликовал «Вечер с господином Тэстом», Анри Бергсон — труд «Материя и память», Жюль Ренар — «Естественные истории», Марсель Пруст — «Удовольствия и сожаления», Реми Гонкур — первую «Книгу масок». В книжных магазинах появился «Рим» Эмиля Золя.
В Бельгии Эмиль Верхарн закончил сборник «Ранние часы», а Морис Метерлинк — «Сокровище смиренных», в то время как в Италии вышли «Девы утесов» Габриэле д’Аннунцио, а в России — «Чайка» Антона Чехова. В Англии Герберт Джордж Уэллс, один из первых писателей-фантастов, поразил своих читателей «Островом доктора Моро».
В «Опера комик» в Париже можно было насладиться музыкальной драмой Кристофа Виллибальда Глюка «Орфей». Камиль Сен-Санс только что закончил «Концерт для фортепиано с оркестром № 5 Фа мажор», Густав Малер — «Симфонию № 3», Джакомо Пуччини — «Богему». Рихард Штраус, под впечатлением от одноименного произведения Фридриха Ницше, создал симфоническую поэму «Так говорил Заратустра».
В январе 1896-го умер Поль Верлен и был похоронен на Батиньольском кладбище. В мае во Франкфурте ушла из жизни Клара Шуман, а в июле в США — Гарриет Бичер-Стоу, известная американская романистка, чье произведение «Хижина дяди Тома», написанное в поддержку освобождения темнокожих рабов, имело неслыханный отклик, было продано более чем миллионом экземпляров и переведено на множество языков. В октябре в Вене скончался композитор Антон Брукнер.
В этом же году родились писатели Джон Дос Пассос, Андре Бретон, Тристан Тцара, Антонен Арто, Эльза Триоле, Фрэнсис Скотт Фицджеральд, кинорежиссер Говард Хоукс, актеры Жан Тисье и Дениз Грей, как и миллионы других людей, для истории оставшихся неизвестными… И свое восемнадцатилетие они отметили в 1914-м, в год начала Первой мировой войны.
Клод Изнер
«Маленький человек из Опера де Пари»
Моей сестре
Раз и два — пляшет Смерть,
Пяткою стучит в плиту: тук, тук, тук.
Завлекает в круговерть,
В замогильный хоровод: топ, топ, топ.
Из стихотворения Анри Казалиса, на сюжет которого Камиль Сен-Санс написал симфоническую поэму «Пляска смерти»
ПРОЛОГ
Читальня ютилась на пересечении тупика и узкой улочки, облюбованной торговцами ломом. Приземистое сероватое здание стояло бок о бок с общественной уборной; стеклянный фонарь, привинченный к стене, истекал тусклым светом, и желтые отблески ложились на вывеску у входа:
МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
Часы работы: с 14.00 до 19.00
Книга в полусафьяновом переплете жила на самой нижней полке, между «Евангелиями» Ламенне и «Христианским бракосочетанием» монсеньора Дюпанлу. Никто никогда в нее не заглядывал. Она оказалась здесь, проделав долгий извилистый путь с макушки шифоньера, пылившегося в лавке старьевщика, и томилась в забвении уже пять лет.
Середину читального зала занимал длинный стол, окруженный скамейками. В шкафах теснились тома — толстые и тощие, разновеликие, в обложках и переплетах всех мастей. В углу прихожей громоздилась, отливая синевой, печка. Резко пахло опилками. И ни звука — лишь шелестели газетные листы.
Библиотекарь в шапочке и очках, сгорбившись за конторкой на возвышении в глубине зала, переписывал каталожные карточки. Порой он отрывался от этого занятия, вскидывал подбородок и, покачивая пером в воздухе, озирал читателей, уткнувшихся в раскрытые книги и периодику.
Скрипнула дверь — вошла местная матрона, принялась выкладывать из корзины на конторку один за другим бульварные романы по двадцать су. Дождавшись своей очереди, мужчина в свитере извлек из сумки первый том «Людских тайн».
[740] Библиотекарь отметил возвраты и, поплотнее укутавшись в плед, спустился в зал по лесенке из двух ступенек.
Книга в полусафьяновом переплете называлась «Пляски смерти в средневековой Франции», и только что ее выдернули из убежища. Чья-то рука перелистала страницы, голова склонилась над гравюрой с подписью:
Ребра — скрипичные струны, остов заместо смычка. Смерть пляшет, вовлекая в хоровод усопших всех возрастов и сословий: пап, королей, сервов, богачей и нищих, мужчин и женщин, стариков и детей.
— Вот оно! Именно так! — зашевелились чьи-то губы в едва различимом шепоте. — Эта аллегория — воплощение твоих упований. Все думают, что роль старухи с косой, вершащей жатву средь рода людского, тебе не по силам… Прими вызов! Накинь плащ с капюшоном, веди смертных за собой в адское пламя! Кто заподозрит в тебе инфернальный дар? Злокозненные комбинации, гибельные ловушки — и тебя-то охватывают сомнения, справишься ли, сумеешь достичь своей цели, ведь ты — ничтожество…
Библиотекарь тем временем прибавил пламени в газовых светильниках и пошел подкормить печку поленьями…
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Четверг, 11 марта 1897 года
С течением лет Париж не переставал расти, расползался предместьями, извергая на обочины все, что ему мешало. Там в беспорядке копились меблирашки, притоны, трущобы; там, задушенные железнодорожными узлами и насыпями укреплений, бились в агонии фермерские хозяйства. Улица Шарантон являла собой наглядный пример этих постоянных приступов кашля, освобождавших городские легкие от мокроты. На улице Шарантон так образовался целый реестр гостиниц с дурной славой, лавчонок, торгующих прогорклой парфюмерией, караван-сараев и «дансингов», где танцы за два су служили лишь прелюдией к более чувственным забавам. Попасть на улицу Шарантон можно было через Венсенский лес, одолев траншеи — вотчину военных оркестров, репетировавших каждую субботу, — а затем две железные дороги: окружную и ту, что соединяет Париж, Лион и Марсель. Еще надобно было взобраться на откос, заваленный мусором, обгоревшими шпалами и старыми вагонами, с которых давно пообдирали доски, — таким случайному путнику открывался рай для окрестной босоты, клошаров и бродячих собак. А на другой стороне у подножия склона случайный путник мог заметить ярмарочный фургон, приспособленный кем-то под жилье.
Ночь лежала трауром на пустырях в этом сомнительном уголке парижских окраин, скрывала дымный горизонт, к которому убегали железнодорожные пути. Между погостом и мануфактурой, производившей сигареты из гаванского табака, под замшелой крышей, поросшей сорняками, скрючился домишко, издалека — точь-в-точь дикобраз. Старенький и неказистый, он, однако, еще отважно противостоял ветрам и болотам. Рассохшаяся дверь вела прямиком в кухню. Окно с потрескавшимися стеклами глядело на тропинку, а та уползала в заросли обнесенного стеной запущенного сада, дождливыми днями, превращаясь в трясину. Соседи в насмешку прозвали эти угодья «Островок сокровищ».
Хозяйке домика и сада, Сюзанне Арбуа, давно перевалило за шестьдесят. Маленькая и коренастая; лицо в сетке морщин, старуха напоминала пивную кружку. Она зажгла керосинку, похлебала суп и наполнила кошачьи миски — у нее на довольствии был целый выводок, кормившийся отбросами, которые Сюзанне поставляли окрестные торговки. Пушистая банда обреталась в саду вокруг колодца и ночевала в клетях, служивших в лучшие времена приютом для кроликов.
Когда-то у старухи были друзья и родные, но теперь ей и по имени-то некого было окликнуть — война, нищета, преклонный возраст обрекли ее на одиночество. Никого, кроме кошек, рядом не осталось.
— Сюзанна, милочка моя, какая ж ты бездельница! Вот ведь лентяйка, ну-ка за работу! У тебя дел невпроворот, давай-ка покажи, на что ты способна.
Старуха пристрастилась вести беседы с Господином Дюверзьё, котом. Он внимательно слушал, глядя на кормилицу изумрудно-зелеными глазами, а она подавала реплики и за себя, и за него. Это ее вдохновляло не хуже, чем рюмочка персикового ликера, которым Сюзанна угощалась, прежде чем взяться за стряпню. Вот и сейчас она вперевалочку заковыляла от печки к буфету, набитому всякой всячиной — безделушками, искусственными цветами, и украшенному пожелтевшим портретом девочки в платье для первого причастия.
— Беда нынче с приработком, всё труднее приходится. Кто ж меня, седую-старую, на фабрике-то держать будет? Повезло еще, что я получала вспомоществование от того любезного господина, хотелось бы мне знать, кто он. Но кто бы он ни был, а за десять лет ни разу про меня не забыл, денежные переводы поступали исправно. «На образование для вашей крошки» — так он мне писал. А что ж, я отказываться стану? Я и сама не желала, чтобы моя дочурка выросла дворничихой или на табачную фабрику пошла. Уж я-то знаю, что это такое, когда с утра до ночи спички по коробкам раскладываешь: в конце концов без легких останешься, сера тебя прикончит. Только теперь вот мне одной-одинешеньке выкручиваться надобно. Девочка моя выросла давным-давно, нашла себе местечко под солнцем, а ко мне дай бог два раза в год наведается, и на том спасибо. Чего уж, в жизни главное — терпеть научиться, а там уж и страдать не так тяжело будет, верно ведь, Господин Дюверзьё?
Примерно в это время к домику-дикобразу подходила Сюзаннина соседка Полина Драпье, обитательница ярмарочного фургона. Десятью минутами раньше Полина спохватилась, что на омлет ей недостает ровно трех яиц, накинула жакет и, бросив жилище на попечение двух мальчуганов, своих учеников, которых она оставила заночевать после уроков чистописания и счета, побежала к мадам Арбуа. Мальчики жили на улице Дюранс, отправлять их домой в столь поздний час было опасно, да и родители их, супруги Селестен, были к Полине добры и платили ей щедро — уж очень им хотелось дать отпрыскам хорошее образование, чтобы Альфреда и Людо минула скорбная семейная доля бродячих циркачей.
Полина Драпье подняла уже руку, собираясь постучать в дверь, — и опустила. В доме у мадам Арбуа кто-то был… Мужчина? Или женщина?
Через расколотые стекла отчетливо доносился голос хозяйки:
— Раненько вы заявились, не готово у меня еще, вот завернуть осталось. Присядьте пока. Выпьете чего-нибудь?
Ответа не последовало, и мадам Арбуа продолжила:
— Вы ведь мне дюжину заказали, верно? По одному су за каждую. Корзинку-то принесли? — Она подошла к раковине.
Заскрипел стул. Уродливая тень скользнула по потолку, две руки схватили старуху сзади за шею, и пальцы начали сжиматься, сжиматься…
Мадам Арбуа кулем осела на пол.
Все произошло так быстро и в такой страшной тишине, что Полина не сразу сумела осознать случившееся у нее на глазах. Она пошатнулась и ухватилась за стену из крошащегося песчаника, дырчатую, как губка. Посыпались мелкие осколки камня.
— Ой, — прошептала девушка. — Ой-ёй-ёй. — И, перепугавшись, что выдала свое присутствие, метнулась в колючие кусты, растянулась на земле, лихорадочно прислушиваясь. Но в ушах отдавались лишь стук зубов и прерывистое дыхание — ее собственное.
Полина медленно сосчитала до пятидесяти. Надо рискнуть во что бы то ни стало! Один шанс из десяти. Или из ста?.. Нечеловеческим напряжением воли она заставила себя подняться. Бежать! Но неведомая сила не пустила ее. Девушка пригнулась, сложившись чуть ли не вдвое, скользнула к садовой стене и притаилась за кустом сирени.
Керосиновая лампа осветила крольчатник и колодец, через борт которого в следующий миг тень перекинула безжизненное тело старухи. Полина услышала приглушенный всплеск. Сейчас она не смогла бы закричать, даже если бы на это отважилась.
Тень пристроила на место крышку колодца, подкинула в руке молоток и, достав из кармана гвозди, принялась заколачивать «гроб».
Возле куста сирени стояла уборная, Полина сунулась в открытую дверцу, вцепилась обеими руками в метлу — хоть какое-то средство защиты, пусть и неизвестно от чего…
Свет у колодца сделался не таким ярким — тень двинулась к дому и исчезла за дверью кухни. Полина мельком увидела плащ с капюшоном, но лица разглядеть не смогла.
А тень уже переместилась за окном дома-дикобраза обратно к двери. Распахнулась створка. Качнувшись на пороге, тень неверной походкой побрела прочь и растворилась в ночи.
Наконец-то Полина осмелилась выбраться из своего убежища. Подол юбки шелохнулся, будто кто-то его задел, и девушка вскрикнула. Кот! Отогнав Господина Дюверзьё, который жался к ее ногам, она шагнула к колодцу и заметила на краю белый прямоугольник. Конверт, случайно выроненный тенью?.. Схватив его, Полина со всех ног помчалась к ярмарочному фургону.
Мальчики спали. На дне стакана оплывал огарок свечи. В фургоне было тесно, всей мебели — шкафчик из болотной сосны, столик, табурет, спиртовка, узкая кушетка и полка с несколькими школьными учебниками.
Полина разорвала конверт — из него вывалилась открытка:
Приглашаем Вас
на необыкновенное представление «Коппелии»,[741]
каковое будет дано в Опера
в среду 31 марта 1897 года, в 9 часов вечера.
И ни имени, ни адреса.
Обратиться в полицию? Будет расследование, не избежать допросов, а там, глядишь, она из свидетельницы превратится в подозреваемую… Полина засунула приглашение между страницами «Франсинэ»,
[742] по которой учила своих подопечных читать (это был сборник весьма наставительных текстов, призванный воспитывать благонамеренных граждан), сняла жакет, провела по нему ладонью, стряхивая пыль, — и похолодела. Карточки бон-пуэн!
[743] Исчезли! Полина точно помнила, что она их пересчитывала, перед тем как пошла за яйцами для омлета к мадам Арбуа. Да, перевязала стопку ленточкой и, надевая жакет, машинально сунула ее в карман… Карточек было ровно восемнадцать. Полина обшарила карманы. Ни одной! Лихорадочно обыскала фургон. Как сквозь землю провалились! Нахлынула волна вопросов. Где она их потеряла? По дороге к соседке? На обратном пути? У дома, в котором произошло убийство? Вернуться туда? Но на это не было ни сил, ни смелости. А если карточки уже нашла тень? Трудно ли ей будет отыскать и обронившую их учительницу?..
Девушка так сильно сжала кулаки, что побелели костяшки пальцев.
Безвольно опустившись на кушетку рядом с посапывающими во сне мальчиками, она до самого рассвета невидяще смотрела на небо в проеме люка на потолке…
Пятница, 12 марта
Небо выплескивало на город очередную порцию ливней, и дождевые струи снова колыхались над ним блеклым занавесом, вода гудела в желобах. Когда дождь утихал, за парижан принимался ветер, налетал порывами, раздавая мокрые оплеухи, и прохожие невольно втягивали голову в плечи. Все мечтали об одном: поскорее дождаться ночи и свернуться калачиком на перине под одеялом, а к ногам положить грелку. Мечта воплощалась, разумеется, у всех, кроме бездомных.
Рассеянный свет пролился на купол дворца Гарнье,
[744] стёк по карнизу, на котором уже ворковали голуби, и добрался до слухового окна. За этим оконцем, надежно укрытый от непогоды, зашевелился ворох тряпья.
— Шалюмо… Шалюмо… Мельхиор Шалюмо… — забормотал маленький человек.
Ему необходимо было услышать собственное имя, чтобы вернуться к действительности. Каждое утро, просыпаясь, он под эти звуки не без труда расставался с надеждой воплотиться в героя романтической драмы. Каждое утро его постигало одно и то же разочарование: Мельхиор Шалюмо зауряден, некрасив, немолод, у него болят суставы и ломит поясницу.
Он резко сел, пытаясь восстановить способность соображать, обвел взглядом смутные контуры своей каморки. Мало-помалу очертания делались яснее, и ощущение, что он оказался в незнакомом месте, пропадало. Закутавшись в кашне, Мельхиор Шалюмо встал на кровати и прижался лбом к стеклу круглого слухового оконца. Вдали дымили каминные трубы; внизу, на улице Обер, грузные туши омнибусов, запряженных тройками лошадей, то и дело останавливались, вытряхивая на мостовую раскрытые зонтики, которые тотчас разбегались в разные стороны.
Большой перекресток, на котором сходились семь улиц, превратился в декорацию к многофигурному балету. Девицы из модных ателье, раздатчики рекламных листовок, рабочие, полицейские, продавцы газет шествовали по мокрым тротуарам. Кучеры подбирали вожжи, и экипажи устремлялись в путь по мостовым; лошади копытами разбивали лужи, разбрызгивая вместе с водой блики от газовых рожков. Тележки мусорщиков гремели по брусчатке. Служащие поднимали охранные решетки магазинов, их коллеги, вскарабкавшись на стремянки, протирали витрины. В этот час утреннего туалета сердце столицы ускоряло биение под слепым взглядом бронзовых статуй, стоящих на страже вокруг Опера.
Маленький человек, зябко поеживаясь, поспешил в уборную над антресольным этажом — отличное местечко для того, чтобы безнаказанно подглядывать за ученицами балетной школы. Но занятия еще не начались. Он наполнил водой кувшинчик и вернулся в свою каморку. Там второпях побрызгал водой в лицо — нос его едва доставал до рукомойника, — оделся, жуя корочку хлеба, повязал галстук. Смотреться в зеркало не было нужды: Мельхиор и без того знал, что выглядит безупречно, однако даже самый элегантный наряд не мог добавить ему ни сантиметра роста. Тонкие усики дрогнули — рот человечка скривился в привычной гримасе.
После того пожара, уничтожившего в январе 1894 года хранилища декораций Опера на улице Рише, Мельхиор Шалюмо все время боялся, как бы огонь не вспыхнул в бутафорских и реквизиторских дворца Гарнье (этот страх просачивался даже в его сны), и оттого положил себе за правило каждое утро проводить инспекцию помещений. Он шагал по коридорам, распахивал двери, заглядывал во все углы. В свете фонаря его взору представали таинственные пространства в духе картин Пиранези, населенные причудливыми образами. Он трепетал от сладостного волнения, всякий раз заново открывая для себя эту фантастическую вселенную. Свет наполнял пустые глазницы гипсового Посейдона, выхватывал из тьмы торс Аполлона, головы чудовищ из папье-маше, бумажные купы аканта; набитые соломой верблюжьи горбы, лесные чащи, уходящие в обманную даль на холстах; орифламмы, сабли, пистоли…
Порой коротышка замедлял шаг у прялки из «Фауста» или впадал в задумчивость перед рогом Роланда.
[745] В этом море хлама, уровень которого прибывал с каждым музыкальным сезоном, возвышался манекен из ивовых прутьев — стройная поджарая фигура, глаза подведены чернильными стрелками до висков. Мельхиор избрал куклу своим идеалом — это был его единственный наперсник, его альтер-эго.
— Эй, привет! А я тут опять с ног сбиваюсь, по делу мчусь. Ламбер Паже, болван злосчастный, велел мне доставить пралинки
[746] предмету его пылкой страсти… Эй, Адонис, ты меня слушаешь? — Охваченный внезапной яростью, Мельхиор пнул ивового человека. — Да сделай же над собой усилие, черт побери! Я тебе о ней уже говорил — воображала-задавака, которая только и умеет, что ногами дрыгать да руками размахивать. Она это, видишь ли, хореографией называет. Да ладно, ты же ее помнишь! Русская она, Ольга Вологда. На Розиту Мори зуб точит, из театра ее выжить норовит — вот удумала, со смеху лопнуть можно! — Ярость улеглась так же внезапно, как вспыхнула. — Всё, будь умничкой, Адонис, а меня служба зовет, — закончил он, похлопав манекен по руке. — Как с делами расправлюсь, пойду в «Комеди-Франсез» — там нынче девяносто пятую годовщину со дня рождения дражайшего Виктора Гюго празднуют.
Маленький человек поселился во дворце Гарнье в 1877-м, спустя два года после официального открытия, и знал как свои пять пальцев каждый камень фундамента, точный бюджет, отведенный под строительство, сумму, на которую была превышена себестоимость, число погибших и покалеченных при возведении здания и поименно всех художников, скульпторов и мраморщиков, нанятых для воплощения в жизнь замысла Шарля Гарнье.
Он выбивался из сил, поднимаясь и спускаясь по лестницам с первого этажа на седьмой. Там, на седьмом, над административными кабинетами, было его логово, его убежище — чуланчик с «бычьим глазом»,
[747] а внутри — медная кровать, молельная скамеечка и ларец с выложенным мозаикой из желтых стекляшек именем «Саламбо» на крышке. В ларце хранились сокровища Мельхиора, всё его добро и трофеи, добытые во время ночных вылазок в учебные залы: ленты, кружева, стоптанные балетки и прохудившиеся чулки (нельзя отрицать, что некоторые вещи вызывали в нем нездоровое возбуждение).
Чтобы пресечь пересуды, Мельхиору в конце концов пришлось легализовать свое присутствие и договор аренды с правом продления позволил ему занять жалкие восемь квадратных метров на законных основаниях.
К себе в каморку Мельхиор пробирался со стороны бульвара Османа, старательно прячась от месье Марсо, вахтера, обитавшего в служебном помещении на первом этаже, где стены сверху донизу были увешаны фотографиями артистов. Фуражка, зеленый редингот с адмиральскими пуговицами, встопорщенные седые усищи как у Виктора Эммануила
[748] лишь подчеркивали суровый облик этого отставного служаки. Маленький человек прозвал его Янитором
[749] и возненавидел за неусыпную бдительность, каковую вахтер проявлял на границах доверенных ему владений не хуже иного таможенника. Месье Марсо отваживал докучливых поклонников балерин, конфисковывал пылкие послания какой-нибудь диве или скромному пажу, открывал доступ в кулуары тем, кто давал ему взятку, и вступал в препирательства с цветочницами и торговцами шоколадом. Человечек успевал проскользнуть внутрь или покинуть дворец как раз в такие моменты, когда вахтер был занят разглагольствованиями: тут уж Мельхиору не грозило быть застигнутым и в очередной раз отчитанным цербером, который преследовал его с тех пор, как застал за воркованием с девочкой из балетной школы — Мельхиор тогда засовывал ей в карманы конфеты…
Был день генеральной репетиции, и мысль о том, что скоро три вечера подряд будут давать «Коппелию», привела маленького человека в хорошее настроение. Он шустро пробирался среди лебедок и пеньковых тросов, проскальзывал меж деревянных рам, истертых веревками, и чувствовал себя капитаном величественного корабля, на палубах которого кипит работа, все бурлит и ладится, муравьями снуют матросы-машинисты, приводя в порядок снасти-декорации. Он шел среди металлических колонн, поддерживающих самую огромную в мире сцену, и был горд от того, что она способна вместить всю труппу «Комеди-Франсез».
Человечек жил на свете.
Сам не больше воробья.
«Чик-Чирик!» — кричали дети,
«Чик!» — им вторили друзья.
Напевая любимую песенку, Мельхиор скакал под колосниками, играл в прятки со стокилограммовыми противовесами, отшучивался в ответ на насмешки рабочих, ловко огибал люки, то и дело разевавшие пасть у него под ногами. Выворачивая шею, он устремлял взгляд вверх и, млея от головокружения, смотрел на верхушки практикаблей и задники, перемещавшиеся в глубине сцены. А под конец не устоял перед искушением поглазеть на зрительный зал через прореху в занавесе.
— Пшел вон, Чик-Чирик, не то я тебе клюв сворочу! — рявкнул старшина рабочих сцены.
— Как бы я тебе чего не своротил, старый хрыч! — взвизгнул Мельхиор и, отбежав на безопасное расстояние, забормотал: — Господь Всемогущий, да обрушится Твоя железная длань на этого жирного борова, да расплющит его в лепешку, ну что Тебе стоит, сделай милость…
Молитва была прервана пируэтами двух балерин: одна щеголяла в костюме шотландки, вторая — испанки.
— Вот ведь разоделись, коровы! — проворчал маленький человек, разъярившись еще и от того, что вспомнил о своем задании: он должен доставить «этой бесстыднице русской приме» подарок от «этого кретина Ламбера Паже».
Миновав владения хореографа и хормейстера, Мельхиор Шалюмо изобразил на лице безмятежное благодушие. Скромной манерой держаться с нужными людьми, вежливыми речами, усердием и расторопностью он снискал себе репутацию человека надежного и исполнительного и был намерен всячески ее блюсти. При этом Мельхиор знал, что служит постоянной мишенью для зубоскальства, и умел при необходимости держать свои чувства при себе, скрывая истинную натуру. В глубине души он уподоблял себя королевскому шуту, ибо шуты за ужимками и показной готовностью терпеть унижения таят хитрость и коварство.
С самого детства его принимали за полудурка, поскольку людям свойственно мерить ум по росту. Он глотал обиды, обуздывал гнев и в мечтах казнил насмешников тысячей страшных способов. Уж он им еще напомнит, что двое коротышек, Наполеон и Александр Македонский, в свое время создали империи, и докажет, что Мельхиор Шалюмо ничем не хуже!..
Остановившись у первой артистической уборной, человечек постучал и крикнул:
— Мадемуазель Вологда! Вам посылка!
Из-за двери послышались приглушенный смех, скрип стула. Створка приоткрылась, и ее изнутри подпер ногой мужчина в расстегнутой рубашке. Лет тридцати, стройный, с правильными чертами лица, длинные волосы в беспорядке. Озорные искорки в глазах лишь прибавляли ему шарма.
— Стой! Кто идет?! — выпалил он, делая вид, что высматривает кого-то в коридоре поверх головы Мельхиора. — Куда вы подевались? Эй, кто здесь?
— Я к мадемуазель Вологде, — сказал Мельхиор Шалюмо.
— А? Кто это говорит? Слышу, но не вижу.
— Это я…
— Кто — «я»? Вы где? Ольга, помоги же мне его найти!
— Перестань, Тони, — прозвучал из гримерки женский голос.
Мужчина опустил глаза и разыграл удивление, смерив Мельхиора Шалюмо взглядом во весь его невеликий рост:
— И кто же ты, прекрасный незнакомец?
Маленький человек вздрогнул, как от удара, но смолчал. Он давно усвоил, что лучше всего людской жестокости противостоит притворное смирение.
— Прочь, недомерок, дама сегодня не принимает.
В щель между косяком и дверной створкой Мельхиор увидел полураздетую Ольгу Вологду, возлежавшую на кушетке, и попытался протиснуться в гримерку, но мужчина по имени Тони заступил ему дорогу;
— Кыш отсюда, Чик-Чирик!
Перед мысленным взором маленького человека одна за другой вставали картины мести: вот красавчик вопит под колесами молочного фургона, вот он падает в оркестровую яму, а вот растворяется в воздухе, испив колдовского зелья… Детское воображение Мельхиора питалось фантастическими образами и ситуациями, заимствованными безо всякого осмысления из театральной вселенной. Он вытянулся на цыпочках. Жалкие сто тридцать сантиметров роста вынуждали его вечно задирать подбородок, и от этого все время болела шея.
— Мне поручено…
— Дай сюда!
— Нет, я должен передать посылку из рук в руки! — воспротивился Мельхиор.
— А это чем тебе не руки? — хмыкнул красавчик, сунув ладони ему под нос, и выхватил сверток. — О, пралинки! Прелесть какая. А от кого?
— От
завсегдатая Опера.
— Имя-то у него есть, у завсегдатая?
— Месье Ламбер Паже, — слащаво осклабился человечек.
— Ах, этот скряга! Ольга, ты слышишь? Господин неудавшийся финансист разорился на пралинки — очень диетическое лакомство, как раз для твоей фигуры!
— Тони, прекрати эту дурацкую игру! Иди сюда, мне холодно.
— Долг зовет! — подмигнул красавчик Мельхиору. — А ты прогуляйся пока, мелочь пузатая.
Дверь захлопнулась. Человечек сжал кулаки. Маленькое тело сотрясала дрожь, в груди поднималась волна ярости, взор застила багряная пелена.
— Господи, спаси и помилуй… — зашептал он. — Ты, Тони Аркуэ, еще не знаешь, кто я такой… а я… я…
В ночь с 28-го на 29 октября 1873 года яркий свет озарил здание между улицами Ле-Пелетье и Друо, временно приютившее Парижскую оперу. Некоторые потом уверяли, будто слышали, как взорвался газопровод. Другие склонялись к мнению, что огонь вспыхнул по недосмотру на складах декораций или в костюмерных мастерских. Мельхиор Шалюмо, в ту пору двадцати трех лет, так и не смог докопаться до истины. Зато в его памяти навсегда запечатлелась картина: острые языки пламени тянутся к ним со всех сторон, а они бегут между рядами костюмов из «Фауста» Гуно. Ничтожность своего положения Мельхиор, в те времена подсобный рабочий сцены, восполнял блестящим знанием территории и непревзойденной ловкостью в фальсификациях, сделавшей его обладателем дубликатов всех ключей. Да, он отчетливо помнил себя в конической шляпе Мефистофеля, помнил, как веселился, гримасничая и кривляясь перед девочкой, как та пугалась и ахала от неподдельного ужаса. Приплясывая вокруг маленькой балерины, Мельхиор выжидал момента коснуться ее, а то и обнять, ведь это было бы так просто, он всего на пару сантиметров выше… Ему помешал огонь…
Совсем рядом загрохотало — обрушились доски, и человечек будто вынырнул из омута, застрял на миг между прошлым и настоящим, а потом вернулся к реальности. Суматоха в сознании улеглась, огненно-алые миражи воспоминаний выцвели, утихли отголоски давней истории.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Понедельник, 15 марта
«Как говаривает Кэндзи: „Кто собирает крошки со своего стола, тот и со слугами скуп“. А этот лысый олух не только со своего стола крошки метет, он и в гостях скатерть себе в карман вытряхнет, скареда этакий», — подумал Жозеф Пиньо о посетителе и невозмутимо ему улыбнулся:
— Нет, ваше сиятельство, увы, весьма сожалею. Я признаю, что эти произведения обладают художественной ценностью, но они слишком часто издаются. — Он покачал головой и вернул книги долговязому субъекту, нависшему над конторкой лавки «Эльзевир».
— Но они куплены здесь, у вас, вот подпись месье Мори! — выпалил субъект.
Жозеф уставился на каббалистические знаки, начертанные карандашом на титульном листе «Сказок» Перро с иллюстрациями Гюстава Доре. Он размышлял, не отправить ли субъекта, то есть герцога де Фриуля, к своему крестному Фюльберу Ботье, букинисту с набережной Вольтера (месье Ботье специализировался на нумерованных изданиях, пергаментах, гримуарах и автографах), но тотчас передумал: нельзя же так подставлять лучшего друга покойного батюшки!
— Моя родственница со стороны жены, герцогиня де Салиньяк, подарила эти книги сыновьям моего племянника, месье де Пон-Жубера!
«Племянник, племянник! — мысленно передразнил герцога Жозеф. — Мне Валентина, любовь моей юности, как-то рассказывала про этого пижона с дворянской частицей, что он в свое время… Стоп, ну-ка, ну-ка… — Молодой человек пригляделся к герцогу де Фриулю. — Ага, плечи поникли, взгляд бегает… Да его сиятельство в бедственном положении! Карточные долги?»
Герцог опять завел шарманку:
— У меня есть великолепные экземпляры — старинные манускрипты в переплетах. Можете зайти ко мне на улицу Микеланджело, взглянуть на них, если купите эти. Уверен, среди тех, что у меня дома, вы найдете даже первые издания…
— Нет, спасибо, я… мы сейчас проводим опись и… — Жозеф прочел в глазах визави такую отчаянную решимость, что пришлось сдаться. — Ладно, беру за треть цены, — буркнул он, мысленно назвав себя идиотом, после чего выложил из кассы несколько банкнот и проводил мрачным взглядом герцога де Фриуля, который покинул лавку триумфальным шагом.
Утро было в самый раз для того, чтобы улизнуть из дома. У Виктора внезапно проснулась страсть к бродяжничеству, захотелось развеять прогулкой тоску, одолевавшую его, когда он думал о предстоящем отцовстве. Кое-что не давало ему покоя: необходимо было заранее освободить в квартире бывшую столовую, которую он превратил в фотолабораторию, и привести ее в порядок. Ребенку потребуется отдельное чистое помещение, запахи химических реактивов будут для него чрезвычайно вредны, детская должна хорошо проветриться… А где же найти место для фотолаборатории — комнату с водопроводом? Снова занять подвал книжной лавки? Жозеф этого не простит, он давно приспособил каморку под хранение своих архивов. Оставалось только одно решение: перебраться в мастерскую Таша на противоположной стороне двора, но Виктор не осмеливался посягнуть на территорию жены, загроможденную мольбертами, холстами и рамами. В любом случае его маниакальная педантичность в работе не уживется с творческим беспорядком Таша.
Малодушно отбросив в очередной раз эти мысли, Виктор слез с велосипеда и вкатил его в горку по улице Сен-Пер. На подступах к «Эльзевиру» он разминулся с долговязым субъектом, показавшимся ему смутно знакомым.
Консьержка здания, где находилась книжная лавка, подметала тротуар, распевая во все горло: «Я из Рио-де-Жанейро, бразильянка я!» Заметив Виктора, она заулыбалась:
— Ранняя вы пташка, месье Легри. Как себя чувствует мадам Таша?
— Доброе утро, мадам Баллю. Спасибо, она в добром здравии. А как поживает ваш кузен?
— Альфонс, как всегда, баклуши бьет, неисправимый лоботряс, а уж когда он на рассвете из кабака возвращается, весь дом о том знает — колокола собора Парижской Богоматери так не гремят, как этот бездельник. Эй, закемарил, что ли? Чего расселся? — крикнула мадам Баллю, обернувшись к верзиле, который развалился на скамейке у подъезда.
Виктор толкнул ногой дверь книжной лавки «Эльзевир», загнал внутрь велосипед и в ужасе застыл:
— Жозеф, что это такое?!
— Все претензии к месье Мори. Он пожелал, чтобы в торговый зал непременно вернулись стулья, и вот вам пожалуйста — негде развернуться. Я уже дважды на стол натыкался. А что это вам не спится? У вас же сегодня выходной.
— Я на минутку — забыл «кодак» под конторкой. Заберу его и махну на площадь Домениль. Хочу пофотографировать семью циркачей с улицы Дюранс, они будут выступать на Тронной ярмарке.
— Ну, если вы на минутку, оставьте свой агрегат во дворе под навесом, а то к подсобке вам с ним не пробиться.
— Он у себя?
— Кто?
— Месье Мори.
— Мой дорогой тесть куда-то отлучился, вернется к закрытию. А мне поручено рассортировать новые приобретения и составить опись — меня ждут вон те двадцать коробок, набитые по самое некуда. Я заранее устаю, стоит только взглянуть на них!
Проигнорировав совет Жозефа насчет двора и навеса, Виктор, пробравшись между стульями, вкатил велосипед в подсобку и вылавировал обратно к конторке.
— Полно вам дуться на месье Мори, Жозеф, — попытался он ободряюще улыбнуться, — обычно в этот час вам все равно заняться нечем, кроме чтения статеек о всякой всячине, которые вы вырезаете из газет. О, а откуда взялись эти «этцели»?
[750]
— Герцог де Фриуль взял меня измором…
— Ах, так это его я встретил! Что же, он опять на мели?
— Да уж наверняка, раз стащил у внучатых племянников их любимые книжки.
— Я возьму Шарля Перро для моей будущей наследницы.
— Откуда вы знаете, что родится девочка?
— Интуиция подсказывает. Жозеф, а вы уверены, что у меня…
— Догадываюсь, о чем вы хотите спросить. Когда родилась Дафнэ, я перепугался, что мне нипочем не справиться, а теперь ничего, привык. Так что не беспокойтесь, у вас все получится. Когда же произойдет радостное событие?
— В июне. А у вас?
— В мае.
— Правда? По-моему, Айрис нам говорила, что в апреле.
— Она все перепутала — разволновалась и неправильно подсчитала. На этот раз я заказал сына!
Они рассмеялись.
— Если бы наши жены честно выполняли заказы!.. — покачал головой Жозеф. — Ну, теперь всё, кончена вольная жизнь, придется безвылазно сидеть дома.
— Вообще-то я не рассматривал отцовство с этой точки зрения, — задумчиво протянул Виктор. Он помялся пару мгновений, но все же почти решился задать вопрос: — Жозеф, а когда родилась Дафнэ, вы с Айрис… э-э… ну, я… понимаете ли…
— Понимаю. Рождение Дафнэ ничуть не охладило наши взаимные чувства. Вам это может показаться фантастической идиллией, но у нас с Айрис действительно ничего не изменилось, мы оба захотели второго ребенка и… Кстати, приготовьтесь к тому, что в первые месяцы вам придется иметь дело с вопящим комочком, и только потом он превратится собственно в ребенка, который повсюду ползает, все хватает и тянет в рот. В общем, смотреть надо будет в оба…
В этот момент дверь книжной лавки открылась и в сопровождении длинноволосого щеголя вошла изящная брюнетка в кашемировом платье цвета лаванды с воротником а-ля Медичи и в черной замысловатой шляпке. Небрежно бросив на конторку мохеровую накидку, дама улыбнулась:
— Привет честной компании! Где вы тут прячете Кэндзи Мори?
Виктор, конечно, сразу узнал Эдокси Максимову — томный суккуб, сперва пытавшийся соблазнить его самого, а потом склонивший к распутству его приемного отца Кэндзи.
— Месье Мори на улице Друо, — холодно ответил он.
— Досадно… — поморщилась Эдокси. — Ах, какая же я невежа! Позвольте представить вам моего доброго друга: Тони Аркуэ, кларнетист из Опера.
— И преподаватель музыкальной гармонии в Национальной консерватории, — добавил щеголь.
— Разумеется, Тони, а как же. Разбудите-ка в себе читателя и попросите управляющего найти вам книгу о русском балете.
— Я больше не управляющий, — вскинулся Жозеф, — я…
— Перестаньте болтать, молодой человек! Мне нужно побеседовать с вашим хозяином, оставьте нас наедине, подите оба, живо!
Тони Аркуэ побледнел от унижения, однако повиновался и позволил Жозефу увлечь себя в глубь торгового зала. Сам Жозеф был возмущен до предела и, чтобы немного остыть, принялся разглядывать коллекцию экзотических изданий в застекленном шкафу. Его внимание привлек не замеченный ранее двухтомник in-16 в красном сафьяне. Он рассеянно открыл один том, окинул взглядом страницу — и, густо покраснев, тотчас захлопнул крышку переплета. Это, несомненно, было одно из приобретений Кэндзи для его личной библиотеки эротики.
Книгу ловко выхватил у Жозефа из рук Тони Аркуэ, вслух прочел название:
— «Галантные встречи Алоизии в изложении ученого Мерсиуса»,
[751] — и захихикал, разглядывая фривольную гравюру. — А у вас тут забавно! Надо будет дать адресок паре приятелей, им понравится.
Не поддавшись на провокацию, Жозеф сосредоточился на Эдокси Максимовой, которая как раз обольстительно улыбалась Виктору.
— Ах мой миленький Легри, ну не смотрите на меня с таким похоронным видом! У меня нет ни малейшего намерения отбить вашего месье Мори у его дульсинеи! Так он у себя или нет?
— Дорогая моя, чувствуйте себя как дома, не обращайте на меня внимания, ищите, переверните всё вверх дном, его комнаты наверху. — Виктор указал на винтовую лестницу.
Эдокси одарила его насмешливым взглядом:
— Полно вам, Легри, я девушка простая: говорю что думаю, верю всему, что слышу. А если порой я веду себя не так, как того требуют приличия, это потому что здравый смысл мне то и дело изменяет. Вот, передайте месье Мори от меня. — Эдокси помахала у Виктора перед носом конвертом, состроив ироническую гримаску, которая призвана была показать, что простушка она только на словах, а так у нее хватает козырей в рукаве.
«Она меня провоцирует, — подумал Виктор. — Делает вид, что ничего не понимает, а на самом деле ей прекрасно известно, что у Кэндзи есть любимая женщина».
— Мадам Херсон здесь, — шепнул он, ткнув пальцем в потолок.
— Матушка вашей супруги на втором этаже приникла ухом к полу и не пропускает ни звука из нашей беседы? — усмехнулась Эдокси. — Но мы ведь с вами еще не сказали ничего предосудительного, насколько я заметила. — И она снова помахала конвертом.
Виктор, пришедший в отчаяние от беспечности бывшей танцовщицы, нервно барабанил пальцами по прилавку, и не подумав протянуть руку за конвертом.
— Легри, я на вас очень рассчитываю, — вздохнула Эдокси. — Это два приглашения в Опера на «Коппелию», балет дают тридцать первого числа сего месяца. Повторяю: два приглашения, одно для мадам Джины Херсон, второе для месье Кэндзи Мори. Их раздобыла моя подруга Ольга Вологда, она исполняет в этом балете заглавную партию.
Притаившись за нагромождением картонных коробок, Тони Аркуэ с интересом прислушивался к разговору. Жозеф попытался его отвлечь:
— Так вы, стало быть, играете на флейте?
— На кларнете, — поправил длинноволосый, недобро зыркнув в его сторону.
— А я писатель.
— Ах как оригинально! Знаете, что сказал по этому поводу Орельен Шоль?
[752] «Раньше всякая безмозглая скотина только языком молола, теперь она пишет».
— Что-что, простите?..
— Молодой человек, я мало читаю, меня больше увлекает музыка.
— Тогда, должно быть, вам не слишком уютно в книжной лавке.
— Что верно, то верно, тут такая пылища! Это вредно для легких — плохо сказывается на дыхании, а я дыханием на хлеб зарабатываю. И уберите от меня эти книги о русском балете — я уже сыт ими по горло! — Тони Аркуэ устремился к Эдокси: — Дорогая моя, у вас ведь назначена встреча, как бы вы не опоздали…
— Помню, помню, — отмахнулась она. — Месье Легри, почему мужчины подозревают женщину в кокетстве лишь на том основании, что она независимая?
Виктор услышал в ее тоне затаенную насмешку. За дурака она его, что ли, держит?
— Никто не рискнет заподозрить в независимости замужнюю женщину, — непринужденно отозвался он.
— Черт возьми! — вспыхнула Эдокси. — С меня довольно! Вашу руку, Тони, мы уходим!
Кларнетист бросился вперед, чтобы придержать для нее дверь, обернулся и, не скрывая удовлетворения, попрощался:
— Господа, честь имею.
Когда дверь за ними закрылась, Жозеф хмыкнул:
— Да уж, независимости у этой плясуньи, пусть и бывшей, на деле хоть отбавляй. Ее вельможному муженьку стоило бы за ней присмотреть.
— Это вряд ли. Федор Максимов редко покидает Санкт-Петербург, он ведь служит в конной гвардии Николая Второго. Будем надеяться, прекрасная Эдокси не лелеет коварных замыслов. — Виктор на всякий случай прощупал запечатанный конверт с приглашениями.
— И снова прав Кэндзи, — заметил Жозеф, — когда говорит: «Чтоб несчастья избежать, не ходи на бал плясать».
Гравюра, случайно увиденная им в неприличной книжке, никак не хотела стираться из памяти.
Это ж надо, с таким усердием да так тщательно вырисовывать подобные ужасы! Мелия Беллак захлопнула папку с картинками и сурово стегнула по ней метелкой из перьев. Но не удержалась и еще раз пристально изучила цветные гравюры, которые месье Мори заботливо переложил листами полупрозрачной бумаги. С первого взгляда трудно было установить, какому занятию предаются на гравюрах с этакой небрежностью азиат в кимоно, расшитом геометрическими фигурами, и его подруга в шелках. Лишь внимательный взор мог различить атрибуты, указывающие на половую принадлежность персонажей и пребывающие в положениях, противных всяческим правилам приличия. Созерцая эти сцены причудливых совокуплений, Мелия вспомнила о своей давней помолвке с подмастерьем булочника из Бургундии, проходившим обучение в Тюле. Они тогда успели лишь пару раз поцеловаться, а потом Тьену продолжил свое путешествие по Франции. С той поры к Мелии не прикоснулся ни один мужчина, и теперь, открыв для себя содержимое хозяйской папки с картинками, она могла честно сказать, что ничуть об этом не жалеет.
Во второй раз захлопнув папку, Мелия снова взялась за уборку, напевая:
Негоже девицам бегать за парнями.
Хлопочи по хозяйству целыми днями —
Стирай, убирай, еду готовь тоже,
А за парнями бегать негоже!
Зеркало в ванной комнате показало ей две новые морщинки и несколько седых волос. Расстроиться или посмеяться? Мелия решила посмеяться и показала своему отражению язык. А что? Никто ж не видит…
Следующим номером программы было приготовление завтрака: говяжья вырезка с овощами, цикорий, крем-брюле. Она как раз обжаривала муку в масле для подливки, когда послышались тяжелые шаги — ее заклятая врагиня Эфросинья Пиньо, мамаша зятя месье Мори, явилась с инспекцией.
— Ну не семейство, а вавилонское столпотворение, право слово! — проворчала Мелия. — Дракониха, которая мне житья не дает, желтые, белые, русские, англичашки — черт ногу сломит! — И расправила плечи, готовясь выдержать бурю и натиск.
— Милочка моя! — не замедлила разбушеваться Эфросинья. — Что это вы тут стряпаете? Хотите накормить истинного гурмана какими-то там овощишками? Да еще теперь, когда в жизни месье Мори появилась женщина? Да вам бы только баклуши бить!
— Мне бы только яйца взбить, а то не успею, — отрезала Мелия.
— Она еще и огрызается! Когда я тут хозяйничала, каждый завтрак был пиром! — Стоя на пороге кухни, Эфросинья выпустила в домработницу весь запас парфянских стрел: — У вас подливка комковатая! Растяпа вы этакая, вам до моего уровня еще расти и расти, нет бы чему поучиться. Я весьма разочарована и должна вас покинуть! — Развернувшись, она отступила с поля битвы.
— Вот-вот, покинь меня, не засти солнце, — процедила сквозь зубы Мелия. — Как же меня допекла эта зануда! В следующий раз я их тут кашей из гнилой брюквы накормлю — пусть подавятся!
Эфросинья с достоинством спустилась по лестнице, хотя ей не терпелось похвастаться перед своей товаркой Мишлин Баллю обновками: красная сатиновая юбка, миндально-зеленая кофта и шляпка с перьями были чудо как хороши.
Консьержка дома 18-бис, склонившись над ведром с черной от грязи водой, выжимала половую тряпку. Кафельный пол блистал. И тут в подъезд ввалился угольщик.
— Стоять! Проход закрыт! — всполошилась мадам Баллю. — Я только что пол вымыла!
— Сочувствую, дамочка, но у меня срочная доставка. — И угольщик с мешком без зазрения совести помчался вверх по ступенькам.
— Да вы этак лестницу обрушите! — возмутилась ему вслед Эфросинья, прижавшись к стене. — Нет, вы это видели, дорогая Мишлин? Он чуть не перепачкал мой наряд, который, обратите внимание, прекрасен!
— Глядите, как бы вас в таком наряде на небо не унесло, — сердито буркнула консьержка, устыдившись своего бумазейного платья. — Перьями-то за облако зацепитесь — и поминай как звали.
— Иисус-Мария-Иосиф! Счастье еще, что я здесь не живу, это ж не дом, а скотный двор какой-то!
Уже сидя в омнибусе, увозившем ее на улицу Фонтен, к обиталищу четы Легри, разобиженная Эфросинья сказала себе: «Да уж, будет что записать в дневнике нынче вечером!»
Омнибус тащился по авеню Генерала Мишеля Бизо. Полина Драпье сидела у самого окна; в тесном салоне томились женщины с корзинками, служащие, старики, сонные рабочие — обычные пассажиры переполненного городского транспорта. Авеню было забито фиакрами и ломовыми телегами. Быть может, где-то там, в этой толпе, ее подстерегает та самая тень, что пять дней назад сбросила в колодец безжизненное тело Сюзанны Арбуа?..
Нынче в начале дня Полина видела на площади Домениль, как месье Оноре Селестен разговаривал с поджарым брюнетом, подкатившим на велосипеде. Брюнет просил у месье Селестена разрешения пофотографировать его сыновей, был корректен, ненавязчив, внимательно выслушал рассказ о тяготах жизни ярмарочных циркачей, и вообще этот человек со смешным ящиком на треноге внушал симпатию. Потом он пробрался в первые ряды толпы зевак и делал снимки, пока Альфред и Людо исполняли номер антиподистов.
[753]
Полина тем временем пообщалась с мадам Селестен, и та попросила взять в ученики еще сынишку глотателя огня и дочку силача — разрывателя цепей. Это была настоящая удача! А когда Полина пришла на остановку омнибусов, она заметила того самого брюнета-фотографа — оседлал велосипед на углу улицы Прудона и, как только омнибус, в который она села, тронулся, устремился за ним. Вот тут-то девушку и охватила паника: «Он меня преследует!»
Полина Драпье привстала с сиденья и рухнула обратно, нервно вцепившись в сумочку обеими руками. Страх проникал в душу медленно, осторожно. Память нарисовала перед глазами тень в плаще с капюшоном, неспешно бредущую вдаль по дороге, — и Полину, как в ту минуту, когда она хватилась карточек бон-пуэн и не нашла их, пронзил ужас. Нет, это не сон. Это кошмар, обернувшийся явью!
Она вышла из омнибуса у кладбища. Изо всех сил сдерживая себя, чтобы не побежать, сделала несколько шагов и обернулась, будто бросая вызов преследователю. Но кроме бродячей собаки, позади никого не было.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Суббота, 20 марта
«О Всемогущий, Ты правишь стихиями, на Тебя уповаю! Сделай так, чтобы дождь иссяк и воссияло солнце! Да здравствует праздник, пусть даже такой никудышный!»
Прислонившись к стволу каштана у озера Францисканцев, Мельхиор Шалюмо то норовил плевком попасть в парочку уток-мандаринок, то, приложив ладонь козырьком ко лбу, обозревал дорожку вокруг старых монастырских угодий, то косился на дремавших у берега рыбаков. «Что творят, недотепы! У них же сейчас вся рыба от скуки передохнет».
В тот момент, когда одному из рыбаков посчастливилось выудить старый башмак и он уже подсекал, тучи, сложившиеся над озером и купами деревьев в замысловатый узор, расползлись в стороны. Небо просветлело, но не спешило явить взору синеву.
«Благодарю Тебя, Отец Всемогущий, нам много не надо, хватит и этой божественной серости. Пирушка-то готовится не ахти какая, так себе свадебка, обойдутся уж они как-нибудь и без Твоей лазури».
Издали долетел стук копыт, вспорхнула воробьиная стайка, на аллее между Фонтене-су-Буа и Венсенским лесом показались кареты, нанятые на станции Ножан, и выстроились у моста, соединившего берег озера и один из трех искусственных островков, на котором стояло заведение с вывеской «Кафе-ресторан у Желтых врат».
Повара хлопотали с самого рассвета. Фрикасе из курицы, яйца в желе, дрозды, запеченные в тесте, топинамбуры в сметане — блюда одно за другим появлялись на столах в празднично убранном зале. Хозяева были рады-радешеньки принять два десятка гостей сейчас, в начале весны, когда свадьбы играют редко.
— Скупердяи, — шепнул один официант другому, — даже не заказали шампанского, только дрянное игристое. А чаевых мы от них и вовсе не дождемся!
— Ничего, уж я их заставлю раскошелиться. Вот потребуют подать коньяк после кофе — всучу им черешневую настойку по цене арманьяка. Только хозяевам не сболтни!
Восемь мужчин и дюжина женщин, все разодетые в пух и прах, выгрузились из карет с большим или меньшим изяществом. Мужчины отпустили кучеров, с тем чтобы те вернулись к пяти часам, и весь бомонд с натужными шутками и фальшивым хихиканьем устремился к месту торжественной трапезы.
«Воркуйте, голубки, пока воркуется, потом еще наплачетесь. Семейная жизнь — не такая приятная затея, как вам кажется. Слово Мельхиора Шалюмо: на смену обжималкам придут перепалки!»
— Мельхиор! Мельхиор Шалюмо! — услышал маленький человек свое имя с раскатистым «р» и увидел даму, чей силуэт казался пышным из-за обилия лисьих хвостов, украшавших накидку. — Как приятно, что вы среди нас!
Он поднял голову и неприветливо уставился в лицо Ольги Вологды, примы санкт-петербургского балета. Она была выше его сантиметров на тридцать пять. Каре-зеленые глаза, черные как смоль волосы — скорее эффектная, чем хорошенькая.
— Ошибаетесь, Ольга, меня не соизволили пригласить. Однако не уподоблюсь злым феям и как добрый волшебник пожелаю вам всяческих успехов. Да минуют вас невзгоды, вас и новобрачных! Весна благоприятствует союзу двух душ, каковые были бы куда счастливее, избежав знакомства.
Ольга Вологда засмеялась низким, грудным смехом, и Мельхиору захотелось заткнуть ей рот, до того он разозлился. Но еще хуже была улыбка, пришедшая на смену этому приступу веселости: по выражению лица балерины Мельхиор понял, что она испытывает к нему жалость. И медленно выдохнул сквозь зубы. Он мог бы одним словом изменить навсегда ее снисходительное отношение, но вместо этого отвернулся и поприветствовал новобрачную — пухленькую блондинку Марию Бюнь, отныне мадам Аженор Фералес в горе и в радости.
Вспомнив о том, что некогда питал к ней нежные чувства, человечек решил проявить великодушие и не закатывать скандалов.
— Мельхиор, оставайтесь! — еще шире улыбнулась Ольга. — Вас не пригласили по досадному недоразумению!
— Да-да, Мельхиор, присоединяйтесь к нам! — поддержала ее Мария, не обращая внимания на недовольную мину, состроенную мужем. — Мне бы очень этого хотелось!
Но маленький человек уже убрался восвояси.
— Уж не наш ли приятель Чик-Чирик это был? — осведомился подошедший длинноволосый щеголь.
— Он самый, Тони, — ответила Ольга Вологда. — Будем надеяться, он не устроит нам какой-нибудь каверзы в отместку, как те злые феи, что портят людям праздники в сказках.
— Неужто вы боитесь этого недомерка? И что же он сделает — превратит вас в лягушку?
— Кстати, а лягушками нас попотчуют? Обожаю лягушачьи лапки! — заявил пузатый тип с бородой веером.
— Все что угодно, только бы не улитки с лошадиным легким и не петушиный гребень, рубленный со свиной кишкой! — поморщилась подружка невесты, девица в соломенной шляпе с зелеными перьями. Шляпа была похожа на курицу, которая по глупости изготовилась к взлету.
Мельхиор тем временем сидел, скрестив ноги, в увитой плющом беседке перед рестораном и расстреливал камешками отважного дрозда.
«Беру свои слова обратно, о Отец Всемогущий! Да разверзнутся хляби небесные — так ей и надо, этой Марии. Не может отказаться от сладкого, вот и разнесло ее, а ведь когда она выступала в кордебалете, ножки у нее были весьма соблазнительные… И взбрело же ей в голову забросить антраша и заделаться костюмершей, да еще с инспектором сцены спуталась, замуж за него вышла! Аженор Фералес всегда меня презирал. Этот задохлик мнит себя слоном перед моськой, однако же и моська — страшная сила, если в ней зверя разбудить, стоило бы ему об этом задуматься, грубияну несчастному! А какую он рожу скроил, когда Мария попросила меня остаться! Девицы — они все такие, уж я-то знаю. Когда я пробираюсь к ним в раздевалку после занятий танцами и щиплю за разные места, им это нравится. Они, конечно, визжат и куксятся, оперные крысятки, всякий раз, как мне приходит в голову поиграть с ними в кошки-мышки, но Ты не верь их возмущенным воплям, о Всемогущий, — в глубине души каждая из них ждет не дождется, чтобы я с ней пошалил».
Внезапно Мельхиора одолели усталость и отвращение, шумная толпа гостей показалась сборищем призраков, принявших человеческий облик.
— Прожорливые твари! Сейчас всё слопают и не поделятся! Ну ничего, они скоро поплатятся, слышишь, ты, шерсти клок?
Последние его слова были обращены к белке, которая при виде неподвижно сидящего человечка потеряла бдительность и, осмелев, подобралась совсем близко. Беличьи шустрые глазки с любопытством рассматривали круглую голову в темных, едва тронутых сединой кудрях, лицо с редкими морщинками, ямочку на подбородке. И когда Мельхиор вдруг резко вскочил — у зверька чуть инфаркт не случился, хотя ростом человечек оказался не выше десятилетнего ребенка. Белка заполошно метнулась прочь от чудовища, несколькими скачками взобралась на вершину вяза и нервно запрыгала там с ветки на ветку.
Некоторое время Мельхиор рассеянно наблюдал за ее кульбитами. Теплый ветерок колыхал кроны деревьев, поодаль от водопада двое муниципальных служащих жгли выкорчеванные пни, и вскоре ноздрей маленького человека достиг запах дыма. Рыжая шкурка, мелькающая в листве, вдруг обернулась языком пламени, вызвав у него странное ощущение, в котором смешались растерянность и возбуждение.
Огонь уже пожирал костюмы, раскаленные челюсти рвали ткань. Девочка завизжала. Когда Мельхиор подхватил ее на руки, легкую и хрупкую, как соломинка, когда он помчался по узким галереям к старым кухонным помещениям особняка Шуазеля, чувствуя, как трепещет детское сердце возле его груди, неземное блаженство вытеснило страх… Но пламя жарко дышало в затылок, подгоняя. Наконец Мельхиор поставил свою ношу на пол и распахнул дверь черного хода. Теперь они были в безопасности…
Белка проскакала вниз по стволу вяза, порскнула в густую траву рыже-алой молнией. Мельхиор вздрогнул и встряхнулся, пытаясь преодолеть слабость, парализовавшую члены и разум. Нужно было во что бы то ни стало совладать с темной стороной своего существа, подавить агрессию, рвущуюся наружу.
Он подошел к ресторану и заглянул внутрь, сплющив нос о стекло витрины. Рассматривая балерин и костюмерш, человечек тщился вспомнить их прежних, тех молоденьких учениц балетной школы, дразнивших его чувства. Он окинул взглядом Ольгу Вологду и постарался представить, какой она была двадцать лет назад — девочка в вызывающем русском наряде, в расшитой узорами блузке, туго охватившей едва наметившуюся грудь, в розовом трико, облегающем стройные ножки… И пожал плечами, не в силах разглядеть в величественном силуэте того подростка, которым она могла быть. Как жаль, что, взрослея, восхитительные создания превращаются в великанш с непривлекательными округлостями!
Мельхиор со вздохом переключил внимание на мужскую половину сборища и приметил двух завсегдатаев оперного закулисья. Сидя по правую руку от Ольги Вологды, обгладывал куриное крылышко Ламбер Паже. Этот человек играл на бирже, страстно увлекался балетом и бельканто и не пропускал ни одной генеральной репетиции в Опера. Во внешности его было что-то британское — блекло-голубые глаза, аристократическая худоба, рыжие волнистые волосы. Его собрат по увлечению, владелец скобяной лавки Анисэ Бруссар, шумный красномордый волокита, атаковал под столом мыском штиблеты оборки на подоле своей соседки, распутной костюмерши. «Разожрался, толстяк, руки вон уже не опускаются, как будто подмышками по арбузу, а всё туда же», — прокомментировал про себя Мельхиор.
Среди приглашенных оказался и кларнетист Тони Аркуэ — длинноволосый щеголь, единственный из музыкантов оркестра Опера, кого маленький человек старательно избегал, — а также скрипач Жоашен Бланден, бонвиван и пьяница. Бланден нравился женщинам — их прельщали атлетическая фигура и обрамленный короткой бородкой ангельский лик, трогательная детская припухлость которого грозила с годами обернуться одутловатостью.
Новобрачный Аженор Фералес — его выпуклые глаза казались огромными за толстыми стеклами очков в черепаховой оправе, отчего он походил на филина, — пригласил на торжество, помимо перечисленных господ, еще отставного пожарного, служившего когда-то в Опера, старшину рабочих сцены и подмастерье из костюмерного цеха. Все трое были ничем не примечательны и как один таращились разинув рот на соблазнительную Марию. «Берегись, Аженор, скоро твоя благоверная скушает с потрохами этого молокососа, которому она преподает портняжное ремесло. Опозорит тебя, уж можешь не сомневаться! Пусть я ошибка природы, но ума у меня поболее будет, чем у иных прочих».
— Дамы и господа, нас ждет десерт под открытым небом! Все на лужайку! Идемте же, глядите, как распогодилось!
Человечек, услышав призыв Аженора, проворно шмыгнул в заросли бересклета.
Официанты вынесли из ресторана стол, и двое поварят водрузили на него произведение кондитерского искусства: большой торт в форме дворца Гарнье. Гости между тем, стоя возле стульев, уже притопывали от нетерпения и, когда все было готово, набросились на лакомство.
Мельхиор из своего укрытия мрачно наблюдал за кулинарным абордажем: «Ну обжоры! Чтоб у них заворот кишок приключился!»
Тони Аркуэ поднял бокал:
— За здоровье новобрачных! И за ваше, Ламбер! Не вас ли, часом, я имел удовольствие видеть в прошлое воскресенье на ипподроме Лоншан? Вас, могу поклясться! Оно и неудивительно — где биржа, там и скачки. Игроки рознятся лишь толщиной мошны, потому одним — горы золота, другим — кучи лошадиного навоза.
Ламбер Паже выслушал его в оскорбленном молчании, открыл было рот, чтобы ответить наглецу, но, заметив, что Аженор Фералес делает ему знаки отойти в сторонку, все так же молча последовал за новобрачным.
При виде двоих мужчин, приближающихся к кустам бересклета, Мельхиор залег на землю, и правильно сделал — Фералес и Паже остановились как раз напротив, так что их ботинки оказались у него перед носом.
— Полно вам, старина Ламбер, не обращайте внимания на всякий вздор в такой прекрасный день — у меня же свадьба! А этот беспардонный Аркуэ просто рисуется перед дамами, ему все равно кого подначивать — лишь бы вывести из себя. Могу я предложить вам сигару?
Маленький человек, затаив дыхание в страхе быть обнаруженным, не упускал ни слова из разговора.
— Признаться, я вынужден был его пригласить, — продолжал Аженор Фералес, — хотя глаза б мои этого хама не видели. Увы, приходится принимать в расчет дипломатические соображения: пока он пользуется благосклонностью прима-балерины, я буду с ним предельно вежлив. Несмотря на то что на прошлой неделе он меня публично унизил.
— Неужели?
— Да-да, устроил мне выволочку перед персоналом. Он, видите ли, по окончании репетиции хватился какой-то бесценной рукописи и прилюдно обвинил меня в краже, мерзавец этакий! А вечером я, как всегда, обходил сцену и зрительный зал и нашел пропажу. — Аженор сердито пыхнул сигарой. — Представьте себе, рукопись завалилась между пюпитром и перегородкой оркестровой ямы! Я отправил Шалюмо к Аркуэ вернуть потерю — и что вы думаете, музыкантишка меня поблагодарил? Не тут-то было!
— А что за рукопись? — поинтересовался Ламбер Паже.
— Либретто оперы-балета, сочиненное… ни за что не догадаетесь кем! — Аженор Фералес, предвкушая изумление собеседника, неспешно выпустил облачко сигарного дыма и лишь затем торжественно объявил: — Ольгой Вологдой!
— Вы шутите?! — оправдал его ожидания Паже. — Она сочинила либретто? Вот уж позвольте не поверить!
— А между тем, это чистая правда. Мадемуазель Вологда сама мне призналась и даже просила устроить ей встречу с мадемуазель Сандерсон, исполнительницей заглавной партии в «Таис», и с месье Морелем, Яго из «Отелло».
[754] Хочет обсудить с ними будущую постановку.
— И вы согласились?
— Ну разумеется, кто же откажет такой женщине? Я, знаете ли, вхож в закулисье, так что выполнить просьбу мне труда не составило…
— Аженор! Месье Паже! Что вы там шепчетесь? Вам так одни крошки достанутся!
— Идем, Мария, уже идем!
У Мельхиора, все это время лежавшего неподвижно, затекли руки и ноги. Он, кряхтя, потянулся и презрительно сморщился: «Жалкие смертные! Время — как сломанный кран, подтекает минутами, кап-кап. Давайте растрачивайте его — злословьте, судачьте, исходите желчью, превозносите бездарей, бахвальтесь своими скудными талантами! Но пути-то Господни неисповедимы…»
Съеденный на три четверти бисквитно-кремовый дворец Гарнье сейчас напоминал скалистый берег, подточенный ветрами и волнами. Половые, вероятно опасаясь, как бы гостей не загрызла совесть при виде этих скорбных руин, расторопно уволокли торт на кухню и подали кофе с крепкими спиртными напитками. На вытоптанном газоне вокруг стола остатками пиршества лакомились вороны, косясь на любителей польки — несколько парочек уже отплясывали под аккомпанемент кларнета и скрипки. Поскольку мужчин среди гостей было меньше, чем женщин, дамы танцевали с дамами.
К кларнетисту подбежал посыльный и вручил ему сверток в розовой бумаге. Тони Аркуэ покинул импровизированный дансинг, но ненадолго — вернулся через пять минут с довольной физиономией и снова взялся за инструмент.
Веселье разгоралось. Мельхиор даже поймал себя на том, что отбивает ритм правым кулаком по левой ладони. Он тут же спрятал руки за спину и, глядя в безнадежно чистое небо, пробормотал:
— Ну что же Ты, Отец Всемогущий? Сегодня потоп устроишь или как?
Господь порешил, что сегодня дождя не будет, так что вдохновленная хорошей погодой Ольга Вологда отправилась на причал узнать цены на аренду лодок.
— Пятьдесят сантимов с пассажира за полчаса! Однако, у этого парня губа не дура! — возмутился Жоашен Бланден, покосившись на прокатчика, который беспечно орудовал во рту зубочисткой, приглядывая за своим лодочным хозяйством.
— Это уж точно! За такие деньги можно неспешно и со всей приятностью пересечь Ла-Манш, дабы поприветствовать коварный Альбион! — поддержал его Тони Аркуэ.
Но дамы уже разохотились до водной прогулки — озеро тотчас было переименовано в «венчальный пруд» и населено страшными морскими чудовищами, вероломно принявшими обличье уток. Спасаться от чудовищ предполагалось метким ударом веслом.
Притаившись в кустах на берегу, Мельхиор Шалюмо наблюдал, как Ольга Вологда усаживается в лодку в сопровождении двух музыкантов, Ламбера Паже и толстого владельца скобяной лавки. Аженор Фералес, Мария, бывший пожарный и две балерины отчалили вслед за ними на другой посудине. А рыбак, которому недавно посчастливилось выудить башмак, с негодующим видом сложил раскладной стул и прибрал снасти.
— Эй, салаги, прибавить ходу! — закричала Ольга Вологда. — Нас преследуют пираты! Если замешкаемся — болтаться нам всем на реях!
Заскрипели уключины, весла взметнулись и, опустившись, вспенили воду, лодка рванулась вперед под дружный хохот и воинственные кличи команды.
— Я лихой капитан! — объявил Тони Аркуэ. — Юнга Вологда — на фор-салинг! Матросы Бланден и Бруссар — налечь на весла, лодыри!
— Сам ты лодырь! — пропыхтел багровый от натуги Жоашен Бланден.
— Дорогуша, я ведь лихой капитан — мы, лихие капитаны, все такие! — парировал Тони.
Ламбер Паже, съежившись на носу лодки, мужественно боролся с водобоязнью — недугом, естественным у человека, который умеет плавать только в море биржевых котировок. Сын разорившегося аристократа, он рано стал сиротой и с годами присоединился к сборищу бездельников из тех, что занимаются биржевыми спекуляциями без особого риска, скорее с опаской и исключительно ради того, чтобы обеспечить себе пропитание. Накануне месье Паже до вечера проторчал на улице Вивьен,
[755] где, умирая от скуки, выслушивал предложения о продаже и покупке акций. Пережить этот унылый день ему помогла лишь мысль о том, что завтра предстоит прогулка в Венсенском лесу с восхитительной Ольгой Вологдой. Он не обманывался на свой счет: конечно, его неказистая внешность не способна привлечь танцовщицу, но, кажется, разорившись на пралинки, он все же снискал ее благосклонность. А ни на что иное Ламбер Паже и не рассчитывал — ему, закоренелому холостяку, было не привыкать довольствоваться малым. В юности он мечтал стать балетным хореографом, но не сложилось, опыт приобрести не удалось, и пришлось ограничиться сочинением либретто — последнее из десятка написанных им даже вызвало одобрительные отклики некоторых знакомых критиков из музыкальных кругов. Однако в свои тридцать пять лет он ждал от жизни большего, чем скудная похвала, да еще со стороны приятелей. Он жаждал славы.
— Поддайте жару, морские волки! Навались! Берег близко, мы почти спасены! Пираты отстают! — надрывался взлохмаченный и раскрасневшийся Тони Аркуэ — ему очень нравилась роль покорителя морей.
Жоашен Бланден и Анисэ Бруссар гребли изо всех сил, играя мускулами друг перед другом — каждый старался поднять весла повыше и оттолкнуться помощнее, чем напарник. Жоашен, поглядывая на балерину, думал о том, что она может сколько угодно делать вид, будто не замечает его авансов, — эта дамочка все равно упадет в его объятия, как скрипка в футляр, и даже бросит богатого любовника ради него, Жоашена. Уж он-то знает женщин: все они рано или поздно начинают делать, так сказать, орфографические ошибки в клятве верности, вот и обворожительной Ольге Вологде тоже не сохранить грамотность.
Сидя за спиной скрипача, Анисэ Бруссар, владелец скобяной лавки, украдкой присматривался к соперникам, оценивая свои шансы против них. Самый опасный — конечно же этот хлыщ Тони Аркуэ, преподаватель гармонии в Национальной консерватории. «Иди ты к черту, Тони! Если тебе на шею всякие мамзельки вешаются, это еще не повод задирать нос. Дурень, такую ношу тебе не удержать — не подходишь ты Ольге, голодранец. Ей золото-бриллианты подавай, так что преимущество на моей стороне. Разумеется, Берта, моя благоверная, будет серьезным препятствием. Скобяная лавка как-никак в ее собственности, и ежели Берта чего узнает… Ну да ладно, выкрутимся…»
— Вы были на премьере «Бродяги» Жана Ришпена в «Одеоне»? — спросил он у предмета своей страсти, чтобы продемонстрировать осведомленность в культурной жизни.
— О, фабула глупее некуда! — фыркнула Ольга. — Неунывающий батрак трудится на соляных копях, зарабатывая гроши, но не жалуясь на судьбу, и влюбляется в служанку, а она предпочитает ему нищего бродягу. И все жизнерадостно поют: «Броди, бродяга, по свету! Следуй за вольным ветром!»
— Я бы запретил пьесы в пяти актах и в стихах — это же сущее наказание, — подал голос Ламбер Паже, который спектакль не видел, но читал рецензию на него в «Эклэр» и решил поддакнуть приме.
Владелец скобяной лавки, несмотря на всю свою неприязнь к этому человеку, пришел к выводу, что лишь в коалиции с месье Паже, таким же аутсайдером, он сумеет дать бой двум самоуверенным и более удачливым соперникам-музыкантам. Оглянувшись, Бруссар подмигнул биржевому игроку и начал потихоньку раскачивать лодку. Паже, видимо, понял знак правильно — стал сперва робко, затем все активнее помогать. Ольга весело
присоединилась к этой затее, а Жоашен Бланден, обрадовавшись возможности поиграть грудными мышцами и бицепсами перед балериной, и вовсе разошелся — уперся руками в борта, резко наклонился вправо, влево, опять вправо, и вскоре посудину уже трясло не хуже чем на штормовых волнах.
— Эй, прекратите! Мы же перевернемся! — выпалил Тони Аркуэ, стоявший на корме во весь рост. Он почувствовал внезапный приступ тошноты, побледнел, но на ногах удержался, изо всех сил пытаясь сохранить достоинство.
Жоашен Бланден, обменявшись с Ольгой заговорщицким взглядом, сел ровно. Тони Аркуэ воспользовался этим, чтобы украдкой смахнуть пот со лба.
— Что, уже не смешно? — подначил его Анисэ Бруссар.
И в этот момент Жоашен стремительно качнулся вправо. Кларнетист, потеряв равновесие, упал в озеро и забился в воде, панически замолотил руками, поднимая фонтаны брызг, при том лицо его перекосила такая потешная гримаса, что вся компания разразилась хохотом.
— Вот умора! Ну же, адмирал Аркуэ, не сдавайтесь! Вас ждет неведомая земля — вон она, пешком дойдете! Только рот закройте, не то жабу проглотите! — потешался Жоашен.
— А он умеет плавать? — вдруг обеспокоилась Ольга.
— Да он вырос в порте Навало, в Бретани, — хмыкнул скрипач.
— Это еще ничего не значит.
Тони все еще барахтался, но уже как-то вяло, плюхал руками, то уходя под воду, то выныривая и судорожно хватая ртом воздух, отчего танцовщица не на шутку испугалась… Или он все-таки притворяется? Здесь же вроде бы мелко…
Ламбер Паже хотел протянуть кларнетисту весло, однако владелец скобяной лавки ему воспрепятствовал:
— Ну что вы, право слово! Этот хлыщ нас всех дурачит, а вы поддаетесь на провокацию.
— На… по… мощь! — забулькал Тони.
— По-моему, он сейчас правда захлебнется! — воскликнула Ольга.
Кларнетист в очередной раз погрузился с головой — и больше не показался на поверхности. На том месте, где он только что бултыхался, всплыли пузыри и лопнули, разогнав круги по воде, а спустя несколько секунд лишь ветер тревожил озерную гладь, собирая ее в мелкие морщинки.
— Держу пари, он сейчас вынырнет там, где мы не ждем, — нарушил всеобщее молчание Жоашен Бланден.
Но время шло, а Тони Аркуэ так нигде и не вынырнул. Озеро не захотело его отпустить.
— Помогите! Тони утонул! — пронзительно закричала Ольга, приложив ладони рупором ко рту.
Вторая лодка догнала первую, как раз когда незадачливый рыбак, которому шумная компания распугала все башмаки, решил-таки проглотить обиду и устремился на подмогу. Он вошел в мутную жижу у берега и, проклиная поднявших волну гребцов, добрел по грудь в воде до того места, где погрузился на дно Тони. Аженор Фералес и пожарный выпрыгнули из лодки. Рыбак нырнул, нашарил, разгребая руками донную грязь, бесчувственное тело, ухватил его за шею и поднял на поверхность как тряпичную куклу. Голова кларнетиста безвольно закачалась на волнах, длинные мокрые пряди волос расползлись щупальцами, распахнутые глаза слепо уставились в небо, подбородок отвис.
Трое мужчин вытащили Тони Аркуэ на причал, куда уже высаживались пассажиры обеих лодок.
Пожарный тотчас засуетился, пытаясь привести его в чувство, и со всех сторон посыпались советы:
— Нужно ему руки поднять и опустить несколько раз!
— Нажмите ему на грудину!
— Может, его вверх ногами подвесить, чтобы вода вылилась?
Только Ламбер Паже хранил молчание.
—
Боже мой![756] Умоляю, сделайте что-нибудь! Какой ужас! — простонала Ольга Вологда. — Пустите меня к нему! Дайте мне его обнять! Это я во всем виновата! — Она истерично метнулась к утопленнику, попыталась оттолкнуть рыбака, но пощечина вернула ей способность соображать.
Выбившись из сил, пожарный, чьи старания так и не принесли результата, поднялся, потирая поясницу, и скорбно вздохнул:
— Всё. Помер.
В толпе заахали, все разом бросились к жертве. Стоя вокруг мертвого Тони, Аженор Фералес, Жоашен Бланден и владелец скобяной лавки с трудом сдерживали натиск, а люди напирали, завороженно глазея на труп. В полной тишине трое спасателей подняли его и понесли к ресторану, откуда уже высыпали те, кто не участвовал в лодочной прогулке. Женщины причитали, то и дело звучали слова «врача!» и «в полицию!»
— Что случилось? — спросил Мельхиор Шалюмо, заступив дорогу рыбаку.
— Человек упал с лодки, — буркнул тот, недовольный, что какой-то коротышка лишил его возможности немедленно выступить перед большой аудиторией, жаждущей макабрических подробностей. — А и не странно: эти олухи пляски на борту устроили, такую болтанку учинили — мало не показалось. Парень свалился в озеро, запаниковал, но эти обормоты решили, что он их разыгрывает. С другой стороны, непонятно, как он ухитрился утопнуть в этой луже — там воды-то по грудь. Разве что в иле увяз… Это да, дно здесь сущая трясина и ям полно — небось провалился в такую, его и затянуло. Жуткое дело — топь, человека держит что магнит железные опилки. А парень хилый был, хоть и молодой. В общем, почитай в стакане воды захлебнулся.
— Не знаете, как его звали?
— Приятели кричали ему «Тони». Ладно, прошу прощения, мне еще показания дать нужно — сейчас полицейские явятся, начнут расспрашивать. Я как-никак главный свидетель.
«Тони Аркуэ, Тони Аркуэ… — забормотал человечек, укрывшись за кучей валежника. — Ну, Отец Небесный, Ты превзошел себя, я на такое даже не рассчитывал. Дождичек, эдакий весенний, лучше со снегом и с градом — таковы были скромные мои упования, а Ты, о Всемогущий, наказал все мерзкое сборище, подбросив им утопленника! И кого же Ты избрал мишенью Своего праведного гнева? Кларнетиста, которого я терпеть не мог! Конечно, я предпочел бы, чтоб Ты покарал его приятеля Аженора Фералеса, грядущего короля рогоносцев, или Анисэ Бруссара, хозяина скобяной лавки на улице Вут. Но что сделано, то сделано, благодарю Тебя и за это… А я их предупреждал. Не позвали меня на праздник — им и аукнулось. Так-то, кто Чик-Чирика обидит — расплатится сполна… Нет, подумать только — даже тортом не угостили! И я еще поначалу выпрашивал для них хорошей погоды!»
Пообщавшись с Господом, Мельхиор направился к новобрачной. Мария Фералес, сидя на раскладном стуле, горько рыдала, пухлые плечи ее подрагивали. Все утро, с самого рассвета, она наряжалась и прихорашивалась, чтобы предстать со своим Аженором перед священником, а потом отпраздновать свадьбу с друзьями и коллегами. Этот день должен был стать самым прекрасным в ее жизни. И вдруг — смерть. Ужасный, недобрый знак! Она ревела самозабвенно, громко всхлипывая, и не сразу заметила, что кто-то пощипывает ее за ляжку. Вздрогнув, Мария оторвала ладони от лица и при виде маленького человека попыталась улыбнуться:
— Мельхиор! Как мило, что ты пришел меня утешить.
— Загублена твоя свадьба, бедняжечка… Жаль, что ты отказала мне в удовольствии быть твоим шафером.
— Аженор тебя недолюбливает, вот и…
— Вот и напрасно! Сегодня все убедились, что тех, кто против меня, Господь сурово карает.
— Пшел вон, уродец! Убери свои грязные лапы от моей жены! — Невесть откуда взявшийся разъяренный Аженор Фералес навис над человечком с таким видом, будто сейчас ударит.
Мария охнула от неожиданности, а Мельхиор Шалюмо, отбежав на безопасное расстояние, выкрикнул:
— Берегитесь, мерзкие свиньи, Господь Всемогущий вас изничтожит одного за другим! — И бросился в лес, распугивая голубей.
На бегу человечек яростно хлестал прутом кусты, из-под них кидались врассыпную мыши. Отмахав сотню метров, он вдруг остановился и подобрал сморщенный плод каштана, а когда выпрямился, кукольное личико его было безмятежно. Никакое событие, радостное или печальное, не могло надолго выбить Мельхиора Шалюмо из колеи.
«Думаешь, ты победил, Аженор Фералес? А вот и нет! Я же могу кое-кому многое порассказать, ежели меня вовремя спросить. Никто ведь пальцем не пошевелил, чтобы выловить красавчика из пучины, и я укажу виновных — всех перечислю. Уж не прогневайся, Отец Небесный: Ты — Всемогущий, а я — всеведущий!»
— Мельхиор, вы видели, что произошло?
Маленький человек поднял голову и наткнулся на пристальный взгляд Ольги Вологды.
— Нет. Я пришел, когда все пытались откачать вашего Тони.
— Лгунишка, я заметила вас на берегу, когда месье Аркуэ вытаскивали из озера.
— Вероятно, в суматохе вас подвело зрение, моя дорогая, — в то время я был у водопада. Вы пережили страшное потрясение, но не терзайтесь так — это был всего лишь несчастный случай.
— Вы так полагаете?
— У вас есть другое объяснение?
Балерина недоверчиво и с некоторым подозрением воззрилась на него, но человечек держался почтительно, вид имел невинный и спокойно продолжил:
— Надо думать, ангел-хранитель месье Аркуэ изволил отлучиться, вот и не пофартило бедняге. Стало быть, судьба у него такая — утонуть в луже. Если только…
Ольга нервно усмехнулась:
— На что вы намекаете? Знаете, Мельхиор, порой я вас боюсь. Вы и сейчас хотите меня напугать?
— А что, собственно, вы так суетитесь? Кем он вам был, этот Тони Аркуэ? Никем — поиграли и забыли. Милая моя Ольга, вам плохо удается роль испуганной овечки, более того — она вам совсем не идет. Уж не мучает ли вас совесть?
Балерина беспечно пожала плечами:
— Тоже мне ясновидящий — видите то, чего нет. Подите лучше найдите мне фиакр, Шалюмо, я хочу домой.
— Слушаю и повинуюсь, дорогая Ольга. — Мельхиор поклонился и зашагал к ресторану.
«И то верно — поезжай домой, цыпочка, запри дверь и клюв не высовывай», — с этой мыслью он запустил каштаном в воробья, промахнулся и рассмеялся себе под нос. А в следующую секунду лицо его застыло в привычной гримаске — губы так и остались растянутыми в улыбке, но в ней не было и следа веселья…
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Пятница, 26 марта
Виктор ликовал, он чувствовал себя лордом Дэвидом из романа «Человек, который смеется», тем самым английским пэром, что «страстно любил уличные представления, ярмарочные подмостки, клоунов, паяцев, чудеса под открытым небом». Сегодня ему невероятно повезло — удалось нащупать связующую нить между двумя волновавшими его темами: эксплуатацией детского труда, лишающей ребенка образования, и бродячим цирком. Вернее, найти сведения, которые могли примирить одно с другим. Супруги Селестен, ярмарочные циркачи, познакомили его с мадам Бонфуа. В 1892 году эта удивительная женщина устроила у себя в цирковом фургоне классную комнату и давала уроки чтения и письма двенадцати юным акробатам, мальчикам и девочкам. Мало-помалу число учеников росло, понадобилось даже нанять профессиональных учителей. И вскоре уже несколько школ-фургонов сопровождали семьи бродячих артистов в гастрольных разъездах по Парижу, внешним бульварам и предместьям, а на стоянках вырастали школы-палатки. И хотя преподаватели были католиками, принимали они малышей любого вероисповедания, каждому находилось местечко. Нынешней весной 1897 года занятия посещали двести семь учеников, и некоторые школы существовали на государственные субсидии, выделенные месье Бюиссоном, министром начального образования. Уроки проходили под звуки шарманок и литавров, даже в разгар праздничных гуляний в Менильмонтане или в Венсенском лесу.
Сейчас в Париже шла подготовка к открытию ярмарки на Тронной площади, переименованной в площадь Нации, — там, где когда-то сходились дороги на Монтрёй и Шаронну с Большим Венсенским трактом, между двух колонн, увенчанных статуями Людовика Святого и Филиппа-Августа. Виктор все утро бродил среди рабочих, собиравших павильоны и красивших деревянных лошадок; понаблюдал, как художники расписывают фанерные стены, расспросил мастеров о действии механизма карусели, помог им смазать зубчатые колеса. Позавтракав в компании человека-скелета, альбиноски и всего семейства Селестен, он водрузил треногу фотографического аппарата у недостроенного огромного павильона, где в скором времени начнут выступать танцовщицы, жонглеры, фокусники, и провел время весьма плодотворно. Снимки должны были получиться на славу — он старался запечатлеть на пластинах изумительное разнообразие ярмарочных номеров, уходящее в прошлое, кудесников и силачей, которых становились все меньше и меньше по мере того, как площадные праздники переставали играть важную роль в жизни горожан.
Виктор работал, пока позволяло освещение. Съемку монтажа карусели с деревянными лошадками и репетиции юных эквилибристов он решил отложить на завтра и принялся собирать вещи. Наклонившись за сумкой, поднял голову и внезапно поймал взгляд молодой женщины, стоявшей у входа в школу-палатку. Виктор кивнул ей и улыбнулся. Но женщина повела себя странно — вздрогнув, как от удара, бросилась бежать между штабелями досок и металлических брусьев прочь от него. Подивившись такой неожиданной реакции, он пожал плечами и пошел ловить фиакр.
Полина Драпье вскарабкалась на империал,
[757] вцепилась в поручень. Сердце бешено колотилось, перед глазами плыло, ее била дрожь. Руки так тряслись, что девушка с трудом отсчитала мелочь на билет. Это точно был он — тот самый фотограф, которого она видела несколько дней назад на площади Домениль. Поприветствовал ее — стало быть, узнал! От ужаса Полину бросило в жар, а когда она вышла из омнибуса на улице Шарантон, зуб на зуб не попадал от холода.
«Еще светло, и здесь полно людей, — попыталась она совладать с паникой, но все же невольно ускорила шаг. — Как он меня нашел? По карточкам бон-пуэн?» Вместо того чтобы отправиться прямиком в свой фургончик и забиться в темный угол, Полина заставила себя зайти в мясную лавку.
Хозяин лавки, месье Фурнель, нарезал окорок, его жена сидела за конторкой.
— Здравствуйте, мне, пожалуйста, сосиску и картошку во фритюре, — выпалила с порога девушка.
— Мадемуазель Полина! — заулыбалась мадам Фурнель. — Давненько вы к нам не захаживали. Неужто забросили учительствовать?
— Вовсе нет. Я сейчас преподаю в походной школе на площади Нации, где ярмарочные павильоны строят, там и ночую…
— Ах, стало быть, вы не слышали новость? А у нас в квартале только о том и судачат. Вчера шуму было! Вы ведь знали мадам Арбуа?
— Да, она моя соседка и…
— Представьте себе: ее убили! — перебила мадам Фурнель. — Уму не постижимо — такая славная старушка, никому дурного не сделала… А нашли-то покойницу благодаря мне! Дело было так. Я забеспокоилась — что это она у нас появляться перестала, думаю. Обычно каждое утро заходила за гольём да обрезками, которые я для нее специально откладываю, забирала кулек и шла к толстой Луизе, та ей заветренные бутерброды отдавала. Мадам Арбуа из голья да черствого хлеба паштеты крутила на весь свой кошачий выводок. Ну так вот, позавчера мы лавку только закрыли — я сразу к толстой Луизе. «Что-то душа у меня не на месте из-за мадам Арбуа, — говорю, — она к вам не заходила нынче?»
А толстая Луиза мне: «Нет, — говорит, — в последний раз две недели назад заглянула и с тех пор не показывалась, у меня для ее кисок уж пять мешков сухарей скопилось, девать некуда». «И что ж нам делать?» — спрашиваю. «Надо бы к ней наведаться — мало ли что», — отвечает. Ну мы и наведались. Стучали, стучали — тишина. Обошли сад. Глядь-поглядь, а там ни одной кошки, вот тут-то мы еще пуще забеспокоились. Потом смотрим — мать честная, дверь кухонная нараспашку стоит, внутри все дождем залило, и такой бардак, такой бардак! Ну, мы дом обшарили, конечно, — надо ж было проверить. А в доме — никого, словно хозяйка съехала в такой спешке, что с собой ничего взять не успела. Мы уж решили, что дочь ее к себе увезла наконец, вышли из дома, и вижу я вдруг: кот облезлый на краю колодца сидит. «Это ж Господин Дюверзьё», — говорю я толстой Луизе. А он сидит и смотрит на нас эдак чудно, будто подойти поближе приглашает. Мы подошли — что за чудеса! — крышка колодца гвоздями прибита. Это где ж такое видано, чтобы крышки колодцев гвоздями прибивали? А воду как брать, скажите на милость? «Луиза, — говорю я Луизе, — надо твоего хлебопека Фернана звать, что-то тут нечисто». А уж когда мы Фернана привели и он гвозди клещами повыдрал да крышку поднял — матерь божия, я чуть не сомлела. Бедняжка-то завонялась уже — таким смрадом из колодца в нос шибануло! А Фернан как увидел кучу тряпья внизу, в водице, смело так говорит: «Полезу-ка я поближе гляну» Привязал веревку к колодезному вороту и спустился, а когда вылез, белый был как простыня и бормотал всё: «Мертвая она, легавых зовите, мертвая совсем». Вот так сперва жандармы сбежались, потом сам комиссар с судебным доктором прибыть изволили — целая делегация! Доктор сказал, что мадам Арбуа задушили, а уж потом в колодец сбросили, и полицейские начали расспрашивать всех соседей. В конце концов постановили, что это бродяга какой-нито ее убил. Хотя странно — из пожитков вроде ничего не украдено… Ох, как подумаю об этом, сердце в пятки уходит: вот так сидишь дома, а к тебе в гости — убийца, здрасьте-пожалуйста. Он же и к нам прийти может, известное дело — убийца всегда возвращается на место преступления, а мы тут все бок о бок живем…
— Пусть попробует прийти, — проворчал месье Фурнель, — я его вот этим тесаком на котлеты порублю.
— Молчи, дурень, такими вещами не шутят, — шикнула на мужа мадам Фурнель. И снова обратилась к Полине: — Мы всем кварталом сложились на похороны мадам Арбуа, место ей на ближнем кладбище оплатили, чтобы в знакомой земле лежала.
— Я бы тоже хотела поучаствовать…
— А и поучаствуйте, мадемуазель Полина, — закажем ей красивый венок из лилий.
— Дочери мадам Арбуа уже сообщили?
— Никто не знает, где ее искать. Она навестила мать в последний раз полгода назад. Не по нутру ей наш квартал, слишком уж бедные мы все тут для нее. А я же ее совсем крошечкой помню — нянчилась с ней, ежели мадам Арбуа куда отлучиться надо было. Нелюдимая была девочка, никогда не играла с другими детьми… А какого числа, вы говорите, Тронная ярмарка откроется?
— Восемнадцатого апреля. Если желаете, мадам Фурнель, я раздобуду вам билеты на все аттракционы.
— Ой, как мило с вашей стороны! Не помешало бы нам с мужем развеяться, а то на душе до того тягостно…
Покинув Фурнелей, Полина прошла мимо дома мадам Арбуа, стараясь подавить новый приступ паники, вбежала в свой фургончик, задвинула засов, на всякий случай заглянула под кушетку и только после этого тяжело опустилась на табурет. Кулек с сосиской и жареной картошкой она даже не развернула — все равно сейчас не смогла бы проглотить ни кусочка. Перед глазами стояло лицо фотографа, что сегодня улыбнулся ей на площади Нации, — и сердце заходилось от страха.
Среда, 31 марта, ближе к вечеру
Виктор устроился в кресле салона на бульваре Мадлен. Поль Вибер, оператор из знаменитых фотостудий Розеля, любезно пригласил его сюда на приватный сеанс фильмы, о которой, как он уверял, вскоре будет говорить весь Париж.
Свет погас, на экране появились заглавные титры:
ПОДВЯЗКА НОВОБРАЧНОЙ
В спальню вошла молодая особа в свадебном платье и на мгновение обернулась с шаловливой улыбкой, обращенной, по всей вероятности, к мужчине в соседней комнате, но тот пока оставался за кадром.
Виктор вздрогнул. Такого он не ожидал. Перед ним замелькали сцены синематографической версии выступления Эдокси Максимовой в 1895 году на подмостках «Эдан-Театр». Тогда она представала перед публикой под псевдонимом Фьяметта…
Новобрачная на экране сняла венок из флёрдоранжа, белое платье скользнуло на пол, тонкие пальцы распустили шнуровку корсета…
По телу Виктора волной прокатилась дрожь.
Вот женщина — безымянная новобрачная или Эдокси? — сбрасывает корсет, медленно приподнимает нижние юбки, являя взору голени, обтянутые шелковыми чулками, колени, бедра, оборки пантолон…
Виктор заерзал в кресле, и Поль Вибер дружески ткнул его кулаком в плечо:
— Видали? Пикантно, а?
В кадре появился мужчина во фраке и цилиндре, опустился перед Эдокси на колени, провел рукой снизу вверх по ее ножке, коснулся кружевной подвязки…
На самом интересном месте экран потемнел, и в салоне зажегся свет.
— Ну как, понравилось, месье Легри?
— Весьма, весьма…
— А фильму про девицу и паровоз вам еще не довелось посмотреть? Презабавная штука! Девица разоблачается в чистом поле, снимает то, сё, и вот уже когда… Хоп! Между ней и зрителем проходит поезд! А представьте, что получится, если слегка изменить сценарий. Например, поезд слегка припоздает, а? Сперва мы видим девицу, затем нам показывают стоящий на рельсах паровоз, снова девицу — и опять состав, уже в клубах пара! Это создаст интригу и произведет оглушительный эффект, согласны?
— Э-э… да, несомненно, но меня, знаете ли, больше занимает техническая сторона.
— Техническая сторона чего? Железнодорожного движения или оголения девицы? — загоготал Поль Вибер.
Виктор поморщился. В одной части его сознания все еще кружились фривольные образы, другая изыскивала способ положить конец этой беседе.
Поль Вибер не унимался:
— Да понимаю, понимаю, о чем вы! Патрон с удовольствием объяснит вам принцип действия своего витаскопа, но сейчас он, увы, в Биаррице. Когда вернется — непременно устрою вам встречу. Кстати, месье Розель уже несколько месяцев ведет переговоры с неким Коэном, американцем, который снял фильму под названием Annabelle’s Butterfly Dance и раскрасил вручную каждый кадр, так что фильма получилась цветная — представляете? За синематографом будущее, месье Легри, изобретатели из кожи вон лезут, чтобы друг друга переплюнуть, новация следует за новацией, и каждая вызывает живейший интерес в обществе. Знаете ли вы, что Том Эдисон уже возил свой кинетоскоп в Японию, а первые киносеансы имели шумный успех в Бомбее? Если вы так увлеклись этой темой, могу представить вас братьям Люмьер. Они сейчас рассылают операторов по всему свету — в Америку, в Мексику, в Россию, чтобы собрать документальный архив, и могут предложить вам работу.
Все время, пока Поль Вибер разглагольствовал, Виктор методично стряхивал несуществующие пылинки с рукава собственного пиджака. Он уже изнемогал — смертельно хотелось выйти на улицу проветриться.
— Очень соблазнительно, но моя супруга в скором времени должна разродиться. В любом случае премного вам благодарен, месье Вибер, и вынужден откланяться.
Уже шагая по бульвару Мадлен, он никак не мог выкинуть из головы фривольную фильму и злился на себя: Эдокси Максимовой снова удалось поймать его в ловушку. «Утешает одно — она об этом никогда не узнает… Движущиеся картинки! Если все это придумано только для того, чтобы показывать людям такую пошлость, я готов довольствоваться станковой живописью. А лучше сам когда-нибудь обзаведусь камерой, чтобы запечатлеть всю красоту и убожество этого мира».
Настал час Больших бульваров — закусочные ломились от посетителей, на тротуарах тоже было тесно. Виктор увидел в толпе одноглазого пузатого человека с безбородым лицом, иссеченным шрамами, и в щегольском лазурно-голубом шарфе. Он сразу узнал Лорана Тайяда,
[758] автора «В стране невеж». В памяти всплыли строчки из его несуразных стихов:
Если хочешь, на фиакре
Мы поедем есть свинину…
Вокруг город бурлил жизнью, парижане спешили по делам, а Виктор шел в этой суете и упивался свободой. При виде здания Опера Гарнье он вдруг вспомнил Данило Дуковича
[759] — певца, который был жестоко убит на пороге воплощения своей мечты. «Бедный Данило! Ты мечтал исполнить партию Бориса Годунова на этих великих подмостках. Надеюсь, твой прекрасный голос сейчас звучит в специальном раю для баритонов».
Виктор неторопливо продолжил путь, а за его спиной остался сверкать на солнце купол Академии музыки.
[760]
Если бы какой-нибудь любознательный гражданин взял на себя труд выведать тайные устремления Мельхиора Шалюмо, он был бы немало удивлен ответом: «Я хотел бы стать суфлером, сидеть в будочке и всеми силами способствовать успеху исполнителей».
Действительно, что за причуда — выбрать среди всех важных профессий, необходимых для поддержания работы гигантского механизма под названием Парижская опера, суфлерское ремесло, чтобы залезть под авансцену и спасать от конфуза забывчивых певцов!
«Быть неизвестным героем, всевластной тенью, незримой для публики, — это не ремесло, а истинное искусство, требующее от своего адепта хладнокровия и блестящего знания партий и реплик. Я обладаю и тем, и другим», — мог бы возразить маленький человек, благоразумно умолчав, что незримая тень давно бродит по закулисью и пребывает в курсе всех балетно-оперно-альковных тайн.
Пока же для всех вокруг Мельхиор был лишь мальчиком на побегушках, хотя предпочитал именовать себя «оповестителем». Это он, шустро перебирая ножками, метался от гримерки к гримерке с криком: «Занавес через тридцать минут! Извольте приготовиться! Заранее благодарю вас!»
В обязанности человечка входила также проверка хористов и танцовщиков из массовки на дееспособность — то и дело кто-нибудь из них, сказавшись больным, норовил улизнуть с репетиции или пропустить спектакль, так вот сначала их пытался вывести на чистую воду Мельхиор, а затем уж посылали за врачом. Сам Мельхиор медицинскими познаниями похвастаться не мог, но почитал себя мастером массажа и с удовольствием взялся бы исцелить натруженные пальчики ног или сведенные судорогой икры балерин, особенно молоденьких учениц балетной школы.
«Дебютантки», девочки семи-восьми лет, приходили в балетную школу Опера со всех концов страны — из Вожирара, Бельвиля, с горы Святой Женевьевы, бывало что и пешком, спасаясь от уготованной для них судьбой и окружением участи бродячих торговок, поденщиц и маркитанток. Мадемуазель Бернэ, наставница младших и средних классов, проводила строгий отбор, после чего юные счастливицы допускались к занятиям.
Мельхиор Шалюмо обожал слушать их веселое щебетание, притаившись у раздевалки. Вот и сейчас из-за тонкой ширмы доносились смех, болтовня, визг, строгий голос наставницы, призывающей всех к порядку; потом из класса долетели дружный топот десятков ножек и звуки скрипки.
— Руки округлить! Держим спину!
Только для того чтобы овладеть пятью позициями, требовалось четыре-пять месяцев; дальше наступало время дегаже, рон-де-жамб, плие и батманов.
До чего же они были трогательные, будущие балерины, — тоненькие, взъерошенные и плохо умытые без материнской руки, все в газовых юбочках с розовыми или голубыми шелковыми поясками! Как радовались, если какой-нибудь хореограф приглашал их для участия в массовой сцене на вечернем представлении, как ликовали, получая за это честно заработанные сорок су! Тогда сразу забывалась усталость, и добытчица посреди ночи бежала домой с монетами в кулачке, измотанная донельзя, но сказочно богатая…
Очередной урок закончился тактами из «Кармен». Последний взмах смычка — и девочки слетелись в стайку вокруг наставницы, чтобы внимательно выслушать ее замечания.
Мельхиор Шалюмо продал бы душу дьяволу, лишь бы сделаться невидимым и побывать хоть на одном уроке — но только в этом, начальном, классе. К девочкам постарше он был равнодушен, как и к мальчикам любого возраста.
За все золото мира маленький человек не согласился бы покинуть Опера. Порой он ночи напролет бодрствовал на крыше, а перед каждой премьерой спускался под землю, в подвалы дворца, и беседовал с тем, кого он называл Создателем и Отцом Всемогущим, с тем, на кого возлагал все свои чаяния. В состоянии мистического транса Мельхиор видел громокипящие потоки — они обрушивались с косогоров Бельвиля и Менильмонтана и уходили в почву грунтовыми водами, которые устремлялись к Сене, заполняли ее русло, а потом попадали в плен огромного резервуара под зданием Гарнье, призванного служить оплотом противопожарной безопасности. Он видел все это и утешался мыслью, что страшный пожар, пережитый им на улице Ле-Пелетье, никогда не повторится здесь, в новом пристанище Парижской оперы. Дворец в такие минуты превращался для Мельхиора в призрачный парусник, плывущий сквозь сон и явь, неосязаемый, нереальный, наполненный музыкой Гуно, Доницетти, Массне или Верди — их колдовские чары завораживали зрителей, и все тысяча девятьсот человек во фраках и вечерних туалетах были в его, Мельхиора, руках, все безропотно покорялись воле крошечного капитана.
— …Я похожа на индюшку!
Ольга Вологда металась по гримерке, то вскакивая на пуанты, то шлепая по полу всей стопой. Она чувствовала себя дебютанткой, умирающей от страха в ожидании вердикта публики, к тому же ее волнение перед выходом на сцену сейчас усугубляла жесточайшая головная боль, молотом бившая в затылок.
— Вылитая индюшка! — убежденно сообщила Ольга костюмерше, которая уже несколько минут бегала за балериной, пытаясь приспособить ей пониже спины гигантский бархатный бант.
— Что вы, мадам! В этом костюме вы неотразимы — у всех мужчин в зале слюнки потекут!
— Вот я и говорю: рождественская индюшка! — возопила Ольги и, усевшись за туалетный столик, нервно взмахнула пуховкой.
Осознание тщеты собственного существования становилось все неотвратимее, и от этого опускались руки, ей казалось, что оцепенение охватывает не только тело, но и душу и что лишь какое-то чудовищное, невероятное событие может вырвать ее из болота апатии, в котором она увязла по самую макушку. Гибель Тони Аркуэ не произвела на нее впечатления — она вообще ничего не почувствовала. Тогда откуда эта опустошенность? Заели серые будни? Или появился страх перед будущим? В свои тридцать два года Ольга Вологда еще ни разу не задумывалась о том, что конец карьеры не за горами, ей и в голову не приходило уйти со сцены, хотя за плечами был долгий путь — двадцать шесть лет на пуантах.
Она пристально изучила свое лицо в зеркале — оттуда на нее смотрела, полуприкрыв темные глаза, эффектная женщина с карминно-алым ртом — и несколькими движениями довела грим до совершенства. Еще немного крема, чуть-чуть пудры, слегка подправить бровь угольным карандашом… Встав со стула, балерина окинула взглядом свое отражение: прекрасное тело гармоничных пропорций, белокурый парик с шелковистыми завитыми локонами… Костюмерша водрузила ей на голову пеструю шляпку с фестонами, на талию повязала передник с оборками и принялась подкалывать подол булавками.
— Забавно… — тихо проговорила Ольга. — Сколько триумфальных ролей, а теперь я должна играть никчемную механическую куклу, которая появляется в балете всего-то пару раз. Смех и грех! Балет называется «Коппелия», а на деле главная партия у Сванильды. Хорошо хоть в первом акте у Коппелии есть вальс, не то я была бы жалкой статисткой при этой Розите Мори!
— Пожалуйста, стойте спокойно, мадам, — взмолилась костюмерша, — а то я случайно вас уколю.
— Подумать только, в восемьдесят четвертом году сам Мариус Петипа поставил «Коппелию» в новой хореографии под названием «Дева с глазами из эмали» специально для Императорского Санкт-Петербургского балета — и я тогда была слишком юна для главной партии! А сейчас я для нее слишком стара… Все потеряно, я старая кляча!
— Как не стыдно клеветать на себя, мадам! Вы во цвете лет!
— К черту вашу лесть, Гортензия!
— Но воздыхателей-то у вас не поубавилось, так и ходят толпами!
— Ах ну да, сейчас лопну от гордости — за мной ходят толпы старых хрычей и пижонистых молокососов!
— Вы преувеличиваете, среди них есть очень достойные господа — тот виконт, например, и еще банкир, они такие представительные и темпераментные… Вам повезло, что месье Розель — мужчина широких взглядов…
— Замолчи сейчас же, бесстыдница! — вскинулась Ольга. — Амедэ Розель — славный человек, он любит меня такой, какая я есть!.. Впрочем, ты права, — помолчав, вздохнула она, — мне не на что жаловаться. И соперничать с Розитой Мори я не стремлюсь — она ведет жизнь затворницы, боится проехаться в открытом экипаже, чтобы не подхватить простуду, и не позволяет себе ни интрижек, ни выходов в свет… Да уж, весело нам живется! Чтобы добиться успеха на сцене, нужно морить себя голодом — отказаться навсегда от
борща, закусок, кулебяки, от всякой вкуснятины! Целомудрие и самоограничение во всем — вот два непременных условия, которые позволяют стать прима-балериной. Что до меня, я решила слегка нарушить правила, пока молодость не помахала мне ручкой. И знакомство с Амедэ Розелем стало для меня прекрасной возможностью со всем удобством обустроиться в Париже. Уж лучше быть содержанкой или вовсе удавиться, чем преподавать искусство Терпсихоры этим соплячкам!
— Так чего же вы тогда разворчались?
— Да потому что… потому что в зрительный зал набился весь Париж, а я исполняю второстепенную роль! И потому что у меня голова раскалывается!
— Занавес через полчаса! — донесся из коридора звонкий голос Мельхиора Шалюмо. — Мадемуазель Ольга, для вас посылка — подарок анонимного поклонника!
— Оставьте под дверью! Ну-ка, Гортензия, живо налей мне воды в миску. Моя бедная матушка говорила, что самое верное средство от мигрени — подержать запястья в холодной воде. О черт, куда ты задевала мои кружевные митенки?..
В фиакре Кэндзи всю дорогу любовался сидевшей напротив Джиной — отороченная мехом накидка, которую он подарил ей к Новому году, подчеркивала восхитительную белизну кожи.
На излете авеню, рассеивая ночную темень, переливалась огнями самоцветов гора из мрамора, порфира и бронзы — дворец Гарнье. Джину переполняло чувство полноты жизни. Роскошные магазины, кафе, рестораны проплывали за окном фиакра. Элегантный до невозможности Кэндзи во фраке то и дело нежно касался ее щеки и чуть слышно шептал ее имя…
Улицу Алеви наводнили экипажи. Фиакр пристроился вслед неуклюжей берлине
[761] и остановился за ней под аркой правого крыла Академии музыки. Натянув перчатки, Кэндзи выскочил из фиакра и, склонившись у раскрытой дверцы, подал руку Джине.
В вестибюле дворца Гарнье у нее тотчас закружилась голова. Вверх по широкой парадной лестнице, выложенной разноцветным мрамором, текла толпа разодетых дам и господ, волнами накатывали гул голосов и смешанные ароматы дорогих духов. Джину захлестнула эйфория. Застывшие в камне Рамо, Гендель, Люлли и Глюк молча взирали на восхитительное разнообразие роскошных туалетов, равнодушные к суете и толкотне, но казалось, и они разделяют ее экзальтацию. Этот вечер в Опера должен был упрочить узы, связавшие Джину с Кэндзи Мори.
Свет играл на шелках, парче и бархате, дамы, сопровождаемые кавалерами, которые все как один держались с церемонностью распорядителей похоронного бюро, не скупились ни на декольте, ни на благосклонные улыбки, и Кэндзи млел от удовольствия — женщины, юные и зрелые, всегда его завораживали, и, восхищаясь ими сейчас, он чувствовал, что его спутница от этого становится еще желаннее. Джина была прекрасна в вечернем парчовом платье, мужчины глаз с нее не сводили, а Кэндзи это льстило — ему нравилось разжигать зависть в соперниках. Он огляделся в поисках знакомых лиц. Ну конечно, у фонтана со статуей пифии чопорная Бланш де Камбрези, вцепившись в локоть своего супруга Станислава, беседовала с мадам Адальбертой де Бри, та явилась с полковником де Реовилем, вторым мужем. А вот и… Кэндзи поспешно отвернулся, но было поздно: к нему уже устремился сатанинского вида высокий худощавый субъект с остроконечной бородкой и в немыслимом наряде из гранатово-красного бархата:
— Месье Мори дружочек! Мы не виделись целую вечность! Мадам, честь имею. Какое счастье, что мы наконец-то можем насладиться шедевром Лео Делиба, он ведь вернул к жизни симфонический балет как явление, знаете ли. На сей раз его восславят в веках Ольга Вологда и Розита Мори. Кстати о мадемуазель Вологде, мне недавно представили на рецензию либретто оперы-балета ее собственного сочинения, подумайте только — на античный сюжет! Главную балетную партию она писала словно для себя — и будет в ней божественна, могу поклясться. Я твердо намерен убедить директора Опера принять сие чудо к постановке. О, еще раз кстати: вы с Розитой Мори однофамильцы, ну не забавно ли!
— Моя фамилия по-другому пишется,
[762] — буркнул Кэндзи и, поскольку ему удалось прервать поток красноречия субъекта, перешел к формальностям: — Джина, позволь тебе представить Максанса де Кермарека. Он антиквар, специализируется на продаже старинных струнных музыкальных инструментов. Мадам Джина Херсон, художница-акварелистка.
— Мое почтение, мадам, — раскланялся Мефистофель в бархате. — Изысканностью и утонченностью ваш туалет превосходит лучшие образцы нарядов восемнадцатого века! Ах, крепон цвета индиго, ох, венецианский гипюр! Шаль просто волшебная. А это что же? О боже, японские узоры! Сама Помпадур позеленела бы от зависти! — Максанс де Кермарек сделал вид, будто залюбовался узорами на шелке, но Джина заметила, что он то и дело косит глазом на Кэндзи, да при том как-то заискивающе.
— Только Помпадур? А что же мадам де Ментенон? — усмехнулась она.
— О нет, дорогая моя, вы достойны сравнения исключительно с Помпадур! — вскричал Мефистофель. — Помпадур и еще раз Помпадур — куда до нее этой благочестивой грымзе Ментенон, на которой наш Король-Солнце женился, когда из него уже песок сыпался! — Он обворожительно улыбнулся Кэндзи: — Ну когда же, когда вы заглянете ко мне на улицу Турнон, дружочек?
— В скором времени.
Максанс де Кермарек поклонился Джине, пожал руку японцу и, задержав его ладонь в своей, шепнул:
— Я припас для вас коллекцию китайского чая. Вы единственный мужчина, с кем я могу разделить свою страсть… к экзотическим напиткам.
— Очень любезно с вашей стороны, непременно наведаюсь к вам на днях. Идемте, дорогая, нам еще нужно отыскать ложу бенуара.
Уходя вслед за Кэндзи, Джина успела заметить разочарование на лице антиквара.
— Похоже, месье де Кермарек пошил себе костюм из портьеры, — фыркнула она. — Помните, у Анатоля Франса есть история о чудаке, носившем сюртук из ткани, которой обтягивают матрасы? — И тотчас устыдилась своего злословия. — Ваш друг показался мне несколько…
— Льстивым? Дорогая, его комплименты предназначались не вам. Максанс предпочитает мужское общество, он хотел польстить именно мне.
— Вы хотите сказать…
— Неужто вы шокированы? В любви всякий волен выбирать предмет воздыханий сообразно своим склонностям. Или у вас какие-то предрассудки на сей счет?
— Нет, просто…
— Не беспокойтесь, я поддаюсь только женским чарам. И сам ворожу исключительно ради женщин.
— Стало быть, я всего лишь одна из тех, кого вы вероломно приворожили?
— Вы знаете, что это не так, и по-моему, я уже приводил доказательства. Вы есть и пребудете моей второй и последней любовью.
В этот момент дали звонок. Музыканты заняли места в оркестровой яме и теперь настраивали инструменты — бодрая какофония перекрыла гул голосов в зале. Джина едва успела рассмотреть ложи, обитые темно-красным бархатом, и аллегорические фигуры на потолочном своде,
[763] как огни гигантской люстры начали гаснуть. Старший машинист сцены подал сигнал, в зале сделалось совсем темно — и занавес с бахромой и витыми шнурами медленно пополз вверх, являя взорам деревеньку в центральной Европе.
Нежно сжимая друг друга в объятиях, Франц и Сванильда, главные герои действа, протанцевали всю ночь до зари, и вот уже с первыми лучами рассвета на балконе старинного особняка появился старый Коппелиус, безумный мастер-механик. Он принялся производить манипуляции над своим новым творением, заводной куклой в рост человека, пытаясь вдохнуть в нее жизнь.
Из ложи бенуара по соседству с той, что занимали Джина и Кэндзи, донеслось восхищенное «Ольга!», но на поклонника русской примы тотчас зашикали.
Японец подался вперед — в тусклом свете рампы, достигавшем первых рядов партера, он различил греческий профиль Эдокси.
Случайно ли она оказалась здесь, совсем рядом с бывшим возлюбленным, с тем, кого она когда-то называла своим микадо?..
[764] Кэндзи благоразумно отодвинулся подальше от бортика, откинувшись на спинку кресла.
Сванильда в исполнении неземной, волшебной, воздушной Розиты Мори, женщины-птицы, гневалась на жениха, который бессовестно флиртовал с селянками. И Кэндзи одолели мрачные мысли: в этих двух персонажах, Франце и Сванильде, он увидел себя и свою спутницу. Джина порвет с ним не задумываясь, едва узнает, что он до сих пор испытывает влечение к Эдокси. Снова наклонившись к бортику, японец украдкой посмотрел в зал — и наткнулся на взгляд бывшей любовницы. В глазах Эдокси читался вызов — она устремила взор на Кэндзи, как фехтовальщик направляет шпагу в лицо противнику, и хотя тотчас же отвернулась, он догадался, что не сумел скрыть от нее свои чувства. Благо, увлеченная балетом, Джина ничего не заметила.
На сцене настал звездный час Ольги Вологды — ломаные, отрывистые, но необыкновенно точные движения Коппелии ошеломили зрителей. Она вальсировала с Францем и кружилась в объятиях деревенских парней, сраженных красотой механической куклы.
Джина чуть слышно напевала, вторя мелодии. Ей вспомнилось далекое прошлое: дочери, Таша и Рахиль, совсем малышки, уморительно топают по квартирке в Одессе, изображая заводные игрушки, а их отец хохочет и хлопает в ладоши. Пинхас тогда еще не ушел из семьи, и она, Джина, была счастлива… От ностальгии защемило сердце. И в этот миг Кэндзи ласково коснулся ее руки…
— Если так пойдет и дальше, я возьму да засну, и от храпа моего могучего колосники попадают! — пообещал Мельхиор Шалюмо в пространство, глядя на хореографические выкрутасы Ольги Вологды.
Заняв пост в кулисе на левой стороне, он надзирал за статистками, толпившимися за сценой и пока только мечтавшими попасть в состав кордебалета. Его бесило, что они так легко принимают ухаживания всяких господ не первой свежести — один седовласый соблазнитель уже зажимал в углу девицу и что-то нашептывал ей, пытаясь всучить коробку конфет; второй восседал на стуле, а у него на коленях вертелись и хихикали сразу две малолетние егозы.
«Позор тому, кто дурно об этом подумает», — прокомментировал Мельхиор,
смертельно завидуя обоим престарелым ловеласам. И единственная принятая им мера против непотребства за сценой свелась к тому, что он оштрафовал девчонку, которая громче всех смеялась, — обычная санкция, призванная поддерживать дисциплину среди маленьких жеманниц, ни единая из которых никогда не сравнится с мадемуазель Сюбра или мадемуазель Хирш.
— Эта Аглая стоила мне полторы тысячи франков на Рождество! — пожаловался старикан с орденом Почетного легиона такому же скрюченному годами сатиру.
Мельхиор Шалюмо, пожав плечами, перебрался поближе к сцене.
И вдруг произошло нечто ужасное: в разгар вальса Ольга Вологда упала — и осталась лежать, смешно раскорячившись на подмостках. Все случилось столь быстро и неожиданно, танцовщики столь стремительно бросились спасать положение, что публика решила, будто так и задумано хореографом. Балерины из кордебалета тотчас заслонили Ольгу собой, Сванильда и Франц сымпровизировали зажигательное па-де-де, а русскую приму тем временем унесли за кулисы. Не успели редкие балетоманы, придирчиво сверявшиеся с либретто по ходу спектакля, удивиться, а на сцену уже выпорхнула дублерша Коппелии и, обмирая от счастья — надо же, как повезло! — устремилась в круг.
Кто-кто, а уж Мельхиор Шалюмо все видел и все понял. Один-единственный взгляд на распростертое тело Ольги Вологды — и его охватило такое неистовое ликование, что человечек даже испугался: он не сумеет скрыть свои чувства, надо срочно что-то делать. Прочь отсюда немедленно, а то заметят!.. Куда же?.. Конечно, на крышу!
Мельхиора шатало, сердце грозило вырваться из груди, и чтобы дать выход безудержной радости, он запел:
Человечек жил на свете,
Сам не больше воробья.
«Чик-Чирик!» — кричали дети…
На высоте пятидесяти метров Чик-Чирик скакал по крыше дворца Гарнье, который вознес его над сияющей электрическими фонарями авеню Опера, над Парижем, чей сон хранила конная муниципальная гвардия, над миром, над Вселенной.
— Господь Всемогущий, Ты меня так вконец избалуешь! Я ждал этого момента, верил Тебе, как всегда, без оглядки. Ну, бывало, что и усомниться доводилось время от времени — да ведь не без повода же, сам подумай! А тут — оп-ля! — Ты разложил мне эту злыдню на сцене, как блин на сковородке! Брависсимо!
Мельхиор пробежался по краю аттика, на оконечностях которого высились аллегорические скульптурные группы Поэзия и Гармония. Задрал голову — и позолоченный фонарь купола представился ему вдруг монаршей короной запредельного королевства, где не существует запретов, стесняющих его здесь, на земле. Он развернулся, щелкнул каблуками, вскинул руки в приветствии городу, лилипут, возомнивший себя сверхчеловеком, и прокричал:
— Вы — куклы! Я — кукольник!
ГЛАВА ПЯТАЯ
Четверг, 1 апреля, вечером
— Тряпичная кукла — вот кто я такая! Ах, сердце уже не бьется! Я умираю… — Ольга Вологда, утопая в пышной перине и подушках, попыталась привстать на кровати и обратила бледное лицо к Эдокси Максимовой.
— Ну еще чего — умираешь! Вот, выпей отвар и перестань говорить ерунду. Ты скоро поправишься. Могли бы и без врача обойтись — он сказал, что тебе просто нужно хорошенько отдохнуть. Поспи.
— Я чахну, увядаю, одна-одинешенька, всеми заброшена! — взвыла балерина.
Эдокси досадливо поморщилась:
— Ольга, ну что ты, право слово! Я же здесь, с тобой.
— О, ты — другое дело. А негодяй Амедэ Розель сейчас развлекается в Биаррице с этой потаскухой Афродитой д’Ангиен, да еще имел наглость написать мне, что сиднем сидит у смертного одра своей бабушки! — расшумелась прима. — Перевелись рыцари на французской земле! Одно утешает — говорят, у них там, в Биаррице, на атлантическом побережье, льет как из ведра!
— Тише, тише, тебе нельзя так волноваться. Лучше выпей еще отвару.
— Помоги встать, меня тошнит…
Эдокси отвела Ольгу в уборную и уселась ждать ее в гостиной, затопленной сумерками. Ей было неуютно здесь, в загроможденных вычурной мебелью апартаментах — Амедэ Розель, обставляя свое жилище, слишком увлекся резным палиссандром, итальянским мрамором, саксонским фарфором и светильниками в форме негритят с газовыми рожками из матового стекла на голове. Пурпур и позолота безуспешно сражались за территорию с агрессивной зеленью, прущей из бесчисленных горшков и жардиньерок. Арфа, на которой никто в доме не умел играть, и два монументальных полотна — на одном шествовали Ганнибаловы слоны, на втором был явлен триумф Юлия Цезаря на римском Форуме — довершали декор гостиной. Эдокси зажгла лампу Рочестера и раздвинула двойные занавески. Она с ног валилась от усталости, под глазами залегли тени, хотелось только одного: выспаться.
Наконец вернулась Ольга — шла она пошатываясь, судорожно вцепившись пальцами в ткань домашнего платья, отороченного соболями. Добрела до полудивана и без сил рухнула на него.
«У нее расширены зрачки, — с ужасом заметила Эдокси. — Неужели опиум?..» Даже в полумраке гостиной она видела, что нос подруги заострился, глаза запали, лицо покрылось восковой бледностью.
Что, если доктор Маржери поставил неверный диагноз?.. Эдокси вдруг охватил иррациональный страх. Вдруг он ошибся?..
— Послушай, Ольга, постарайся припомнить, что ты ела перед выходом на сцену.
— Ах, оставь меня!.. Ты прекрасно знаешь, что в дни премьер я соблюдаю строгую диету. Несколько глотков воды сделала, и всё.
— Ты пила воду из-под крана?
— Разумеется нет. Из запечатанных бутылок. Я покупаю воду из горных источников Оверни у бакалейщика на улице Рошамбо и всецело ему доверяю. Я пью эту воду во время каждого приема пищи, и Амедэ тоже пьет, свинья жирная, вот уж я устрою ему сюрприз, когда вернется, я приказала сменить замки в… Ой! — Ольга привстала, сжимая пальцами виски. Домашнее платье распахнулось, и разошлась шнуровка лифа, обнажив грудь. Балерина безвольно откинулась на спину.
— О боже, Ольга! Опять приступ? — забеспокоилась Эдокси.
— Нет… да… это слово… Я сказала «свинья» — и вспомнила!
— Ты ела свинину? Окорок? Ветчину? Свиную колбасу?
— Нет, пряничную свинку! Мельхиор Шалюмо, оповеститель, принес мне подарок от какого-то поклонника… Я тогда искала свои митенки… Странный подарок для балерины — я думала, надо мной кто-то подшутил. Знаешь, такие штучки на праздничных гуляньях продают — считается, что они приносят удачу. Фигурка из теста, а на ней глазурью выведено имя.
— Пряничная свинка? Как на ярмарках?
— Ну да. На моей было написано «Ольга», а в пакет вложена карточка со словами «Съешь меня, я…» Ох, опять голова закружилась.
— Так ты съела свинку?
— Маленький кусочек откусила, не смогла удержаться — я же суеверная… Эдокси, пожалуйста, оставь меня, я так хочу спать…
Пятница, 2 апреля
Таша вдали от мира невзгод и страстей путешествовала по стране грез, сладко посапывая во сне. Ее левая рука свесилась на пол перед носом кошки
Кошки, которая прикорнула под кроватью. Виктор тоже спал, и ему снилось, что он пытается прочесть старинный свиток, но буквы расплывались, и слова исчезали на глазах.
В просторной мастерской пахло ладаном. Книги на полках и акварели на стенах сливались в многоцветный узор. Рамы, мольберты, стаканы с кистями, разбросанная повсюду одежда превращали комнату в живописный кафарнаум.
Виктора разбудил лай дворовой собаки. Он открыл глаза, но при виде картины, висевшей напротив алькова, снова зажмурился. Это был портрет его приемного отца, написанный Таша. Непринужденно сидящий в кресле — нога закинута на ногу, в руке открытая книга, — Кэндзи Мори, казалось, вот-вот изречет одну из своих обожаемых пословиц. Собака снова залаяла, под окном защебетали соседки — дочери столяра пришли за водой и наполняли ведра у колонки.
Что же было написано в том свитке?.. Виктор встал с кровати. На пол что-то упало, когда он откидывал одеяло, и тотчас раздались топоток мягких лапок, скрежетание когтей по паркету —
Кошка в несколько скачков настигла добычу.
— Ну-ка отдай! Брысь отсюда! — прошипел Виктор.
Он отобрал у зверя букетик: веточка самшита, перо горлицы и пшеничный колосок, перевязанные соломинкой. Стало быть, Эфросинья Пиньо запрятала-таки свой оберег им под подушку, хотя ее просили этого не делать. Но добрая женщина считала волшебный букетик верным залогом того, что ребенок родится здоровеньким. Скоро их будет трое… Огромные буквы, составившие слово «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ», замигали, как фары, в тумане будущего. Сумеет ли его любовь к Таша, становившаяся с годами все требовательнее и эгоистичнее, примириться с тем, что главное место в ее сердце займет малыш? Чей нрав он унаследует, на кого будет похож?
Поначалу, узнав, что Таша забеременела спустя семь лет совместной жизни, Виктор был горд и счастлив, однако по мере того как дитя росло в ее чреве, к этим чувствам стала примешиваться тревога, он начал бояться, что во время родов случится что-то ужасное… Нет, нельзя об этом думать, прочь дурные мысли!
В дверь постучали. Консьержка вручила Виктору письмо, и он сразу узнал почерк Эдокси:
Дорогой месье Легри, никто, кроме Вас, не сумеет мне помочь. Я очень напугана. Со дня моего визита в книжную лавку произошли драматические события, и я с ума схожу от беспокойства. Мне известна Ваша репутация опытного сыщика, потому умоляю Вас спасти меня. Мне совершенно необходим Ваш совет. Посылаю Вам приглашение на сегодняшний вечер. Непременно приходите, мы сделаем вид, что встретились случайно. Всецело на Вас полагаюсь. Не подведите меня в память о давних временах и нашей длительной дружбе.
Фиф и Ба-Рен
В приглашении значилось:
Вас просят присутствовать на высокодуховном, однако же светском концерте, каковой состоится в пятницу, 2 апреля 1897 года, в 11 часов вечера в оссуарии Парижских катакомб стараниями прославленных музыкантов.
Приглашение на две персоны.
Виктора одолели сомнения. Что это — ловушка, новая попытка его соблазнить? Он хотел было бросить письмо с приглашением в огонь, но раздумал и положил оба листа в бумажник. Подогрел еду для кошки, поставил вариться кофе и, поворошив угли в камине, поправил одеяло Таша — было прохладно.
— Пахнет кофе, — пробормотала она. — Ты покормил
Кошку?
— Да, милая. Мне пора, я сегодня дежурю в лавке. Эфросинья придет к десяти, сделает уборку и приготовит тебе завтрак. В квартиру не заходи — краска еще не высохла. Я тебе протелефонирую. Будь умничкой, солнышко.
Виктор, пьянея от скорости, гнал велосипед по сонным пустынным улицам. Вокруг не было ни души — лишь метельщики попадались у перекрестков. На квадратной площади с клумбами павлоний просыпался цветочный рынок, торговки на каждом углу поднимали навесы, и по городу разливалось буйное море настурций, роз, первоцветов, фиалок. Париж то здесь, то там словно расцветал деревенскими лужайками в обрамлении мостовых. Если бы у Виктора была кинокамера, он непременно заснял бы покупателей, богатых и бедных, что вскоре будут увлеченно торговаться за орхидеи и скромные букеты полевых цветов; от его объектива не укрылся бы и шарманщик, старый овернец, чью аудиторию составили два бродячих кота и простоволосая кумушка.
На набережной Гранз-Огюстен двое военных флиртовали с разносчицей хлеба. Букинисты, торговцы гравюрами и аптекари открывали лавки, с балконов свисали почуявшие тепло стебли душистого горошка. Еще вчера была зима — и вдруг за одну ночь весна покорила Париж тихой сапой. Небо поголубело, пахло кофе и жареными хлебцами, очаровательная девушка улыбнулась Виктору — и он забыл все тревоги, душу переполнило блаженство.
Мрачный как туча Жозеф сидел, облокотившись на стойку, в кафе «Утраченное время». Рекламный плакат, красовавшийся на стене над рядами бутылок, окончательно его добил:
У ВАС СЕДЕЮТ ВОЛОСЫ И БАКЕНБАРДЫ?
Красящий лосьон «ТРУБОЧИСТ» — 6 франков за флакон!
— С добрым утром, зятек! — бодро поприветствовал молодого человека Виктор. — Нуте-с, подкрепимся хорошенько перед работой!
Хмуро покосившись на шурина, Жозеф поплелся за ним к столику.
— Похоже, вы нынче не в духе, дорогой зять. Неприятности?
— Если так пойдет и дальше, придется мне разбить свинью-копилку и закупать лосьон «Трубочист» ведрами. А может, никакой «Трубочист» и не понадобится — облысею быстрее, чем лужайка, по которой прошлось стадо баранов, — вздохнул молодой человек. — Меня от этих огурцов в конфитюре уже с души воротит! Если б я питал склонность к алкоголю, мне сейчас могла бы помочь только двойная порция «землетрясения».
[765]
— В такую рань? Давайте ограничимся кофе с бутербродами, мне ваша трезвая голова еще понадобится сегодня в лавке. Гарсон, два полных завтрака! Кстати, Жозеф, «Огурцы в конфитюре» — отличное название для вашего очередного романа-фельетона.
[766] Откуда столь странный рецепт?
— Смейтесь, злодей! Во всем виновата, между прочим, ваша сестрица. То есть она, конечно, ангел, посланный мне судьбой, но все время требует то огурцов, то конфитюра, в доме уже и еды-то нормальной не осталось. А сегодня подняла меня засветло — пришлось бежать в «Мавританца», будить мадам Бушардá и упрашивать ее продать мне маринованных артишоков!
— У Таша причуды классического свойства — она с утра до вечера пьет чай с лимоном.
— А у меня еще матушка, от которой не спрячешься!
— Эфросинья — сокровище. Благодарите провидение за то, что у вас есть мать, Жозеф. Хотел бы я произносить это слово, не только когда вижу, что на меня из-за угла несется омнибус. Гарсон, счет! — Виктор открыл бумажник, и ему на глаза попалось письмо Эдокси с приглашением на концерт в Катакомбах. — Жозеф, хочу попросить вас об одной услуге… Не могли бы вы обеспечить мне алиби на сегодняшний вечер? Мне надобно кое-куда отлучиться и…
— Я бы с удовольствием, но это невозможно. Если я провожу вечер с вами — значит, меня нет дома; если меня нет дома — значит, нужно как-то объяснить свое отсутствие, а Айрис не так-то легко обмануть.
— Я не могу сказать вам, куда отправлюсь, но это очень важно, Жозеф.
— А я в таком случае не могу придумать ни одного объяснения для Айрис.
— Ладно. Что, если мне необходимо выручить из беды одну даму?
— О! Такое объяснение оценила бы любая жена! А что за дама нуждается в вашей помощи?
— Эдокси Максимова, — сдался Виктор и поспешно добавил: — Нет, это не то, о чем вы подумали! Вот что она мне написала. — Он протянул Жозефу письмо с приглашением, и молодой человек, быстро прочитав, не сумел скрыть восторга:
— Неужто сама Фифи Ба-Рен? Вообще-то, от этой хитрой бестии всего можно ожидать. Но мне не терпится побродить по Катакомбам, а стало быть, я иду с вами — такова для вас будет цена моего молчания. Для всех прочих мы отправляемся оценивать частную библиотеку.
— Нет уж, этот затасканный прием не сработает — наши жены не поверят, да и Кэндзи что-нибудь заподозрит.
— Спокойствие! Герцог де Фриуль засвидетельствует наше присутствие на улице Микеланджело кому угодно. Решено, я сейчас же ему протелефонирую, а если понадобится, сам к нему загляну. Он скажет все, что я попрошу, — мне ведь известна одна его маленькая тайна: лысый олух ворует книжки у внучатых племянников!
— Жозеф, это же шантаж…
— А то! Я в таких делах мастер.
Жозеф и Виктор застали Кэндзи в лавке «Эльзевир»: он замер в экстазе перед манускриптами в роскошных переплетах, разложенными на столе посреди торгового зала. Глаза японца сияли, он чуть ли не облизывался, как гурман, приготовившийся отведать самых изысканных деликатесов.
— Инкрустированные наугольники, форзацы из синего шелка! Потрясающе! И всё в идеальном состоянии — на бумаге ни пятнышка. — Кэндзи погладил раритетный экземпляр в красном сафьяне с желтыми мраморными обрезами.
Жозеф, усевшись за конторку, развернул утреннюю газету.
— Журналисты, как всегда, непоследовательны. Всего три строчки о смерти Жюля Жуи, знаменитейшего поэта-песенника, ничуть не больше о Родольфе Салисе
[767] — и здоровенная статья о некой Ольге Вологде, которую угораздило грохнуться на сцене Опера в первом акте какого-то балета!.. Постойте-ка, я уже слышал это имя, и кажется, именно здесь… Вспомнил! Это же подруга Фифи Ба… — Жозеф прикусил язык, поймав испепеляющий взгляд Виктора.
Но Кэндзи и ухом не повел. Он уже положил книгу на стол и, поигрывая очками с половинками стекол, бесстрастно осведомился:
— Жозеф, вы сделали опись изданий Бальзака?
— Разумеется. Мы с Виктором сегодня вечером идем к герцогу де Фриулю — его сиятельство обещал показать мне собрание эротических гравюр. Выйти нам нужно часа в четыре. Вы закроете лавку?
Кэндзи степенно водрузил очки на нос.
— С этой сделкой Виктор справится и без вас. Тут необходимы чувство такта и доскональное знание истории гравюры, а вам еще многому нужно учиться.
— Но я… — Жозефу помешало договорить вторжение покупательницы — явилась мадам Шодре, супруга аптекаря с улицы Иакова:
— Добрый день, господа. Мне нужна «Партия Левой Ноги», роман Мари-Анны де Бовэ,
[768] вышедший у Лемера. Мадам Баллю очень рекомендует почитать, говорит — весьма увлекательное сочинение.
— Жозеф, найдите для мадам «Партию Левой Ноги» — это как раз в вашей компетенции.
Отправиться на подземный концерт в одиннадцать часов вечера — что за нелепая причуда! Кому скажи — не поверят… Солгать по телефону было бы, конечно, безопаснее, чем в глаза, но Виктор чувствовал себя виноватым, оттого что собирался оставить беременную супругу одну в такое непростое время — Таша хандрила, — и, пересилив себя, он поехал ужинать домой, на улицу Фонтен.
По пути Виктор прицепился «вагончиком» к омнибусу маршрута Мадлен — Бастилия и, поставив ноги на педальное крепление велосипеда, наслаждался путешествием. Однако вскоре был замечен и обруган красномордым кучером в цилиндре, который преподал ему правила дорожного движения на доходчивом языке. Виктор ответил улыбкой. Крутить педали, подставляя лицо ветру, дышать атмосферой Парижа, насыщенной ароматами, цветом, многоголосьем, — что может быть приятнее? Впереди — весна и лето. Какие захватывающие приключения ему уготованы?..
Огибая церковь Троицы, он подумал: «Троица! Нас будет трое в июне… А если ребенок встанет между мной и Таша? Если он разлучит нас, вместо того чтобы связать еще крепче?.. Хватит об этом, Легри! Ты так стремился стать взрослым мужчиной — и все для того, чтобы вдруг понять, что хочешь снова сделаться маленьким мальчиком?.. А впрочем, взрослые люди только притворяются взрослыми — все мы в глубине души остаемся детьми».
Порой Таша охватывала всепоглощающая радость от того, что в ней вызревает новая жизнь. Но на место радости быстро приходила хандра, приступы чрезмерной веселости оборачивались меланхолией, и сердце сжималось от смутной тревоги. Она ужасно расстраивалась, глядя, как растет и уродливо меняется ее тело. Постоянная слабость исключала интимную близость с Виктором. Выпирающий живот мешал рисовать, а несколько недель назад доктор Рейно сказал, что ей противопоказано долго стоять, и с тех пор она не подходила к мольберту. Жила почти как затворница, большую часть времени валялась на кровати и читала или делала наброски углем в блокноте. Иногда она иллюстрировала сказки свояченицы, тоже беременной. Айрис недавно закончила «Котика с острова Мэн», оставалась все такой же энергичной, не утратила резвости и никогда не унывала, несмотря на постоянное общение со своей свекровью Эфросиньей.
Таша, отложив книгу, помассировала поясницу. Малыш пошевелился в животе, и она, преисполнившись нежности, вдруг вспомнила собственное детство. Это было так давно, так далеко и непохоже на ее нынешнюю жизнь… Мираж, эхо нездешней мелодии…
— Рахиль! Рахиль, вернись! Здесь нельзя играть!
Она бежит за младшей сестренкой по рыбному рынку в Одессе среди щедрых даров Черного моря. Вокруг пестро и нарядно — кроваво-красные барабульки, коричневые широколобки, пойманные среди береговых утесов; голубые и синие скумбрии, серебристые сардины, плоские морские языки с зеленоватой чешуей, ощетинившейся шипами…
«Рахиль, как я по тебе скучаю!» — подумала Таша и увидела за окном Виктора. Она улеглась поудобнее и снова открыла стихотворный сборник.
— Что ты читаешь, милая? — спросил через минуту Виктор, заботливо поправив подушку у нее под головой.
— «Там все Европой дышит, веет, все блещет югом и пестреет разнообразностью живой…»
[769]
— Знаю, так Пушкин сказал об Одессе! Мы непременно свозим туда нашу дочь.
— Нашего сына!
— Как вам будет угодно, мадам. — Рука Виктора скользнула в декольте Таша. — Они такие… внушительные…
— Я вся-вся такая внушительная, — фыркнула она. — Чувствую себя китом, выброшенным на берег.
— Ты королева китов, прекрасная и желанная!
— Между прочим, это ты во всем виноват… Ты переодеваешься? Куда-то собрался?
— Да, поужинаю с тобой и побегу. Жозеф уже, наверное, заждался. Нагрянем на ночь глядя к герцогу де Фриулю — он распродает свою библиотеку.
Таша понаблюдала, как муж снимает брюки, и схватилась за блокнот и карандаш.
— О нет, милая, умоляю, не надо рисовать меня в таком виде!
— В таком виде ты можешь сесть за стол — тогда не придется стирать одежду, а то Эфросинья приготовила нам пулярку в собственном соку. Кстати, тебе письмо. — Она протянула Виктору листочек бумаги, сложенный вчетверо, и он, развернув, прочитал: «Насчет комнаты — ладно, уломали».
— И что это значит? — удивился Виктор.
— Столяр согласен сдать в наем свой сарай. Угадай — кому? Блистательному фавориту королевы китов!
— Ты хочешь выселить меня в сарай?!
— Мы выселим туда все твои фотографические причиндалы, и у тебя будет настоящая фотолаборатория, она же рабочий кабинет в двух шагах от квартиры. Я уже договорилась с водопроводчиком. Ты доволен?
Виктор встал рядом с кроватью на колени и поцеловал жену в лоб.
— Я тебя обожаю!
— Милый, поцелуй меня еще раз… всего семь часов… ты ведь еще успеешь к Фриулю…
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Вечер того же дня
В зеленоватом свете фонаря Мельхиор Шалюмо с трудом различил стрелки на циферблате карманных часов: четверть одиннадцатого.
На бульваре Святого Иакова вырисовывались силуэты фланирующих полуночников, все витрины попрятались за охранными решетками, лишь хозяева корсетной лавки припоздали с закрытием — за стеклом виднелись черные и белые пятна корсетов, расшитых цветами и орнаментами. Мельхиор на них не обратил внимания — он осторожно обходил участок дороги, на котором ремонтники оставили ведра, заляпанные гудроном. Невидимый в темноте, заорал кот, жалуясь на судьбу. Процокали каблучки, и из тени вынырнула девица.
— Эй, малолетка, поразвлечься не желаешь? — хихикнула она при виде человечка.
— Поди прочь, шлюха!
Услышав оскорбление, произнесенное отнюдь не детским голосом, девица аж подскочила:
— Опа! Гляньте, экий недомерок! Слышь, ушлепок, я те скидку за рост сделаю!
Мельхиор ускорил шаг.
— Тащи ко мне своего папашу — мы с ним лишние полметра тебе смастрячим! — завопила ему вслед девица.
Прохожие засмеялись, кто-то обернулся поглазеть на «ушлепка».
Люди. Нормальные люди. Вокруг было слишком много нормальных людей, и от этого Мельхиор чувствовал себя совсем несчастным и одиноким. «Почему они испытывают такое отвращение ко всем, кто на них не похож? Это что, преступление — быть не похожим на других? Я устал, я хочу сбежать от них, хочу забыть, что я пленник этого куцего тела…» Он шагал как во сне. Стены, стены, стены, узкая улочка. Лошадь спит в упряжке фиакра, неподвижная, как те же стены, нависающие с двух сторон. И в ушах звучит лишь эхо собственных шагов…
Очнулся Мельхиор перед железной дверцей, взялся за ручку. Чудно — он и сам не заметил, как сюда добрался.
Бельфорский лев
[770] напоминал спящего сфинкса. Двое мужчин вышли из фиакра и направились ко входу в Катакомбы.
— Вам там наверняка понравится, Жозеф. Только представьте — тысячи скелетов. Это должно вдохновить вас на новый роман-фельетон.
Дородный буржуа, выгуливавший собаку на улице Даро в эту промозглую ночь, чуть не выронил сигарету, когда его бульдог рванул к незнакомцам. Но повелительный свист вкупе с окриком «Медор!» вернули зверя хозяину, и буржуа торопливо поволок питомца на поводке к улице Алле.
Один за другим подъезжали экипажи, останавливаясь всего на несколько минут, чтобы высадить пассажиров, и спешили убраться отсюда подальше. Дамы в платьях с пышными оборками и господа в цилиндрах столпились на тротуаре, приглушенно гомонили растревоженным роем, никто не хотел уступать другу другу место, все толкались, возмущались и окликали знакомых вполголоса. Самые трусливые ждали, что вот-вот нагрянет конная стража; кто посмелее, пользовались ночной теменью, чтобы потискать соседок.
Наконец дверь дома с табличкой «92» широко распахнулась, и трое верзил в париках дружно зашикали на гостей, призывая к молчанию. Подняв повыше светильники, они велели меломанам выстроиться в цепочку, и те гуськом последовали за провожатыми.
Виктор протянул вахтеру приглашение на две персоны, они с Жозефом миновали служебное помещение, нырнули в дверной проем в стене и, смешавшись с толпой любителей острых ощущений, начали нисхождение. Дамы то и дело ахали и взвизгивали, кавалеры кряхтели; винтовая лестница уходила под землю на двадцать четыре фута.
Внизу гостей встретил человечек ростом не выше десятилетнего ребенка, одетый в яблочно-зеленый камзол и клетчатые панталоны. Сделав знак следовать за ним, он устремился вперед, распевая:
Раз и два — пляшет Смерть,
Пяткою стучит в плиту: тук, тук, тук.
Завлекает в круговерть,
В замогильный хоровод: топ, топ, топ.
Процессия преодолела извилистую галерею с низкими цементированными сводами и ступила в просторный зал, стены которого были сложены из человеческих останков. Те, кому еще не доводилось бывать здесь, в Ротонде Берцовых Костей, не смогли сдержать испуганных восклицаний.
— Какой ужас! — выпалил музыкальный критик. — Это что, кладбище?
— Совершенно верно, — обернулся к нему нотный издатель. — Сюда с тысяча семьсот восемьдесят пятого года свозят останки из всех парижских некрополей. И то, что вы видите сейчас, — лишь малая толика. Галереи этого хранилища тянутся на восток до Ботанического сада, а на западе оканчиваются у старой заставы Вожирара.
— Да уж, тут мертвых поболее, чем живых в городе, — пробормотал Виктор.
— Миллионы парижан сложены штабелями на территории одиннадцать тысяч квадратных метров, а в высоту эта поленница составляет полтора метра, месье.
— До чего артистичное местечко! — умилилась пожилая дама, любительница концертов Колонна и Ламуре. — Взгляните, как ровненько сложены кости, а из самых длинных рабочие даже составили кресты.
— А вон там черепа. Как посмотрю на них — дурно делается, — шепнул Виктору Жозеф. — Они словно наблюдают за нами пустыми глазницами.
Виктор поежился при мысли о том, что когда-нибудь и от него останется такая вот груда костей, ничего больше.
Полночь бьют, а Смерть смычок
Хвать, хвать, хвать.
Скрипку вскинет на плечо —
И давай наяривать,
— снова затянул человечек, шагая во главе процессии.
— Что это вы нам поете? — недовольно осведомилась пожилая дама.
— Это стихи Анри Казалиса,
[771] вдохновившие Камиля Сен-Санса на симфоническую поэму «Пляска смерти». В скором времени вы ею насладитесь, — ответил коротышка и опять заголосил:
Нет, не вырваться из круга,
Пляшет каждый так и сяк.
Только кости друг о друга
Бряк, бряк, бряк.
Над входом в Крипту Страстей, превращенную на эту ночь в концертный зал, висело предупреждение:
СТОЙ!
ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ ЦАРСТВО СМЕРТИ!
Внутри к колоннам из тесаного камня были прикреплены подсвечники, и пламя слегка подрагивало, освещая параллельные ряды соломенных стульев перед эстрадой, поставленной для музыкантов.
Жозеф отошел в сторонку, прочитал надпись на табличке:
Останки с кладбища Невинных,
перезахоронены в апреле 1786-го и в июле 1802 гг.
и взялся переписывать ее в блокнот — пригодится для нового романа-фельетона.
Человечек, послуживший гостям чичероне, подкрался к нему:
— Что вы там калякаете?
— Так, собираю материал. Я, знаете ли, романист. Вы читали «Месть неупокоенной души»?
— У меня хлопот невпроворот, чтоб еще и романы читать. Но историй всяких у меня у самого на собрание сочинений наберется. Кабы я взялся за дело, так исписал бы сотню тетрадей, я ведь очень чувствительный, а стало быть, талантливый. Впрочем, все мы, ущербные, ужас какие чувствительные. Меня вот называют «недомерком» и «малоросликом», что весьма прискорбно. Хорошо хоть я не такой корявый, как Лотрек,
[772] глядите, очень даже пропорциональный. А у вас-то с фигурой тоже нелады, однако в этом сюртуке с подбитыми плечами ваш горб почти незаметен. Напрасно вы его прячете, чувствовать себя отверженным порой бывает полезно — это укрепляет дух. Признайте, мы с вами в одной лодке!
— Я выбрал для себя девизом слова Виктора Гюго: «Боюсь лишь одного: как бы душа не сделалась горбатой», — сухо сказал Жозеф.
Но коротышка уже зашагал прочь.
— Нахал! — буркнул ему в спину молодой человек. — Одно плечо выше другого — пустяк по сравнению с нехваткой полуметра роста.
Виктор тем временем повесил пальто на спинку стула и огляделся в поисках знакомых лиц. Здесь было много журналистов. Директор Консерватории Фернан Буржа сидел рядом с Альбером Лавиньяком, одним из преподавателей этого заведения. Поэт Жан Лоррен, воздев оба указательных пальца, унизанных перстнями, наставлял художника Анри Бриспо в краниологии. Антонен Клюзель, главный редактор «Пасс-парту», развлекал шутками изящную дамочку, та хохотала, встряхивая светлыми кудряшками и блестя ровными зубами, просто помирала со смеху, и Антонену, похоже, от этого даже было неловко. Вздернутый носик, веснушки на скулах… Виктору дамочка показалась знакомой. Где он ее встречал? Когда?.. Напряг память, но имени так и не вспомнил. Кто-то сзади коснулся его плеча, на ухо прошептали:
— Спасибо, что пришли.
Виктор обернулся:
— Эдокси! Здесь весьма романтично.
— Виктор, мне нужна ваша помощь, все очень серьезно.
Он снисходительно улыбнулся:
— Избитый трюк, Эдокси, вы могли бы измыслить что-нибудь похитрее, чтобы поймать меня в сети. Прошу вас, оставьте свои уловки, мне казалось, что вопрос решен раз и навсегда. Я женат.
— Не беспокойтесь, я буду вести себя благоразумно.
— Так что же вам от меня нужно?
— Я уже сказала: помощь. Я временно поселилась в апартаментах месье Розеля напротив сквера Монтолон. Месье Розель — верный поклонник моей подруги Ольги Вологды…
— Бывшей примы санкт-петербургского балета. Она любовница упомянутого вами месье Розеля, владельца фотоателье на площади Мадлен?
— Совершенно верно. Но не поймите превратно: я лишь снимаю у них комнату, всё честь по чести. И не смотрите на меня так, будто сомневаетесь в этом.
Виктор отошел к стене, сложенной из берцовых костей, Эдокси последовала за ним.
— Не сомневаюсь и ничему не удивляюсь. Просто я слегка раздосадован — не ожидал встретить в этом волшебном месте главного редактора «Пасс-парту» — Тут он заметил Жозефа — к нему льнула та самая дамочка в кудряшках, от которой ухитрился избавиться Антонен Клюзель, а Жозеф, бледнея и краснея, сурово отвергал ее домогательства. — Кто это? — спросил Виктор у Эдокси.
— Ваш управляющий, кто же еще?
— Во-первых, он уже не управляющий, а совладелец. Во-вторых, я имел в виду его собеседницу. Мне кажется, я ее где-то видел.
— Вы про ту истеричную блондинку? Она для вас слишком вульгарна. Глядишь, еще подорвет основы вашей нравственности. Только взгляните на ее наигранные жесты, а глазами как стреляет! Она называет себя танцовщицей, однако…
— Танцовщицей? Решительно, я не…
— Вряд ли вы ее встречали. Нелепая жеманница откуда-то с окраин, только и умеет, что дрыгать ножками да вертеть задом. Мы с ней пару раз пересекались еще в ту пору, когда я только начинала выступать на сцене «Мулен-Руж». Помните, Виктор? Славное было времечко! А эта парвеню, думаю, еще своего добьется — и титул отхватит, и богатый особняк, если, конечно, ноги себе не переломает, поспешая за толстыми кошельками… или не объестся пряничными свинками. Вернемся к делу, Виктор. Ольга Вологда тяжело пережила гибель Тони Аркуэ — вы с ним знакомы, он сопровождал меня в тот день, когда я пришла к вам в «Эльзевир» с приглашениями в Опера для Кэндзи.
— Тони Аркуэ погиб?
— В результате несчастного случая. Утонул. Тони — последнее увлечение Ольги, они были любовниками, и эта внезапная смерть ее потрясла. Бедняжка хандрила, плохо спала, мучилась мигренями и в конце концов упала без чувств на сцене прямо во время спектакля. Месье Мори вам об этом не рассказывал?.. Я полагала, что Ольгино недомогание вызвано неврастенией. Врач из Опера дал ей успокоительное и отправил домой, а я просидела у ее кровати всю ночь. Часам к четырем утра у Ольги началась рвота, она корчилась от боли в животе и кричала, что умирает. Я чуть было не ударилась в панику. По счастью, этажом выше живет доктор Маржери. Он осмотрел ее и диагностировал пищевое отравление. Сказал, съела что-то несвежее, ничего серьезного. Однако у меня возникли некоторые сомнения. Что, если ее хотели убить и подсунули яд?
— У вас есть вещественные доказательства?
— Увы, нет, только свидетельство самой Ольги. Анонимный поклонник прислал ей пряничную свинку с надписью «Съешь меня…» или что-то вроде того. Ольга съела маленький кусочек как раз перед выходом на сцену.
— Не берите в голову, Эдокси. Возможно, это просто чья-то злая шутка. В любом случае я не вижу, чем могу вам помочь. Если боитесь за жизнь подруги — обратитесь в полицию.
— Другими словами, это не ваше дело?
— Не мое. Давайте не будем больше к этому возвращаться, Эдокси. — Виктор вернулся на место и демонстративно уткнулся в программку.
1. «Похоронный марш» Шопена.
2. «Пляска смерти» Сен-Санса. «Аве Мария», поэма г-на Алла, читает автор.
3. Хорал и похоронный марш из «Персов». В исполнении принимает участие г-н Ксавье Леру.
4. «В Катакомбах», поэма г-на Марли.
5. Похоронный марш из Героической симфонии Бетховена.[773]
«Да уж, весьма соблазнительно, — хмыкнул про себя Виктор. — Надо было отказаться от приглашения».
Он подобрал с пола миниатюрный букетик, упавший с платья какой-то дамы, и с сожалением подумал о том, что носить такие украшения за корсажем уже несколько месяцев как не модно — теперь дамы крепят их на талии с левой стороны. Расправив стебельки, Виктор пощекотал ими шею сидевшего впереди Жозефа и, когда тот обернулся, пошевелил пальцами — дескать, я намереваюсь потихоньку отсюда смыться.
Часы показывали уже половину первого ночи. Оркестранты начали рассаживаться за пюпитрами — на эстраде было сорок пять человек, и все собрались здесь только ради того, чтобы помузицировать в безумных декорациях на круглой площадке, задрапированной черным крепом. Композитор Ксавье Леру с самоуверенным видом взялся за литавры. Дирижировал оркестром месье Фюре, бывший виолончелист и лауреат, с отличием закончивший музыкальные классы на улице Бержер.
Пока медь и струнные звучали вразнобой, подлаживаясь друг под друга и под взмахи дирижерской палочки, зрители занимали места, образуя группы по интересам. Одинокие и робкие сбились в стайку поодаль от всех, самые шустрые — журналисты — заняли стол, чтобы по ходу концерта чиркать в блокнотах.
Жозеф снова оказался рядом с кудрявой блондинкой, которая так и липла к нему. Поерзав на стуле, она полезла в сумочку и извлекла оттуда фляжку в оплетке и два стаканчика. Из фляжки ощутимо пахнуло бренди.
— Лучшее средство против окоченения, — заявила дамочка. — Тем ребятам, из которых стены сложены, уже не поможет, а нам в самый раз будет. За твое здоровье, пупсик. Да не дергайся ты так, Клюзель как-нибудь переживет, что я тут с тобой любезничаю. А ты, стало быть, мелодрамы пишешь? Непременно дай мне почитать — обожаю печальные истории, но чтобы хорошо заканчивались. Бр-р, ведь хотела же я разодеться в меха — и чего передумала? Тут такая холодина, правда околеешь.
— Так и нечего было сюда приходить, душа моя, — проворчал услышавший ее Мельхиор Шалюмо и под музыку Сен-Санса, сопровождаемую стихами Казалиса, поскакал дальше между рядами зрителей.
Скелеты белеют во мраке,
В саванах пляшут, кривляки…
— Приветствую тебя, Мельхиор, легконогий Гермес! — прозвучал слева баритон. — Это мне?
Жозеф повернулся и увидел, как коротышка с заговорщицким видом вручил сверток в светло-голубой атласной бумаге какому-то бородачу атлетического телосложения и растворился в толпе приглашенных, слушавших концерт стоя. Бородач, зажав под мышкой скрипичный футляр, развернул бумагу и рассмеялся.
Блондинка ткнула Жозефа кулачком в плечо:
— Эй, писака, ты будешь пить или нет? Давай не жмись, пей до дна, сразу взбодришься! — Она сунула ему в руку стаканчик.
Жозеф в отчаянии закусил губу и возвел очи горе. Отвернувшись от дамочки, он поймал взгляд того самого скрипача, присмотрелся к розовощекому лицу — похоже, в выпивке этот господин себе не отказывает, — и протянул ему стаканчик.
— Ух ты! Благодарю, вы очень любезны. — Бородач поцокал языком. — Как раз то, чего мне не хватало. Определенно, у меня нынче удачный день, хвала богам за это! Я только что получил закуску на счастье, а тут еще и бренди!
Жозеф между тем прочитал, что было написано на карточке у музыканта в руке:
Маэстро, съешьте меня, нос не воротите —
и скрипичным смычком чудеса сотворите!
Молодой человек поспешно вскочил со стула.
— Пряничная свинка — как это мило! — заявил он, готовый на все, лишь бы сбежать от своей соседки. — У вас очень внимательные друзья. Или это от поклонницы? Вот тут глазурью написано «Жоашен» — вас так зовут? — Не умолкая, Жозеф продвигался все дальше от кудрявой блондинки и наконец вслед за скрипачом добрался до вешалок, где гости оставили верхнюю одежду.
— Э-э… вынужден вас покинуть, — сказал музыкант, не ожидавший такого интереса к своей персоне со стороны незнакомого парня. — Мне сейчас выступать. — Он положил свинку в карман и присоединился к остальным оркестрантам.
В это мгновение пианист, которому наконец-то удалось поднять вертящийся стул на нужную высоту, взмахнул руками над клавишами, и зазвучали первые аккорды «Похоронного марша». Этот гимн мертвым под гулкими сводами крипты произвел на слушателей столь сильное впечатление, что одна дама потребовала нюхательную соль, а музыкальный критик выронил трость и перчатки.
Когда через два с половиной часа дирижер опустил палочку и в крипте воцарилась тишина, аудитория не сразу пришла в себя — какое-то время все сидели неподвижно и лишь потом разразились аплодисментами. Громче всех хлопали ксилофонисту, чьими стараниями гремели воображаемые кости в «Пляске смерти».
Меломаны начали расходиться, оркестранты снимали с пюпитров партитуры. Бородатый скрипач с фигурой атлета уложил инструмент в футляр; пианист, флейтист и гобоист пожелали ему приятно провести остаток ночи.
В гордом одиночестве Жоашен Бланден углубился в извилистые переходы царства мертвых. В животе заурчало, и он вспомнил о пряничной свинке. Зажав футляр между колен, достал из кармана сюртука сверток, доставленный ему маленьким человеком, и за обе щеки уплел угощение.
Вокруг простирался подземный стылый лабиринт, населенный призраками усопших, Жоашен шагал по коридорам, и отблески пламени свечи в его руке то и дело выхватывали из тьмы останки кого-нибудь из трех миллионов покоящихся здесь мертвецов. Страха он не испытывал — взрослый мужчина все-таки. Поленницы костей справа и слева уже достигли метра в высоту, и вдруг Жоашену почудилось, что он заблудился. Музыкант заозирался, побежал было назад искать коллег, но ноги внезапно ослабели — странно, ведь он выпил всего-то стаканчик бренди… Он снова развернулся и различил в темноте ступени. Пламя свечи съежилось, будто убоявшись напирающего со всех сторон мрака. Сделалось еще холоднее. Скрипичный футляр выскользнул у Жоашена из-под локтя, во рту появился металлический привкус. Он, с трудом наклонившись, подобрал инструмент, добрел до лестницы, поднялся по ступенькам и вывалился на свежий воздух. В полубеспамятстве преодолел улицу Святого Иакова, пересек площадь Данфер-Рошро. Раздолбанная колесами экипажей мостовая пестрела выбоинами, то и дело какой-нибудь булыжник шатался под ногой с сухим треском, и Жоашен старался ступать осторожно. Он даже вытянул в сторону руку, не занятую футляром, — ни дать ни взять канатоходец, который вот-вот упадет.
На улице Фруадево Жоашен споткнулся и налетел на фонарный столб. Живот скрутило, скрипач согнулся пополам. Желудок спазматически дернулся, затошнило так, что выступил холодный пот. Он попытался выпрямиться, но отяжелевшее тело качнулось вперед, по спине побежали мурашки. Издалека донеслись вопли какого-то полуночника из меломанов, горланившего:
Вдруг распался хоровод —
Слышите, петух поет,
Пляска утихает.
Жоашен хотел позвать на помощь, но не смог.
Последним усилием воли он напряг мускулы. Сердце замедлило биение. Почти удалось убедить себя в том, что он спит и все это
привиделось ему в пьяном кошмаре, а кошмары никогда не длятся долго.
«Я сейчас проснусь», — сказал себе скрипач и попробовал сделать шаг, еще один… но пошатнулся и рухнул в канаву. Падая, он с размаху ударился головой о бордюр.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Суббота, 3 апреля
Парень в картузе высунул нос из люка посреди тротуара на перекрестке улиц Фруадево и Гассенди. Второй работяга, стоя над брусчатке, затоптал окурок и протянул напарнику руку. Из люка показался фонарь, осветивший пустынную мостовую, затем вынырнули торс и две ноги в болотных сапогах. Парень в картузе, усевшись на краю люка, ловко перенес ступни на тротуар и подтянул тяжелую чугунную крышку, запечатав спуск в канализацию. На колокольне Странноприимного дома Марии-Терезии как раз отбили половину четвертого утра.
Милу Потье поглубже натянул картуз, встал во весь рост и жадно вдохнул свежий воздух. Он всю ночь разгребал мусорные заторы в ледяном чреве столицы, и ему не терпелось оказаться в тепле излюбленного кабачка, где можно подкрепиться сыром и парой бокалов фольбланша.
— Ну, как улов? — поинтересовался второй работяга.
— Да какой там улов? — отмахнулся Милу. — Эполет, драный кивер, дырявая ложка для абсента и пригоршня шпилек. Дерьмовая, короче, работенка, с какой стороны ни посмотри. Думаешь, мне хоть раз повезло найти набитый бумажник? Держи карман шире! Ладно, пошли отсюда. Ты со мной?
— Нет, я на боковую. Пока, Потье.
— Пока, Пульфен.
Двое полицейских шагали вдоль решетки Монпарнасского кладбища. Спешить им было некуда, ночь выдалась тихая, и оба пребывали в добром расположении духа. Вдруг их внимание привлек человек в высоких, заляпанных грязью сапогах — он сидел на корточках возле неподвижно лежащего под фонарем тела и поочередно поднимал ему руки. Руки брякались на тротуар как мешки с песком. Тело не сопротивлялось.
— Эй, малый, с пьянчугой маешься? — крикнул один полицейский.
— Похоже, ваш приятель ужрался вусмерть! — хохотнул второй.
Милу Потье выпрямился и снял картуз:
— Вусмерть — это да. Только он не пьяный и мне не приятель, я этого бородача вообще впервые вижу. Вытащил вот его из канавы, а он не дышит.
— Вы нам зубы не заговаривайте, уж мы-то привыкли иметь дело с пьяными — он же еще и обгадился, воняет от него за километр.
— Не, это от меня, — доверительно сообщил Милу. — А бородач мертвее мертвого, хотя еще теплый. Надо думать, он прямо сейчас перед Господом ответ держит. Ну или перед дьяволом, это уж вам решать.
Полицейские переглянулись, один подошел и присел на корточки у распростертого тела, рассмотрел его поближе.
— А и верно, здоровяк сложил зонтик.
[774] У него глубокая рана от виска до надбровной дуги. Дерьмом от него вроде не пахнет, а вот спиртным — есть чуток. Нужно доложить комиссару Перо. Сделаешь, Шаваньяк? А я займусь гражданином подозреваемым.
— Чего? Хотите повесить на меня этого жмура? — возмутился Милу. — Да я ишачил всю ночь, на ногах еле стою! Не, вы как хотите, а я домой, в койку!
— Койку мы тебе предоставим, дружище. В уютной камере.
— Отлично сказано, Жербекур! — одобрил тот, кого назвали Шаваньяком. — Надень на него наручники. Вместе его отведем, а потом я к шефу.
— Да вы у Пульфена спросите, черти! — возопил Милу. — Я пять минут назад из-под земли вылез!
— Из-под земли? Как это?
— Золотарь я, то есть канализационный рабочий! Что, по запаху не ясно?! Вон там люк. Я по трубам ползал, а Пульфен все это время наверху торчал — сторожил, чтоб какой прохожий в дыру не загремел… Ну что за дерьмо! Спросите же вы Пульфена, он на улице Роже живет!
— Ладно, не буянь, парень, спросим мы твоего Пульфена. А пока ты к нам в комиссариат заглянешь. На чашечку кофе.
До тайника, служившего почтовым ящиком, маленький человек добрался, когда швейцарские часы из «Вильгельма Телля»
[775] пробили шесть утра. Тайник был обустроен за подкладкой костюма туранского пленника из оперы «Маг».
[776] Эта хламида из седоватой медвежьей шкуры в свое время так насмешила избранную публику, долго потешавшуюся над исполнителем, который в подобном наряде походил не столько на нищего туранца, сколько на зажравшегося ассирийца, что костюм списали навечно в реквизиторскую сразу после генеральной репетиции. Мельхиор присвоил тому, что осталось от медведя, имя Бальтазар и хранил за подкладкой доверенные ему артистами любовные записки, контрамарки, небольшие посылки, если не мог их доставить по назначению сразу. Кое-что он перетаскивал сюда из секретной ниши в подножии одной из шести огромных колонн фойе Танца — о существовании этого, второго, тайника знали только его доверенные клиенты, о первом никто даже не догадывался.
— Так-так, что тут у нас? Любовная писулька для мадемуазель Бертэ, ага, весьма одаренная барышня, божественно спела партию в «Мессидоре».
[777] Еще одна для мадам Дешан-Жээн. Это послание месье Дельма, Одину из «Валькирии»,
[778] — великолепный голос, да, у меня от него аж мурашки по загривку. Посылка для… Черт, он же на другом конце Парижа живет, этот субчик!
В следующий миг Мельхиор уже повернулся к ивовому манекену:
— Прекрасный мой Адонис, имею удовольствие сообщить тебе, что в костюмерных и бутафорских мастерских, равно как и на складах реквизита царит безупречный порядок: всякому месту отведена своя вещь, то есть всякой вещи — свое место. От трудов праведных я до постели добрался поздно и глаз потом не смыкал до рассвета. Однако же воспользовался бессонным временем с пользой, дабы перечитать либретто «Гадес и Персефона». И скажу тебе: недурно, весьма недурно. Если обожаемый мною Всемогущий не оставит меня своей милостью, эта опера-балет натворит немалых бед! Впрочем, что это я разболтался? Молчок, рот на крючок! Больше ничего тебе сказать пока не могу, наберись терпения, дружочек… Спрашиваешь, как прошел концерт среди черепов? О, концерт удался, там стоило побывать — раз и два, тук-тук, бряк-бряк! Я даже слегка примирился с жизнью, особенно после того как Тони Аркуэ до смерти наглотался воды. Кстати, про воду. Думаю, огонь здесь, во дворце, нам все-таки не грозит. Малейшая искорка — и все двенадцать тысяч литров воды из подземного озера под нами устремятся с помощью насосов к колосникам и обрушатся оттуда бурными потоками. Пожарные наши не дремлют!
Огонь… Рев бушующего пламени до сих пор стоял у него в ушах. А как забыть душераздирающие крики старшины пожарных, которого проглотило это ревущее чудовище?
Девочка вцепилась в маленького человека обеими руками. С безопасного расстояния они смотрели, как рушится крыша оперного зала на улице Ле-Пелетье близ улицы Россини. Над Большими бульварами ветер гнал клубы дыма. Обитатели дома в Оперном проезде, на который вот-вот должно было перекинуться пламя, выкидывали, обезумев от страха, пожитки из окон…
Огонек свечи дрогнул, и Мельхиор встрепенулся.
— Адонис, я так хочу, чтобы меня любили, — жалобно сказал он, — но этого никогда не будет. Знаешь, если ты никому не нужен, поневоле начинаешь впадать в неистовство, хочется разнести все вокруг вдребезги! — При этих словах у человечка вдруг закружилась голова, и в припадке ярости он отвесил ивовому манекену затрещину. Но через секунду ярости как не бывало. — Прости меня, Адонис, не надо было с тобой так… Ты ведь простишь меня, а? Да, ты меня простишь. Послушай-ка, я скоро вернусь и перенесу тебя к себе, не возражаешь? Ты станешь охранять мои сокровища, а если будешь паинькой, я подарю тебе настоящий щит, как у воительниц из «Валькирии». Ну ладно, сейчас я умоюсь, приоденусь и поработаю немного почтальоном. Будь начеку, Адонис!
Мельхиор бесшумно спустился на шесть этажей и, сложившись вдвое, прошмыгнул мимо входа во владения вахтера. Цербер небось еще ночной колпак не снял, он-то, может, и утратил бдительность, но уж его не менее грозная супружница в любой момент могла заорать «караул!».
— Вампирша в дурацком шиньоне! — буркнул в ее адрес маленький человек, выбираясь на улицу, и приветливо махнул рукой белой акации — единственному деревцу близ Опера, которому чудом удалось пробиться к свету у подножия декоративного пилона. Миниатюрная, как и Мельхиор, она была наделена такой же неуемной жаждой жизни.
Париж исполнял ежеутренний марш за хлебом насущным. По Большим бульварам на работу спешили продавщицы, модистки, белошвейки, телефонистки, все как одна с заспанными личиками. Легионы разносчиков и уличных торговцев выступали на позиции. Господа в потертых пальто и начищенных цилиндрах гурьбой устремлялись на службу в нотариальные конторы, банки, магазины. Омнибусы принимали на борт и вытряхивали на остановках десятки украшенных цветами жакетов, шляпок с лентами и строгих рединготов. Муниципальный дворник охаживал метлой тротуары, боты, сапожки и штиблеты без разбору.
К счастью, свободный фиакр отыскался прямо у скульптурной аллегории Танца — Мельхиор, дрожа от голода и усталости, тотчас направился к нему.
Париж потягивался, разгоняя жизненные соки по рукам-улицам и ногам-проспектам. Зажиточные кварталы просыпались наравне с бедняцкими. Забившись в уголок салона, Мельхиор с удовольствием наблюдал из окна замысловатые хореографические композиции предместий. Фиакр обогнал стадо осликов, которых пастух призывал к порядку басовитыми гудками рожка; остался позади торговец кроличьими шкурками. Молочницы, укрывшись от ветра в подворотнях, скликали прохожих позавтракать. Хозяин кафе раскладывал утренние газеты на столиках у себя в заведении; домохозяйки, обвешанные кошелками, сплетничали у порога продуктовых лавок; булочница наполняла корзины в витрине свежевыпеченным белым хлебом, присыпанным мукой.
Мельхиор пообещал себе объесться круассанами, как только доставит первую посылку. А фиакр между тем уже выкатил на Тронную площадь супротив двух колонн, стерегущих Венсенскую аллею, и свернул на улицу Вут.
Комиссар Рауль Перо предавался скорби. Он уже несколько суток не расчесывал свои роскошные галльские усы, сегодня вместо обычной пиджачной пары по рассеянности облачился в костюм для благотворительных мероприятий, забыл надеть носки, а его ботинки были неприлично забрызганы грязью. На столе в небрежении валялись последние поэтические опыты месье Перо — верлибры, навеянные творениями Марии Кшисинской
[779] и Жюля Лафорга. По давней традиции он подписал их псевдонимом Исида. Но даже мысль о том, что мечта увидеть собственные стихи напечатанными в литературном журнале «Жиль Блаз» наконец-то осуществилась, уже не радовала. Потому что неделю назад, пораженная таинственным недугом, испустила дух его драгоценная черепаха Нанетта, а вслед за ней отправился в собачий рай Тутун, черный красавчик с белыми подпалинами, — бродячий пес, которого месье Перо подобрал на Рождество, погиб под колесами кареты муниципальной «Скорой помощи». Сейчас его любимые зверушки лежали в земле бок о бок — Нанетта в коробке, перевязанной лентой, и Тутун, завернутый в пелеринку.
В кабинете, захламленном книгами, потянуло дымком с улицы, донесся аромат кофе.
«Ах, если б я остался в полицейском участке Шапели, ничего этого не случилось бы! Бедняжка Нанетта, ты не вынесла переезда, а ты, малыш Тутун, не знал, каких подвохов ждать на здешних улицах, потому и не уберегся!» — в который раз сокрушенно подумал Рауль Перо.
Последние пять лет его постоянно переводили из одного комиссариата в другой, и вот наконец самого назначили комиссаром. Хорошо хоть высшие чины дозволили взять с собой верных подчиненных — вероятно, в качестве моральной компенсации за проделанный по чужой воле долгий и полный опасностей путь из Шестого округа в Четырнадцатый через квартал Шапель. Так или иначе, Бюшроль, Шаваньяк и Жербекур по-прежнему служили под началом месье Перо.
Сейчас он пытался слушать путаный доклад одного из них.
— Короче говоря, у нас есть труп и свидетель убийства, я правильно понял?
— Подозреваемый, шеф, — помотал головой Шаваньяк. — У мертвеца здоровенная рана на виске.
— Пьяная драка?
— Поди разбери. Подозреваемый кричит о своей невиновности. Дескать, некий Пульфен с улицы Роже может это подтвердить.
— Так допросите его, этого Пульфена.
— Бюшроль уже на полдороге к нему, шеф.
— Отлично. А труп где?
— Да мы покумекали, шеф, и без вашего разрешения отправили покойничка в морг, а то у нас тут и без него тесно. Еще мы прикинули, что вскрытие не помешает, тем более личность-то пока не установлена… Так что вот, шеф, вам теперь только пару бумажек подписать надо.
— Похвальная инициатива. А что вы сделали с подозреваемым? Что-то его не слышно.
— Да в камере он, дрыхнет. Жербекур за ним приглядывает.
— Отлично, отлично. А приготовьте-ка нам кофе, друг мой. — Рауль Перо откинулся на спинку кресла и мысленно взмолился: «Если есть надмирная сила, благоволящая живым и мертвым, да не покинет она моих маленьких друзей в их последнем странствии, да ниспошлет мне славу и богатство, каковых удостоился Франсуа Коппе,
[780] да позволит она мне жить литературным трудом и да оставят меня все в покое!»
В тот же день, после полудня
С детских лет Мельхиор Шалюмо любил бродить по городу, высматривая под ногами всякие диковины и подбирая то, на чем остановится любопытный взгляд. Он набивал карманы монетками, бандерольками от сигар, гвоздями, пуговицами, притаскивал это добро домой, тщательно рассортировывал и пополнял коллекцию сокровищ. Наблюдая за насекомыми, разглядывая мхи и травинки, он знакомился с миром, неведомым горожанам. Скверы превращались для него в таинственную страну птиц, и песни коноплянок, щеглов, воробьев, вплетаясь в столичный гомон, неразличимые для всех, казались ему весточками из запределья. Порой его сердце сжималось при виде какого-нибудь тощего беcпризорного пса, понуро бредущего в поисках пропитания, но сейчас Мельхиора всецело увлекло грандиозное строительство, затеянное муравьями между кариатидами аристократического особняка.
Маленький человек питал отвращение к богатым кварталам, где словно напоказ были выставлены османовские
[781] домища и частные особняки. Он вырос в бедняцкой развалюхе в двух шагах от стройки, где его папаша гасил известь, и терпеть не мог величественные здания из камня, возведенные на землях, отнятых государством у бедняков. Улицы и бульвары, лишенные духа простонародья, чопорные и вычищенные до блеска, не таили для него никаких сюрпризов, страсть исследователя не находила здесь удовлетворения.
— Эй, муравьишки, боритесь за свои права! Возьмите приступом эту буржуйскую крепость! — подбодрил Мельхиор крохотных строителей, открывая калитку в воротах особняка.
В вестибиле он представился консьержке, доложил о цели визита и потрусил к ступеням.
— Так и знал — какая ж лестница без витражей, ну куда ж без этого безобразия! — фыркнул себе под нос Мельхиор, на которого с каждой лестничной площадки таращили стеклянные глаза сиреневые юницы и отроки с охапками пшеничных колосьев в руках.
У дверей апартаментов, куда направлялся человечек, толпились гости — два ливрейных лакея взимали с каждого внушительный взнос за вход. Даже если бы у Мельхиора в кармане был луидор, Мельхиор из принципа отказался бы с ним расстаться, а потому, растолкав двух прелатов, он незаметно для церберов прошмыгнул прямиком в гостиную, где приглашенных принимала хозяйка, мадам Бланш де Камбрези. Здесь проходило благотворительное мероприятие, организованное Комитетом помощи жертвам эпидемии чумы в английских колониях Индии. Но Мельхиору до всяких филантропических обществ дела не было — он нарочно выдумал предлог заявиться сюда, лишь для того чтобы послушать, как гвоздь программы, американская ясновидящая Эванджелина Бёрд, станет предсказывать будущее.
Сурового вида слуги предлагали гостям бокалы шампанского и канапе. Мельхиор, завладев тем, до чего сумел дотянуться — его нос приходился как раз вровень с подносами в руках слуг, — отступил в будуар и оттуда принялся разглядывать благородное собрание.
На козетке в уголке госпожа Эванджелина Бёрд давала частную консультацию графине де Лабинь, которая яростно обмахивалась веером, внимая предсказательнице. Госпожа Бёрд оказалась древней иссохшей старухой, хрупкой как тростинка и весьма экзотичной — темная кожа, белоснежные волосы, серебряные серьги с длинными подвесками, певучий заокеанский акцент. В ее больших, ясных, совсем не старческих глазах бушевало внутреннее пламя, населенное призраками грядущего. Она родилась в хижине рабов на плантации близ Батон-Руж в те времена, когда Луизиана еще принадлежала Франции, и выросла там, среди озер и протоков, вскормленная индейскими и африканскими легендами. В 1841 году Финеас Барнум
[782] привез ее в Новый Орлеан и показывал публике, представляя самой старой на земле женщиной, которая, дескать, была кормилицей самого Джорджа Вашингтона. А потом Эванджелина Бёрд отправилась в далекую Европу и удостоилась аудиенций правящей семьи Великобритании, монаршей четы Бельгии, российского императора и французского короля Луи-Филиппа. Ходили слухи, будто ее устами говорит сам пророк Иезекииль, и услышать прорицания стремились многие, в том числе коронованные особы, но она редко принимала посетителей и еще реже покидала свое уединенное жилище на швейцарской земле, в Давосе.
И вдруг госпожа Эванджелина обратила взор лучистых глаз на Мельхиора Шалюмо. Сухие морщинистые веки дрогнули, на губах расцвела улыбка.
Мельхиору почудилось, будто этот странный взгляд пронзил его душу насквозь. Он даже невольно попятился и наткнулся на двоих мужчин, беседовавших возле карликовой пальмы.
— …невероятно рад вас видеть! Я заходил вчера в «Книжную лавку антисемита»,
[783] подписываюсь под каждым словом в вашей статье — этот Дрейфус понес заслуженное наказание!
— Несомненно, месье, несомненно… А с кем, простите, имею честь?..
— Полковник де Реовиль. Позвольте представить вам мою супругу, мадам Адальберту де Бри, а также месье де Шанльё-Марея, мадемуазель де Жиньяк и аббата Турьера. Друзья мои, это месье Гастон Мери — писатель, журналист и сотрудник месье Эдуара Дрюмона в «Свободном слове». Месье Мери, знакомство с вами для меня честь. Я читал ваш критический обзор под названием «Отголоски чудесного». Вы, стало быть, последователь Камиля Фламмариона?
[784] Леопольд, к ноге! Прошу прощения, это я собаке.
Длинноногая африканская борзая только что чуть не опрокинула Жозе-Мариа де Эредиа точным броском и была наказана грозным шипением персидского кота.
Мельхиор Шалюмо прыснул в кулак. Напыщенные вирши Эредиа не вызывали у него восторга, он не простил прославленному поэту строчку «И кречетов полет вдали от родных гекатомб».
[785] Покинув свое убежище, человечек пробрался к хозяйке и бесцеремонно подергал ее за юбку туалета из переливающегося шелка.
— Позвольте вручить вам это приглашение, о королева здешних мест.
Мадам де Камбрези с удивлением воззрилась на коротышку и приняла у него из рук карточку:
Приглашаем Вас присутствовать на благотворительном концерте итальянского тенора Таманьо в пользу Братской лиги детей Франции. Концерт состоится в Опера 13 апреля сего года.
— Э-э… весьма польщена, месье…
— Шалюмо, — поклонился Мельхиор. — Не стоит благодарности. Я в Опера свой человек, в дождь и в зной на посту. — Отвернувшись от Бланш де Камбрези, он вздрогнул: в гостиную, опираясь на руку Ламбера Паже, вошла кудрявая блондинка со вздернутым носиком.
«Вот уж кого не ожидал тут увидеть… — подумал Мельхиор, окидывая взглядом ее кричаще-яркое платье. — Она что, тоже собирается предсказывать знатным дамам и господам судьбу? Вероятно, на кофейной гуще… — Его сердце забилось сильнее. — А этот-то прифрантился! Чертов Ламбер Паже! И как она могла с ним спутаться? Дурочка, ты заслуживаешь лучшего! И это истинная правда, как то, что Господь правит на небе, а золото — на земле».
Ламбер Паже остановился и заговорил с долговязым поджарым господином, с ног до головы облаченным в алое.
«Оп-ля, антиквар, торгующий струнными инструментами на улице Турнон! И о чем же эта чудилка де Кермарек щебечет с нашим биржевым магнатом?» Задавшись вопросом, Мельхиор просочился между фалдами и оборками и подкрался к беседующим поближе.
— …Всецело разделяю вашу страсть к опере, дорогой мой Ламбер. Недавно меня попросили составить мнение об одном произведении в трех актах. Вы будете удивлены, но либреттистка — не кто иная, как Ольга Вологда! Музыку еще не сочинили, однако же композитор непременно придумает что-нибудь оригинальное. Это будет опера-балет на сюжет из античной мифологии. Либретто, знаете ли, весьма многообещающее, да и сама Ольга Вологда в главной балетной партии будет восхитительна, могу поклясться. Непременно воспользуюсь своим влиянием на директора Опера и добьюсь постановки. Разумеется, для мадемуазель там тоже найдется роль, — добавил Максанс де Кермарек, изящно поклонившись спутнице Ламбера Паже.
— А как называется эта опера-балет? — поинтересовался тот.
Ответить антиквар не успел, потому что на всю гостиную прозвучал голос автора «Трофеев»:
[786]
— Друзья мои! Просим всех проследовать в парадный зал! Госпожа Эванджелина Бёрд будет беседовать с пророком Иезекиилем!
Сгорающая от любопытства толпа хлынула к дверям и окружила восседающую в центре большого зала предсказательницу. Мельхиор Шалюмо скромно примостился за фикусом. В струящейся тунике госпожа Эванджелина Бёрд была похожа на престарелую царицу Савскую. Она сидела очень прямо, с бесстрастным лицом. Вдруг глаза ее закатились, по телу прошла дрожь, и в зале установилась тишина. Грудь ясновидящей приподнялась в глубоком вздохе, и она заговорила низким вибрирующим голосом, медленно, нараспев:
Безумие в маске прогнившей
Начинает кружиться в пляске.
Когорты в красных трико маршируют,
Хоронят друг друга в землю!
Механические птицы несут яйца смерти…
Дыхание Эванджелины Бёрд сделалось глубже, она замолчала. В зале стали раздаваться приглушенные смешки, покашливание, трагически завопил персидский кот, и графиня де Лабинь вскрикнула от неожиданности. Гастон Мери невозмутимо строчил в блокноте. Кто-то толкнул его сзади под руку, он разгневанно обернулся отчитать невежу, но столкнулся нос к носу с Жозе-Мариа де Эредиа, а истинный виновник, Мельхиор Шалюмо, уже исчез среди пышных юбок.
Госпожа Эванджелина Бёрд очнулась от оцепенения, и с ее губ снова стали срываться слова:
Исход, руины,
Труп на трупе.
Кровью омыто небо,
Пылают под ним города.
Пламя! Бушует пламя!
— Впечатляет, — пробормотал Жозе-Мариа де Эредиа. — Уж не вознамерилась ли уважаемая пифия скинуть с пьедестала наших парнасцев?
[787]
Мельхиор гулко сглотнул, в животе зашевелилась ледяная глыба. «Она ведьма! Ведьма!» Человечек пошатнулся, схватился за спинку стула…
— Неужели ей можно верить? — взвизгнула мадам де Бри-Реовиль, и уголок рта у нее задергался в нервном тике. — Эта Кассандра напугала меня до смерти! Механические птицы, трупы, руины… О чем это? О войне? Об эпидемии чумы? Но ведь доктор Йерсен из Института Пастера уже придумал животворную сыворотку и провел удачные опыты вакцинации!
— В Бомбее за несколько месяцев, с сентября тысяча восемьсот девяносто шестого по февраль девяносто седьмого, от чумы умерло более двенадцати тысяч человек! — сообщила графиня де Лабинь. — Какой ужас!
— Нет никаких причин для беспокойства, — обернулся к ней полковник де Реовиль. — Мы готовы встретить эпидемию во всеоружии, если она доберется до старушки Европы. Правительство уже принимает решительные меры. На улице Дюто склады забиты вакциной — ее хватит, чтобы пресечь на корню эту индийскую заразу.
— Верно, — поддержал Гастон Мери, — таково мнение светил медицины и ведущих специалистов Института Пастера. Что до войны, рано или поздно придется ее начать, если мы хотим получить обратно Эльзас и Лотарингию.
Мельхиор не помнил, как скатился по лестнице и выскочил на улицу Ла-Боэти. Он побрел по городу, не разбирая дороги, не обращая внимания на развороченные мостовые у строящихся зданий, на горы мусора и земли. Гортань перехватил спазм — так, что стало больно дышать. Человечек упал на скамейку и осторожно втянул носом воздух. Его словно накрыло багровым облаком — окружающий мир исчез.
Огонь мчался за беглецами по пятам, набирал скорость, и казалось — им не спастись, уже вспыхнули деревянные двери… Потом одна женщина, жившая по соседству, рассказывала, как из горящего здания, из дыма и пламени, вывалилось чудовище о двух головах, отковыляло подальше и рухнуло на мостовую кучей тряпья. Оно, видимо, попыталось подняться — куча заворочалась, и вдруг над ней во весь рост выпрямилась девочка, ошалело заозиралась. Женщина, конечно, решила, что это ей примерещилось от ужаса и волнения — ведь ни девочку, ни чудовище потом так и не нашли…
Автомобильный клаксон вернул Мельхиора к действительности. В том, что на дворе сейчас апрельский день 1897 года, человечка окончательно убедила острая боль в желудке. Еще выяснилось, что он вымок до нитки — по городу успел пройти ливень, сделав мостовые нарядными, фиолетово-синими. Бледное солнце освещало строительный забор, за которым смутно вырисовывалась громадина Дворца промышленности, предназначенного к слому. На его месте скоро вырастут два монументальных сооружения — Париж уже начал прихорашиваться, готовясь к Всемирной выставке 1900 года. И о вступающей в свои права весне город тоже не забывал — на империалах кативших мимо омнибусов пассажиры щеголяли в соломенных шляпах, а по Елисейским полям разъезжали экипажи с опущенным верхом.
«О Всемогущий, я так одинок! Отвержен всеми и проклят! Но я готов бросить вызов самому Вельзевулу, лишь бы перевернуть свою жалкую жизнь!»
Путешествие на фиакре всегда было для Мельхиора приключением, и настроение его снова изменилось: он весело окликнул кучера. Тот покривился при виде коротышки, но все же взял его на борт.
Прижимаясь лбом к окну фиакра, маленький человек вскоре забыл о тревогах, которые пророчества ясновидящей всколыхнули в нем. Фиакр покачивался на рессорах, приятно убаюкивая, — ни печалей, ни угрызений совести не осталось, лишь удовольствие от поездки по городу.
— Ты мое спасение, мое искупленье, — прошептал Мельхиор. — И пусть ты не догадываешься о моем существовании, но то, что я видел и слышал сегодня, — знамение свыше, и я буду по-прежнему хранить тебя, заботиться о тебе тайком. Ты не узнаешь об этом, но в моей душе снова воцарится покой…
На пересечении набережной Малакэ с улицей Сен-Пер драл глотку бродячий торговец:
— Покупайте план Парижа и Версаля! Всего за один франк! Месье, карту Парижа не желаете?
Жозеф перешел на противоположный тротуар, чтобы не попасться на глаза матушке и мадам Баллю, которые сплетничали у дома 18-бис. Эфросинья двумя руками держала корзинку с овощами. Бывшая зеленщица так и не избавилась от нежной привязанности к луку-порею, артишокам и морковке, а ее сын с утра до вечера готов был питаться только жареной картошкой. «Опять шпинат! — с ужасом подумал он. — У меня так когда-нибудь заворот кишок случится!» Но как можно злиться на родную мать, которая изо всех сил старается обеспечить семье здоровое питание? А ей трудно приходится: Айрис — вегетарианка, мясо на дух не переносит, а он, Жозеф, терпеть не может рыбу…
Эфросинья попрощалась с консьержкой и направилась в сторону улицы Иакова. Мишлин Баллю, опорожнив помойное ведро в канаву, скрылась в подъезде дома 18-бис. Путь был свободен. Жозеф без опаски пересек улицу, но тут-то его и ждала коварная западня: перед ним как из-под земли вырос пышноусый гражданин с гладко выбритым подбородком, одетый в брючную пару из полосатой саржи.
— Месье Пиньо! Рад вас видеть. Зная вашу страсть к загадкам, я хотел бы с вами посоветоваться. Почему, скажите на милость, чем меньше предметов выставлено в витрине, тем дороже они стоят? Вот, к примеру, парфюмер на бульваре Сен-Жермен предлагает четыре флакона духов — не пять, не шесть, а четыре, заметьте! — по весьма экстравагантной цене, тогда как…
— С чего это тебе духи понадобились, Альфонс? Новой потаскушкой обзавелся, что ли? — Мишлин Баллю, подбоченившись, смерила кузена недобрым взглядом с порога дома.
Альфонс Баллю заговорщицки подмигнул Жозефу и возвел очи горé.
— Я к тебе обращаюсь, Альфонс! Что ты там гримасничаешь? Позволю себе напомнить: я тебя приютила, для того чтоб ты здоровье поправил после армии и стал мне всяческой поддержкой и опорой, а не для того чтоб ты за юбками бегал по всему городу спозаранку!
— Да я в Военное ведомство ходил старых соратников навестить, — пожал плечами Альфонс.
— И как, не упарился, навещаючи-то? — прищурилась Мишлин.
— Ничего, сейчас отдохну и буду в порядке, — невозмутимо отозвался ее кузен. — Ах, армия! Лучшее время моей жизни! — С этими словами он уселся на свое привычное место возле арки, ведущей во двор, сунул в зубы сигару и развернул свежую газету.
— Нет, вы видали? — разбушевалась мадам Баллю. — Черная неблагодарность! Взгляните на этого лоботряса! И компашка у него такая же — одни бездельники и голодранцы! Ему еще повезло, что он мой единственный родственник и я его из дома не выгнала! А вы, месье Пиньо, не обижайте свою мамочку — хоть у нее и премерзкий характер, она ради вас в лепешку готова расшибиться…
Жозеф с трудом подавил зевок.
— Это что же?! — возопила консьержка. — Вам скучно слушать, что я говорю? В сон клонит? Люди добрые, еще один неблагодарный! — Она развернулась и удалилась в дом, оскорбленно хлопнув за собой дверью.
— О как! — хмыкнул Альфонс. — До чего ж бабы любят читать нотации!
— Однако же кузина о вас заботится, — заметил Жозеф.
— Это да, и стряпуха она отменная. Кстати, ваш новый роман-фельетон великолепен! Я не пропустил ни одной публикации. И у меня есть предложение: возьмите за основу очередного сюжета дело в Бют-о-Кай — это будет грандиозно! — Альфонс протянул Жозефу газету. — Вот, почитайте про него. Только с возвратом! Иначе кузина Мимина меня со свету сживет.
Кэндзи сидел в книжной лавке за столом и просматривал каталог издательских новинок.
— У вас глаза, как у белого кролика, — констатировал он, взглянув на зятя поверх очков. — Плохо спали?
— И чего всем не дает покоя мой сон? — проворчал себе под нос Жозеф, направляясь к подсобке. Пока он пристраивал на вешалке редингот и котелок, зазвенел колокольчик на двери, и молодой человек узнал визгливый голос Матильды де Флавиньоль:
— Месье Мори, в каком страшном мире мы живем! Бедняжка Рафаэлла де Гувелин упала в обморок из-за этого северного Христофора Колубма — норвежского путешественника Нансена, которого с такой помпой принимали в Географическом обществе.
— Что же, ее так впечатлили заполярные подвиги месье Нансена? — прозвучал серьезный мужской голос.
— Ах, месье Легри, как я рада вас видеть! — Матильда де Флавиньоль вцепилась в только что вошедшего Виктора, лишив его возможности откатить велосипед в подсобку. — Представьте себе, месье Нансен застрял на своей шхуне «Фрам» во льдах, припасы быстро закончились — и что же сделал этот ужасный норвежец? Он разрешил команде съесть всех собак, которых взяли с собой в экспедицию!
— Мадам, как сказал Гёте, «человеку свойственны любые мерзости», — бесстрастно отозвался Кэндзи. — Вы пришли к нам за книгой?
— У вас есть «Неотразимое очарование» Даниэля Лесюэра в издании Лемера?
— Жозеф справится по нашему каталогу. Жозеф!
— Ну уж нет! Это выше моих сил! — пробормотал молодой человек, притаившись за кучей картонных коробок. Он уселся поудобнее, потер о рукав яблоко, откусил добрую половину и принялся просматривать любимую рубрику всякой всячины в газете.
С помощью рентгеновских лучей и индукционной катушки Румкорфа мошенники на спиритических сеансах морочат голову доверчивой публике, пугая ее внезапным появлением скелетов.
— Доверчивой публике стоило бы прогуляться по Катакомбам, — шепотом прокомментировал Жозеф.
Любители прогулок в Венсенском лесу расстроены внезапной смертью уток-мандаринок на озере…
— Похоже, репортерам совсем делать нечего — скоро они будут рассказывать нам о каждой бродячей собаке, издохшей под колесами фиакра… А вот это уже интересно.
ЭКСТРЕННАЯ НОВОСТЬ
Сегодня ночью канализационным рабочим обнаружен труп. Месье Мишель Потье шел по бульвару Распай к улице Буассонад и у ограды Монпарнасского кладбища увидел неподвижно лежащего на тротуаре человека. Личность покойного пока не установлена…
— Черт побери! Труп в двух шагах от входа в Катакомбы! Это надо вырезать… А где ножницы и клей? Вот невезение, они у меня на конторке, а тетенька и не думает избавить нас от своего присутствия!
— …Да-да, месье Легри, уверяю вас! Ваша супруга невероятно талантлива, ее портрет Рафаэллы де Гувелин — просто чудо расчудесное, и мне…
Жозеф решился на отчаянные действия — ему не терпелось поговорить с Виктором и пополнить коллекцию статеек о необычных событиях, которые служили ему подспорьем в писательском труде. Выскочив из укрытия, он метнулся к конторке, но с маху налетел на педаль велосипеда и, ругаясь почем зря, заскакал на правой ноге, схватившись за лодыжку левой под насмешливым взглядом Кэндзи.
— Черт, теперь синяк будет! — прошипел сквозь зубы Жозеф. — Смешно вам? Конечно, стульев тут понаставили — не развернешься. Я в подвал — надо сделать компресс, пока нога не распухла.
Виктор отвернулся, едва взглянув на зятя, но Жозеф успел прочитать в его глазах обещание поскорее освободиться.
Внизу, миновав склад, загроможденный книгами, молодой человек доковылял до бывшей фотолаборатории, отданной Виктором ему в безраздельное владение. Подождав, пока боль утихнет, и обработав уже наливавшийся кровью синяк, он аккуратно наклеил в блокнот со всякой всячиной три вырезки из «Пасс-парту». Что ж, придется вернуть мадам Баллю искромсанную газету… Жозеф подчеркнул красным карандашом имя Мишеля Потье, канализационного рабочего, и в порыве вдохновения набросал сюжет нового романа-фельетона, в котором фигурировали рентгеновские лучи, подземелья Парижа, горы костей и сумасшедший ученый, которого не менее сумасшедший колдун превратил в утку-мандаринку.
— Назову это «Люди подземелий» или «Демоническая утка»!
— Надеюсь, я не вспугнул вашу музу? — Виктор, бледный и осунувшийся, опустился на табурет. — Гувелинша меня оглушила на левое ухо. А как ваша лодыжка?
— Если начнется гангрена, придется ее ампутировать, — вдумчиво сказал Жозеф.
— Эй, вы двое внизу! Мне нужно отлучиться по делу! — прогремел сверху голос Кэндзи. — Извольте кто-нибудь присмотреть за лавкой!
Виктор и Жозеф, повздыхав, поплелись в торговый зал.
— И почему он все время где-то шастает? Дело у него, видите ли, — проворчал Жозеф в адрес тестя. — Кстати, спасибо, что вчера бросили меня одного в Катакомбах. Я, конечно, готов безропотно обеспечивать вам алиби всякий раз, как вы решите поиграть в поборника справедливости, но в данном случае я имею право хотя бы узнать результаты вашей беседы с княгиней Максимовой. Что у нее стряслось?
— Я только что пришел, Жозеф, дайте мне отдышаться!.. Ладно, помните того длинноволосого денди, который сопровождал Эдокси, когда она заявилась к нам в лавку? Вы в тот день как раз прикупили для нас бесценные «этцели» у герцога де Фриуля.
— Вы о кларнетисте? — проглотил насмешку молодой человек.
— Да. Он утонул.
— Стало быть, хитрая бестия заманила вас в Катакомбы для того, чтобы сообщить эту радостную новость? Или она все-таки снова пыталась вас соблазнить?
— Кларнетист был любовником ее подруги Ольги Вологды, прима-балерины Опера, — не отреагировал на подковырку Виктор. — И у Эдокси есть подозрение, что кто-то пытался мадемуазель Вологду отравить. Должен признать, эта история показалась мне несколько замысловатой…
— Порой реальность превосходит любой вымысел. Каким образом ее хотели отравить?
— Ольга Вологда отведала угощения, присланного ей анонимным поклонником. Подарок оказался пряничной свинкой с ее именем, а на карточке было написано: «Съешь меня…» и еще что-то.
— Пряничная свинка! — воскликнул Жозеф. — Вчера вечером, после того как вы малодушно сбежали, я познакомился с одним музыкантом, который, правда, больше походил на гладиатора, чем на виртуоза смычка. Так вот, коротышка, провожавший нас в крипту, вручил ему сверток. Угадайте, что в нем было?
— От мертвого осла уши? — предположил Виктор.
— Нет, пряничная свинка! И у нее на боку глазурью было выведено имя. Я его запомнил, потому что папенька, когда пытался меня накормить в детстве, всякий раз читал мне «Сетования» Жоашена дю Белле:
[788]
Франция, матерь искусств, оружия и законов,
Вскормлен я был в свое время твоим молоком…
— Жозеф, вы бредите?
— Скрипача звали Жоашен — как дю Белле! И ему тоже прислали карточку вместе со свинкой. Я успел прочитать: «Маэстро, съешьте меня…» Дальше не помню. Вот только попробуйте сказать, что между ним и вашей балериной нет ничего общего… О, у нас посетитель!
На пороге книжной лавки «Эльзевир» возник господин в помятом костюме и фетровой шляпе а-ля Виктор Гюго. По роскошным галльским усам Виктор тотчас узнал комиссара Рауля Перо — доброго гения бродячих псов и беспризорных черепах.
— Месье Легри, месье Пиньо, ваш покорный слуга! Не смог отказать себе в удовольствии заглянуть к вам, проходя мимо. Ох, сколько книг, сколько книг! А запах — кожа и бумага, какое чудо!
— Давненько мы вас не видели, комиссар! — искренне улыбнулся Виктор.
— Меня снова перевели в другой участок. Надо сказать, эти постоянные переезды мне весьма тяжело даются. Надеюсь, на сей раз я надолго обосновался под сенью Бельфорского льва.
— Моя супруга читала мне ваши стихи, опубликованные в «Жиль Блаз». Браво! Они превосходны!
— Вы слишком добры ко мне, месье Легри. Услышать такое от знатока поэзии необычайно лестно. А нет ли у вас…
— Сочинений Жюля Лафорга? Увы, в данный момент нет.
— Что ж, я готов удовольствоваться сборниками других символистов. К слову, вы не были на спектакле «Король Убю»? Премьера состоялась в минувшем сезоне в театре «Эвр». Общество шокировано этим вызывающим фарсом Альфреда Жарри, но символистская молодежь встретила его восторженно, я и сам хохотал как сумасшедший!
— Кажется, я видел томики Эфраима Микаэля и Рене Гиля, когда составлял опись, — вспомнил Жозеф. — Непременно найду их и доставлю вам, месье Перо.
— Очень любезно с вашей стороны, месье Пиньо. Знаете ли вы, что мои подчиненные не пропускают ни одного из ваших романов-фельетонов? Я и сам порой с наслаждением вас почитываю, если выдается свободная минутка.
— Много работы?
— В основном текучка, однако случаются и весьма драматические события. Сегодня ночью мы, к примеру, подобрали труп скрипача у Монпарнасского кладбища. Я уже провел кое-какое расследование и пришел к выводу, что он возвращался с концерта в Катакомбах, но что-то помешало ему добраться до дома.
Виктор, покосившись на Жозефа, спросил:
— Полагаете, это было убийство?
— О-ля-ля, вижу прежнего месье Легри! — хитро заулыбался Рауль Перо. — Пока неизвестно, тело в морге, на вскрытии. Но у господина скрипача рваная рана на виске, и от него попахивало спиртным — полагаю, он мог упасть и размозжить себе череп о мостовую.
— А почему вы думаете, что он побывал в Катакомбах? И откуда известно, что он скрипач? — поинтересовался Жозеф. — Что вас навело на след?
— Дело в том, что в канаве рядом с телом была найдена неопровержимая улика: скрипичный футляр, а в нем… скрипка! Нет-нет, господа, больше ничего сказать вам не могу. Но знайте, что я направляюсь в Префектуру, откуда немедленно свяжусь с организаторами концерта в Катакомбах на предмет проведения опознания… Месье Пиньо, ваша матушка делает вам таинственные знаки.
Жозеф обернулся. Стоя на тротуаре у витрины, Эфросинья в шляпке набекрень и сбившемся шиньоне энергично грозила сыну пальцем. Он тотчас выскочил из лавки.
— Ой, что будет!.. — шепнул Виктор комиссару, предвкушая громы и молнии, которые наверняка будет слышно в торговом зале.
Мадам Пиньо всецело оправдала его ожидания.
— Иисус-Мария-Иосиф! Ах ты поросенок! И ты еще смеешь считать себя взрослым мужчиной?! Завел, видишь ли, семью, ребенка, второго заделал, а сам неизвестно где ночами шляется, когда его дочурка кашляет так, что стены трясутся!
— Матушка, потише, нас ведь услышат…
— Очень надеюсь, что нас услышат! — пуще прежнего взревела Эфросинья. — Пусть слышат и слушают! Пусть все знают, какой ты негодный отец! Где ты пропадал вчера вечером? Будь твой бедный папочка жив, он бы тебе ремня всыпал!
— Моя внучка больна? — раздался голос незаметно подошедшего по улице Кэндзи.
Мать с сыном резко обернулись.
— О, ничего страшного, месье Мори, — поспешно заверила Эфросинья. — Всего лишь ангина, доктор Рейно осмотрел малышку. Я просто объясняла Жозефу… Так, что я здесь делаю? Мне срочно нужно в аптеку!
Японец некоторое время смотрел в спину улепетывающей Эфросинье, затем, не сказав зятю ни слова, последовал за ним в лавку и поднялся по винтовой лестнице к себе в апартаменты.
— Месье Легри, эта восхитительная комедийная сценка заставила меня вспомнить извечный вопрос Верлена: «Такая ли уж важная и серьезная штука жизнь?» Буду почаще к вам наведываться! — С этими словами Рауль Перо раскланялся с Виктором и, выходя из
лавки, кивнул Жозефу: — Не забудьте о моих книгах, месье Пиньо. Вы знаете, где меня найти — под сенью Бельфорского льва!
Виктор беспокойно побарабанил пальцами по голове гипсового Мольера на каминном колпаке.
— Ну вот, я был прав — моего скрипача отравили! — удовлетворенно заявил Жозеф.
— Боюсь, как бы комиссар Перо не пронюхал, что мы были в Катакомбах…
— Нервы у вас ни к черту! Впадаете в черную меланхолию, едва запахнет жареным. Взбодритесь же — весна на дворе, жизнь прекрасна!.. А я ведь сразу почуял: труп у Монпарнасского кладбища неспроста оказался! Глядите, что я вырезал из «Пасспарту» еще до того, как комиссар Перо рассказал про скрипача!
Виктор пробежал взглядом заметку и пожал плечами:
— С чего вы взяли, что это именно тот скрипач? К тому же месье Перо прав: наверняка он сам упал, потому что был пьян, и разбил голову.
— Это еще надо выяснить. И я готов побиться об заклад, что речь идет о Жоашене. Так что будем делать?
— Ничего. Забудем об этом.
— Ушам своим не верю!
— Я обещал Таша никогда больше не затевать расследований. Это слишком опасное развлечение… А вы между прочим то же самое пообещали Айрис. Кроме того, я намерен посвятить все свое свободное время фоторепортажу о ярмарочных праздниках.
— Браво! С такой темой вам прямая дорога на выставку в престижную фотогалерею!
— Не надо иронизировать. Мне наплевать на славу и награды. Я хочу запечатлеть поэзию улиц — ни больше и не меньше. Пусть публика недоумевает и возмущается, оттого что ей показывают сцены из обычной современной жизни, пусть меня не воспринимают как художника — я хочу сохранить на фотографиях явления, которые уходят в прошлое.
— Стало быть, от расследования вы отказываетесь? — покачал головой Жозеф. — Но к чему это вас обязывает? Ладно, предлагаю вот что: я уступаю вам честь первооткрывателя — вам всего-то и нужно еще разок побеседовать с вашей соблазнительницей Эдокси Максимовой, а дальше я буду действовать один, так уж и быть. Согласны?
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Понедельник, 5 апреля
Каждое утро восстанавливать поблекшую в странствованиях по царству сна красоту — занятие утомительное. Необходимо вернуть совершенство коже, укротить непослушные волосы, извести синеву под глазами, возродить румянец на скулах, а затем облачиться в замысловатый наряд — истинный рыцарский доспех, состоящий из корсета, юбок, платья, шляпки и ботов. И не забыть духи, перчатки и веер!
Эдокси Максимова поднялась на рассвете, чтобы своими руками подвергнуть себя череде истязаний, которые в исполнении палача наверняка вызвали бы у нее живейший протест. Приспособлениям из китового уса, увеличивающим округлости фигуры, она предпочитала те, что их скрывают, и затягивала тело в тугую броню, превращаясь в андрогина — своеобразный способ скрывать возраст. Этим и многими другими ухищрениями она собиралась добиться раскаяния от Кэндзи Мори, чья нынешняя холодность шла вразрез с прежними проявлениями пылкой страсти. Он снова должен быть у ее ног. Эдокси была невыносима мысль о том, что в бесчисленном стаде зачарованных самцов, немеющих от восхищения в ее обществе, завелся один равнодушный к ее прелестям. Но главная причина тревог, хотя Эдокси отказывалась признаться в этом самой себе, заключалась в том, что невозмутимый японец, посмевший ее отвергнуть, отныне прочно занял место в ее сердце. Скорее! Протелефонировать ему, а потом со всех ног бежать на улицу Сен-Пер, пока надвигающийся ливень не уничтожил результаты самоотверженного труда, занявшего все утро!
А Кэндзи и не подозревал, какие усилия предпринимаются ради него. Он стоял в тапочках и кальсонах посреди собственной спальни и совершал магические пассы над прямоугольным аппаратом из полированного дерева, пытаясь завести его ключом. Вчера было воскресенье, весь вечер и всю ночь они с Джиной посвятили любовным утехам, и, проснувшись, Кэндзи решил, что утренний туалет его подруги должен проходить под музыку. Из коробки с четырьмя цилиндрами он извлек один наугад, приладил его к грамофону, и когда механизм был запущен, из металлического раструба полился голос примадонны, исполняющей арию из оперы-буффа Cosi fan tutte,
[789] — Моцарт, вероятно никак не ожидавший такого применения своим талантам, начал задавать ритм движениям Джины, облачающейся в кремовое кружевное белье.
Волшебство модуляций оперной дивы вдруг нарушил резкий телефонный звонок из прихожей, и Кэндзи бросился туда. Разговор занял всего несколько секунд — японец вернулся в спальню, что-то бормоча сквозь зубы, поспешно натянул брюки, рубашку, накинул сюртук и обулся в штиблеты.
— Клиент звонил? — поинтересовалась Джина.
— Да, что за беспардонность! Я был с ним воплощенная любезность, но придется дать понять этому шельмецу, что нельзя беспокоить меня безнаказанно в столь ранний час. Садитесь завтракать без меня, друг мой, я к вам присоединюсь.
Выйдя на площадку винтовой лестницы, он плотно закрыл за собой дверь бывшей квартиры Виктора.
Эдокси вбежала в книжную лавку, оставив за спиной проливной дождь хлестать вдоль и поперек мостовую.
— Прости, что разбудила тебя звонком, мой микадо, — я боялась застать тебя врасплох, поэтому сочла уместным сначала протелефонировать.
— Я не один, — прошептал Кэндзи.
Посетительница уставилась в потолок и некоторое время прислушивалась к легким шагам на втором этаже, свидетельствовавшим о присутствии женщины. Хозяин заведения, заложив руки за спину, нервно крутил большими пальцами. Вид у него был еще тот — лицо помятое, веки припухли, отчего глаза казались тонкими щелочками, галстук-«бабочка» перекосился. Думал японец об одном: только бы Джина не выглянула в торговый зал — ее столкновения с его бывшей любовницей он не вынесет! К тому же желудок восстал против внезапного вторжения Эдокси, лишившего его скромного утреннего пропитания — чашечки зеленого чая и бисквита без масла.
— Что привело вас сюда в такую рань?
— Хотела сообщить вам о том, что я уезжаю. Повезу бедную Ольгу, мою подругу, на Ривьеру — ей совершенно необходим хороший отдых. Врач прописал ей полный покой. У нее до сих пор случаются приступы тошноты, а какая рвота была в тот день…
— Умоляю, избавьте меня от медицинских подробностей, — поморщился Кэндзи. — С ней стряслось что-то серьезное? Инфлюэнца? — добавил он с показным участием.
— Как, месье Легри вам не рассказывал? Странно, мы ведь виделись с ним на концерте в Катакомбах в пятницу вечером. Он пришел туда с месье Пиньо… Здоровье Ольги идет на поправку, но чтобы полностью окрепнуть, ей понадобится время, потому мы и отправляемся в Ниццу… Ах, если бы ты знал, как мне тяжело уезжать так далеко! Я уже заранее по тебе скучаю, мой микадо!
— Когда вы уезжаете? — холодно спросил Кэндзи, все больше нервничая при мысли о том, что их может застать Джина.
— Поезд в одиннадцать. Это будет печальное отбытие — мы одни-одинешеньки, никто не помашет платочком вслед… Я обречена чувствовать себя изгнанницей — сначала Россия, теперь вот юг Франции…
— Ну, на сей раз вас ждет изгнание в рай, моя дорогая. К тому же я убежден, что вы недооцениваете рвение своих воздыхателей — перрон будет заполнен толпой прекрасных мужчин, готовых броситься на рельсы, лишь бы вас удержать.
— Смейтесь, злодей! — Эдокси поправила шляпку, усеянную блестками и расшитую золотой нитью, запахнула накидку из серебристо-голубой шерсти, не скрывшую, впрочем, глубокого декольте платья из тафты, и направилась к выходу.
А Кэндзи все с тем же невозмутимым видом почти вытолкнул ее из лавки.
Когда он поднялся на второй этаж, Мелия Беллак, сидя на кухне, переписывала перечень покупок, составленный Джиной.
— Рокфор и масло! Право слово, моя матушка назвала бы это сущей ересью! Вы уверены, что стоит смешивать коровье молоко с овечьим? — сурово осведомилась она, завидев хозяина.
— Утро, конечно, вечера мудренее, но моя способность соображать возвращается не раньше десяти часов, — пробормотал Кэндзи, довольный тем, что не застал Джину — она уже ушла через подъезд дома 18-бис на улицу Дюн, где ее ждали ученики класса акварели. Но кое-что его не на шутку разозлило: «Мои совладельцы — коварные плуты! Это же надо — втихаря в Катакомбы полезли, а герцога де Фриуля взяли в сообщники, он им алиби обеспечил! Вот паршивцы!»
Японец со всем тщанием привел себя в порядок, потратив немало времени на то, чтобы добиться идеального наклона крахмального воротничка, и снова спустился в торговый зал открыть лавку — Жозеф в этот день должен был явиться только к полудню.
Первым посетителем оказался гражданин, которого из-за вечной ухмылки в «Эльзевире» прозвали за глаза Человек-который-смеется.
— Месье Мори, не надумали продать мне за полцены ваше «Путешествие юного Анахарсиса»
[790] без карт? Все равно у вас его больше никто не купит! — еще шире осклабился Человек-который-смеется, хотя, казалось бы, дальше некуда. — Так что? «Юный Анахарсис» дорог вашему сердцу или все же уступите его мне?
Кэндзи мысленно представил себя на одиноком тихоокенском атолле, где никакому разумному книгочею не придет в голову затеять торг. Где вообще нет никаких книгочеев…
Дафнэ придумала игру: колыбель для будущего братика или сестрички была превращена в берлогу, где живет медведь, и как только он собирался высунуть оттуда нос, девочка обстреливала его игрушками. Наполненная метательными снарядами, колыбель походила на пещеру Али-Бабы — ни один косолапый оттуда не вылезет! Победа! Дафнэ знала, что игра продлится недолго: скоро берлогу займет некое крошечное существо. Ей об этом все время говорили взрослые, делая круглые глаза — мол, ты же не будешь швыряться игрушками в малыша? И Дафнэ мысленно дивилась их глупости: неужели взрослые думают, что она не знает, какое хрупкое существо — младенчик? К тому же когда этот младенчик появится, сражаться будет уже не с кем — бурый мишка, устрашенный его воплями, спрячется под кровать, где давно обитает семейство гризли.
Эфросинья хлопотала на кухне, пытаясь приготовить бланкетт
[791] без мяса — она уже умудрилась заменить говядину треской и теперь корпела над соусом. Айрис тем временем нежилась в постели, покусывая кончик карандаша. Мысль связать двадцать третью шерстяную распашонку ее не вдохновила, и, уютно откинувшись на гору подушек, она созерцала чистую страницу тетради. Но муза витала где-то далеко — новая сказка никак не сочинялась, пришлось отложить тетрадку. Возможно, музу вспугнул малыш, который с самого рассвета беспокойно толкается в животе? В тишине громко тикали ходики, на кухне гремели кастрюли. Взгляд Айрис упал на карманные часы, оставленные Жозефом на тумбочке, и вдруг в ее воображении закачался целый лес маятников, населенный забавными персонажами с длинными руками и лицами-циферблатами. Все были круглоглазы, шевелили усами-стрелками и немедленно расшумелись, осыпая ее советами:
«Нельзя терять ни минуты! Время — деньги!»
«Пора, пора вставать, лежебока, ну-ка быстро умываться-одеваться!»
«В твои годы мы вскакивали на заре и работали как заведенные!»
Айрис схватила тетрадку, и слова, теснясь и мешая друг другу, словно из ниоткуда стали появляться на чистых листах. Она даже не заметила, как вернулся муж и нежно поцеловал ее в лоб.
— Какой я рассеянный — часы забыл! Дафнэ просится поиграть в нашу спальню, а матушка ушла к Таша.
— Угум-м-м… — отозвалась Айрис, не поднимая головы.
Жозеф бесшумно вышел из комнаты. Ему не терпелось заняться расследованием — он собирался наведаться в морг и справиться там о покойнике, найденном у Монпарнасского кладбища. И наведался бы, но неистовая матушка нарушила все планы — теперь ему вместо этого предстояло вызвать водопроводчика, сходить за хлебом и поиграть с Дафнэ.
Остановившись у окна в гостиной, молодой человек облокотился на подоконник, печально уставился на липу во дворе, терзаемую ветром, и почувствовал сродство с бедным деревом. Ведь и он отдан во власть стихиям — трем женщинам, которые веревки из него вьют.
«Что за жизнь — расписание навязывают, детей подкидывают! Ну да пусть их, уж завтра-то я точно загляну в морг, и если окажется, что тамошний покойничек — тот самый скрипач с пряничной свинкой, расследованию быть! И дельце обещает стать интересным…»
Мельхиор Шалюмо не мог отказать себе в удовольствии полюбоваться маленькими танцовщицами, повторяющими урок под суровым взором наставницы, вечно готовой придраться к чему угодно — то подъем не тянем, то спину не держим.
— Мадемуазель Жермена, ну-ка соберитесь!
Мельхиор смотрел и умилялся. До чего же тоненькие, хорошенькие, трогательные девчушки! У всех волосы растрепаны, глазки припухли со сна, но от этого будущие балерины еще восхитительнее. Некоторые были в вязаных гетрах, иные в шерстяных платочках — зал не отапливался, девочки мерзли. А при виде Жермены в штопаных-перештопаных чулочках, тарлатановой юбочке и стоптанных балетках у него защемило сердце, как в прежние времена.
«Драгоценный Всемогущий, клянусь: никогда-никогда не уступал я своей чудовищной склонности, не давал себе волю, честное слово, даже в тот проклятый вечер, когда вспыхнул пожар. Признаю: я тогда под лживым предлогом задержал малышку после репетиции, но разве же не спас я ей жизнь? А Жерменой я только любуюсь издали — это же не преступление. Ведь кто ж, как не Ты, сотворил эти прекрасные создания? А соблазн-то кто придумал? Ты, Ты за него в ответе».
Тут оповеститель был замечен и изгнан прочь гневными жестами. Прежде чем броситься со всех ног в коридор, он успел показать язык маленьким чертовкам, не сумевшим оценить его внимание. Краем глаза Мельхиор заметил мальчишек в трико — они делали упражнения на растяжку подколенных сухожилий на полу, слегка смоченном водой из лейки, чтобы ноги не скользили. Ничего интересного. Мельхиор продолжил путь вверх по лестнице.
«Человеку, как и обществу, нужно время от времени выпускать пар, а то взорвется», — подумал он. Досада от того, что девчонки его прогнали, уже забылась. Он со злорадным удовольствием принялся докучать портным и швеям, корпевшим над вестготскими доспехами, ущипнул за ляжку помощницу костюмерши и вывел из себя двух реквизиторов, чистивших вальтрап для деревянного коня.
Натешившись вдоволь, Мельхиор уединился в своем жилище. Прежде всего, как обычно, там ему попались на глаза два неумелых портрета, нарисованные им же самим в детстве. На первом был запечатлен дедушка по материнской линии, Матьё, который заботился о Мельхиоре после смерти его родителей и подвизался в разных цирках с труппой лилипутов. На втором красовался Бедокур — черный пес, умевший ходить на задних лапах, преданное создание, чья бескорыстная любовь служила маленькому человеку утешением целых тринадцать лет.
Мельхиор зажег две свечи и преклонил колени.
— Миленький Всемогущий, благодарю Тебя за то, что присмотрел, как бы меня кто не застал в морге!
Сегодня он, воспользовавшись ротозейством охранников морга, обшарил карманы одежды, сваленной в кучу рядом с трупом, и нашел вещицу, достойную пополнить его коллекцию. Сейчас, в своей каморке, маленький человек поднял крышку ларца «Саламбо», нежно погладил лежащие там клапан от кларнета, который теперь уже никому не понадобится, и кружевную митенку, а затем аккуратно пристроил рядом с этими двумя реликвиями батистовый платок с инициалами «Ж.Б.».
— Чутье мне подсказывает, что в ближайшее время у вас появится еще один сосед, мои сокровища. Я назову его… Номером Четвертым! И чем длиннее будет список, тем пуще мое веселье — даром я, что ли, Веселый Чик-Чирик? Раз и два, пляшет Смерть! А теперь за дело, надобно неустанно учиться и самосовершенствоваться!
С этими словами, выхватив из-под соломенного тюфяка два учебника под названием «Немецкий без труда», Мельхиор растянулся на постели и погрузился в чтение.
Совесть Виктора, который покинул семейное гнездышко ни свет ни заря, возмущалась не так уж и громко, чтобы заглушить гремевшие в его душе фанфары ликования. Велосипед «Альцион» набирал скорость, а наездник пьянел от свежего ветра на сонных улочках, где навстречу попадались лишь метельщики, бродившие у перекрестков. Медленно бледнел желтоватый свет фонарей. На улице Бланш Виктор остановился понаблюдать за потасовкой в дверях кафе — завсегдатаи скопом ломились туда промочить горло с утра пораньше. Суматоха и разноголосица напомнили ему о карнавале, бушевавшем в городе месяц назад. Он тогда с удовольствием фотографировал бесчисленные карнавальные колесницы, на которых разъезжали консьержки и квартиросъемщики, члены Лиги медвежьих шапок Наполеоновской гвардии, отмечавшие столетие цилиндра, а на одной в чреве огромного кита из папье-маше дремал Иона подле двух прелестных прачек — это была композиция Общества рентгеновских лучей.
Тогда же, на карнавале, Виктор повстречал Жоржа Мельеса
[792] и получил приглашение посетить его «экспозиционную мастерскую», построенную зимой в саду загородного дома в Монтрёе. Виктора весьма впечатлил застекленный ангар площадью семьдесят восемь квадратных метров. Удивительно, что открытие этой студии не привлекло ни малейшего внимания прессы — ни единого репортера не было на дефиле актеров среди полотен в технике гризайли. Мельес намеревался снимать не только фантастические или комические постановочные сценки, но и злободневные сюжеты. К примеру, в его планах было воссоздать на экране недавно начавшуюся греко-турецкую войну. Виктор провел бы в резиденции Мильеса побольше времени, но у него было право на экслюзивный фоторепортаж о Бычьем кортеже
[793] на площади Согласия, и он покинул тогда окрестности Монтрёя с твердым намерением рано или поздно поучаствовать в синематографической авантюре.
Сейчас Виктор миновал здание редакции «Пти журналь» и остановился у сквера Монтолон. На обрамленных бордюрами лужайках жались друг к другу нарциссы. Няньки выгуливали малышню под голыми еще деревьями. Он огляделся. Ну и как тут вычислить дом, в котором живет Ольга Вологда? Можно было, конечно, расспросить консьержек — порой это приносит щедрые плоды, но требует беспредельного терпения, а Виктора утомила езда на велосипеде. «Стареешь, приятель, суставы у тебя бунтуют, мозг объявляет забастовки, а ты, дурень, все в сыщиков играешь!»
Помощь подоспела неожиданно — и все благодаря экипировке велосипедиста, подаренной ему Кэндзи на Новый год. К Виктору подошел пожилой господин в пальто из шотландки:
— Прошу прощения, юноша, не соблаговолите ли вы дать мне адрес вашего портного? У меня племянник — заядлый велосипедист, он будет счастлив обзавестись таким же костюмом.
Польщенный обращением «юноша» Виктор немедленно сообщил, что двубортный пиджак с долгими рядами пуговиц и короткие панталоны, зауженные на лодыжках, равно как и кожаные туфли, были приобретены в бутике «American Fashion» на бульваре Капуцинок. И не преминул воспользоваться случаем.
— К слову, месье, если вы здешний, не знаете ли, часом, прославленную русскую балерину Ольгу Вологду? Память меня подводит — все время забываю номер ее дома.
— Вам повезло: прекрасно ее знаю. Мадемуазель квартирует у месье Розеля двумя этажами выше моих апартаментов. Вот уж соседи зубоскалят… а кое-кто и жалобы на них пишет. Как же, месье Розель изволит жить с двумя дамами: одна танцовщица, вторая, тоже со славянской фамилией, и вовсе особа скандальной репутации. Только представьте себе — она выступала под псевдонимом Фьяметта на сцене театра «Эдан»… полуголая!
— Постойте-ка, вы сказали — Розель? Не тот ли фотограф с площади Мадлен?
Пожилой господин подтвердил. Вид у него был игривый — похоже, он не отказался бы поглазеть на выступление Фьяметты.
На лестничной площадке перед апартаментами, указанными пожилым господином, ступить было некуда — повсюду стояли чемоданы и кофры. Ливрейный лакей, скорбный насморком, то и дело утирая вздернутый нос, по одному заносил их в прихожую.
— Месье может расположиться в гостиной, господин Розель скоро выйдет. Прилег отдохнуть — совсем вымотался в этом своем Биаррице. Благодарение богу, его тут не было, когда мадам расхворалась — уж господина Розеля не порадовали бы все эти стенания и перешептывания с врачом. Бедняжка чуть не упокоилась…
В гостиной при виде картин Виктору сразу стало неуютно — мало того что он терпеть не мог античные сюжеты, так еще и с детства испытывал безотчетный страх перед слонами. Но, едва отвернувшись от когорт Ганнибала, он уперся взглядом в Юлия Цезаря на Форуме и поспешно схватил со столика «Пти журналь». Газета оказалась открыта на статье о сорняках. Виктор захлопнул ее и принялся рассматривать цветную гравюру на первой полосе: королеву Викторию принимают в Шербуре со всеми подобающими ее положению почестями.
— День добрый. Чем могу быть полезен, месье…
К Виктору шагнул хозяин апартаментов — ироничный взгляд, чувственные губы, козлиная бородка, внушительные пропорции и роскошный халат.
Виктор слегка поклонился:
— Легри, книготорговец и фотограф — любитель, разумеется. Мне довелось присутствовать на демонстрации вашей фильмы с мадам Максимовой в главной роли. Это успех!
Амедэ Розель просиял:
— Вам понравилось? Приятно слышать такое от фотографа. Я, знаете ли, планирую и впредь снимать подобные штучки — тут вам и искусство, и развлечение. Нужно идти в ногу со временем. Однако, я вижу в вас брата по духу — ценителя женской анатомии, запечатленной так, чтобы вознести душу мужчины к поэтическим сферам. Прав ли я?
— О да! Не соблаговолите ли вы представить меня прекрасной Фьяметте, наделенной даром раздеваться со столь естественной грацией?
— Увы, друг мой, птичка упорхнула в теплые края, в синеву небесную и морскую, устремилась вперед, как камень с вершины холма, увлекая за собой Ольгу Вологду, драгоценную жемчужину из страны снегов. Где-то сейчас прелестницы, что замышляют?.. И хоть мое одиночество населено изысканными призраками, я скучаю по ним отчаянно.
— Полагаю, изысканные призраки порой обретают материальную форму в тех оазисах мирской жизни, где вы царите единовластно, — подхватил Виктор, тоже завороженный музой метафор.
— Вы мне льстите. Прошу прощения, я сейчас вернусь — переоденусь во что-нибудь приличное…
— Нет-нет, не беспокойтесь, я должен вас покинуть — у меня назначена встреча. Еще раз благодарю за чудесную фильму. Кстати, а как продвигаются ваши переговоры с тем американцем, который снимает черно-белые картины и раскрашивает каждый кадр? Э-э… запамятовал его имя…
— Мистер Коэн. Продвигаются помалу. Надеюсь, у вас нет намерения перебежать мне дорогу?
— Ни в коем случае! Я просто любопытствую.
— Что ж, до встречи, дорогой друг. Располагайте мною.
Виктор спустился на лифте, пересек вестибюль и уже подходил к дверям, когда дорогу ему заступил некий денди с темными редкими волосами и безупречным пробором. Отметив краем глаза пальто из вигоневой шерсти и замшевые перчатки, Виктор замер, невольно выдохнув:
— Какое совпадение!
Перед ним был инспектор Вальми.
— Э нет, месье Легри, в совпадения я не верю. Я, видите ли, детерминист. Открою вам секрет: при малейшем подозрении о готовящемся злодеянии, о появлении убийцы бедным инспекторам полиции вменяется в обязанность самим устраивать подобные совпадения в ущерб планам преступного мира. А инспекторы терпеть не могут, когда им чинят препятствия. Потому позвольте узнать, ваш визит в этот дом продиктован чувством долга или неуемным любопытством?
— Я всего лишь хотел побеседовать по делу с княгиней Максимовой, постоянной клиенткой моей книжной лавки. Она живет в одних апартаментах с мадемуазель Вологдой и месье Розелем.
— Насколько я понимаю, речь идет о той нимфе, чьи выступления на подмостках театра «Эдан» два года назад вызвали приступ гнева у сенатора Беранже?
— Какая проницательность, инспектор! Когда я познакомился с этой дамой в восемьдесят девятом году, она была секретарем в газете «Пасс-парту» и звалась Эдокси Аллар. Затем ее захватила страсть к канкану, под псевдонимом Фифи Ба-Рен она прославилась на сцене «Мулен-Руж» и сама сделалась героиней восторженных газетных репортажей. Замужество принесло ей дворянский титул, и теперь княгиня Максимова живет то в России, то во Франции.
— Я в курсе. Ее компатриотке, мадемуазель Ольге Вологде, следовало бы ограничить общение с такой подругой. Похоже, у княгини Максимовой гибельный дар приносить несчастье людям из близкого окружения.
— Вот как? Отчего же вы так решили?
— Некий кларнетист утонул во время свадебного гулянья, затем скрипач расстался с жизнью, напившись после концерта в Катакомбах. Оба входили в круг знакомств мадам Максимовой.
Виктору с трудом удалось скрыть охватившее его нервное возбуждение. Скрипач! Жозефа определенно не подвело чутье!
— Какой кошмар! Прямо мороз по коже. А скажите-ка, инспектор, с каких это пор криминальная полиция интересуется несчастными случаями?
— Перестаньте разыгрывать святую невинность, месье Легри. Ваша давняя дружба с мадам Максимовой тут вовсе ни при чем. Вы приходили к Ольге Вологде, которая была прекрасно знакома с обоими музыкантами и которой недавно сделалось дурно прямо на сцене Опера во время исполнения «Коппелии».
— Так вы подозреваете два убийства и одно покушение на убийство?
— Я здесь для того, чтобы получить разъяснения на сей счет у обеих дам.
— Однако голубки упорхнули из гнезда.
Инспектор Вальми резко наклонился, чтобы смахнуть пыль со своих черных лаковых туфель. Когда он выпрямился, его лицо приняло флегматичное выражение:
— Весьма досадно. Что ж… Надеюсь, карьера вашей очаровательной спутницы жизни продвигается успешно?
— Она скоро станет матерью.
— А вы, значит, отцом? Наличие потомства заставляет остепениться даже самых рьяных частных сыщиков и возвращает их в лоно семьи. Но до чего же прискорбно, что живопись потеряет столь талантливую художницу, как мадемуазель Херсон!
Виктор, мысленно призывавший себя сохранять хладнокровие, все же не выдержал.
— Мадам Легри, — поправил он инспектора сквозь зубы. — И почему же она должна бросить рисовать, а я — расследовать преступления?
— Ага! Вот вы и признались! — прищурился Вальми.
— О нет! Мои расследования связаны всего лишь с изучением низменных инстинктов рода людского.
— Тогда позвольте дать вам совет: перестаньте докучать княгине Максимовой и мадемуазель Вологде. А в кулуарах Опера даже не вздумайте появляться. Мое почтение вашей супруге и разрешите откланяться — мне нужно побеседовать с месье Розелем.
Мужчины сухо попрощались друг с другом и разошлись. Теперь Виктор Легри был уверен, что нить расследования ведет в Опера. Верная помощница Вальми — интуиция — уже почуяла преступление, хотя ни одного доказательства пока не было, и инспектор насторожился. А обнаружив интерес доморощенного сыщика к этому делу, лишь укрепился в подозрениях, и если упомянул при нем о кулуарах Опера, то неспроста. Вальми дал собаке унюхать косточку, и когда собака косточку найдет, останется только отобрать у нее добычу. Сейчас же инспектора мучил единственный вопрос: удастся ли вымыть испачканные дорожной пылью руки в квартире любовника балерины.
Соорудив на голове тюрбан из полотенца, Таша внимательно рассмотрела в зеркале свое лицо. Беременность ее ничуть не испортила. Она протерла кожу увлажняющим молочком, расчесала подсохшие волосы и убрала их под шиньон. Затем погримасничала, оценивая результат.
— Какая гадость эти веснушки! Впрочем, Виктор их обожает.
Муж, пойманный в серебристую рамку, улыбался ей с фотографии на комоде. Предмет мебели затрясся — Кошка решила почесать о него спинку.
— Ах ты попрошайка! Мурлыкай сколько хочешь, мой ответ — «Нет!», обжора, ты и так уже наелась. Кстати, а где мой питательный крем?
Книжечка, лежавшая на краю комода рядом с фотографией, не выдержала Кошкиного напора и соскользнула на пол. Таша ее подняла, задумчиво перелистала страницы. Это было анонимное произведение, вышедшее в Брюсселе в ноябре 1896 года под названием «Судебная ошибка. Правда о деле Дрейфуса». В продажу издание не поступало, но некоторые влиятельные граждане получили по экземпляру почтой. Виктору шестидесятистраничную брошюрку подарил писатель Анатоль Франс, завсегдатай книжной лавки «Эльзевир». От него же Виктор недавно узнал, что Бернар Лазар
[794] пытался добиться встречи с заместителем председателя Сената Огюстом Шерер-Кестнером, чтобы убедить его в невиновности Альфреда Дрейфуса. И что Золя с Жоресом
[795] отказались вступить в борьбу за правое дело.
Таша прижала ладони к животу, словно хотела защитить ребенка, — слишком яркими были воспоминания о
погромах в России. Долгое время она считала, что Франция чужда расовой ненависти, а теперь боялась, что и ее дитя постигнет это бедствие. Со дня суда над капитаном Дрейфусом, состоявшегося два года назад, не утихали антисемитские речи, в прессе то и дело появлялись карикатуры на евреев. Таша поссорилась со многими приятелями-художниками, которые раньше ей казались противниками любой дискриминации.
В этот момент очень кстати появился Виктор. Вот в нем, в его любви и смелости, Таша не сомневалась.
— Ты поздно, — нахмурилась она.
Виктор нежно обнял жену:
— Ты же знаешь: у меня только одно любовное увлечение — это ты!
Они поцеловались.
— Как ты себя чувствуешь, милая?
— Чувствую себя античной древностью — мне ведь уже тридцать лет!
— Археологи дорого бы отдали, чтобы выставить в музее такой соблазнительный экспонат, — шепнул Виктор, пытаясь расстегнуть ее кофточку.
Таша с улыбкой отстранилась:
— Ты пойдешь в этом году на собрание в память о Шарле Фурье
[796] на Монмартрском кладбище?
— Дядя Эмиль на смертном одре взял с меня слово, что я там буду. Не думай, что я невежда — мне прекрасно известно, что в сочинениях Фурье есть клевета и оскорбительные высказывания в адрес евреев. Но если всех авторов оценивать с этой точки зрения, нам пришлось бы выбросить большую часть книг из тех, что мы продаем в лавке.
— Так много я от тебя не требую.
— И еще мне известно, что последователи Фурье не сложили оружия, наоборот — подняли головы после приговора капитану Дрейфусу. Я стараюсь избегать общения с ними, но не могу нарушить последнюю волю дяди, он был очень добр ко мне… — Голос Виктора дрогнул, а вид у него был совсем несчастный. — Таша, неужели после семи лет совместной жизни ты думаешь, что я…
Она прижала пальцы к его губам:
— Ты дал дяде слово — я это уважаю. А еще я тебя люблю. И страшно проголодалась — мне ведь теперь нужно есть за двоих. Эфросинья приготовила нам говяжье филе, оно ждет не дождется нас на кухне. Кстати, ты ошибаешься, когда недооцениваешь мой возраст. Очень скоро женщинам от пятнадцати до тридцати лет разрешат работать в галереях и в библиотеке Школы изящных искусств — это будет настоящая победа, а я не смогу ею воспользоваться, потому что уже старая. Меня не возьмут туда даже на курсы рисунка и лепки!
— Готов стать твоим преподавателем! Кому, как не мне, знать, что такое совершенные формы, вот же они, передо мной…
Таша хотела запротестовать, но быстро оставила сопротивление и забыла о требовательном мяуканье Кошки. Лаская жену, Виктор невольно подумал о форме скрипки, и тут же вспомнился музыкант из Опера с именем как у поэта дю Белле.
«Сто лет не был в Опера», — сказал он себе, склоняясь к голому плечу Таша.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Вторник, 6 апреля
По мнению Мельхиора Шалюмо, завтрак в каком-нибудь роскошном заведении являлся высочайшим проявлением эстетства. И сейчас он эстетствовал, заказав себе чашечку кофе со сливками и два круассана, на террасе «Гранд-Отель». Вчера Мельхиор получил щедрое вознаграждение от престарелого любезника, которому устроил встречу с мадемуазель Сюбра.
Подкрепившись и в последний момент удачно ускользнув от бдительного взгляда месье Марсо, маленький человек весело одолел все шесть этажей — и замер как вкопанный перед своим убежищем. Там, у старого чулана, присев на корточки, парень в синей рабочей блузе складывал отвертки и клещи в ящик с инструментами. Рядом с дверью стоял Аженор Фералес. Он подвинул к переносице съехавшие очки в черепаховой оправе, наклонился, пощупал пальцем замочную скважину и похвалил ремесленника:
— Отличная работа.
— Вы что тут делаете, а? Это мое жилище! — возопил Мельхиор.
Аженор Фералес, уставившись на него совиными глазами, огладил бородку и лучезарно улыбнулся:
— Это было твое жилище. Вернее, недожилище недомерка. Благодарю вас, месье Бертье, — кивнул он рабочему. — Я оплачу счет в конце недели.
Парень подхватил ящик с инструментами и ушел, сочувственно покосившись на Мельхиора.
— Фералес, вы подлая скотина! — взвизгнул маленький человек.
— А главное, — радостно продолжил Аженор Фералес, — теперь можно не гадать, куда исчезает реквизит! Я все облазил в поисках щита воительницы из «Валькирии», и догадайся, где он нашелся? В твоем логове! А вместе со щитом и ларец из «Саламбо». Знаешь, как это называется?
— «Позаимствовать»!
— «Украсть»! Я конфисковал у тебя гирлянды искусственных цветов из «Коппелии», светильники из «Аиды», штандарты из «Сида»,
[797] которые ты приспособил как занавески… в общем, язык отвалится перечислять. Просто какая-то болезненная страсть к собирательству, тебя лечить надо.
— Не смейте обращаться ко мне на «ты», невежа!
— А ты большего и не заслуживаешь, ничтожество. Еще будешь делать мне замечания? Ты, жалкий воришка? Я доложу о твоих проделках директору. Собирай манатки и выметайся отсюда, Еще скажи спасибо, что за тобой сохранят должность оповестителя.
— Вы не имеете права! — Мельхиор выпрямился во весь свой малый рост и, сжав кулачки, с таким грозным видом шагнул к Аженору, что тот невольно попятился. Но эффект неожиданности длился недолго: в следующую секунду отступить пришлось уже коротышке, да так, что он спиной прижался к стене.
— Засунь это право знаешь куда?! — взревел Аженор Фералес. — Я тут ответственный, твой договор аренды гроша ломаного не стоит! Но я великодушен, о да! Поэтому даю тебе три дня, чтобы ты снял себе нору подальше от Опера и съехал отсюда вместе со своим барахлом. Не сделаешь этого — выброшу твой жалкий скарб из окна и подожгу!
Мельхиор, обезумев от ярости, все это время пытался наброситься на инспектора сцены с кулаками, но Аженор легко удерживал человечка на расстоянии вытянутой руки, упираясь ладонью ему в лоб.
— Мерзавец! — взвыл Мельхиор. — При нынешних ценах на жилье мне под мостом ночевать придется!
— Ах да, еще одно условие: когда очистишь территорию, ты придешь ко мне и отчитаешься, иначе будешь уволен!
— Но за что? За что?!
— За то, что ты мерзкий уродец! Я тебя всегда терпеть не мог. Ты повсюду суешь свой нос. Ты знал, что у Марии была интрижка с этим волокитой Тони Аркуэ, слава богу, он уже сдох. Как ты, должно быть, потешался, когда я на ней женился! Ты и сам все время вокруг нее вертелся, когда она еще девчонкой была, извращенец! Да я бы трижды удавился, вместо того чтобы пригласить на свадьбу такого развратника, а ты сам приперся и выставил меня идиотом! Пошел вон, выродок! У тебя три дня, ясно? — Аженор Фералес засунул Мельхиору за воротник ключ от старого замка чулана: — Вот тебе на память! — оттолкнул человечка и зашагал прочь.
Мельхиор вздрогнул, когда по коже скользнул холодный металл. Незапертая дверь чулана приоткрылась, и он не мог отвести глаз от распотрошенного соломенного тюфяка, разбросанных по полу вещей, пустого сундука. Адонис не сумел противостоять захватчикам, он валялся на сетке кровати — одна рука отвалилась, голова свернута набок.
Спасти его! Маленький человек бросился в разоренное жилище. Ивовая конечность была тотчас примотана на место с помощью бечевки, голова манекена вернулась в изначальное положение.
— Ничего, приятель, отдыхай пока. Все наладится, все устроится. Не видать мерзавцу Фералесу благословенного рая! Пес шелудивый, жаба зловредная, нечисть, упырь! Миром правит подлейшая несправедливость! Меня, кроху, беззащитное хрупкое создание, оскорбляют, оплевывают, гонят из этой клетушки, где я никому не мешаю. Ну да ничего, вы, гонители, еще увидите, еще узнаете, еще пожалеете, ох наплачетесь! Возмездие уже вершится, и оно продолжится! Берегись, подлец! Придет и твой черед!
Мельхиору понадобилось больше часа, чтобы собрать раскиданные по всей каморке вещи. Запыхавшись, он устало опустился на молельную скамеечку, достал из кармана скомканную бумажку, разгладил ее и обратился к ивовому манекену:
— Вот послушай-ка, Адонис, они опознали покойничка: «Мужчина, найденный мертвым неподалеку от Монпарнасского кладбища, носил имя Жоашен Бланден и был скрипачом в оркестре Парижской оперы. По заключению судебно-медицинской экспертизы, он умер от сердечного приступа, возвращаясь с концерта в Катакомбах, каковой концерт, как известно, уже стал причиной того, что пролилось немало чернил…» Чернил, ха! Кровищи пролилось столько, Адонис, что я охотно распил бы с тобой пинту-другую, дабы отметить это дело! — Злость внезапно схлынула, и маленький человек тихо проговорил: — Я отбегу ненадолго, надо кое-что уладить.
Объехав вокруг дворца Гарнье, Виктор зарулил в арку административного входа на бульваре Османа. Здесь, на обширном дворе, около поста пожарного, обычно нес священную вахту месье Марсо, а если ему доводилось отлучиться или ослабить бдительность, его обязанности принимала на себя энергичная мадам Марсо.
На окошке в комнатке вахтеров красовалась табличка:
ВЫПОЛНЯЕМ ПОРУЧЕНИЯ
Виктор крадучись пересек вестибюль и пристегнул велосипед цепочкой к перилам у подножия лестницы.
— Куда это вы с велосипедом, а? Что за манеры! — накинулась на него внезапно возникшая из коридора женщина.
— Вы консьержка?
— Да уж не сладкоголосая дива! Меня зовут Октавия Марсо, я тут на службе, — она ткнула пальцем в сторону таблички. — Вы по какому делу?
— Я репортер. Получил задание написать о скрипаче, чью печальную кончину здесь все оплакивают, о некоем Жоашене… э-э… Можно взять у вас интервью?
Мадам Марсо слегка смягчилась:
— Двое ваших собратьев по ремеслу тут уже побывали.
— Неужели? Из какой газеты?
— Из «Фигаро» и «Матэн». А сами-то вы откуда будете?
— Из «Пасс-парту». Антонен Клюзель к вашим услугам, — уверенно солгал Виктор. — Я подписываюсь псевдонимом Вирус.
— Как, тот самый Вирус?! — восхитилась консьержка. — Я представляла вас этаким плюгавеньким, а вы вполне себе ничего.
— Можно оставить тут велосипед?
— Вам можно, присмотрю. Месье Марсо отправился выполнять поручения, потому что когда этот лодырь Мельхиор Шалюмо позарез нужен, его не сыщешь.
— Мельхиор?..
— Оповеститель, ленивый задохлик. Обычно он у нас перехватывает любовные писульки от артистов их пассиям, сам разносит нам в убыток. И вот сегодня нас этими писульками просто завалили, Шалюмо куда-то запропастился, и мужу пришлось поработать почтальоном, а ему еще в прокат костюмов сбегать надобно.
— Но ведь у Опера целый склад костюмов и своя мастерская…
— Так-то оно так, да только администрация жмотничает, на всем экономит, им дешевле взять напрокат, чем новый пошить. Этак все ремесло захиреет. Изготовители париков еще как-то держатся, а прочие… Но что-то я заболталась, совсем забыла про бедного месье Жоашена. Месье Марсо вызывали в городской морг, вот уж он разнервничался, когда его попросили осмотреть скрипичный футляр и опознать покойника. Да что же мы стоим? Заходите!
В комнатке вахтеров мадам Марсо усадила Виктора в кресло. На стене ровными рядами выстроились фотографии музыкальных знаменитостей.
— Прелюбопытная коллекция, — похвалил Виктор. — У вас есть вкус, здесь очень уютно.
— Мило, что вы заметили.
— Расскажите мне об этом скрипаче, Жоашене… Жоашене… ох, запамятовал фамилию.
— Бланден, Жоашен Бланден, но я всегда называла его месье Жоашен. Такой был вежливый, услужливый юноша. Выпить, правда, любил, водился за ним грешок. Но надо сказать, перед выступлением никогда себе не позволял, ни-ни, только после. Превосходный исполнитель, теперь поди найди ему замену. Впрочем, будь ты хоть виртуозом, а коли себя растрачиваешь по пустякам, все прахом идет.
— Что же это значит?
— Вместо того чтобы всецело посвятить себя оркестру, месье Жоашен то домашние уроки давал, то выступал на всяких богемных сборищах за вознаграждение. Разбазаривал талант в каком-то смысле. Не мне его судить, конечно, нам-то с мужем почасовые платят… А еще он сочинял музыку к шансонеткам какого-то стихоплета в духе «ля-ля, лу-лу».
— Э-э… не понял.
— Ну, это ж старье какое, всем известное, уж лет десять как Сюльбак спел в «Эльдорадо»:
Встретил я тебя,
Ля-ля, ля-ля,
В Опера на балу,
Лу-лу, лу-лу.
В общем, они с этим стихоплетом не слишком-то утруждались.
— А этого стихоплета как зовут?
— Вот уж чем никогда не интересовалась! Я лишних вопросов никому не задаю, не из таковских. А в бедного месье Жоашена камень не брошу — он сочинял и серьезную музыку, симфоническую. — Мадам Марсо задумчиво повертела в руках перо, провела кончиком по щеке. — Вот уж беда не ходит одна! Сначала месье Аркуэ богу душу отдал, потом эта девица Вологда прямо на сцене грохнулась, потом месье Жоашен… Закон повторения.
— А от чего умер месье Аркуэ?
— Утоп. Несчастный случай. Вы ж наверняка об этом в газетах читали.
— Да-да, конечно. Мадемуазель Вологда была знакома с господами Бланденом и Аркуэ?
— Оперный мир — одна большая семья, хотя тут все исподтишка друг другу подножки ставят. Этой Вологде многие завидуют по-черному, потому что она, несмотря на возраст, до сих пор собирает вокруг себя толпы престарелых, но состоятельных поклонников, вы меня понимаете. А рядом полно девиц
помоложе да попрелестней ее, — доверительно сообщила мадам Марсо.
— Скажите, — перешел Виктор к главному, — вашему мужу не приходилось доставлять пряничных свинок означенным трем особам?
Мадам Марсо смерила его гневным взглядом:
— Тут вам не бакалейная лавка, тут вам Академия музыки! Где вы услышали такую чушь?
— Просто слух прошел…
— Ну букеты — это пожалуйста, ну пралине в крайнем случае, но пряничные свинки!..
— Месье Бланден жил один? — поспешно сменил тему Виктор.
— Не обязательно жить с кем-то под одной крышей, чтобы… ну, вы меня понимаете. У месье Жоашена, как и у всех, были определенные потребности, но он никогда не трепался напропалую о своих увлечениях. К Вологде этой, кстати, он неровно дышал. То есть это я так думаю. Но у Вологды уже был богатый любовник — владелец фотоателье на бульваре Мадлен. Впрочем, это не мешало ей крутить шашни с месье Аркуэ. Однажды я их застала, когда они… Эй, только не вздумайте писать об этом в репортаже! Кстати, почему вы не записываете?
— У меня идеальная память. Спасибо, мадам, честь имею. — Виктор поднялся, но мадам Марсо тотчас сорвалась с места и встала между гостем и дверью.
— Месье Марсо еще нескоро вернется, а я много чего могу вам порассказать. К примеру, прелюбопытные дела творятся в фойе Танца — благодетели наших мамзелек обмениваются заветными адресами. Советую вам потолкаться там в понедельник — самый, так сказать, базарный день. Кто знает, что за интриги у них затеваются, особенно в присутствии этого развратника Мельхиора, который играет роль посредника.
— Мельхиора?..
— Это наш оповеститель, говорила ж ведь. Ну так что? Если хотите, проведу вас туда, когда месье Марсо зазевается, а то строгий он у меня, всё у него по правилам, одна служба на уме — стережет участок, что твой часовой. Младший лейтенант от артиллерии в отставке все ж таки — пароль-отзыв, и дорога в штаб открыта. Как, вы уже уходите?
Мадам Марсо проводила Виктора до дверей.
— Ежели что потребуется — не стесняйтесь меня беспокоить, господин Вирус. И помните: базарный день — понедельник!
Виктор наконец-то вырвался из лап вахтерши и покинул Опера с твердым намерением пообщаться с «оповестителем», который наверняка должен знать побольше, чем мадам Марсо.
— Древесницы въедливые? Кто это такие? — Жозеф тщетно делал знаки Кэндзи, моля о помощи, — тесть перебирал каталожные карточки, притворяясь слепоглухонемым.
— Это, молодой человек, представители семейства древоточцев, чьи гусеницы являются ксилофагами. Я уверена, что, если вы хорошенько пороетесь в той куче бумаги, непременно отыщете мне исследование, посвященное сему подотряду разнокрылых. — Пожилая дама в затемненных очках и заношенном до дыр пальто, не снимая галош, прошлась по книжной лавке.
Жозеф помотал головой — ему казалось, что посетительница говорит с ним на иностранном языке.
— Прошу прощения, мадам, но мне в жизни не доводилось встречать въедливых разнокрылых ксилофагов. И читать об их нравах и обычаях тоже.
— Вы меня удивляете! Речь идет о самых обыкновенных ночных бабочках. Зато их гусеницы выгрызают в стволах деревьев длиннющие ходы, целые лабиринты. Если мы будем сидеть сложа руки, наша планета превратится в головку швейцарского сыра! Что ж, придется мне отправиться в музейную библиотеку, поскольку у вас тут, в «Эльзевире», пренебрегают естественными науками.
Колокольчик звякнул — дверь за пожилой дамой закрылась, — и Кэндзи наконец оторвался от каталожных карточек.
— Зять мой, меня вы тоже удивляете! — радостно сообщил он. — Неужто вы не встретили ни одной ночной бабочки? Вы, прославленный исследователь подземных лабиринтов, которыми мы наверняка обязаны въедливым ксилофагам! Вы же облазили тайные ходы вдоль и поперек с нашим третьим совладельцем!
Жозеф разинул рот и опять помотал головой:
— Не понимаю, о чем вы…
— О подземных ходах, которые в народе именуют Катакомбами. Каким-то многоумным антрепренерам взбрело в голову, что это идеальное место для концерта. У вас что, провал в памяти? Забыли, что ходили туда с Виктором слушать Шопена и Сен-Санса в прошлую пятницу, в то самое время, когда вы предположительно должны были заниматься описью библиотеки герцога де Фриуля? Вот уж троица отъявленных лжецов!
— Кто наговорил вам такой вздор? — пролепетал молодой человек.
— Мадам Максимова. Это же она назначила вам рандеву в Катакомбах.
— Ах да… Вот уж доносчица! Она меня разочаровала. Видите ли, мадам Максимова пообещала нам помочь с именами, а поскольку ее трудно застать дома…
— Перестаньте водить меня за нос! — рявкнул Кэндзи, но тут же полюбопытствовал: — С какими именами?
— Для наших наследников. Пока это секрет. Я собирался все рассказать Айрис в конце недели, и Виктор еще ничего не обсуждал с Таша. Мадам Эдокси одобрила мой выбор. Вас это, кстати, касается в первую очередь, потому что если у нас с Айрис родится мальчик, мы назовем его Артур Габен Кэндзи!
— Габен — понимаю, так звали вашего батюшку, но Артур…
— Ну как же? Артур Конан Дойл — один из моих любимых писателей!
— Стало быть, беднягу Эмиля Габорио, некогда властителя ваших дум, вы разлюбили?
— Ни в коем случае! Если родится дочь, будет Эмилией Эфросиньей. Матушка страшно обиделась, что старшую мы нарекли Дафнэ, но Эфросинья, однако, не лучшее имя для девочки, поэтому я поставил его на второе место.
— Это наводит меня на мысль, что мое имя и вовсе никуда не годится, раз вы отвели ему третье.
Жозеф покраснел и принялся было убеждать тестя в искренности намерений, но Кэндзи, разволновавшийся больше, чем сам от себя ожидал, остановил его жестом и начал протирать очки.
— В чистоте ваших побуждений я не сомневаюсь, однако мое имя, помимо того что оно повергнет в ужас всех чиновников, еще и принесет моему внуку немало мучений в школе. Поэтому и вас, и Виктора я освобождаю от обязательств передо мной. Кстати, Виктор сегодня не придет, а у меня есть дела наверху, так что вы остаетесь на хозяйстве. — Кэндзи договорил, уже поднимаясь по винтовой лестнице.
— Э-э… а как же мои доставки?
— Возрадуйтесь — доставлять нечего. Вы упаковали книги для месье Куртелина?
[798] Он сам их заберет.
Проводив тестя взглядом, Жозеф сердито пнул стул. «Ну вот, опять наряд вне очереди! Месье будет любезничать с мадам Джиной, а я тут надрывайся. Упаковки, упаковки, терпеть не могу упаковки. В морг хочу! Хватит с меня», — метал он громы и молнии, яростно выстраивая на конторке стопку из книг в переплетах и отрывая здоровенный кусок оберточной бумаги. Завернув кое-как томики в бумагу, молодой человек обмотал стопку бечевкой, сделал узел, но ухитрился намертво увязать в него указательный палец и попытался выдернуть руку. Вся конструкция развалилась, книги посыпались под конторку, и Жозеф чертыхаясь полез за ними. В этот момент зазвенел колокольчик на входной двери, в лавку ворвался человек с гладко зачесанными волосами и бешеным взглядом.
— Призываю вас бойкотировать «Неаполитанца»! — возопил он. — Это не кафе, а бандитский притон! Вчера вечером у меня там украли пальто. Нога бы моя в эти заведения не ступала, да и не ступает, разве что захожу туда каждый день с друзьями сигару выкурить, но это не в счет!
— Здравствуйте, месье Куртелин, — пропыхтел Жозеф, показавшись из-под конторки, и снова попытался выровнять на ней стопку книг.
— Здравствуйте, честь имею… А, это вы, Пиньо? Я хотел заказать у вас «Парижскую глупость» Поля Эрвиё — Лемер только что выпустил новое, дополненное издание. А это всё для меня? — указал на стопку книг месье Куртелин.
— Да… уф… сейчас я их…
— Не надо запаковывать, я так возьму. Пришлите мне счет, всего хорошего. — Завернув книги в газетную полосу, месье Куртелин бросил остальные листы на прилавок и удалился с добычей.
Жозеф, запрятав ножницы и моток бечевки в ящик конторки, взялся за распотрошенную свежую газету.
Труп, обнаруженный у Монпарнасского кладбища, опознан. Г-н Жоашен Бланден, скрипач, служивший в оркестре Парижской оперы, возвращался с концерта, прошедшего в Катакомбах, и, по мнению судебно-медицинского эксперта, стал жертвой сердечного приступа. Он упал и разбил голову о бордюр…
«Я так и знал! Жоашен Бланден! Скрипач! — возликовал Жозеф. — Минуточку, сердечный приступ? Может, полиция не хочет раскрывать тайну следствия? Я чую, что в этой смерти есть что-то подозрительное. Чутье ведет меня в мрачные чащобы, кишащие древесницами въедливыми, а не в мирный подлесок для променадов. А кого чутье подводит? Моего шурина! Какая досада — флики уже идут по следу, а я тут жду у моря погоды».
…Виктор брел по Монмартрскому кладбищу, по дорожке двадцать третьего участка к могиле Шарля Фурье. В память о покойном дядюшке Эмиле, яром приверженце фаланстерской школы, он каждый год заставлял себя присутствовать на церемониальных собраниях во славу этого философа, прозванного Искупителем. На таких собраниях Виктор держался в сторонке, избегал общения с последователями Фурье и не участвовал в вечерних посиделках за столом.
Последние адепты утопических теорий уже разошлись, когда он наконец увидел лестницу и у ее основания мраморную корону, украшенную свежими букетами и скромными венками. Закинув «Альцион» на плечо и попутно испачкав куртку велосипедной смазкой, Виктор спустился к могильному камню.
Здесь покоятся останки Шарля Фурье.
Серия распространяет гармонию.
Влечения пропорциональны предназначениям.
В очередной раз прочитав изречения философа, всегда казавшиеся ему туманными, Виктор покачал головой. Интересно, дядюшка Эмиль когда-нибудь задумывался над противоречием в теории Фурье: как можно достичь всеобщего счастия, истребив половину человечества? Виктор поискал фонтанчик, чтобы вычистить куртку, нашел, но лишь размазал черное пятно по рукаву и усмехнулся: «Ну вот, буду носить траур по гуманистической мысли».
За кипарисами мелькали могилы Мюрже, Теофиля Готье, Берлиоза, Стендаля, Оффенбаха. Прочитанное на памятнике Фурье слово «предназначения» подтолкнуло Виктора к рассуждениям о смысле жизни. Есть ли у жизни смысл? Какая судьба уготована его нерожденному ребенку? Это будет девочка, точно. Таша хочет назвать ее в честь героини Льюиса Кэрролла — Алисой, а второе имя они выбрали в память прабабушки Виктора — Элизабет Прескот, которая в свое время бросила вызов общественному мнению, выйдя замуж по любви за пастуха.
Погруженный в размышления Виктор миновал виадук Коленкур, проехал по одноименной улице, а затем по улице Лепик до старой мельницы. Посреди площади он остановился перевести дыхание. Вокруг на скамейках сплетничали кумушки, из дешевой забегаловки у здания мэрии XVIII века вывалилась разодетая как на свадьбу компания мужчин и женщин, перебрасываясь словами.
— «Пропади моя зеленая свечка, рогатое брюхо»,
[799] этот плотный завтрак с возлиянием пришелся тебе по нраву? — вопросил богемного вида тип в фетровой шляпе с загнутыми полями, и Виктор тотчас признал в нем Мориса Ломье.
— «Дерррьмо! Лопни мой зад!» — радостно отозвался длинноволосый толстяк, одетый в нечто ужасное сиреневого бархата. На ногах он держался нетвердо. — Это было недурно! Да здравствует король Убю!
— Выбирай выражения, Гедеон, а то вон тех дамочек распугаешь — они, похоже, не в восторге от красноречия нашего друга Альфреда Жарри и от твоей пьяной хари!
И действительно, кумушки с возмущенным видом встали и удалились, а свадебный хоровод оккупировал освободившиеся скамейки. Внезапно невеста, которая в изобилующем кружевами платье походила на ломоть грюерского сыра, однако с весьма соблазнительными формами, устремилась к Виктору. Он даже чуть велосипед не уронил.
— Месье Легри! Это вы! В такой знаменательный день! Какой у вас хорошенький велосипедик. Позвольте представить вам нашего свидетеля Гедеона Лапорта, он рисует исключительно колокольни романских церквей. Я хотела послать вам приглашение, но Морис предпочитает праздники в узком кругу, поэтому мы по-свински объелись кровяной колбасой с жареной картошкой в том кабаке. Ах, до чего же я счастлива! — И новобрачная немедленно разрыдалась на груди толстого Гедеона.
— Эй, Мими, сейчас же вытри сопли, — буркнул Морис Ломье. — Это она от радости, Легри, видите, прям сияет вся.
— Стало быть, и вас охомутали, — не без удовлетворения констатировал Виктор. «Одним соперником меньше», — подумал он. Изящный оборот невесты — «по-свински» — напомнил ему о пряничных свинках.
— Увы, а что поделаешь — пришлось расплачиваться за успех. Серия моих картин, посвященных рыбацкой флотилии в бретонском порту, изрядно поправила наше финансовое положение — я продал эти шедевры современного искусства в Большие магазины Лувра. Представьте себе, сидел без гроша, а тут вдруг богатеем заделался. Как говаривал дражайший Альфонс Але,
[800] «деньги помогают сносить нищету». А в результате Мими возжелала респектабельной жизни. Прощайте, мадемуазель Лестокар, здрасьте, мадам Ломье! Катастрофа. Не хочу больше, дескать, спать на скрипучей койке, подавай мне перину пуховую и резной гарнитур в стиле какого-нибудь Людовика… Что-то совсем у нас Мими расклеилась, а, Гедеон? Ладно, ты ее утешай, а мы с Легри пока накатим по стаканчику — и не какой-нибудь там дешевой анисовки!
Морис Ломье и Виктор уселись на старые колченогие стулья в ближайшей винной лавке и заказали коньяк.
— Выпьем, Легри, в знак скорби по нашим надеждам, а также за размеренное существование, шерстяные носки, трехразовое питание и сопливых карапузов… Ходят слухи, вы скоро станете папашей?
— За ваше семейное счастье, Морис! Супружеская жизнь наверняка пойдет вам на пользу, я предрекаю чете Ломье многочисленное потомство — троих, четверых, пятерых маленьких художников, алчущих славы.
— Просто алчущих! Они же кормилицу живьем сожрут, а меня разорят!
— Да бросьте, у вас впереди лучшие годы. Прошу прощения, должен вас покинуть — меня ждет Таша.
— Погодите! Откройте тайну — вы знаете какое-то колдовское заклинание? Семь лет супружеской идиллии, никаких громких скандалов — это значит, что вы оба отъявленные плуты или же что вы обожаете друг друга до умопомрачения?
— Все дело в том, что мы с Таша увлечены не только друг другом, но и каждый — любимым делом. Она — живописью, я — расследованием преступлений.
— И еще этой ерундой, которая претендует на звание искусства, — фотографией, — фыркнул Лoмье. — Что ж, храните свою тайну. И как бы то ни было, не забудьте сообщить прекрасной Таша, что ее поклонник сам себе надел петлю на шею.
Виктор снова оседлал велосипед и промчался по улице Лепик на полной скорости, за что был обруган зеленщицами и торговцами рыбой.
— Так, на повестке дня — оповеститель, — бормотал он себе под нос. — Как его?.. Ах да, имя как у одного из волхвов. Ага, Гаспар? Бальтазар?.. Нет! Черт возьми, третье на языке вертится… Протелефонировать Жозефу? Кэндзи может взять отводную трубку. Придется потерпеть…
Он наблюдал за ней тайком, и на душе становилось легче. Она была в простой одежде, светлые кудряшки выбились из прически. Ее платье в цветочек словно осветило собою булочную на улице Рокет, где она с багетом подмышкой пересмеивалась с двумя подмастерьями. Потом он шел за ней, сохраняя дистанцию, мимо высоких зданий с темными, растрескавшимися фасадами, на которых белыми клетками шахматной доски билось под ветром на бечевках белье между небом и землей. Она свернула в заросший травой двор, где мальчишки играли в шары.
«Мое спасенье, мое искупление, до чего же ты миленькая, когда не наряжаешься кокоткой».
Мельхиор Шалюмо прошел мимо муниципальной библиотеки, вдоль лавок торговцев ломом, поглазел на выставленные в витрине весы без чаш, дырявые кастрюли, подковы, горы гаек и болтов.
— Паровую машину для обогреву одинокими ночами не желаете? — осклабился овернец в деревянных башмаках, хозяин перечисленного великолепия.
— Продай ему лучше подъемный кран, этому недомерку! — загоготала беззубая старьевщица.
«Драгоценный Всемогущий, спасибо за очередную оплеуху. Я презираю мелких людишек, бросающих мне оскорбления, — по сравнению с ними я великан! Посмотри, какая грязища, какой беспорядок, я никогда не видал столько металлолома. Тут продают даже оловянные барные стойки, а там — котлы, карнизы, корабельные якори. Ною было бы из чего построить ковчег, вот уж он обрадовался бы. Кстати, заметь, Ной взял с собой каждой твари по паре — только животных, а это свидетельствует, что до гнусного рода человеческого ему дела не было. Вот и мне на людишек наплевать. О, ну наконец-то хоть что-то полезное!» Мельхиор нагнулся и поднял из кучи ржавого мусора стамеску.
— Настанет и мой черед посмеяться. Месть слаще меда!
Доведенный до кипения, мед загустел и был смешан с мукой, которую чья-то рука насыпала в него деревянной ложкой. Две субстанции соединились, и тягучая масса отправилась охладиться в квашню. В замес добавилось и полстакана молока, подсоленного пятнадцатью граммами белейшего поташа.
[801] Чьи-то руки замесили тесто, сдобрив его имбирем и корицей. Главное — не забыть щепотку того, что превратит пряник в уникальное угощение, в последнее, что отведает человек, кому он предназначен. Вот так, заполнить формочку, поставить ее на огонь…
Проще простого. Чтобы отравить ближнего своего, всего-то и нужно, что добрый рецепт, минимум мастерства и изрядное хладнокровие.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Среда, 7 апреля
Аженор Фералес так разозлился, что никак не мог успокоиться. Едва заполучив на палец обручальное кольцо, Мария, эта нимфа, за которой он ухаживал больше года и которая в конце концов стала с ним так нежна и мила, что не было возможности устоять перед малейшими ее капризами, забыла о дне рождения мужа! Аженор проснулся в чудесном расположении духа, предвкушая, что сейчас жена подаст ему завтрак в постель, а под одеялом обнаружится сверток, перевязанный золотистой ленточкой. Но вместо этого Мария заперлась в ванной комнате и плескалась там, пока он в одиночестве пил горькую бурду под названием кофе и жевал гренки. Ничего себе начало семейной жизни!
Как всегда по утрам, они сели на омнибус и отправились на работу, однако на сей раз не обменялись по дороге ни словом. Аженор вихрем ворвался во дворец Гарнье — спешил на помощь режиссеру и балетмейстеру на репетицию «Волшебной флейты»;
[802] скоро должна была состояться оглушительная премьера. Он устремился было в зал, и тут Мария наконец нарушила молчание:
— Совершенно необходимо, чтобы ты пошел со мной — у нас беда с чепчиками, расшитыми жемчугом, для мадемуазель Дезире, Дзамбелли и Виоллá.
Аженор резко развернулся и сердито уставился на жену:
— Это твоя забота!
Она не отступилась, принялась убеждать, что только он, Аженор, пользуется авторитетом у шляпниц, которые все как одна нахалки и грубиянки, чуть что бегут жаловаться Хлодомиру, парикмахеру, готовому взять каждую под крыло.
Ссутулившись и бормоча сквозь зубы проклятия, Аженор тяжело поднялся по лестнице. В мастерской закройщиков было тихо. И неудивительно — ни одного из тридцати трудяг, орудовавших здесь ножницами под командованием сурового мастера, не оказалось на месте. Лишь рулоны тафты, шевиота, ратина, бумазеи ждали своего часа на столах; там же валялись незаконченные мантии, бармы и пышные короткие штаны.
— Это что за ерунда? Забастовка? — вслух изумился Аженор. Выходя из мастерской, он к тому же подскользнулся на упавших со стола штанах и едва удержался на ногах, схватившись за гладильный столик. Рассвирепев, тут же бросился искать Марию, чтобы дать выход гневу, и увидел, как она входит в швейную мастерскую.
— Ты объяснишь мне наконец, что… — взревел именинник, догоняя жену, но тут грянуло в сотню глоток:
— С днем рожденья, Аженор!
Совершенно оторопевший, он оказался среди юных швей, шляпниц, сапожников, портных, закройщиков и вахтеров. Были там и главный костюмер, и Рике Лёсюэр — бывший пожарный Опера, и Оскар Лафарж — старшина рабочих сцены, и Обен Комбре — подмастерье, которого Мария учила ремеслу. Аженора принялись поздравлять со всех сторон, засыпали подарками. Мария преподнесла ему футлярчик, где на бархате лежала заколка для галстука, украшенная бриллиантами. Преисполнившись раскаяния и прослезившись, он крепко обнял жену.
— Здорово я тебя разыграла, а, мой котеночек? — засмеялась она. — Ты решил, я совсем совесть потеряла, и уже подумывал развестись?
Примирение супругов было встречено криками «ура!» и свистом.
— Рыцари иглы и ножниц, врачеватели костюмных изъянов, за мной! — завопил Хлодомир. — Нас ждет вино в оружейной!
Все ринулись к залу, где рядами выстроились аркебузы, копья, круглые щиты и мечи. У статуи египетской Венеры из оперы «Таис» заведующий постановочной частью наполнял белым и красным вином бокалы, расставленные на ящиках с прочим реквизитом.
— Пейте и не говорите, что это плохо, иначе директор меня со свету сживет — он не терпит шуток над его собственностью!
Когда каждый обзавелся выпивкой, старик Рике призвал всех спуститься на пожарный пост, где была приготовлена закуска. Пожалуй, стадо разъяренных быков промчалось бы по лестнице, создав куда меньше шума и разрушений. Самым отъявленным пьяницам, уже принявшим на грудь, срочно понадобилось наведаться в уборную над антресольным этажом. Костюмер, прорвавшийся туда первым, все никак не выходил, и остальные страждущие забарабанили ему в дверь:
— Эй, ты что там делаешь? Шеф нам задаст, если замешкаемся!
— Да тут… Глядите, чего на штукатурке намалевали!
Все, толкаясь, вломились в кабинку и уставились на свеженанесенную зеленой фосфорной краской надпись:
Коли месье Фералес затоскует
И с женой разведется,
Вся Опера возликует —
Потаскушке скучать не придется!
Какая-то добрая душа поспешила сообщить об этом имениннику, который уже успел спуститься до первого этажа, и он, перепрыгивая через две ступеньки, побежал наверх.
Ознакомившись с надписью, Аженор разбушевался:
— Шалюмо! Это он сделал! Прикончу гада!
Его начали утешать, убеждать, что нет никаких доказательств вины Мельхиора и вообще — зачем бы это делать оповестителю? К тому же Мельхиора никто не видел со вчерашнего дня. Скверные вирши Аженору пообещали замазать белилами — Обен Комбре, подопечный Марии, сам вызвался поработать маляром. Он так и сиял:
— За десять минут справлюсь, идите, я вас догоню!
Аженор окинул подозрительным взглядом молодого человека (тот ободряюще улыбнулся мужу наставницы) и неохотно позволил коллегам увлечь себя на первый этаж.
На посту пожарных имениннику было приготовлено роскошное кресло в центре помещения, походившего на каюту транспортного судна. Начальник пожарной службы, стоя на фоне огромных настенных часов с маятником, обратился к публике с короткой, но торжественной речью, в которой фигурировали инструкции по технике безопасности, Чувство долга, тарталетки и пирожные с кофейным кремом. Сладости ждали гостей, разложенные на досках, водруженных на козлы.
— Говорю тебе: эту гадость написал Мельхиор, — сердито прошептал Аженор на ухо жене.
— Ни за что не поверю, он всегда со мной так мил, он не считает меня… такой! Это кто угодно мог написать.
— Ну да! Он, кто же еще? Решил мне отомстить, мерзавец! Я добьюсь, чтобы его уволили!
— За что отомстить? — удивилась Мария.
— Защищать его вздумала? Значит, нравится, когда он к тебе пристает?
— Не смей так со мной…
Семейную ссору прервал Обен Комбре — его кукольное личико со светлым пушком над верхней губой показалось в дверном проеме.
— Готово! Я закрасил в три слоя, мсье Фералес, теперь слова днем с огнем не разглядишь. Вот, а это для вас кто-то из персонала оставил, — парень протянул имениннику тарелку, на которой красовалась пряничная свинка.
— Кто-то из персонала? Кто?
— Не знаю. Это стояло у входа с запиской: «За твои тридцать четыре года. Съешь меня, Аженор-Тамино, и Царица Ночи
[803] утратит власть над тобой!»
— Дай сюда, я умею читать, сопляк!
— А что я такого сделал? — обиделся Обен на грубое обращение.
— Вот и я спрашиваю: что ты такого сделал. Мы это еще выясним.
— Ой, смотрите, на свинке глазурью написано «Аженор»! — вмешалась Мария. — Она принесет тебе счастье!
— Только нужно съесть ее целиком, до крошки, — проявил осведомленность Оскар Лафарж.
— Терпеть не могу пряники — они к зубам прилипают, — буркнул Аженор. Но вся компания уже скандировала:
— Це-ли-ком! До крош-ки! До крош-ки!
Аженор с удовольствием выкинул бы пряничную тварь в мусорное ведро и даже попытался было спрятать ее под салфетку, но Мария схватила свинку, затолкала ему в рот и закричала Обену, Рике и Оскару:
— Скорей помогайте!
Аженор попятился, но мужчины вцепились в него с двух сторон, Обен зажал ему нос, и пришлось проглотить «угощение».
— Брависсимо! Еще! Еще! — возликовали коллеги.
— Хватит, черт возьми, я вообще на диете! — промычал именинник.
— Вот, запей для правильного пищеварения. — Оскар протянул ему бутылку, и багровый Аженор под аплодисменты надолго приник к горлышку. Затем все ринулись к импровизированному буфету, пол покрылся серпантином, оберточными бумажками, крошками, и где-то среди всего этого мусора осталась лежать записка, на которой явственно читалось «Аженор-Тамино».
— Дамы и господа, праздник окончен, пора за работу! — провозгласил старшина пожарных. — Мы с моими людьми тут приберемся!
— Мсье Фералес, я извиняюсь, вас срочно требуют осветители, у них там что-то стряслось! — с криком примчался откуда-то Обен Комбре.
— Ты знаешь, как обычно поступают с гонцами, которые приносят дурные вести? — нахмурился Аженор.
— Нет, мсье.
— Опишу тебе когда-нибудь во всех подробностях. Эти дурни без меня, что ли, не могут обойтись? Ладно, Мария, я пошел. — Аженор поцеловал жену и в очередной раз залюбовался заколкой с бриллиантами, которую она прикрепила ему на галстук.
— Прям царская штучка, — одобрил Обен вещицу.
— Да уж, тебе, сопляку, женщины нескоро такие дарить будут, если вообще будут, — фыркнул Аженор, покидая пожарный пост.
В коридорах Опера было шумно. Туда-сюда бегали певцы и хористки, сталкиваясь с музыкантами, которые тоже спешили на репетицию со скрипкой или гобоем подмышкой. Из гримерной доносились вокализы тенора. Кто-то истошно звал Хлодомира.
Аженор Фералес миновал владения инженеров-гидравликов, наполнявших водой фонтаны и искусственные пруды, которые станут частью декораций, затем вотчину техников, умеющих превращать балерин в птиц и воспламенять адским огнем любовные напитки. Здесь, в служебных помещениях, всегда было промозгло, но раньше Аженор так не мерз. Сейчас у него зуб на зуб не попадал, перед глазами плясали разноцветные «мушки», порой все вокруг накрывала темная пелена, становилось трудно дышать. Он даже остановился и привалился к мостовому крану, чтобы накопить сил и добраться наконец до помещения службы, ответственной за воссоздание грозы, пожаров и огнестрельных залпов.
— Нездоровится? — участливо спросил проходивший мимо механик.
Аженор махнул рукой — мол, все в порядке, — и мысленно приказал себе взбодриться, чтобы не уронить достоинства перед коллегами. Вино! Что за глупость — смешать красное с белым! В глаза ударил ослепительный пурпурный луч — старшина осветителей, сидя в нише рядом с суфлерской будкой, следил за эффектами светотени, производимыми табло освещения. Аженор попытался сфокусировать взгляд на аппарате, установленном над авансценой, и догадаться, что сломалось в этом нагромождении массивных труб, управляемых с помощью зубчатого колеса.
— Когда я требую, чтобы на сцене наступила ночь, — это значит, что сумрак должен сгущаться постепенно, а не сразу — бац! — и темнота, как будто зал лавиной накрыло, понимаете, Валено?! — бушевал режиссер на грани нервного срыва. — Ах, вот и вы, Фералес, наконец-то! Посиделки закончились? Наелись-напились? Мне как раз нужен ваш трезвый взгляд, а то мы тут бродим в густом тумане… Да закройте же вы этот люк; эй, там! Я чуть не провалился!
Аженор стоял, не в силах выдавить ни звука. Странное сверкающее пятно в форме пилы застило взор, очертания внешнего мира сделались неразличимыми, по телу пробежала дрожь. Внезапно полумрак вокруг сменился полной тьмой.
— Короткое замыкание! — известил всех электрик.
Аженор, шатаясь, двинулся в сторону поста управления колоколами. Но сцена внезапно исчезла из-под ног, он рухнул в пустоту — и то, что составляло его личность, разлетелось вдребезги. Аженор столь стремительно потерял связь с реальностью, что даже не успел осознать расставание с нею.
Когда подача электричества была восстановлена, всеобщее смятение чуть не стало причиной новых несчастных случаев. Месье Филипон, помощник старшины рабочих сцены, бросился звать врача.
А наверху знать ничего не знали о трагедии. Старшина рабочих сцены ударил в гонг:
— Дамы-господа, начинаем! Репетиция! Освободите сцену!
В кулисе Царица Ночи с перекошенным от гнева лицом кляла на все лады костюмера, глядя, как его помощница, стоя на коленях, подшивает прямо на ней черную мантию.
— Царица Ночи, ваш выход! — возопил режиссер. — Господи, да что она там возится!
Мельхиор Шалюмо проскользнул под занавесом, ловко избежав столкновения с огнедышащим драконом из папье-маше, который ждал своего часа, чтобы напасть на Тамино. Маленький человек состроил чудищу рожу, проскакивая мимо, и с разбега налетел на месье Филипона — тот как раз выметнулся из левой кулисы.
— Чик-Чирик, беги за доктором, скорей, скорей! Фералес упал в люк! Кажется, он мертв!
Мельхиор прищурился, как сытый кот.
— Живо, малорослик! Чего стоишь?!
Человечек схватился за сердце, кровь волной прилила к щекам. Он бросился бежать. Никогда в жизни Мельхиор Шалюмо и помыслить не мог, что силы небесные с таким усердием станут воплощать его, Мельхиора, чаяния.
«Благодарю, о Всемогущий! Благодарю, благодарю! Ну и кто теперь осмелится выгнать меня из дому? Вот я везунчик! Прощай, Аженор, да упокоится душа твоя с миром. Как здорово, что ты успел насладиться моими виршами, перед тем как покинул сию долину скорби!»
Вторник, 8 апреля
— Опа! Бойня продолжается!
Жозеф внимательно перечитал статейку в газете:
Скорбный день рождения
Г-н Аженор Фералес, инспектор сцены в нашей Опера, трагически погиб вчера, в день своего тридцатичетырехлетия, упав в темноте во время короткого замыкания в открытый люк на сцене. Персонал дворца Гарнье скорбит вместе с вдовой, мадам Марией Фералес. Свадьба состоялась всего три недели назад…
— Guten Morgen, Herr Pignot.
[804]
— Черт, черт, черт! — пробормотал Жозеф себе под нос. В лавку только что вошла фрейлейн Хельга Беккер.
— Месье Пиньо, у меня грандиозная новость: я стала владелицей автомобиля фирмы Жоржа Ришара! Старею, знаете ли, от езды на велосипеде ужасно болит поясница.
— А водить автомобиль вы умеете? — с большим сомнением в голосе спросил Жозеф.
— Что же тут сложного? И ребенок справится — машиной можно управлять одним пальцем. Она выдает скорость двадцать пять километров в час и умеет взбираться на самые крутые склоны. Именно то, что вам с месье Легри нужно, чтобы проводить ваши расследования! Купить автомобиль — значит одновременно обзавестись лошадью, упряжью, каретой и конюшней!
— Ну да, только у нас на это не хватит средств, — сказал Жозеф, демонстративно зевая.
— Вы наверняка сможете позволить себе двухместную машинку фирмы месье Леона Болле. Бак в ней рассчитан на сто — сто двадцать километров, а расход на горючее составляет всего два сантима на километр.
— Мадемуазель Беккер, уж не желаете ли вы сказать, что женщине самое место в коробчонке на колесиках? Как-то это не изящно, — заметил Жозеф и яростно высморкался.
— Здравствуйте, мадемуазель Беккер. Привет, Жозеф.
Молодой человек живо обернулся — по винтовой лестнице спускалась Джина Херсон.
— Я слышала трубный глас — такой, будто кто-то созывал усопших в долину Иосафата, — испепелив Жозефа взглядом, но не меняя любезного тона, продолжила она. — Возможно, это кто-то высморкался.
Жозеф покраснел и быстро спрятал платок в карман.
— Мадам Херсон, я… э-э… Вы пришли к месье Мори? Он отлучился из лавки, можете подождать его здесь, если хотите…
Однако Джина умолкать не собиралась:
— Мужчины хотят, чтобы мы всецело от них зависели, мадемуазель Беккер, а нам остается лишь набраться терпения и проявлять к ним снисходительность. Они боятся потерять преимущества, которые сами себе присвоили, поэтому придумали правила, приличия, этикет и условности. Вот я, к примеру, живу здесь с месье Мори уже несколько месяцев, но все делают вид, что не замечают этого. Я незримая любовница, не так ли, Жозеф?
— Э-э… я… хе-хе…
— К вашему сведению, месье Пиньо, я терпеть не могу эту вашу привычку глупо ухмыляться, когда предмет обсуждения не располагает к веселью, — ровным тоном проговорила Джина и, обратилась к немке: — Мадемуазель Беккер, меня чрезвычайно интересуют автомобили. Я бы с удовольствием прокатилась с вами и послушала лекцию о достоинствах этого транспортного средства. Если вас не затруднит, конечно. Месье Пиньо, передайте месье Мори, что, если он по мне соскучится, я буду ждать его на улице Дюн.
— Но… но вы же не сядете в эту… в…
Джина села в машину рядом с Хельгой Беккер, и Жозеф некоторое время, стоя на пороге лавки, беспомощно глядел вслед «ришару», удалявшемуся по улице Сен-Пер. Из ступора молодого человека вывела телефонная трель. Звонил Виктор. Жозеф слушал его несколько секунд, не выдержал и в отчаянии перебил:
— Да знаю я, что инспектор сцены свернул себе шею — я тоже читал газету!.. Что? Если я правильно понял, вы опять оставили меня за бортом?!.. Ох, ладно, буду ждать… Как? Вы очаровали вахтершу в Опера? Поздравляю!.. Хорошо, хорошо, Казанова, пустите в ход все свое обаяние, приворожите ее намертво и вытрясите всю правду. Возвращайтесь к пяти часам.
Виктор вышел из почтового отделения, откуда звонил Жозефу, злой как черт. Решительно, зятю не достает широты ума — надо же, Казановой обозвал! Сев на омнибус, он рассеянно размышлял некоторое время, чему обязана улица, соединяющая Пале-Руайль и Опера, громким званием «авеню», если на ней нет ни единого дерева. В Опера Виктор надеялся еще раз пообщаться с мадам Марсо, но нарвался на её мужа — малоприятного типа в рединготе с медными пуговицами и фуражке с галуном. Он походил на сурового унтера, готового прямо сейчас влепить пару нарядов вне очереди какому-нибудь нарушителю устава. Монета в пять франков и упоминание «Пасс-парту» его, однако, смягчили. Виктор был допущен в запретные чертоги — комнату вахтеров, — но перед этим его заставили расписаться скрипучим пером в журнале посещений: указать имя и род занятий (
«Антонен Клюзель, псевдоним Вирус, репортер»), а также цель визита. Цербер почему-то сделался настолько любезен, что усадил гостя в то самое кресло, которое ему предлагала раньше мадам Марсо, и даже попотчевал отвратительным кофе со сливками.
— Вы сюда не первым из репортеров заявились — от ваших собратьев уже деваться некуда, летят как мухи на мед. А ничего нового я вам не скажу, разве что знайте: за все пятнадцать лет, что я тружусь в этом заведении, никогда не было такого, чтобы три покойника зараз. Беда за бедой, право слово, будто кто-то сглазил, а то и порчу навел на наш храм музыки. Один завсегдатай кулуаров тут рассказывал про ясновидящую негритянку, которая проездом в Париже. Говорит, ей сотня лет и она пророчит события страшные и пренелепейшие — чуму, войну, в общем чушь какую-то, верите? Чокнутая, видать, но от этих иностранцев, которые наш хлеб едят, всего ожидать можно. Поди знай, чего они там замышляют.
— Впервые слышу о предсказательнице.
— Как же? Это ведь ваша обязанность — новости ловить. Какие-то богачи устроили сеанс ясновидения, у них это сейчас модно. Сглазили нас всех, точно вам говорю.
— Я не занимаюсь светской хроникой. Мне бы хотелось побеседовать с мадам Фералес. Надо думать, она сейчас дома, никуда не выходит после такого несчастья. Не могли бы вы продиктовать мне ее адрес?
Вахтер озадаченно нахмурился, достал из кармана замшевую тряпочку и принялся протирать пуговицы на рединготе.
— Ишь чего вам… Такие сведения я только полиции выдать могу, а так не имею права. Нет-нет! — воскликнул он, с неохотой отказываясь от второй монеты, которую ему протянул Виктор. — Я на службе. Однако вы вполне можете побеседовать со старым Рике. Официально он в отставке, но все время тут ошивается у своих приятелей пожарных. Уж он вам много чего понарасскажет — как-никак был закадычным другом Аженора.
Месье Марсо объяснил, как найти пожарный пост — здесь же, на первом этаже, рукой подать. А когда лже-репортер покинул комнатку вахтеров, цербер выглянул в коридор, ведущий к кухне:
— Прямое попадание, инспектор Вальми! У вас тоже пророческий дар! Вы сказали, что парень заявится, — он и заявился. Вот, можете вытереть руки чистой тряпкой.
…Рике Лёсюэр был не толще соломинки. На изможденном лице красовался выдающийся назальный отрог
[805] в форме клубня пиона; обширную плешь, похожую на монашескую тонзуру, компенсировала буйная седоватая растительность на щеках и подбородке. Рике был женат вторым браком на молочнице, которая запрещала ему спиртное, а взамен закармливала творогом, сметаной и каждый вечер проверяла его пульс. Старик проводил дни, слоняясь по знакомым-приятелям в ожидании, не поднесут ли чарочку; страсть к горячительному он делил с Аженором Фералесом, под чьим патриотическим девизом «Алкоголь убивает, но французский солдат не боится смерти!» и проходили совместные дружеские попойки, а после них оба жевали кофейные зерна, чтобы отбить запах перегара.
Удрученный потерей, Рике торчал на пожарном посту и угрюмо таращился на часы, как будто лишь зримое течение жизни могло умерить его печаль. Через равные промежутки времени старшина набрасывался на старика с требованием не путаться под ногами, потому что его людям надо совершать обход — а это вам не шутки, ведь во дворце Гарнье десятки мастерских. Так что Рике вздохнул с облегчением, когда появился Виктор и увлек его в сторонку.
Отставной пожарный тотчас разговорился:
— Короче, над сценой есть коронная шестерня, и еще одна! Медная, под сценой. Резервуары связаны меж собой вертикальными трубами. В наличии имеются тросы на пожарных щитах, ведра, эпонж, топоры, пожарные насосы — работают на десять метров, не что либо как. А ежели…
— Простите, — перебил Виктор, — я пришел не для того, чтобы изучать вашу противопожарную систему, я…
Но Рике будто не слышал:
— А ежели потребуется, так компрессионные аппараты дадут струю помощнее торнадо. Двенадцать тысяч литров воды — это ж Везувий потушить можно! Короче, бояться нечего. А Жеже взял и шею себе свернул…
— Вы о месье Аженоре Фералесе?
— Какой был мужик! Тот еще брюзга, конечно, но чтобы друга из беды вытащить, пополам бы порвался. Десять лет назад я чуть было не потерял работу — черт меня дернул однажды набраться прямо на посту, ну и… В общем, Жеже меня отстоял тогда перед начальством — сказал, это он во всем виноват, мол, сам предложил мне выпить, и заверил, что такого больше не повторится. А теперь он танцует вальс-бостон со святым Петром…
У Рике на глазах выступили слезы, Виктор вывел его на улицу, и они устроились на скамейке.
— Вы будете участвовать в ночном бдении?
Старик покачал головой:
— Мария так убивается по мужу, что хочет побыть одна. Она потребовала, чтобы гроб на эту ночь поставили в их спальне, а нас ждет завтра, на похоронах. Лишь бы только чего над собой не сотворила, бедняжка…
— Она по-прежнему живет на улице Скриб? — бросил пробный камень Виктор.
— С чего бы? Никогда она там не жила! А после свадьбы они сняли двухкомнатную квартирку на проезде Тиволи,
[806] в доме четыре-бис, там еще лавчонка, в которой зонты продают.
— Ваш друг погиб в день своего рождения?
— Эх, что да, то да. Шикарный был день рождения! Как хорошо все начиналось — подарки, сладости, вино, мы вскладчину такой праздник устроили… Я ему посеребренную зажигалку подарил, чуть по миру не пошел. А вино какое было, ух, крепкое, можете не сомневаться! — Рике Лёсюэр даже языком прищелкнул. — Потом кое-кому из наших понадобилось отлить, ну и наткнулись в уборной на ту надпись…
— Что за надпись?
— Какой-то негодяй на стене нацарапал, что Мария… э-э… верностью не отличается. Аженор раскричался, что это Мельхиор Шалюмо натворил, но вы не думайте, что…
— А кто это — Шалюмо?
— Человечек он довольно мстительный, конечно, но в каком-то смысле я его понимаю: ростом он не вышел, мне по плечо, вот все бедолагу и задирают, посмеиваются над ним. Я в школах не учился, месье, но знаю, что люди называют противоестественным не то, что противоречит природе, а то, что противоречит их правилам и обычаям, а их правила и обычаи требуют, чтобы все было по единой мерке скроено. Со мной Мельхиор вполне любезен. Честное слово, не верю, что он мог написать подобные гнусности про Марию, этот парень ее опекал, когда она еще девчонкой была.
— Что же было дальше на дне рождения?
— Ну, наелись все от пуза. Аженора еще и пряничную свинку с его именем на боку съесть заставили, хотя он всячески отбивался.
— Пряничную свинку? — насторожился Виктор.
— Ее самую. После пирушки Аженор пошел потолковать с осветителями — что-то у них там стряслось. Ну а дальше…
Виктор поднялся со скамейки. Стало быть, Жозеф угадал верный путь — по следам пряничных свинок, предвестниц смерти. Нужно срочно принять меры, пока кто-нибудь еще не стал жертвой… Жертвой чего? Несчастного случая? Злой судьбы? Или яда, подмешанного в пряничное тесто?
Инспектор
Вальми проводил взглядом сыщика-любителя, бросившегося ловить фиакр, и беспечной походкой направился к лавочке, на которой сидел Рике Лёсюэр, погрузившийся в созерцание уличных часов.
— Уважаемый, я служу в Префектуре полиции. Позвольте прервать ваши размышления и осведомиться, о чем с вами беседовал тот лже-писака?
— Вот! — оживился Рике Лёсюэр. — Все писаки лгут. А потому что не знают ничего. Говорит, Мария жила на улице Скриб — ну надо же, удумал!
— …Проезд Тиволи, дом четыре-бис. Не кукситесь и не смейте обвинять меня в том, что я расследую в одиночку. К Марии Фералес поедете вы, я подменю вас в лавке, — прошептал Виктор на ухо Жозефу.
— А что я скажу клиентам? Тут один разыскивает «Метаморфозы» Овидия в четырех томах, изданные с тысяча семьсот шестьдесят седьмого по тысяча семьсот семьдесят первый год, — и только потому, что хочет полюбоваться на иллюстрацию Буше «Похищение Европы». Похоже, это будет стоить ему целого состояния… А другой ворчит и торгуется — у нашего «Декамерона», видите ли, переплет, конечно, старый, но слишком ординарный, чтобы выложить за него две тысячи сто франков, которые мы запросили.
— Я ими займусь. Не забудьте главное: пряничные свинки и Мельхиор Шалюмо. Если найдете улики, не возвращайтесь сюда — позвоните мне вечером на улицу Фонтен и просто скажите: «Со свинкой все в порядке». Это будет означать, что завтра в семь часов мы встречаемся в «Утраченном времени», где и обсудим наши дальнейшие действия.
Жозеф сердито оделся — накинул плащ и нахлобучил кепи. «Я весь день на ногах, бегаю тут от полки к полке, а он меня на задание посылает… Впрочем, все-таки шурин у меня молодец — ведь мог бы и сам к свидетельнице, а взял и уступил мне…»
…Через час Жозеф, который сел не на тот омнибус, уехал бог знает куда и заблудился, стоял на мосту Европы и считал железнодорожные составы, извергавшие облака пара. Вдруг сзади кто-то ткнул его кулаком в плечо. Молодой человек резко обернулся, собираясь дать сдачи, но тотчас успокоился, обнаружив перед собой толстяка флегматичного вида в старом коричневом костюме и потрепанном котелке. Толстяк пошмыгал носом, будто принюхивался, как гончая, взявшая след, выхватил в последний момент клетчатый платок и от души чихнул в него.
— Чертова сенная лихорадка!
— Месье Гувье! — улыбнулся Жозеф. — Как всегда, в делах, в заботах?
— Считайте, в командировке. В «Пасс-парту» завелась рубрика «Искусство», и счастливый избранник — я. В галерее на улице Лафит опять выставили какую-то мазню — иду любоваться. У художника ни грамма таланта, зато целый пуд связей. А слышали эту историю? Два месяца назад толпа каких-то кретинов чуть не передралась перед картинами из коллекции покойного Кайботта,
[807] которые наконец-то выставили во временном хранилище Люксембургского музея! Как сказал один мой коллега, «эта экспозиция — окончательный приговор живописи, называемой импрессионистской: все, кто представляет ее здесь, за исключением двоих-троих, — импотенты». Невольно задаешься вопросом, кто будет заселять Францию.
— Я! — гордо заявил Жозеф. — У меня ожидается пополнение в семействе, и у месье Легри тоже.
— Осанна! Старые деревья приносят самые сладкие плоды.
— Но я же молодой, месье Гувье!
— Так пользуйтесь этим, мой мальчик, не отказывайте себе ни в чем и ни от чего не отказывайтесь. Посмотрите на меня: перед вами образчик нонконформизма, который сдал свои позиции, погряз в рутине и изнывает от скуки. А вы, Шерлок Пиньо, небось затеяли расследование на вокзале Сен-Лазар?
— О нет, мне нужно доставить книгу клиенту на проезд Тиволи. Не знаете, как туда добраться?
— Проезд Тиволи… что-то знакомое… Вы блестящий фельетонист, молодой человек, но врунишка из вас никудышный. Где же книжка, которую вы собираетесь доставить? Ни один карман у вас не топорщится. Руку даю на отсечение, что вы направляетесь в дом четыре-бис.
— Нет-нет, уверяю вас…
— Да ладно, уж меня-то вы не проведете. Клюзель на рассвете дал мне задание расспросить персонал Опера о смерти некоего Аженора Фералеса.
— Неужели? И что же в этой смерти особенного?
— А то, что за месяц это уже третий из верных слуг нашей Академии музыки, который спустил рукава.
[808] Клюзелю ситуация кажется необычной.
— Я внимательно читаю «Пасс-парту», но не заметил никаких комментариев по этим делам.
— О, с тех пор как у нас тираж пошел вверх, Клюзель осторожничает. Пока не удостоверится в надежности источника, ни за что не станет публиковать гипотезы, чтобы не вызвать потом возмущение читающей публики. Зато я знаю пару издателей, которые не боятся разворошить муравейник… Что ж, юноша, проезд Тиволи — это мне по дороге, я вас провожу.
— Месье Гувье, а может, поделитесь сведениями об обитательнице дома четыре-бис?
— Если бы я что-то знал — с удовольствием поделился бы, но пока мы с вами на равных.
Они расстались на улице Амстердам, условившись встретиться как-нибудь и посидеть за стаканчиком с Виктором. Жозеф, миновав мостовые пролеты, свернул на короткую улочку и заметил торговца почтовыми открытками с картинками — тот разместился под рекламным плакатом, прославляющим морские красоты Туке-Пари-Плаж. Эфросинья собирала открытки, которые ей присылали старые знакомые — зеленщицы и торговки свежими овощами, удалившиеся от дел, — из Барневиля или Суйяка. Такого добра было навалом на вокзалах и лотках уличных торговцев, снабжавших путешественников доказательствами их смелых вылазок, не говоря уж об открытках с юмористическими рисунками и именами из цветочного орнамента. Матушка Жозефа их тщательно систематизировала и помещала в прекрасный альбом на шесть отделений, подаренный ей Кэндзи с памятной надписью: «Чем больше воспоминаний, тем теснее мир».
Жозеф купил набор открыток, посвященных подвигам и героической смерти «рыцаря без страха и упрека». Выдавать их Эфросинье он собирался по одной — в ближайшие несколько недель отважный рыцарь Баярд будет помогать ему умилостивить матушку в нужные моменты.
Стучать в дверь квартиры Фералесов пришлось долго, прежде чем Мария наконец приоткрыла ее, не снимая цепочки. Щеки у вдовы были мокры от слез, лицо распухло, и на нем не читалось ни малейшего желания принимать гостей. Но Жозеф не отступился:
— Здравствуйте, мадам. Соболезную вашей утрате. Я ни за что не побеспокоил бы вас в такой день, если бы не подозрение, что смерть вашего мужа не была естественной.
— Разумеется, не была! Это несчастный случай. Что вам еще от меня нужно? Уходите!
— Мадам, прошу вас…
— Убирайтесь отсюда! Кто вы такой? Журналист? Агент похоронного бюро? Все вы падальщики! Мне уже пришлось отвечать на вопросы полицейских, они тоже совершенно не уважают чужой траур, мерзавцы!
— Я не полицейский. Я был другом вашего мужа, он приглашал меня на день рождения…
— Впервые вас вижу.
— Мы частенько встречались в кафе, покуривали сигары, откровенничали…
Мария отступила от двери и некоторое время стояла неподвижно. На скулах проступили красные пятна. Наконец она спросила срывающимся от сдерживаемого рыдания голосом:
— Ему желали зла, моему Жеже? Что он вам говорил?
— Можно мне войти? — осторожно спросил Жозеф.
Женщина высморкалась, поправила растрепанные волосы.
— Как вас зовут?
— Изидор Гувье. Я работаю в библиотеке Академии музыки.
Мария сняла дверную цепочку и впустила его. Войдя, Жозеф осмотрелся: тесная темная гостиная, фаянсовая печка в углу, дубовый буфет. Швейная машинка соседствует с квадратным столиком, окруженным плетеными стульями. Этажерки, уставленные всякой всячиной, заслоняют стены с обоями цвета мирабели. Над всем царит подвешенная к потолку керосиновая лампа.
Мария Фералес, пухленькая блондинка, не дала себе труда переодеться — осталась в плюшевом пеньюаре цвета фуксии, застегнутом от горла до лодыжек на пуговицы-помпоны.
— Так что же вам сказал Жеже? Присаживайтесь…
— Ему не давала покоя гибель двух музыкантов из оркестра Опера. Он видел, как Жоашен Бланден получил небольшую посылку перед самым началом концерта в Катакомбах.
— В Катакомбах? Что за ерунда! Мой Жеже никогда не бывал в Катакомбах, он терпеть не мог кладбища… а завтра его зароют в землю… — Мария снова разрыдалась.
Жозеф представил на секунду, что его может постигнуть такое же несчастье, и тотчас защемило сердце. Он вместе со стулом подвинулся поближе к вдове.
— Ах, я так перед ним виновата — Жеже ужасно расстроился из-за той гнусной надписи, — с горечью проговорила она.
— Да-да, я знаю, он считал, что это сделал Мельхиор Шалюмо. — Жозеф покраснел — ему стыдно было разыгрывать комедию перед безутешной женщиной.
— Жеже ошибался, мы с Мельхиором дружим… мы очень давно знакомы…
— А где его можно найти?
— Только не донимайте его расспросами, ему и так несладко приходится. В Опера все его шпыняют, никогда не упускают случая унизить. Он живет в чулане под самой крышей дворца Гарнье, над административным этажом. Вчера я его не видела. Но та надпись… Мельхиор тут ни при чем, это я во всем виновата — Жеже не нравилось, что я взяла в ученики малыша Обена Комбре. Обен совсем мальчишка, а Жеже навоображал себе всякого на пустом месте… Ах боже мой, боже! Он умер!
— Успокойтесь, пожалуйста, мадам. Может быть, стакан воды?
— Спасибо, вы очень любезны… Подумать только — перед тем как Жеже упал в люк, я заставила его съесть пряничную свинку с его именем. Считается, что это приносит счастье…
— Свинку купили вы?
— Нет, какие-то приятели, наверное, специально для него заказали — у Жеже была любимая поговорка: «Мы вместе свиней не пасли». А я ему подарила заколку для галстука… Ах, беда за бедой, я приношу людям несчастье, и в день нашей свадьбы тоже… — Слезы заструились по щекам Марии с удвоенной силой.
Жозеф взял ее ледяную руку в ладони.
— Что случилось в день вашей свадьбы?
Мария попыталась заговорить, но получилось у нее не сразу.
— Тони Аркуэ упал с лодки в пруд и утонул. Я подумала тогда, что это страшное предзнаменование.
— Тони Аркуэ?
— Кларнетист.
— Пустые суеверия, вы тут совершенно ни при чем, — заверил Жозеф. — Вы плыли с ним на одной лодке?
— Нет.
— Вот видите — просто совпадение, несчастный случай. А кто с ним плыл?
Мария потерла лоб, пытаясь вспомнить, потом выпрямилась так резко, что стакан с водой полетел на пол. Жозеф бросился подбирать осколки.
— С ним плыл Жоашен Бланден — он тоже мертв! И еще Ольга Вологда — она заболела! — Это открытие так ошеломило Марию, что она забыла о своей скорби. — Еще там были Ламбер Паже, биржевой игрок, он часто давал Аженору советы, куда вложить деньги, и Анисэ Бруссар, владелец скобяной лавки и меломан. Они в опасности?
— Пока не знаю, мадам. У вас есть их адреса?
— Где живет Ламбер Паже, не знаю, а у Анисэ Бруссара лавка на улице Вут… номер дома не помню. Пожалуйста, месье, уходите, я хочу побыть одна… с Аженором…
— Обещайте мне, что будете благоразумны, — выдавил Жозеф, у которого перехватило горло. Получив от Марии кивок, он поднялся, подавленный присутствием смерти в доме, выскочил из квартиры и сбежал по лестнице, прыгая через ступеньку.
На проезде Тиволи Жозеф едва не сбил с ног старушку в чепце, разглядывавшую рекламный плакат пляжей Туке.
— Красиво, а, месье, что скажете? Только у меня денег не хватит, чтобы там побывать.
— Я отвезу вас туда, когда тираж моего последнего романа достигнет пятидесяти тысяч экземпляров! — пообещал Жозеф, только что исполнивший акробатический трюк, чтобы не задеть престарелую даму на бегу. — Вам роман тоже понравится! «Месть лемура» покорит всех читательниц! — И помчался дальше.
Инспектор Вальми наблюдал за кульбитами Жозефа с ехидной улыбкой. «Пляши, мой юный друг, пляши, пока есть возможность. Скоро у тебя и у твоего напарника энергии поубавится, потому что плясать вы будете под мою дудку. Что ж, настало время принести наши соболезнования мадам Фералес».
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Пятница, 9 апреля
— С утра чувствую себя старой развалиной. Это, наверно, потому что матушка вчера вечером накормила нас диковинным блюдом из лангуста, которого ей за полцены продала давняя приятельница с Центрального рынка. Ощущение, будто я проглотил наковальню.
— Однако у вас хватило сил заверить меня, что «со свинкой все в порядке».
— Ну да, всё, кроме того, что она верещит от ужаса, и такое впечатление, что прямо у меня в желудке. Варвар вы этакий, еще смеетесь, — проворчал Жозеф, хватаясь за чашку с кофе.
— Думаете, лангусты не верещат, когда их живьем в кипяток бросают? — хмыкнул Виктор. — А я, знаете ли, что-то проголодался после прогулки на велосипеде. Закажу-ка окорок.
— Во-во, кровожадный варвар.
— Ладно, шутки в сторону. Мария Фералес сказала что-нибудь полезное для расследования?
— Повторяю: у всех трагедий есть общий знаменатель — это дворец Гарнье, и теперь нам известно, что уже не двое, а четверо тамошних служащих слопали по пряничной свинке и для них все плохо закончилось. Этого недостаточно, чтобы возбудить ваше любопытство?
В «Утраченное время», где сидели Виктор и Жозеф, ввалилась толпа голодных грузчиков, распространяя вокруг себя запах мокрой псины.
— На улице льет как из пожарного шланга, — пожаловался один из них. — Я бы согрелся рюмочкой сивухи.
— У нас такого не подают, — отрезала хозяйка заведения.
— Ну тогда кофе и анисовку, ежели ваша светлость не возражает, — подмигнул грузчик.
— Вот что, дорогой совладелец и коллега, — продолжил Жозеф, — я тут набросал факты. — Он протянул Виктору блокнот.
1. Падение с лодки в воду. Тони Аркуэ, кларнетист. Дворец Гарнье.
2. Падение по причине недомогания на сцене. Ольга Вологда, балерина. Дворец Гарнье.
3. Падение виском на бордюр. Жоашен Бланден, скрипач. Дворец Гарнье.
4. Падение в открытый люк. Аженор Фералес, инспектор сцены. Дворец Гарнье.
Итог: одно вероятное отравление и три смерти, похожие на несчастные случаи.
— По-моему, тут действует злой умысел, — подытожил Жозеф, когда Виктор прочитал.
— Напомните, как зовут того оповестителя…
— Мельхиор Шалюмо. Я мог бы с ним повидаться сегодня на похоронах Аженора Фералеса, но Кэндзи неизвестно где пропадает — мне придется весь день торчать в «Эльзевире», и вам тоже. Наверстаем упущенное завтра или в понедельник — надо будет допросить Ламбера Паже и Анисэ Бруссара. Разыграем их в орла и решку?
— Выбирайте кого хотите.
— Тогда чур владелец скобяной лавки мой. По крайней мере известно, что он обретается где-то на улице Вут. А Ламбера Паже придется караулить у дворца Броньяра,
[809] вот уж узнаете, каково это — преследовать незнакомых буржуа! Если хотите знать мое мнение, наилучший метод — обшарить все забегаловки в округе.
— Что вы вкладываете в понятие «буржуа»?
— Ну, для кучера на фиакре это пешеход, для военного — тыловая крыса; для художника — дурень набитый, который ничего не смыслит в живописи и готов выложить стопку банкнот за какой-нибудь закат на озере Бурже; для крестьянина — владелец поместья, где он горбатится; для работяги — спиногрыз…
— А для вас, Жозеф?
— Для меня это клиент, покупающий книгу не для того, чтобы ее прочитать, а только потому, что ее расхвалили в газете.
— А я — буржуа?
— Вы — фотограф.
— Ага, значит, глаз у меня наметанный, я умею подмечать детали и позволю себе напомнить вам, что Ольга Вологда сбежала из Парижа.
— Вы ее подозреваете?
— Еще как!
Все столики в «Утраченном времени» уже были заняты. Хозяйка устала держать над чашками кофейник, а служанка Лулу — сыпать в чашки сахар и на пол свежую солому, которая тут же промокала под грязными ботинками посетителей.
— Предупреждаю, господа, меня не интересуют ваши рекомендации, что читать, что не читать. Я и так точно знаю, что мне нужно.
Мужчине, вошедшему в книжную лавку «Эльзевир», было за шестьдесят. Толстый, приземистый, со здоровым цветом лица, седоватыми бакенбардами и импозантными усами офицера колониальных войск. Костюм в клетку полнил его еще пуще.
— Господа, вы имеете дело с Алистером Пейлтоком, подданным Йорка, Великобритания, борцом с загрязнением городской окружающей среды. Привел меня к вам не Святой Дух, но госпожа Эванджелина Бёрд, выдающаяся прорицательница, находящаяся проездом в Париже. Она предсказала, что мне удастся завладеть редчайшей жемчужиной, каковой недостает в моей коллекции, если я отправлюсь в книжную лавку под названием «Эльзевир». И вот я здесь! До беседы с госпожой Эванджелиной я потратил впустую уйму времени на общение с вашими коллегами — ни один не смог мне помочь, а потому, прежде чем изложить вам свое дело, позвольте испытать ваши познания в области литературы, дабы сохранить мое терпение. Премного сомневаюсь, что вам известен автор следующих строк: «И выросли города бесчисленные, огромные, в дыму. Зеленая листва увяла, загубленная жарким дыханием печей. Прекрасный лик Природы исказился, словно под воздействием отвратительного недуга…»
Оторопевший Жозеф незаметно для посетителя покрутил пальцем у виска, но Виктор с видом примерного ученика выступил вперед:
— Сдается мне, что это отрывок из произведения Эдгара Аллана По под названием «Беседа Моноса и Уны», опубликованного в тысяча восемьсот четырнадцатом году. Я читал его в детстве.
— Месье, мои поздравления! А теперь назовите цену.
— Увы, это действительно редчайшая жемчужина. Оставьте ваш адрес, и когда мне удастся ее разыскать, я вас извещу. Пока же могу предложить вам книгу Жана Рамо, если вы…
— Жана Рамо? Название?
— Это опубликованная отдельно десять лет назад часть «Фантасмагорий» — «Отравления в двадцать первом веке».
— Она у вас есть?
— Жозеф, полка «Науки», на букву «Р».
Алистер Пейлток выхватил томик из рук Жозефа и громко прочитал:
— «К тысяча девятьсот тридцать четвертому году французы, коих медленно травят поставщики продуктов и тошнотворные испарения, накрывшие Париж, а затем и всю Францию…» Беру ее, месье, беру, давно искал. У вас есть еще что-нибудь на эту тему?
— Возможно, вам придется по сердцу Альбер Робида, хотя о будущем он рассуждает все больше в юмористическом ключе. Могу посоветовать вам «Двадцатый век» — сочинение, в котором он излагает свое представление о повседневной жизни с тысяча девятьсот пятьдесят второго по пятьдесят девятый год.
— Добавьте это к списку моих покупок. Не затруднит ли вас доставить книги в дом двенадцать по бульвару Мальзерб? Кто-нибудь из домашних рассчитается с вами на месте. И как только раздобудете издание По, вы мне сообщите? — уточнил Алистер Пейлток, уже двинувшись к выходу.
— Непременно.
Едва дверь за посетителем закрылась, Виктор рявкнул:
— Чтоб мне провалиться ко всем свиньям, если я не раздобуду этого По!
— К свиньям провалиться? — изумился Жозеф. — Куда это?
— Ну да, да, — вздохнул Виктор, — эта история с пряничными свинками никак не идет у меня из головы. А что, если Эдокси права? Что, если в свинках было какое-то токсичное вещество, что-то вроде сильного снотворного, которое затормаживает рефлексы?
— Вот дела! Это я напал на след, я поднял зайца, я несколько дней пытаюсь вас убедить, что все три смерти не случайны, а вы мне тут преподносите это как собственный вывод?!
— Знаю, знаю, Жозеф, первооткрыватель — вы, но мне надо убедиться в истинности наших умозаключений. Не злитесь, мы же напарники, и главное для нас — результат, верно?
Зазвенел колокольчик на двери, и в лавку вошла Матильда де Флавиньоль.
— Ах, месье Легри, какое удовольствие вас видеть! Отныне и впредь Сара Бернар не дождется моих аплодисментов! Представляете, она заявила, что велосипедисты провоцируют опасные ситуации и даже несчастные случаи!
Виктор проворно метнулся к запасному выходу, бросив на ходу:
— Здравствуйте, мадам. Жозеф, я отлучусь на четверть часа — куплю свежую «утку» и наведаюсь к букинистам из галерей «Одеона». Я почти уверен, что видел у них «Беседу Моноса и Уны» на английском. Наша касса скоро станет полным-полна. Good bye!
— Неплохо придумано, — сердито пробормотал себе под нос Жозеф, — тебе «утку», а мне тетеньку. Как я от нее теперь избавлюсь?
— Месье Пиньо, — не замедлила завязать разговор Матильда де Флавиньоль, — почему ежедневные газеты называют «утками»?
Жозеф в отчаянии облокотился на конторку.
— Все началось с памфлета времен Революции, мадам. Он назывался «Про утку, коя съела пятерых своих соплеменниц и была съедена полковником».
— Чушь какая-то!
— Это точно. Но отсюда у нас пошел обычай называть «утками» сначала неправдоподобные истории, затем газеты, их публикующие, а потом и всю прессу.
Жозеф клокотал от ярости. Полчаса назад ему в голову пришла блестящая идея по поводу романа «Демоническая утка» — он собирался использовать в нем недавно вычитанную в газетах всякую всячину. Продолжая рассеянно отвечать на вопросы мадам де Флавиньоль, молодой человек полистал тетрадь, куда наклеивал вырезки.
Любители прогулок в Венсенском лесу оплакивают смерть двух уток-мандаринок. Птички, предвестницы весны, должно быть, отравились каким-то ядовитым веществом. Неужто в наши дни есть злонамеренные граждане, способные на хладнокровное убийство невинных лапчатоногих?
И забыв о посетительнице, Жозеф, пока вдохновение не покинуло его, принялся строчить в блокноте:
Демоническая утка клювом опрокинула флакон, и крысиный яд просыпался в канализационный люк, под которым в лужице дождевой воды плескались два голубка — Леонида и Сигизмунд. И вот…
— Пресвятая Глокеншпиль! — воскликнул он вдруг, выронив перо. — Об этом-то мы не подумали! Нужно срочно проверить!
Виктор между тем уже вернулся и, незаметно прокравшись через торговый зал, направлялся к подсобному помещению. Жозеф деловито поручил мадам де Флавиньоль присмотреть за хозяйством, чем немало ее озадачил, и бросился за Виктором.
— Парижская фондовая биржа отменяется, дорогой шурин! Завтра мы идем в Венсенский лес. Кэндзи будет метать громы и молнии, но я знаю, как его унять: мне поможет какое-нибудь сочинение месье Куртелина, найду у него предлог улизнуть так, чтобы гроза меня не накрыла.
— Жозеф, вы ставите меня в тупик. Какая связь между месье Куртелином и вашим намерением избежать праведного гнева Кэндзи?
— Вы не читали пьесу «Господа бюрократы»? Какое упущение, непременно прочтите. Это история клерка из Ведомства дарений и завещанного имущества, который вечно опаздывает на службу. Всякий раз ему приходится оправдываться перед начальством, и он рассказывает о том, что, дескать, потерял то зятя, то тетушку, то дядюшку, то мать, то отца, при этом сестрица у него по два раза в год выходит замуж и каждые три месяца рожает первенца. В итоге он якобы все время страшно занят то похоронами, то свадьбами, то крещением младенцев своих многочисленных родственников.
— И нечто подобное вы собираетесь поведать Кэндзи? Полагаете, этот бред его убедит? Кстати, а что мы будем делать в Венсенском лесу?
— Расследовать непреднамеренное убийство уток-мандаринок!
Суббота, 10 апреля
Виктор и Жозеф, сидя за столиком лицом к озеру Францисканцев, где флотилия рыбацких суденышек оборонялась от арендованных отдыхающими лодок, потягивали вермут с ликером из черной смородины и старались отделаться от воспоминаний о разговоре с Кэндзи. Искаженное яростью лицо японца так и стояло у обоих перед глазами. Нет, о том, что сегодня Виктор не появится в лавке, было условлено заранее, хотя суббота — самый удачный день для торговли. Но вот когда Жозеф заявил, что должен немедленно доставить Жоржу Куртелину набор почтовых открыток, прославляющих благородные деяния шевалье Баярда, чаша терпения месье Мори переполнилась…
— Уверяю вас, патро… то есть месье Мори, месье Куртелин велел мне принести ему открытки сегодня в «Неаполитанца» ровно в час.
— Советую вам избавиться от этого бремени в рекордные сроки. Даю вам сорок пять минут максимум, ясно? — прошипел Кэндзи в лицо Жозефу.
А Виктор шепнул ему на ухо, когда сыщики-любители покидали «Эльзевир»:
— Мы же не успеем. И какой предлог еще у вас найдется?
— О, в Париже проблем хватает на каждом шагу, — беспечно отмахнулся молодой человек. — То фиакр собьет пешехода — и пожалуйста, затор, то телега с капустой перевернется, и tutti quanti.
[810] Бежим!!!
Вот как они оказались на террасе «Кафе-ресторана у Желтых врат» в Венсенском лесу и вот почему решили утешиться превосходным обедом, поданным гарсоном в белом фартуке. На столике перед ними расположились моллюски-литторины, устрицы из Марена в шабли, баранина с зеленой фасолью, кувшин легкого красного вина, «снежки» и кофе.
— Со «Сливовым деревом» или «Парижским кафе» это заведение, конечно, не сравнится, но в общем недурно, — признал Виктор, выдавая гарсону щедрые чаевые, и осведомился: — Как вас зовут?
— Никефор Бёзи, можно просто Ник, — ответил тот.
— Уважаемый Ник, мы с коллегой репортеры, интересуемся несчастным случаем, который произошел двадцатого марта. Вы видели, как на озере утонул человек?
Ник поскреб макушку, отчего с нее посыпалась перхоть, и прищурился.
— Ну, если вы о том самом утопленнике, так я мало что знаю, меня тут вообще не было из-за свекрови — угораздило ее навернуться со стремянки, не убилась, зато перепугала всех, с утра до ночи с ней носились. Но Рауль кое-что занятное порассказал.
— Рауль? Ваш коллега?
— Ну да, Рауль Годрон, он в отпуске до завтра. Так вот Рауль говорил, что перед тем как этот калар… крал… музыкант, короче, забрался в лодку, ему вручили пряничную свинку в оберточной бумаге с ленточкой, а на свинке было написано его имя — «Тони». Кра… музыкант бумажку развернул и прочитал вслух послание: «Съешь меня от пятачка до копыт — будешь удачлив, весел и сыт». Раулю до того понравилось, что он даже слова записал, чтобы при случае что-нибудь этакое подарить подружке и приписку такую же сделать, ну, только изменить слегка: «Съешь меня от пятачка до хвоста — будешь удачлива, весела и сыта».
— Он последовал указанию?
— Кто, Рауль? Какому?
— Да нет же, кларнетист.
— Ну, не совсем — отъел половину, а остальное в карман засунул.
— Кто вручил ему подарок?
— Никто, свинку нашли на стойке в зале и отдали кулар…
— Кларнетисту.
— Ага.
— А про мандаринок, которых мертвыми из пруда достали, вы что-нибудь слышали? — вмешался в разговор Жозеф.
— Это вам к папаше Астико надо, он в птичках души не чаял. Найдете его вон там — сидит на раскладном стуле с удочкой, ловит мелочь всякую.
Рассудив, что больше ничего полезного из парня вытрясти не удастся, Виктор и Жозеф оставили его на растерзание ввалившемуся на террасу многочисленному семейству, которое Ник встретил поклонами и расшаркиванием и принялся рассаживать, без умолку щебеча: «Честь имею, мадам Робишон», и «Рад вас видеть, месье Робишон», и «Как поживают юные месье и мадемуазель Робишон?»
Одинокий посетитель в надвинутой до бровей шляпе занял место за соседним столиком, заказал сливовую настойку и осведомился, где тут можно вымыть руки.
Папаша Астико сообщил, что терять друзей — это ужасно печально.
— Кларнетист был вашим другом? — сочувственно спросил Жозеф.
— Кто? Утопленник? — удивился папаша Астико. — Знать его не знаю. Одним дурнем на земле меньше стало, и ладно. Не надо было так руками размахивать в лодке. Нет, мне уточек-мандаринок жалко. Мы с женой каждое воскресенье приносили им крошки от печенья. Вы бы видели, как они радовались, как забавно задирали хвостики, ныряя за угощением… А теперь их души парят где-то в стратосфере… Мы с женой даже имена им дали: Фризик и Бобом.
— Когда случилось несчастье?
— В воскресенье, двадцать первого. Дату я запомнил, потому что в тот день мы повели старшенькую к первому причастию. Она у нас косенькая от рождения, чуть не опрокинула дароносицу, толкнула кюре — просвиры по полу раскатились… Мы все со смеху полопались. А после обеда катались на лодке, тут младшенькая как завизжит… Я смотрю — мандаринки кверху брюхом в воде плавают, в метре от того места, где накануне дурень захлебнулся. Вот такая злая судьба… Бедные Фризик и Бобом!
— Ни при чем тут судьба, я так скажу, — вмешался служитель лодочной станции, который давно прислушивался к разговору, и видно было, что он тоже не прочь поболтать. — Это чей-то злой умысел. А ежели такое случается, все в первую очередь меня винить начинают, потому что, видите ли, я тут деньги зарабатываю и всякий сброд на лодках катаю. Вообще-то, папаша Астико, рыбалка здесь теперь запрещена, ну да ладно, рыбачьте, что мне из-за башмака и пары колюшек скандал устраивать…
— А почему рыбалка запрещена? — спросил Виктор.
— Да санитарные службы всполошились — считают, что мандаринки могли сдохнуть от какой-нибудь заразной болезни… Нет, это кем же надо быть, чтобы извести птичек, которые украшают собой панораму!
— Вы уверены, что уток убили?
Служитель принял плату за лодочную прогулку у очередных желающих покататься и после этого степенно ответил:
— Мой зять служит в полиции. Так вот он говорил, что в ветеринарной лаборатории проверили содержимое желудков погибших уток и нашли там ядовитое вещество. Очевидно, в пруду этой дряни больше не осталось, раз рыба не всплывает, так что ресторан может не бояться дурной рекламы, а то подобные слухи коммерции не способствуют.
— Что за ядовитое вещество?
— Понятия не имею, — пожал плечами лодочник. — Так или иначе, наши мандаринки не от старости умерли. Ну попадись мне в руки этот ненормальный…
— Кстати о ненормальных. В тот день, когда утонул кларнетист, вы не видели поблизости человечка очень невысокого роста?
Папаша Астико с подозрением окинул взглядом сначала Жозефа, задавшего вопрос, затем Виктора:
— А что, тот коротышка — ваш приятель? Он меня заболтал до смерти — я уж не знал, как от него отделаться, а потом видел, что он клеился к новобрачной, мужа ее до белого каления довел.
Виктор и Жозеф оставили наконец свидетелей в покое и, вернувшись на террасу ресторана, уселись неподалеку от семейства Робишон утолить жажду.
— Ну, Виктор? Вы думаете о том же, о чем я? Тони Аркуэ с половинкой ядовитой пряничной свиньи в желудке умер не сразу, но ему стало дурно и он не смог удержаться на поверхности озера. Вторая половинка свиньи выпала у него из кармана в воду, на следующий день ею полакомились мандаринки — и отправились на тот свет вслед за кларнетистом. Но мы с вами единственные, кто знает о смертоносной роли пряничных свинок в этой истории.
— И у нас нет ни одного прямого доказательства.
— Зато есть косвенные. Три человека и два пернатых водоплавающих умерли, отведав пряничной отравы: Тони Аркуэ, Жоашен Бланден, Аженор Фералес, Фризик и Бобом. Повезло только Ольге Вологде, которая откусила маленький кусочек.
«Демоническая утка полюбовалась безжизненными телами Леониды и Сигизмунда, после чего, издав сардоническое „кря-кря“, заковыляла прочь. Ее месть свершилась», — мысленно сочинил Жозеф и расстроился оттого, что не прихватил с собой ни пера, ни блокнота.
— Завтра воскресенье, — сказал Виктор, — я обещал Таша прогуляться вместе с ней. Но в понедельник я непременно наведаюсь в Опера и найду там Мельхиора Шалюмо — он присутствовал при каждом несчастном случае… то есть на месте каждого преступления.
— Нет, в день смерти Аженора Фералеса его никто не видел.
— Но мы не знаем наверняка, что его там не было. Он мог где-нибудь затаиться. Этот Шалюмо — гордиев узел всего дела. Встречусь с ним — разгадаю загадку.
— С моей помощью, дорогой зять.
«И с моей, господа, и с моей», — подумал инспектор Вальми, ловко уклоняясь от обстрела гороховыми снарядами из ложек-катапульт — малолетние Робишоны вели по нему прицельный огонь. К заказанной еде он едва притронулся, но сполна расплатился по счету, тщательно вытер руки салфеткой, надел замшевые перчатки и, обходя лужи, направился к папаше Астико, лениво болтавшему с лодочником.
— Полиция, друзья мои. Ай-яй-яй, закон нарушаем? Рыбку удим, пассажиров катаем, несмотря на запрет? Я сделаю вид, что ничего не заметил, если вы поведаете мне суть вашей беседы вон с теми господами.
— Мы добропорядочные граждане, всегда готовы к сотрудничеству! — заверил служитель лодочной станции.
— Я весь внимание, — кивнул инспектор Вальми, стараясь уберечь лаковые туфли от прибрежной грязи.
— Вот уж Кэндзи мне устроит! Этот фиакр ползет как черепаха. И сиденья тут жесткие, у меня поясница болит. Будущим отцам нужны комфортные условия. Эх, поспать бы сейчас, поничегонеделать!
— А не доводилось ли вам, Жозеф, читать о чудесной стране, где жили медноликие люди с узкими темными глазами? Зардандан — так называлась эта провинция империи великого хана. Там мужчина, после того как его жена разрешалась от бремени, в течение сорока дней не вставал с постели и все это время сам заботился о младенце. У них считалось, что отец тоже должен страдать, поэтому существовала такая справедливая традиция.
— Где вы эту чушь вычитали, Виктор?
— В «Книге о разнообразии мира» Марко Поло.
Джина чувствовала себя виноватой, но едва увидев Таша, спящую в алькове — на боку, кулачок прижат к губам, как когда-то в детстве, — она тотчас забыла о своих терзаниях и преисполнилась нежности к милому Рыжику. Присев рядом с дочерью, Джина отогнала Кошку, которая немедленно заворчала и выгнула спину.
— Мама, это ты? — сонно пробормотала Таша.
— Я о тебе беспокоилась. Как ты себя чувствуешь?
Таша села на кровати и засмеялась:
— Как кит, который мечтает станцевать вальс, но у него получается только бурре.
[811] Хочешь чаю?
— Не вставай, я сама приготовлю. Я купила плетенки с изюмом и сырные пирожные.
— Я и так толстая, толще некуда. Знаешь, кого мне больше всех не хватает? Рахили! Вот бы взмахнуть волшебной палочкой — и чтобы мы оказались здесь все вместе: моя сестренка, ее муж и их сыночек Маркус, которого я видела только на фотографии. А от папы есть новости?
— Пинхас стал большим человеком. Со своим ирландским партнером открыл синематографический салон на Западном Бродвее — понятия не имею, где это, но думаю, что квартал респектабельный и доходный. Зал рассчитан на сто пятьдесят зрителей. Они заключили арендный договор на пять лет, переманили у мистера Эдисона пианиста, который подбирает музыку к картинкам, мелькающим на экране, и двух механиков. У них каждый день аншлаги. Твой отец становится заправским капиталистом — вот ведь причуда судьбы…
— Мама, а ты счастлива?
— Понимаешь, я… О, мне так неловко об этом говорить!
— Почему неловко? Что тебя мучает? Твои отношения с Кэндзи? Мамочка, несмотря на ваши с ним конспиративные хитрости, все вокруг знают, что происходит, и все за вас радуются.
— Боже, мне почти пятьдесят, я скоро стану бабушкой, я русская еврейка, а он японец…
— О нет, только не надо расовых теорий, проповедуемых месье Дрюмоном
[812] и его присными! Ты любишь Кэндзи, он любит тебя — все очень просто. И велика ли важность, что «скажут люди»? Думай о себе и о нем… А где же чай и обещанные плетенки с изюмом, где сырные пирожные?..
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Понедельник, 12 апреля
Угрюмое холодное небо, с самого рассвета злонамеренно копившее над Парижем тучи, сдержало обещание: пошел снег. Виктор не рискнул ехать на велосипеде и поднялся на империал битком набитого омнибуса. Оттуда он вскоре и увидел Биржевой дворец, похожий на фигурный торт. Ассоциация тотчас вызвала чувство голода — Виктор встал рано, так что позавтракал давно. Спустившись с империала на остановке, он пробрался между писсуаром и припаркованными транспортными средствами биржевых посредников, и остановился перед перистилем
[813] — архитектурным излишеством дворца Броньяра, которое сегодня показалось ему особенно отталкивающим.
— Золотой телец твердо стоит на четырех копытах. Впрочем, молчу, молчу — все-таки мне удалось здесь без труда продать пакет облигаций, полученных в наследство от отца, и квартира на улице Фонтен куплена именно на эти деньги. Ох, кажется, я говорю вслух, — спохватился он, поймав на себе насмешливые взгляды молоденьких цветочниц.
Виктор побродил по импровизированному рынку: за окружающей дворец решеткой толпились в основном женщины с кошелками, все пытались продать за несколько франков пакеты акций, упавших в цене до нулевой отметки. Когда-то за этими акциями охотились, беспощадно сражались, чтобы ими завладеть, а теперь в них только и осталось ценного, что сама бумага. Однако и на такой товар находились покупатели — ушлые негоцианты, намеренные объявить себя банкротами, приобретали обесценившиеся акции, чтобы предъявить их в доказательство своей финансовой несостоятельности. И нередко такие фокусы приносили положительные результаты. Виктор понаблюдал за сутолокой и редкими актами купли-продажи, и подумал, что в отличие от удалившихся от дел буржуа, отставных военных и неудачливых политиков — основных посетителей дворца Броньяра, — эти господа негоцианты ходят на Биржу как в цирк, в театр или на скачки. Они прогуливались с важным видом, пыхтели сигарами и сыпали понятными только местным завсегдатаям словечками, обсуждая падение Тюрбана, прекрасное самочувствие Баронессы и попутный ветер для Кораблика.
[814]
Капиталовложения! Ни одна газета, ни один журнал, даже для домохозяек, ни единый политик не забывали прославлять выгоды, которые несет правильное размещение средств. Возмутители общественного спокойствия заявляли, что это лучший способ укрепить цепи рабства, держать в повиновении тех, кто расстается со своими финансами. Но капиталистам дела не было до обличительных речей, они продолжали заваливать рынок такими привлекательными новинками, как, например, «зубная паста с небывалым запахом». Названия у бесчисленных товаров были непременно экзотические, навевавшие грезы о дальних странствиях и землях, усыпанных драгоценными каменьями, — «Сарагосса», «Ломбардия», «Рио-Тинто», «Тихоокеанский берег»…
Виктор пересек дворик, обнесенный прямоугольной колоннадой и очень похожий на монастырский, поразглядывал серые фрески в стиле ампир, покосился на шумную толпу у входа в храм финансов, прошел мимо «черной биржи» — сборища посредников, которые спекулировали бумагами, не прошедшими котировку, и каждый день становились причиной скандалов, не вызывая при этом ни малейшего интереса со стороны караульного в кивере и при оружии. Снежные хлопья мокрыми поцелуями ложились на щеки и шеи биржевых игроков.
На раскладном стуле, привалившись спиной к балюстраде, скучал старик в ветхом котелке. Он продавал ценные бумаги по два су, но торговля не ладилась. Виктор наклонился к нему:
— Вы не знаете человека по фамилии Паже? Ламбер Паже?
— А как он выглядит, этот ваш Паже? Высокий, низенький, тощий, жирный?
— Не знаю.
— А интересы у него в нашем деле какие?
— Не имею представления.
— Тогда проваливайте. Ежели кто берется выслеживать человека и при этом ничего о нем не ведает, так это только шпик может быть. А я шпиков на дух не выношу.
— Быть может, вы согласитесь сказать, где его найти, за вознаграждение?
— Вот это другой разговор, братец. Вон там куча кабаков и забегаловок, вечно битком набитых местным народцем, особенно в это чертово время дня, авось там его отыщете. Эх, печурку бы мне сюда, и жизнь стала бы сносной!
Виктор дошел до перекрестка замысловатой конфигурации, откуда брали начало улицы Вивьен и Реомюр, проскользнул между автомобилями-купе и лимузинами, миновал здание «Гавас»,
[815] окруженное скромными бутиками, и добрался до улицы Катр-Септамбр. Он решил начать обход «кабаков и забегаловок» с ресторана «Шампо». Это старое заведение, соседствующее с «Аркадным кафе» и филиалом компании «Османский табак», привлекало зажиточную клиентуру — состоятельные биржевые игроки заходили туда перекусить в разгар торгов.
— Одна куропатка с хрустящей корочкой, одна! Полбутылки «Святого Евстахия»! — надрывались половые.
Туда-сюда сновали посыльные, доставляя посетителям новости о ходе торгов. Завсегдатаи откладывали вилки, что-то подсчитывали на салфетках, посыльные галопом уносились прочь. В этой суете Виктору не без труда удалось раздобыть скудные сведения. Одна из кассирш, брюнетка не первой молодости, сказала ему, что месье Паже только что перебрался в другое заведение с приятелями.
— Подождите меня — в три часа я освобожусь, к этому времени торги на Бирже заканчиваются и зал пустеет, так что у меня будет перерыв, и мы вместе пройдемся по окрестностям в поисках вашего знакомого, — кокетливо улыбнулась она.
Виктор спешно покинул «Шампо». Он впустую обошел несколько других шикарных ресторанов — «Бребан», «Ноэль», — пробежался мимо ювелирных магазинов, обувных бутиков, ателье, за кричащими вывесками которых не было видно фасадов, вернулся обратно и приступил к внутреннему осмотру пивных, закусочных и кафе, облюбованных экспертами в области капиталовложений и спекулянтами без особых амбиций. Он обследовал винные лавки на пересечении улиц Реомюр и Нотр-Дам-де-Виктуар — безрезультатно. Наконец в небольшом бистро, заполненном клубами сигарного дыма и носившем помпезное название «Острова удачи», хозяин за стойкой указал ему на сухопарого мужчину с львиной гривой:
— Вон ваш Паже, тот рыжий тип за столиком с тремя толстяками.
Виктор тотчас уселся по соседству, заказал телятину с капустой и принялся с аппетитом есть, исподтишка поглядывая на Ламбера Паже. Блеклые голубые глаза, аристократическая бледность и буйная, морковного цвета шевелюра выдавали в нем британца, но, прислушавшись, Виктор уловил типично парижские интонации, а навострив уши, узнал, что с первых шагов по лабиринтам транзакций Ламбер Паже не ленился бывать и на подступах к улице Вивьен — изучал общественное
мнение и завязывал дружбу в политических кругах. Как и тысячи ему подобных, он воспринимал окружающую реальность под тем углом зрения, который диктовала его собственная позиция на бирже в данный момент.
— Послушайте-ка это, друзья мои, — сказал один из трех толстяков, читавший газету. — «В тысяча восемьсот девяносто шестом году прибыль табачной монополии составила триста одиннадцать миллионов восемьсот семьдесят девять франков»!
— А шведские спички сколько принесли? — поинтересовался второй.
— Хочешь меня подловить? Не выйдет. Двадцать миллионов сто пятнадцать тысяч девятьсот тридцать три франка!
— Какая проза! — возопил Ламбер Паже. — Биржу не зря сравнивают с термометром. Цифры, цифры, цифры — всегда и везде, будто мир состоит только из них. В ресторанных счетах и то больше поэзии — смотрите, просто кулинарные вирши.
— Главное, чтобы на эти вирши финансы не запели романсы в наших кошельках, — громко заметил Виктор и заслужил одобрительный смех со стороны компании. — Прошу прощения, что вмешиваюсь в вашу беседу, господа, — продолжил он, — но я неофит на Бирже, и терминология экономических статей порой ставит меня в тупик. По-моему, без диплома Сен-Сир
[816] во всех этих отчетах о повышениях и понижениях курса бумаг и вовсе не разобраться. Я бы хотел поучаствовать в биржевых играх, но будучи простым книготорговцем, ничего в этом не смыслю…
— Полноте, месье, — усмехнулся Ламбер Паже, — даже пятилетний ребенок легко усвоит базовые принципы этого рода деятельности. Допустим, вы хотите заняться спекуляциями и у вас есть подозрение, что акции, скажем, Газовой компании скоро пойдут на понижение. Сейчас они стоят пятьсот франков. Вы находите покупателя и заключаете контракт на продажу десяти акций с отсрочкой — это значит, что предоставить предмет сделки вы обязаны не раньше, чем через месяц. Разумеется, этих акций у вас и в помине нет. Через несколько дней ваши подозрения подтверждаются: цена на акции Газовой компании падает до четырехсот франков. И вы покупаете десять штук. А по прошествии месяца продаете их по цене, указанной в контракте, то есть по пятьсот франков. Разницу кладете себе в карман — десять раз по сто франков.
Лекция Паже вызвала гром аплодисментов, один из толстяков посоветовал оратору основать школу, где будут преподавать основы искусства транзакций.
— Так просто? — изумился Виктор. — Вот так, без труда, можно получить тысячу франков? Знаете, по-моему, вся ваша Биржа — грандиозное мошенничество. Удивительное дело — бродяг и попрошаек государство преследует по закону, а сборище настоящих плутов паразитирует на нашей экономике совершенно безнаказанно!
Все четверо биржевых игроков, не ожидавшие такой провокации, гневно вскочили, загромыхав стульями. Три толстяка с оскорбленным видом двинулись к выходу.
— Месье! Вы, стало быть, из пролетарских баламутов? — возмутился Ламбер Паже. — Обманом вытянули из меня сведения! Я не потерплю!.. — Он швырнул банкноту на блюдце, где уже лежали деньги его приятелей, расплатившихся за обед.
— Уверяю, в мои намерения не входило вас обидеть! — воскликнул Виктор. — Если я совершил оплошность, то лишь потому, что я новичок в биржевых кругах и мое невежество порой заставляет меня неловко выражаться. Я и сам вкладываю деньги в государственные займы.
Эта попытка оправдаться ничуть не смягчила Ламбера Паже — наоборот, он еще пуще разозлился и устремился было за своими товарищами, но Виктор его остановил:
— Погодите же! Позвольте угостить вас десертом и дижестивом. Вы ведь месье Паже, не так ли? У меня для вас сообщение чрезвычайной важности. Не возражаете, если я пересяду за ваш столик? — Подозвав полового, он попросил две порции грушевого пирога и два бокала арманьяка.
— Я бы предпочел салат с потрохами и бокал белого бордоского, — вмешался Ламбер Паже.
Три толстяка, заскучавшие на тротуаре у витрины кафе, помахали ему руками, но быстро поняли, что приятель их бросил, и, пожав плечами, удалились.
— Я друг Ольги Вологды, — шепнул Виктор, доверившись интуиции. И с удовлетворением понял, что сделал верный ход.
— Ольги? Я удостоился чести быть представленным ей прошлой зимой на балу в Опера. — Ламбер Паже отправил в рот здоровенную порцию салата; на его усах остался след от майонеза.
— Вы давно с ней виделись в последний раз? — поинтересовался Виктор.
— Три недели назад. При трагических обстоятельствах, — ответил Паже, когда ему удалось прожевать и проглотить угощение. — А именно на свадьбе костюмерши из дворца Гарнье — Марии Бюнь, отныне Фералес. Нас пригласили в числе прочих знакомых. На праздновании произошел глупейший несчастный случай — один из гостей утонул. Мне до сих пор кошмары снятся. Он так забавно бултыхался в воде, звал на помощь — а мы смеялись, потому что там было совсем неглубоко и Бланден, скрипач, сказал, что Тони умеет плавать. Тони Аркуэ, кларнетист. Ах, ужасно, ужасно!.. — Взволнованный страшными воспоминаниями, Ламбер Паже схватил бокал вина, сделал добрый глоток — и подавился. Виктору даже пришлось похлопать его между лопаток, а то бедняга никак не мог прокашляться.
— Некоторое время спустя Ольга приболела, сейчас она поправляет здоровье на Ривьере, — сообщил ему Виктор.
Паже резко отодвинул бокал с вином:
— Ах, так вот почему она не отвечала на мои письма!
— Вы упомянули скрипача… Он тоже погиб — шел после концерта домой и неудачно упал на улице. Вы об этом знали?
Заметно побледнев, Ламбер Паже уставился на собеседника:
— Жоашен Бланден умер? Невероятно!
— Тем не менее это правда. А супруга Марии, Аженора Фералеса, оплакивали в прошлую среду: он провалился в открытый люк на сцене в кромешной темноте во время короткого замыкания и зашибся насмерть. Не читали об этом в газетах?
— Я читаю только биржевые сводки. Однако, сколько дурных известий…
— Сожалею, что нарушил ваше душевное спокойствие.
— Тони, Жоашен, Аженор… Словно какое-то проклятие!
— Вы знакомы с Мельхиором Шалюмо?
— С оповестителем? Встречал пару раз.
— Что вы о нем думаете?
— Премерзкий человечишка. Его заигрывания с малолетними балеринами отвратительны. Он что, причастен к трагедиям?
— Нет-нет. Вы случайно не получали от него пряничную свинку?
— Боже, да вы ясновидец! Не далее как позавчера консьерж действительно передал мне посылку — в ней была пряничная свинка. А при чем тут…
— Тони Аркуэ, Жоашен Бланден и Аженор Фералес получили перед смертью это лакомство на счастье. Но счастья оно им не принесло.
Ламбер Паже испустил вздох облегчения:
— Уф, я выбросил пряник в мусорную корзину. Мне нельзя сладкое — я диабетик. Да и твердый он был как камень — зубы поломаешь… Думаете, меня хотели убить? Но кому это могло понадобиться? И кстати, откуда вы столько знаете? Почему интересуетесь этими делами? Вы что, из полиции?
Виктор протянул ему визитку с домашним адресом:
— В отличие от меня полиция пока не заинтересовалась этими делами. Близкая подруга Ольги Вологды, княгиня Максимова, попросила меня провести тайное расследование. Позвольте осведомиться, где вы живете?
Ламбер Паже медленно вытер усы салфеткой.
— Простите мне эту осторожность, но свой адрес вам не назову. Если у вас возникнет необходимость со мной поговорить, я обедаю здесь по понедельникам и субботам. Ваш покорный слуга, месье.
…Полина Драпье поднималась по пустынному откосу. Дорога вела вдоль погоста, вокруг стояла тишина, даже ветра не было, лишь снег похрустывал под ногами девушки. Она настороженно остановилась — не подстерегает ли кто-нибудь? — постояла и продолжила путь. Слава богу, через неделю наконец-то можно будет перегнать фургон к Венсенским воротам, где готовится ярмарка, в деловитую суету, в сутолоку, к людям. Каждый раз, возвращаясь по пустырям к своему передвижному жилищу, Полина морщилась от боли — нервное напряжение сводило судорогой икры. Сколько дней она уже не спит? Убеждать себя в том, что тень в плаще с капюшоном не заметила ее в вечер убийства, было бесполезно — сразу вспоминались потерянные карточки бон-пуэн, и хрупкая уверенность в собственной безопасности разлеталась вдребезги. Фотограф в последнее время не появлялся, а с расследованием убийства Сюзанны Арбуа полиция не очень-то спешила.
Добравшись до своего фургона, Полина достала ключи, поднесла руку к замочной скважине — и замерла. Дверь была приоткрыта. Девушка толкнула створку, переступила порог, но тотчас попятилась. Чтобы не упасть от внезапной слабости, охватившей ее при виде того, что творилось внутри, пришлось даже ухватиться за косяк. Перевернутая табуретка задрала три ножки к потолку, тарелки валялись на кушетке, шкаф простирал распахнутые дверцы к двум новым свечкам, стоящим на пустой полке этажерки. Остальные полки тоже были пусты — книги грудой лежали на полу. Свечи горели, освещая прикнопленную к перегородке цветную картинку, вырезанную из иллюстрированного приложения к «Пти журналь»: старушка сгорбилась на стуле посреди неописуемого беспорядка, а вокруг нее стоят, сидят и бродят кошки. Третья свеча озаряла стол, на котором были разложены пять карточек бон-пуэн.
Это был не сон — если спишь, можно проснуться, и кошмар рассеется. Тень в капюшоне все видела. Она все знала с самого начала. Она нашла Полину.
«Чуднáя улочка — как будто находишься на дне оврага под железнодорожным мостом, не хватает только паровоза в клубах пара. О, а вот лестница как на Монмартре, только в миниатюре. Кто бы мог подумать, что за садами прячутся Венсенские ворота и широченная дорога к ним? Здесь так спокойно, словно в долине бурной реки, которой не видно и не слышно». Оказываясь в незнакомом уголке Парижа, Жозеф всегда чувствовал себя в душе путешественником Стэнли.
[817]
Улица Вут уходила налево. На ней меж двух газовых фонарей разместилась большая торговая лавка, боковые витрины которой украшали толстощекие ангелочки: один держал в руках метлу и лопату, второй — ведра и половые тряпки. Белые буквы вывески складывались в название: «Рай для домохозяек»; вход прикрывала черная тюлевая занавеска.
— Как здоровьечко, мадам? — услышал Жозеф высокий голос из полумрака.
— На ногах держусь — и ладно, месье Антельм, — прошамкала в ответ сгорбленная старушка, опиравшаяся на палку.
Жозеф тихо проскользнул в магазин, и в ноздри сразу ударил смешанный запах воска и ацетона. На полках выстроились флаконы, бидоны и пузырьки разной емкости, этикетки на них — «Саксолеин», «Полуденное сияние», «Вода Рафаэля», «Глянец Бюхлера», «Инсектицид Викат» — сплетались в изысканные вирши, которые высоко оценил бы любой поклонник верлибров.
— Так чего же изволите, мадам Марут? — спросили высоким голосом.
— Пятилитровый бидон «Люцилина» изволю, для керосиновой лампы, у меня такая, знаете ли, с желобками и краником впереди. И еще воска марки «Братья Томасэ» для швейной машинки — она совсем у меня потускнела, потому что Гару вечно на ней дрыхнет.
— Гару? Ваш родственник? Иностранец, что ли?
— Господь с вами! По-вашему, иностранцы на швейных машинках дрыхнут? Гару — это мой кот, он обожает «Зингер» и с тех пор, как я ею не пользуюсь, просто не слезает оттуда. Я только и делаю, что счищаю с нее шерсть, а лак на дереве и вовсе стерся.
Несмотря на скудное освещение, Жозефу удалось разглядеть хозяина скобяной лавки — со старушкой, угодливо улыбаясь, беседовал мужчина лет тридцати в серой блузе. Темная растительность на его лице с трудом скрывала щедрую россыпь прыщей, а в медоточивом голосе, предназначенном для клиентуры, то и дело проскальзывали язвительные нотки.
Мадам Марут наконец удалилась, нагруженная покупками так, что палка ходуном ходила под рукой.
— Месье Бруссар, полагаю? — подступил к хозяину лавки Жозеф. Вероятно, в легендарном вопросе Стэнли: «Doctor Livingstone, I presume?»
[818] прозвучало в свое время не меньше энтузиазма.
Торговец потер руки с таким видом, будто приготовился продать ему весь ассортимент.
— Полюбуйтесь нашим механическим противнем — модели новее вы нигде не найдете! — сразу приступил он к делу. — А вот, извольте, универсальная газовая плита — это же восторг, а не плита. Ежели хотите угодить супруге — покупайте без колебаний, здесь до того низкие цены, что люди проходят; тысячи километров, лишь бы у нас отовариться!
Жозеф подумал, что Эфросинья лопнет от восторга, если ей подарить такой агрегат, и мысленно поклялся потратить на него часть авторского гонорара. Он попытался вступить в разговор, но владелец лавки не оставил ему ни малейшего шанса:
— За весьма умеренную плату можем предложить вам прекрасные кофемолки, каждый приобретатель кофемолки получает в подарок мешочек кофе «Плантатор из Каиффы». У нас также большой выбор американских кастрюль и котелков, электрических кипятильников и… А взгляните только на этот умывальник с колонкой! Крепите его к стене, над ним подвешиваете зеркало, и тем самым доставляете неземное блаженство любой дамочке. Все дамочки — кокетки, их непременно обрадует возможность совершать утренний туалет, любуясь своим отражением! Если же вам посчастливилось стать отцом, мы располагаем богатейшим ассортиментом детских колясок. А может, вы владелец дома с палисадником? Тогда наша архимедова машина для стрижки травы станет для вас истинным спасением — ни один сорняк от нее не ускользнет…
— Вы месье Бруссар? — прервал это словоизвержение Жозеф. — Антельм — ваше второе имя, да? Я думал, вас зовут Анисэ.
Торговец тотчас помрачнел, его голос понизился на октаву:
— Мой дядя Анисэ в отлучке. Он отправился на ежегодный съезд владельцев скобяных лавок, его в этом году выбрали председателем. А затем в Гавр — нанести визит родственникам покойной супруги.
— Он овдовел?
— Вы разве не заметили траурный полог на входе?
— Я думал, это элемент декора.
Антельм Бруссар хрустнул пальцами.
— Хорошенький декор! Моя бедная тетушка умерла девять дней назад. Подавилась и задохнулась, представляете? В мгновение ока все произошло. Едва ее похоронили, убитый горем дядюшка получил известие о том, что удостоен коллегами большой чести возглавить ежегодный съезд, на котором будут обсуждаться перспективы электрического утюга марки «Карпентер» и безопасной механической бритвы — эта бритва, якобы, вот-вот произведет революцию в цирюльном деле. Вот оно, профессиональное признание!
— Вы сказали, тетушка подавилась? Неужели рыбьей костью?
— Нет, пряничной свинкой.
— Не может быть! — выпалил Жозеф.
— Могу поклясться. Посинела враз — и брык! Смерть от удушья. А считается, что эти пряники приносят удачу…
— Очень необычная смерть! А откуда взялась эта пряничная свинка?
— Какой-то человечек, от горшка два вершка, принес посылку. Предназначалась она, вообще-то, моему дядюшке, но он не ест пряники, а тетушка была та еще сладкоежка, не смогла удержаться… Уж дядя чего только ни делал, чтобы она снова задышала — всё впустую. Потом за врачом послали, невзирая на расходы, но было уже поздно — преставилась. Дядюшка от горя свинью эту пряничную растоптал в месиво и порвал записку, которая к ней прилагалась, голубой ленточкой была привязана. Так убивался, бедняга, совсем обезумел! Месье кюре пообещал, что святой Антоний непременно позаботится о его Берте.
— Почему святой Антоний? — удивился Жозеф.
— Святой Антоний Египетский, тот, что подвергался искушениям. Его часто рисуют со свиньей на веревке.
— Так значит, он в отъезде?
— Святой Антоний?
— Ваш дядя.
— Ну да, дела есть дела. «Торговля должна идти полным ходом, иначе мы все в землю врастем», — так тетушка говорила. А дядюшка сказал: «Берта отправилась в последнее путешествие, ну и я в путь-дорогу двинусь, так мне будет казаться, что я ее сопровождаю, это меня немного утешит».
Жозеф слушал племянника Анисэ Бруссара и все никак не мог понять: то ли парень и правда простак, то ли мысленно над ним посмеивается. Он задал новый вопрос:
— На пряничной свинке было написано имя?
— Точно, «Анисэ» — розовой глазурью, коротко и ясно. Чуете? Свинья Анисэ. Наверно, какой-нибудь приятель решил над ним подшутить. Дядюшка торжественно заявил, что если найдет шутника — шкуру с него спустит. Но это он от горя — вообще-то добрейшей души человек. А я вот нет. Ежели найду след, так пройду по нему до конца, в гневе меня не остановить, — сказал, будто припечатал, Антельм Бруссар и с неожиданной злобой уставился на Жозефа.
— А эти безопасные бритвы… ваш дядюшка собирается их импортировать? — поспешил тот сменить тему.
— Еще бы! Их производят в Соединенных Штатах, точнее в Нью-Йорке. Это изобретение некоего Кинга Кэмпа Джиллетта положит конец царствованию опасных бритв и очень облегчит мужчинам жизнь — каждый сможет бриться у себя дома бесплатно, цирюльники разорятся. В новых бритвах есть маленькое обоюдоострое лезвие, которое срезает щетину под корень, оно избавит вас от всей растительности на лице, ежели, конечно, вы не пожелаете ее сохранить, а то без бороды или усов мужчина — не мужчина. Собственно, вот как сам инструмент выглядит. — Антельм протянул Жозефу рекламный проспект.
— Действительно, весьма практичной формы и занимает мало места, — одобрил тот. — А это то самое лезвие внутри бритвы?
— Ну да. Когда оно изнашивается, вынимаете его и вставляете новое. Сменные лезвия продают упаковками по пять и по десять штук. В Соединенных Штатах джентльмены пользуются безопасными бритвами уже больше года. Кстати, а что вам нужно от моего дяди?
— Хотел кое о чем с ним побеседовать. Это очень важно.
— Я передам, что вы заходили. Он должен вернуться через несколько дней. Где вас найти?
— В книжной лавке «Эльзевир» совладельцев Легри, Мори, Пиньо, дом восемнадцать по улице Сен-Пер. Пиньо — это я. Жозеф Пиньо.
«Одно плечо выше другого, в разговоре темнит что-то. Надо с этим типом поосторожнее», — заключил Антельм Бруссар.
«Либо добрейший дядюшка отравил тетушку, либо это работа оповестителя. А Виктор нынче вечером идет в Опера! Только бы Мельхиор Шалюмо ничего не заподозрил», — подумал Жозеф, торопливо шагая к выходу из скобяной лавки.
Виктор редко выбирался из дому в одиночестве на какие-либо мероприятия, потому в этот вечер понедельника — а у высшего света считалось хорошим тоном проводить вечера по понедельникам в опере — он, как школьник перед каникулами, сгорал от волнения при мысли о том, что его ждет зарезервированная на одну персону ложа. Оказавшись там, он положил цилиндр — какое счастье наконец-то избавиться от этого орудия пытки! — трость и перчатки на соседнее сиденье, программку пристроил на подлокотнике, закинул ногу на ногу и в ожидании, когда поднимут занавес, принялся разглядывать зрительный зал, украшенный статуями, кариатидами и золочеными трофеями.
[819] Мужская часть публики была облачена в черно-белое, женская пестрела всеми цветами радуги, словно бросала вызов строгим фракам. Этой весной в моде были фуляровые платья: с большим воротником из расшитого тюля, короткими оборчатыми рукавами, оставляющими открытыми руки, и поясом на талии — партер походил на гигантскую клумбу в каком-нибудь Гранвиле с живыми, дышащими цветами.
Наконец свет в зале стал медленно гаснуть, и музыканты, уже настроившие инструменты, замерли. Познания Виктора в музыке ограничивались основами, он предпочитал Моцарта, Шумана, Форе и нескольких безвестных композиторов — однако, какую бы оперу ни давали в театре, всегда испытывал чувство, близкое к ликованию, когда дирижер поднимал палочку и одним скупым движением приводил в действие весь оркестр.
Пока остальные зрители настраивали бинокли, разглядывая декорации, являвшие миру деревеньку Газа в Палестине, Виктор прикрыл глаза, впуская в себя музыку — хор дал начало первому акту «Самсона и Далилы»
[820] Камиля Сен-Санса:
Господь! Израиля Отец!
Внемли мольбе детей Твоих!
— О да, внемлите моей мольбе, заклинаю, не отталкивайте меня по своей извечной привычке, — прошептали Виктору на ухо.
Он резко обернулся, и в ту же секунду узнал княгиню Максимову. С этого момента нить драмы, разворачивавшейся на сцене, была для него потеряна — голову вскружил, лишив способности соображать, густой аромат жимолости, ее духов.
— Эдокси! Я думал, вы всё еще на юге с подругой…
— Увы, мой милый, мы всё еще были бы там, если бы эта дуреха Ольга не спустила почти все свое состояние в казино Монте-Карло — она, видите ли, увлеклась игрой в рулетку. О, глядите-ка, и этот, как всегда, здесь! Вон там, у авансцены, господин с седыми бакенбардами, видите?
— Один из ваших поклонников?
— У меня гораздо меньше поклонников, чем вы себе навоображали, а этот к тому же ужасный сумасброд. Его зовут месье Шошар. Бывший лавочник, недавно сделался директором Больших магазинов Лувра. Его страсть — часы с маятником, он их коллекционирует. Представляете, что творится, когда вся эта коллекция начинает дружно звонить в полдень? А еще Шошар член Общества вспомоществования «крысам».
— Крысам?! — удивился Виктор.
— Оперным «крысам», невежда! — фыркнула Эдокси.
На них возмущенно зашикали захваченные представлением зрители из соседней ложи, и пришлось продолжить разговор в кулуарах.
— По счастью, моего влияния на Ольгу хватило, чтобы обуздать ее взрывной темперамент и помешать бедняжке разориться в прах, а заодно и лишить меня моего собственного капитала. Иначе не знаю, как бы мы вернулись в Париж — наверное, пешком, голые и босые! — Эдокси сокрушенно вздохнула, отчего в глубоком вырезе декольте колыхнулась грудь. — Хорошо, что милый Амедэ, который к нам слишком уж благосклонен — да-да, двум несчастным стареющим изгнанницам порой так нужна мужская поддержка! — прислал денежный перевод, это позволило нам покинуть гибельное место.
— Ольга выздоровела?
— О да, она чувствует себя прекрасно, у нас с Амедэ уже голова кругом идет от ее пируэтов по всей квартире. Но она не столько репетирует, сколько пытается таким образом, изматывая себя, избавиться от страхов. Амедэ рассказал нам о трагической смерти Жоашена Бландена и о том, что случилось с Аженором Фералесом. Такое впечатление, что злая судьба ополчилась на людей из нашего окружения.
Виктор сдерживался как мог, но так и косил глазом в сторону декольте Эдокси, которая старательно выставляла бюст ему на обозрение, куда бы он ни повернулся. Пришлось контратаковать вопросами:
— Что вы думаете об этой эпидемии смерти? У вас наверняка должны быть какие-то предположения.
Княгиня Максимова приняла позу античной плакальщицы, но слезы все-таки сдержала волевым усилием, превратившим ее лицо в меланхолическую маску.
— Предположения? Я же ничего не знаю. Судьба, случай, фатальное стечение обстоятельств…
— Вы не находите странным, что все три жертвы фатального стечения обстоятельств перед смертью получили в дар пряничную свинку, какие продают на ярмарках — считается, что они приносят удачу? На каждой было написано имя жертвы. Все трое умерли, отведав угощения. Впрочем, прошу прощения — вы действительно не могли знать. Мы с Жозефом сами лишь недавно обнаружили этот общий знаменатель и держали его в тайне. Кстати, и Ольга Вологда дорого заплатила за то, что откусила кусочек от пряничной свинки в день премьеры «Коппелии». А еще меня сбивает с толку одно воспоминание. На том концерте в Катакомбах, куда вы меня так настойчиво приглашали, вы, говоря о какой-то танцовщице, обронили фразу, что она, мол, своего добьется, если только не объестся пряничными свинками…
На какое-то мгновение Эдокси растерялась — на щеках выступили красные пятна, дрогнули ресницы. Но она тотчас взяла себя в руки и вызывающе рассмеялась:
— Ну наконец-то я нашла средство заинтересовать вас своей скромной персоной! Мне посчастливилось стать подозреваемой! Обыщите же меня немедленно, я настаиваю на этом. Скорее же — хватайте, ощупывайте, ищите улики, которые превратят меня в специалистку по убийствам. И я непременно признаюсь вам, что у меня гораздо больше талантов, чем вы думаете.
В это время из зала хлынула волна зрителей, спешивших воспользоваться первым антрактом, Виктора толкнули, и ему не пришлось самому уклоняться от внезапно шагнувшей к нему княгини.
— Дорогая моя, позвольте вас покинуть — у меня тут назначена встреча, которую я не могу пропустить. Продолжим этот разговор во втором акте.
— Трус! — раздосадованно воскликнула Эдокси. — А вы не подумали, что моя жизнь подвергается смертельной опасности? Я вовсе не убийца!
Но Виктор уже нырнул в толпу.
«Артистки, да? Это? Вульгарные статистки, мой Всемогущий, испорченные создания, кои выставляют свои юные тела на показ публике, уверенной, что перед ними скромницы, посвятившие свою жизнь без остатка хореографии. А на самом деле они тут машут ножками только ради того, чтобы в конце концов соблазнить какого-нибудь богатого старикашку!»
Мельхиор Шалюмо в клетчатом пиджаке и оранжевых панталонах шагал по фойе Танца, куда допускались лишь владельцы абонементов и несколько привилегированных особ. Ему хотелось наброситься с кулаками на всех этих господ в безупречно белых манишках и безупречно сидящих фраках, на представителей элиты высшего света, разглядывающих и сопоставляющих достоинства танцовщиц — так плантаторы выбирали рабов на невольничьих рынках. Но он лишь прошипел сквозь зубы:
— Свиньи! Грязные свиньи!
Среди посетителей Мельхиор узнал наследника одного из блистательных престолов Европы — наследник увивался за мадемуазель Хирш, участвовавшей в первом акте «Самсона и Далилы» Сейчас они о чем-то болтали, но молодой человек, старавшийся сохранять серьезную мину, проявлял больше внимания к ножкам собеседницы, нежели к ее откровениям.
«Только посмотрите на него! Делает вид, будто явился сюда провести опрос по поручению академического жюри премии Монтийона!
[821] Лицемер!»
— Прошу прощения, любезный джентльмен, вы случайно не Мельхиор Шалюмо?
Человечек с подозрением оглядел задавшего вопрос незнакомца с тонкими усиками, которого уже не раз замечал в окрестностях дворца Гарнье.
— А вы сами кто будете?
— Простой книготорговец. Я собираюсь опубликовать исследование об этом прекрасном дворце и собственно о Парижской опере. Знающие люди, коим я всецело доверяю, посоветовали обратиться к вам за некоторыми разъяснениями. К примеру, меня интересует происхождение одного слова, вернее понятия.
— Понятия? — переспросил Мельхиор, польщенный тем, что к нему посоветовали обратиться.
— Да-да, понятия «крысы». Ума не приложу, почему столь милых юных барышень в балетных пачках уподобляют этим отвратительным грызунам.
— О, тогда вы обратились по адресу! Существует несколько версий. Злопыхатели говорят, что эти девчушки острыми зубками изничтожают капиталы своих поклонников — престарелых сатиров. Некоторые рассказывают, что рабочие начали копать подземный ход под репетиционным залом молодняка, но, перепуганные неимоверным нашествием крыс, привлеченных водами большого резервуара, тотчас этот ход засыпали, оттуда и повелось. Бальзак вторую версию опровергает. По его мнению,
[822] «крыса» — это девочка, театральная статистка, склоненная распутниками к греху и пороку. Вот тут уже я не согласен и предлагаю вам четвертую гипотезу: юные ученицы балетной школы чисты — в отличие от того отродья, что нас окружает, видите? От этих прогорклых сливок общества. Вот только девчонки все время суетятся, шустрят и грызут орешки, пралинки, печенье — отсюда нелестное сравнение с крысами.
— Надо думать, они и пряничными свинками не брезгуют — знаете, теми, что продают на ярмарках на удачу?
Виктор и Мельхиор уставились друг другу в глаза с внезапной враждебностью, каждый отступил на шаг и смерил собеседника взглядом. В этот момент дали звонок к началу второго акта, и Мельхиор бросился оповещать певцов. А Виктор задумчиво полюбовался кессонным потолком, балетными станками, обитыми бархатом (здесь балерины разминались, когда не хватало места в гримерке) и огромным зеркалом Святого Габена, в котором несколько минут назад отражались силуэты корифеек — солисток второго состава балета — и соблазнителей, обсуждавших их прелести. В этом сонме призраков-отражений затерялся маленький человек. Так он и есть убийца?..
Виктор быстро принял решение. Сен-Сансом придется пожертвовать, тем более что Эдокси уже испортила ему все удовольствие от оперы. Прежде всего нужно обыскать жилище Мельхиора Шалюмо. Мария Фералес сказала Жозефу, что оповеститель обустроился в чулане на седьмом этаже, над кабинетами администрации, — должно быть, найти его будет нетрудно.
Инспектор Вальми дождался ухода Виктора Легри, покинул свое укрытие за драпировкой и тщательно отряхнул полы редингота, к которым прилипло несколько волосков бархата.
Преодолеть препятствие в виде поста вахтера оказалось легче, чем Виктор ожидал, — супруги Марсо то ли были приглашены в зрительный зал, то ли закрылись у себя в каморке. Поднявшись на седьмой этаж, Виктор остановился отдышаться и с досадой отметил для себя, что, несмотря на постоянные велосипедные прогулки, призванные поддерживать организм в форме, он не так уж хорошо переносит физические нагрузки.
В скудном свете нескольких газовых рожков Виктор побродил по седьмому этажу, заглядывая в многочисленные помещения, а добравшись наконец до двери, которая вполне могла быть дверью того самого чулана, приютившего оповестителя, попытался вспомнить наставления Рауля Перо в деле взлома. Сомнений в том, что замок заперт, не было. Какая-нибудь железяка, проволока или стержень — вот что нужно… Виктор прошелся по коридору, быстро отыскал оброненную кем-то шпильку для волос и попробовал отжать ею язычок замка. Щелчка не последовало — дверь была открыта. Виктор толкнул створку, шагнул в темную комнату, тотчас наткнулся правым коленом на угол сундука и невольно вскрикнул от боли, но по другой причине — внезапно ожгло плечо. Он резко обернулся.
Злобно прищурившись, скривив рот в яростной гримасе, на него снизу вверх смотрел Мельхиор Шалюмо.
— Книготорговец, приобщенный к культуре, да? Нет — жулик! Прохвост! Шпик! Я тебе покажу, как вламываться в чужой дом!
В руке оповестителя был кнут, как у цирковых укротителей. Произнося каждое слово, Мельхиор щелкал кнутом по полу, а Виктор тем временем пятился и на ощупь пытался найти, чем защититься. Под ладонью оказался какой-то крупный, но неожиданно легкий предмет. Выставив его перед собой как щит, Виктор начал наступать на коротышку. В тусклом свете удалось рассмотреть, что предмет — это ивовый манекен с полуоторванной головой, которая моталась из стороны в сторону.
— Адонис! — заверещал Мельхиор. — Он же ранен! Немедленно положи его! У него сейчас голова отвалится!
Конечно, Виктор мог бы одним ударом отправить маленького человека в нокаут. Но он не хотел драться. Лучше избежать скандала, продолжить расследование и собрать доказательства против зловредного коротышки. Поэтому Виктор одним прыжком преодолел расстояние, отделявшее его от выхода, швырнул манекен в противника и кинулся к лестнице.
— Адонис! Бедная твоя головушка! Этот негодяй за все заплатит — я его поймаю, а потом вылечу тебя, обещаю! — Утешив друга, Мельхиор тоже бросился прочь.
Ни оповеститель, ни Виктор во время перепалки не заметили неслышно поднявшуюся на этаж тень. Инспектор Вальми убедился, что странная парочка умчалась вниз по ступенькам, вошел в чулан и, чиркнув спичкой, зажег свечу. Неугомонный Легри! Вот уж спасибо ему — очень упростил задачу. Инспектор осмотрел каморку, ничтожные сокровища Мельхиора Шалюмо и поднял крышку ларца.
— «Саламбо»… «Это было в Мегаре, предместье Карфагена, в садах Гамилькара…»
[823] Так-так, любопытная коллекция: кружевная митенка, деталь какого-то музыкального инструмента, вероятно… платок с инициалами «Ж.Б.». Жоашен Бланден? Похоже на улику…
Он мысленно вернулся к результатам проделанной за последние дни работы. На вскрытие попал только труп скрипача. Согласно отчету судмедэксперта, в его желудке было обнаружено ядовитое вещество, похожее на алкалоид, содержащийся в растении под названием борец, или аконит, но поскольку смерть была вызвана сердечным приступом, подробного анализа не проводилось. Семья Тони Аркуэ отказала в эксгумации, а Мария Фералес после гибели мужа совсем обезумела и настояла на том, чтобы тело покойного сразу выдали ей. В результате Аженор Фералес был похоронен, так и не попав на стол полицейского патологоанатома.
Инспектор Вальми вздохнул. Все-таки неплохо, что этот книготорговец повсюду сует свой нос. Пусть всё разнюхает, а он, Вальми, без зазрения совести воспользуется плодами труда сыщика-любителя, который настолько неблагоразумен, что вечно влипает в опасные ситуации, зато хитер в должной мере, чтобы находить след. Мельхиора Шалюмо, например, нашел — а такого подозреваемого из виду упускать нельзя. Единственная неприятность: вместо того чтобы помешать убийце, инспектор Вальми рискует толкнуть его на новое преступление. «Будем надеяться, что книготорговец успеет первым и соберет против него улики. Пусть потаскает из огня каштаны, а полакомлюсь ими я!»
Виктор заскочил в фиакр на ходу в тот самый момент, когда Мельхиор Шалюмо уже вцепился в карман его пиджака. Дверца клацнула прямо перед носом оповестителя, и тот остался на мостовой извергать проклятия вслед укатившему экипажу.
Пока Виктор восстанавливал дыхание и душевное равновесие, убегала вдаль авеню Опера, больше года назад украшенная вдоль тротуаров и по центру фонарными столбами с дуговыми лампами. Дворец Гарнье по мере удаления терял вид огромного перевернутого котла и превращался в бонбоньерку. «Теперь нужно расслабиться, выкинуть из головы мысли об Эдокси и Мельхиоре. Завтра будет время о них подумать…»
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Вторник, 13 апреля
Проснулся Виктор на заре, бесшумно вынырнув из кошмара: ему снилось, что вокруг лодыжек обвился кнут и кто-то неумолимо подтягивает его к разинутой пасти огромной голодной свиньи. Он быстро оделся и побежал в сарай месье Бодуэна. Накануне столяр вручил наконец ключ Таша, и та, не дождавшись мужа, перевязала подарок ленточкой и оставила его на подушке. К тому времени как Виктор вернулся из Опера, Таша уже спала.
Осмотрев сарай, он подумал, что сначала здесь надо вытереть пыль, покрасить стены, а затем поставить водопроводный кран и раковину. Чем заполнить шкафы, у него найдется — вся квартира забита заархивированными по датам и темам клише последних лет. Но все это хранится в разных комнатах, а теперь его фоторепортажи будут собраны в одном месте. Разумеется, тут вам не фотолаборатория, какую мадам баронесса Ротшильд отгрохала в саду своего особняка на улице Монсо, но если использовать пространство рационально и сделать несколько перегородок, можно будет на одной стороне держать негативы, на другой позитивы, и еще останется место для ретуши и лаков. На этажерках разместим рамки, флаконы с гипосульфитом, проявители и разноцветные стекла, позволяющие варьировать освещение в зависимости от задач съемки. А отапливать помещение можно будет с помощью калорифера.
Виктор наскоро позавтракал кофе с круассаном в лавке овернца на углу, вернулся к дому 36-бис и выкурил сигарету во дворе, где уже нежилась на первом весеннем солнышке Кошка, задрав все четыре лапы и подставляя пузо почти теплым лучам. Стараясь ступать тихо, он вошел в мастерскую Таша. Лишняя предосторожность — она уже проснулась, сидела в алькове, отбросив одеяло и собиралась впиться зубами в лакомство, которое Виктор сразу же узнал. В два прыжка он оказался рядом с постелью и вырвал у жены из рук… пряничную свинку.
— Не смей! Скорее вытри руки! Возьми мой платок!
Ошарашенная Таша уставилась на мужа во все глаза:
— Я всего лишь хотела выполнить твое пожелание, вот… — Она указала на смятый листок, лежащий на прикроватной тумбочке.
Пусть на смену сладкому сну придет
сладкое пробуждение!
Вставай пораньше, соня!
— Это же не мой почерк! — воскликнул Виктор, прочитав.
— Правда? А я подумала, это так мило с твоей стороны, несмотря на то что посыльный меня разбудил и пришлось тащиться открывать ему дверь.
— Как выглядел посыльный? Человечек очень маленького роста, в клетчатом пиджаке?
— Что за ерунда? Человек как человек, в обычной униформе посыльного, попросил меня расписаться на бланке… А ты, кстати, откуда? Не ночевал дома, да? Впрочем, кажется, я слышала сквозь сон оглушительный храп…
— Я проснулся раньше тебя и наведался в сарай месье Бодуэна, — пробормотал Виктор, с ужасом глядя на пряничную свинку. И на выведенное на ее боку фиолетовой глазурью, украшенное цветочками имя «ТАША». Он быстро завернул отраву в оберточную бумагу. — Этот подарок не от меня. Должно быть, кто-то из твоих друзей с Монмартра пошутил.
— Пошутил? — удивилась Таша. — А что смешного в том, чтобы подарить хорошему человеку вкусную вкусность?
— Ну посмотри на себя, дорогая! В этих вкусностях очень много сахара и жира, к тому же вообще неизвестно, из чего их делают, не хватало еще пищевого отравления в твоем положении. Я не хочу, чтобы ты рисковала своим здоровьем и здоровьем малыша. Ты же, как только избавишься от бремени, сразу вскочишь на свой велосипед, а сейчас совершенно необходимо соблюдать режим…
— Что за чушь ты несешь? — перебила Виктора жена. — Как только «избавлюсь от бремени»? Я вообще-то еще собираюсь кормить ребенка грудью… Ох, погоди-ка, ведь ты что-то от меня скрываешь, так? Ты же белый как полотно, и вообще вид у тебя такой, будто ты черта увидел! И все из-за какой-то пряничной свинки?.. А это что? Хочешь, чтобы я умывалась в постели? — Таша изумленно воззрилась на тазик с водой, мыло и полотенце — все это Виктор только что водрузил перед ней.
— Предосторожности никогда не бывают лишними. Я тоже, если позволишь, хорошенько вымою руки.
Их пальцы соприкоснулись в прохладной воде, и Таша не устояла перед искушением — обрызгала мужа, а тот зафыркал и поспешил к двери.
— Куда ты?
— В лавку. Кэндзи сегодня надо рано уйти.
— Не забудь шляпу! Ой, постой, у тебя карман оторвался, держится на ниточке. Надень другой пиджак. Ты меня не поцелуешь?
Виктор взял помятую фетровую шляпу, накинул старый редингот, чмокнул жену в нос и побежал в «Эльзевир».
Кошка, воспользовавшись тем, что хозяин открыл дверь, метнулась в альков, под бочок к хозяйке, и принялась ластиться к ней. Таша рассеянно погладила любимицу правой рукой, покусывая ноготь на мизинце левой.
— Полукисточка, твой папочка только что вел себя очень, очень странно. Я так и чую неприятности. Надо срочно протелефонировать Айрис, потому что когда Виктор вдруг сходит с ума, Жозеф непременно теряет голову, и наоборот…
Виктор так перепугался за жену, что целых пять минут не обращал внимания на давку и тряску в омнибусе, прежде чем осознал, что забыл взять велосипед и едет на переполненном пассажирами империале. Народу наверху было столько, что ему пришлось втиснуться между двумя кумушками, которые, сердито разобравшись со своими кошелками и корзинками, перегнулись через него, чтобы продолжить болтовню:
— Ой, и не говори! Это ж стихийное бедствие! Я начинаю толстеть, а толстеть — значит стареть.
— Принимай каждое утро по две пилюли «Тироидин Бьюти» — и скоро снова станешь стройненькой. Мне, по крайней мере, помогло.
К тому времени, как они добрались до обсуждения проекта запуска трамвайной линии по Елисейским полям (первая кумушка считала, что это станет причиной невероятных заторов, а вторая уверяла ее, что, наоборот, разгрузит дорожное движение в городе), Виктором овладела приятная апатия. Но тут кумушки устремились к выходу, причем обе намеренно толкнули его с одинаковой силой, и в душе снова поднялась волна страха за жену. Если ядовитое лакомство прислал ей Мельхиор Шалюмо, значит, коротышка накануне вечером проследил за ним, Виктором, и нанял на почте посыльного, которому велел доставить по адресу смертоносный груз. Груз, оттягивавший сейчас карман Виктора. А если бы он вернулся из сарая месье Бодуэна чуть позже? Если бы Таша успела съесть эту дрянь?.. Гнев оказался сильнее страха. Виктора охватила такая ярость, что даже в глазах помутилось, и он чуть не пропустил свою остановку.
До «Эльзевира» Виктор бежал бегом и испытал облегчение, застав там не Кэндзи, а Жозефа, осажденного стайкой юных барышень. Барышни, надо думать, улизнувшие из какого-нибудь строгого религиозного учебного заведения, требовали продать им «Любовницу эстетов» Уилли.
— Ну так вы не понимаете, — втолковывала Жозефу самая отчаянная, — матушка строго-настрого запретила мне это читать! Поэтому…
— Я все понимаю, но уже устал вам повторять, мадемуазель, что нет у нас этого издания, мы его еще не получили. Я запишу ваши фамилии в реестр заказов и…
— О, можете сэкономить чернила и желчь — мы идем в другую книжную лавку!
Виктор, вынырнув из водоворота оборчатых юбок и воланов, закруживших его на входе, устремился к Жозефу, который немедленно разворчался:
— Вот ведь чертовки! Хороша у нас молодежь, ничего не скажешь! Если Дафнэ рискнет превратиться в такую кокетку, уж я ей устрою! Погодите-ка, любезный шурин, на вас лица нет, вы бледный, как… о, а теперь вы прямо побагровели…
Виктор обрушился на стул и поведал зятю о том, что случилось у них с Таша дома, а потом последовательно изложил все, что узнал за вчерашний день.
— Итак, трое подозреваемых на выбор. Нет, четверо. Номер первый — оповеститель. Номер второй — Ольга Вологда, которая могла притвориться больной. Номер третий — Эдокси, ее я подозреваю в соучастии Ольге. Откуда нам знать, действительно ли они покидали Париж? Ведь нет никаких доказательств их отъезда на юг. А Амедэ Розель? Непростой человек, весьма непростой. Две женщины рядом, и, возможно, от обеих он желает избавиться. Но как бы там ни было, я склонен в первую очередь подозревать Мельхиора Шалюмо. Не сомневаюсь: он к делу причастен, и еще как.
Да я собственными руками сверну ему шею — он пытался убить мою жену!
— Пока вы не совершили непоправимого, послушайте, что я разузнал в скобяной лавке, — прервал этот монолог Жозеф. — Похоже, месье Бруссар избавился от супруги известным нам способом. По крайней мере, ее внезапная смерть не слишком его опечалила, потому что он тотчас отправился в Гавр любоваться свежеизобретенными бритвами, которые бреют почище ятагана. Я уже жалею, что сообщил адрес нашей книжной лавки племяннику Бруссара — бородатому хаму. Видок у него в самый раз для торговца бритвами! Только бы вся эта история не принесла неприятностей Кэндзи и мадам Херсон…
— Пятеро подозреваемых, — подвел итог Виктор.
— Шестеро — считая биржевого спекулянта, отказавшегося назвать вам свой адрес. Ну да ничего, он еще не имел дела со мной, а я не сдамся, я твердо намерен все вызнать про него у других биржевых игроков. Так что утро в вашем распоряжении, зато после обеда извольте быть в лавке — я отсюда слиняю!
— Но вы признаёте, что Мельхиор Шалюмо…
— Замаран по самую макушку? О да, мне чутье подсказывает то же самое. Но я помню, к каким последствиям приводили наши с вами поспешные, а проще говоря — необоснованные выводы. Для обвинения нужны веские доказательства! Например, почему бы не отдать ту пряничную свинку, что вы притащили с собой, аптекарю с улицы Жакоб для химического анализа?
Виктор восхищенно уставился на Жозефа. Ученик определенно делает успехи, так, глядишь, вскоре превзойдет учителя.
— А если его заинтересует, откуда взялся в прянике яд, который он наверняка обнаружит? Что я скажу?
— Что свинку состряпал я в целях научного эксперимента — мол, хочу представить на его непогрешимый суд новый метод истребления ближнего своего. Короче, я пишу очередной роман и в нем убийца вооружен знанием современной фармакологии. Аптекарь будет счастлив поучаствовать в создании литературного произведения в качестве консультанта.
— Браво, Жозеф! И договорились — после обеда я отпущу вас на Биржу. А сейчас предупредите Айрис и свою матушку, что, если почтальон или посыльный, в униформе или в обычной одежде, доставит им пряничных свинок, они должны немедленно выкинуть эту гадость в корзину.
— Какой же я все-таки молодец! Не зря настоял на том, чтобы к нам в квартиру провели телефонную линию, когда Айрис забеременела. Правда, если к телефону сейчас подойдет матушка, придется мне выслушать «Марсельезу» на бретонском…
Ответила действительно Эфросинья — по обыкновению завопила в рожок как резаная, а услышав предупреждение сына, повысила голос еще на пару октав:
— Свинку?! Кому это в голову придет послать свинину твоей жене-вегетарианке?!
— Не свинину, матушка, а пряничную свинку!
— Не ори мне в ухо, я не глухая! Никто нам пока подарков не присылал, и не приходил никто, только Мишлин Баллю — тот еще подарочек, опять жаловалась на своего кузена Альфонса!..
Месье Шодре был увлечен беседой с профессором Мандолем, бывшим преподавателем химии из Коллеж де Франс: они как раз обсуждали опасности, связанные с использованием целлулоида — легковоспламенимого материала, с помощью коего иные умельцы теперь запечатлевали несуразные «движущиеся картинки».
— Вы только подумайте — это же продукт реакции синтеза на базе пироксилина и камфары! Одна искра — и так бабахнет! — сокрушался профессор. — Я не намерен рисковать собственной жизнью только ради того, чтобы полюбоваться выходом рабочих с завода или «Отходом Иветты ко сну», мне, знаете ли, отходов ко сну моей супруги хватает…
Потом речь зашла о редчайшей патологии под названием «арифмомания». Ею страдал некий юный житель Бордо — он полагал своим долгом пересчитывать буквы во всех словах, которые произносил. Дальше двое ученых мужей собирались развенчать миф о ложном микробе «плешивости обыкновенной», якобы вызывающем облысение и выявленном молодым исследователем месье Сабуро, но тут Виктора, уже некоторое время стоявшего у аптекарского прилавка и пытавшегося обратить на себя внимание, одолел такой приступ кашля, что он сложился пополам, а перепуганный месье Мандоль поспешно покинул заведение.
— Месье Легри, — вздохнул аптекарь, — мне неловко вам, тяжелобольному человеку, об этом говорить, но не могли бы вы прикрывать рот рукой, когда кашляете? А то ведь микробы не дремлют. И кстати, советую вам воздержаться от курения турецких сигарет — их набивают соломой. Какой марки сироп от кашля предпочитаете? Я бы порекомендовал вам…
— А кто тут кашлял? Я? О, не обращайте внимания, я вовсе не болен — просто в горле запершило. Причина моего визита к вам совсем в другом.
— О чудо! Неужто Жозефу удалось разыскать полное собрание «Политических портретов» Эжена де Меркура, которого мне так не хватает?
— Увы, нет.
— Какая жалость. Зато мадам Шодре не устает восхищаться купленной у вас «Партией Левой Ноги».
— Приятно слышать. А пришел я, собственно, вот зачем. Извольте взглянуть: пряничная свинка, начиненная особым веществом. Жозеф бросает вам вызов — попробуйте это вещество определить.
— Держу пари, это как-то связано с его новым романом-фельетоном! — оживился месье Шодре. — А вещество, надо полагать, ядовитое?
— Maybe… Who knows…
[824] Не исключено. Ответ от вас нам нужен чем раньше, тем лучше. Вы сумеете закончить анализ до часа закрытия?
— Постараюсь. Видов отравляющих веществ не так много, как, возможно, думает наш писатель. Есть яды минеральные — мышьяк, серная кислота, цианистый калий. Есть ядовитые бактерии, но их я исключаю сразу, поскольку они опасны и для самого отравителя. Далее — органические яды, выделяемые, например, насекомыми или змеями, а также стрихнин и прочее. Ну и яды растительного происхождения. Последние самые многочисленные, наиболее известны из них цикута, опий и белладонна. Однако, какой изысканный ход — использовать пряничную свинку, узнаю романиста по воображению! Если клиенты не потянутся вереницей, я выдам вам заключение к вечеру. И помните, месье Легри: непременно закрывайте рот рукой, когда кашляете, — болезнетворные микробы всегда готовы найти новую жертву!
По дороге в книжную лавку Виктор мимоходом заметил на ограде палисадника рекламную афишу и остановился.
РАСТЕНИЯ И ЦВЕТЫ ДЛЯ ВАС!
Саженцы и семена на будущий сезон
Отдел оптовых продаж магазина
«РОЗА И РЕДИСКА»,
ул. Миньон, д. 21.
В голове мелькнула неожиданная ассоциация. Где-то он видел совсем недавно статью о сорняках… Где же?.. Ах да, в той ужасной гостиной, где он томился в ожидании Амедэ Розеля! А что за газета? «Фигаро», «Голуа», «Эклэр»? Это было в понедельник… На первой полосе еще была цветная гравюра: королеву Викторию торжественно принимают в Шербуре. Точно, иллюстрированное приложение к «Пти журналь», которое выходит по воскресеньям! Редакция находится в доме номер 61 по улице Лафайет, рядом со сквером Монтолон, то есть поблизости от обиталища дражайшего месье Розеля. Быть может, речь в статье шла о вредных растениях — или ядовитых?
Виктор решил немедленно все проверить.
Прозванная американцами «колоссом среди газет» из-за феноменальных тиражей, «Пти журналь» придерживалась четкой издательской политики: никаких полемических статей и дискуссий, зато в изобилии раздутые факты, истории из обыденной жизни, романы-фельетоны за авторством модных писателей, сенсационные новости, скандалы, кровища — все это день из дня предъявлялось читателям и пользовалось неизменно растущим успехом. Репортеры «Пти журналь» не обходили вниманием ни единого преступления в самом распоследнем захолустье — всякое удостаивалось многочисленных колонок, насыщенных жуткими подробностями. Четыреста тысяч экземпляров в день — число нешуточное! Каждое воскресенье выходило иллюстрированное приложение с гравюрой в десять цветов, отпечатанной на хромотипографических ротационных машинах месье Маринони. Гравюры являли читателям драматические сюжеты или батальные сцены и продавались по всей Франции за пять сантимов.
Снабдив Виктора всеми этими сведениями, долговязый архивариус в пенсне, призванный знакомить читателей с несвежими выпусками газеты, отвел посетителя в зал, где со всем тщанием хранились подшивки номеров «Пти журналь» за последние годы.
— Ваш-то заказ выполнить — невелик труд, месье. Вот, извольте: выпуск за четырнадцатое марта тысяча восемьсот девяносто седьмого. Читайте, не стану вам мешать. Только поосторожнее, будьте так любезны, — листы рвутся. Темновато здесь, сейчас свет зажгу. Дирекция установила тут лампу накаливания, потому что фабрикант, изготовитель таких ламп, постоянно размещает у нас рекламу. Боюсь вот только, что однажды это чудо лопнет, и в прочих лампах вспыхнет керосин.
Виктор сел за стол, на котором стоял плафон в форме шара — внутри него что-то горело ровным белым светом без гари и запаха. Искомая статья занимала целую полосу. В ней излагались полезные и губительные свойства безвременника, морозника, дурмана, аконита, молочая и белены. Виктор узнал, что из этих широко распространенных растений человек научился готовить как лекарства, так и яды.
Безвременник осенний, называемый еще луговым шафраном, цветет в сентябре. Его прекрасными пурпурными лепестками вдохновился бы любой художник и безрассудно украсил ими какую-нибудь лужайку, но остерегайтесь прикасаться к этой красоте! — предупреждал автор статьи. — Безвременник осенний благоразумно обходят стороной даже животные, последуем их примеру. В отличие от безвременника, морозник черный, известный еще как «рождественская роза», расцветает под конец зимы в лесах и подлесках. Древние греки, слывшие мудрецами, якобы врачевали с его помощью безумие, однако от того он не перестает быть смертоносным. И уж во что бы то ни стало избегайте дружбы с дурманом, облюбовавшим подножия средневековых башен.
«Именно средневековых? — озадачился Виктор. — А башни эпохи Возрождения он почему игнорирует?»
Что же до борца-аконита, или волкобоя, его синие и бледно-желтые соцветия, похожие на большой колос, определенно составили бы честь любому букету, но уж лучше украсить апартаменты тюльпанами или гортензиями. Поэты числят аконит главным ингредиентом ядовитого зелья, сваренного Медеей; в соке аконита германцы, галлы и готы некогда смачивали наконечники стрел и острия мечей, дабы придать им убийственную силу.
Под конец журналист смешал с грязью белену, которой заросли обочины французских дорог. Ее тошнотворный запах, дескать, отпугивает всех почище любых предупреждений, но и предупреждение о том, что белена ядовита, будет не лишним.
Виктор на некоторое время задумался о риске, которому подвергаются несчастные страждущие, вынужденные глотать пилюли и порошки из ядовитых растений. Что, если такие лекарства приносят больше вреда, чем сама болезнь? Но в конце концов он просто пожал плечами, доверившись, в отличие от автора статьи, мнению древнегреческих мудрецов, и не стал читать приложение к статье под названием «Сократ и цикута». Он был доволен результатом сегодняшних изысканий: подозрения по поводу трио Амедэ — Ольга — Эдокси подтвердились. Однако это усложняло все расследование. Жозеф оказался прав: замаранный по макушку Мельхиор Шалюмо — не единственный грязнуля в этом деле.
Напоследок долговязый архивариус в пенсне попытался настоять на том, чтобы Виктор разместил в «Пти журналь» рекламное объявление по цене десять франков, ну хотя бы за четыре франка в еженедельнике «Современное сельское хозяйство», но Виктор вежливо отказался. Когда ему наконец удалось покинуть архив, туда заглянул некий франт, представился и от имени полиции потребовал рассказать, что здесь искал тот господин в мягкой фетровой шляпе. Ворча себе под нос, долговязый без особой охоты и его проводил в читальный зал.
— Вот, номер за четырнадцатое марта, открыт как раз на полосе, которую читал тот месье.
Инспектор Вальми склонился над газетой и при виде слова «аконит» возликовал:
— Какой потрясающий яд, вы не находите? Такого и для любимой тещи не жалко, а? Испейте, дескать, матушка, чашечку безотказного снотворного! На языке цветов аконит означает «преступление», не так ли? Кстати, ваши газеты прошли санитарную обработку?
— Что-что? Вы полагаете, мы их тут в автоклавах кипятим? Это же бумага, а не консервы, уважаемый!
— В таком случае подскажите, где можно вымыть руки с мылом.
— До конца коридора и налево, — буркнул архивариус и, поправив пенсне, мрачно добавил про себя: «Решительно, сегодня день открытых дверей в заведениях для душевнобольных. А всего-то одиннадцать утра!»
— Жозеф, ну сколько можно вам повторять: это крайне важно! То, что я узнал, подтверждает ваше блестящее умозаключение о том, что в деле может быть гораздо больше подозреваемых. Добудьте во что бы то ни стало адрес Паже — соблазняйте официанток, забалтывайте гарсонов, выпытывайте у них сведения как хотите, но не вздумайте вернуться с пустыми руками!
— Дорогой шурин, сдается мне, вы просто опять хотите от меня избавиться — ведь сегодня вечером аптекарь Шодре должен сообщить нам результат химического анализа свинки, — проворчал Жозеф, нахлобучивая котелок. — Гоните деньги на фиакр, а то у меня в карманах пусто.
Виктор требование выполнил, но сердито заметил, что можно было бы прокатиться и на омнибусе.
— Безусловно, вот только я все утро проторчал здесь, пока вы занимались настоящим делом, мне нужен реванш! — парировал Жозеф.
Кучер высадил пассажира в двух шагах от заведения «Острова удачи» и взял за поездку меньше, чем ожидал Жозеф, так что, к его удовольствию, еще осталось на омлет с салатом.
— Посажу вас вон туда, в уголок у витрины, там вас никто не побеспокоит, — улыбнулась официантка-блондиночка при виде такого симпатичного молодого человека, которого совсем не портил небольшой горб. — Кувшинчик вина?
— Я предпочитаю лягушачью настойку, — огорошил ее Жозеф.
— Ой, а что это? — округлила глаза девушка. — Вроде как на лимонных корках, только вместо них давленые лягушки?
— Я имел в виду простую воду, милая барышня. — хмыкнул Жозеф.
— Забавная у вас манера выражаться.
— Этому я научился у своего приятеля Ламбера Паже. Вы его наверняка знаете — такой высокий тощий тип, он здесь завсегдатай.
— Паже… Паже… действительно что-то знакомое…
— Роланда! Давай пошевеливайся, клиентов полно! — сердито крикнул хозяин заведения из-за стойки.
Жозеф совсем истомился в ожидании заказанного блюда, но наконец перед ним на столик была водружена тарелка с омлетом, окруженным салатом-латуком.
В знак извинения официантка добавила еще веточки петрушки, а в бокале с водой плавали два кубика льда.
— У вас очень оригинальное имя — Роланда. Такое… музыкальное. Что и не удивительно — ведь Роланд имел обыкновение трубить в рог,
[825] — заметил Жозеф, вооружаясь вилкой.
— Что за Роланд? Никогда о таком музыканте не слышала. А где он играл? На ярмарках? Тоже работа та еще, не лучше, чем у меня. Кручусь тут с утра до ночи. Кстати, пока была на кухне, я вспомнила вашего Ламбера Паже — совсем-совсем худышка, даже как-то нездорово из-за этого выглядит, и одну только воду пьет, в точности как вы, наверное, потому что болен. У вас что, тоже беда со здоровьем?
Искреннее участие, прозвучавшее в голосе девушки, тронуло Жозефа, и он даже слегка устыдился, что приходится ей лгать. Миленькая все-таки барышня.
— У меня? Что вы, я здоров как бык, а воду пью потому, что мой организм не переносит алкоголь. Но самочувствие бедняги Ламбера меня очень беспокоит. Как думаете, с ним что-то серьезное?
— Роланда, тут тушеное мясо стынет, а там клиенты за пустым столом извелись совсем в одиночестве, живо за работу! — рявкнул хозяин.
Запыхавшаяся девушка вернулась к Жозефу, когда он уже доел омлет.
— Про вашего Ламбера. Он не говорил, что с ним, сказал только, что «регулярно бывает на водах». Если верить нашему повару, таких людей называют «курортниками». Интересно почему? Может, потому что они правда больные и им можно только отварную курицу да куриный бульон?
— Так Ламбер уехал на воды?
— Не знаю. Но там, куда он обычно ездит, есть какая-то особая вода с железом, которого ему не хватает — похоже, кости у него больные, вот что, — заключила Роланда и понизила голос: — Хотите кофе? От заведения.
Жозеф предложение принял, хоть и понял, что «от заведения» означает «от Роланды». Девушка тотчас принесла чашку и подмигнула ему:
— Вы сегодня свободны? Я заканчиваю в три.
— Увы, мне надо возвращаться на улицу Сен-Пер… А что же Ламбер? Не показывался здесь?
— Сегодня нет, вчера тоже. А вдруг он утонул в этих своих водах с железом?
— А вы случайно не знаете, на какой курорт он обычно ездит?
— Курорт — это что, птицеферма, где кур выращивают? Понятия не имею, где он затоваривается мясом на бульон.
— Ясно, мадемуазель. Счет пожалуйста.
— Но вы ведь еще вернетесь?
— Клянусь вам, непременно!
— Далеко же мы продвинулись, — вздохнул Виктор, только что отделавшийся от почитателя Сен-Симона, требовавшего найти и продать ему полное собрание «Мемуаров» в двадцати томах, изданное в 1872 году Шерюэлем и Адольфом Ренье в «Ашетт». — Вы представляете себе список городов на водах? Куда укатил наш Паже? В Ангиен-ле-Бен? В Сермез? В Пломбьер? В Виши? В Ла-Бурбуль?
— Эй! Предупреждаю сразу: и речи не может быть о том, чтобы вы отправили меня скитаться по всей Франции в поисках этого субъекта! — воскликнул Жозеф. — Матушка и так меня уже поедом ест — постоянно упрекает, что ребенок растет без отца… Блаженная Глокеншпиль, ведь мы оба скоро станем отцами, подумайте о детях!
— Что это вы заранее записываете меня в никудышные отцы? Меня, будущего пеликана?! — возмутился Виктор. — Но сейчас-то, пока я перьями не оброс, можно мне отлучиться к месье Шодре за результатом?
— Да ладно уж, летите. Пеликан не пеликан, а орел вы тот еще.
Виктор, к своему облегчению, обнаружил, что аптека пуста.
— Месье Шодре! — позвал он.
Аптекарь появился из подсобки — взъерошенный, злой, в заляпанной блузе и перчатках. В одной руке его был кусок пряничной свинки, в другой — пробирка.
— Итак? Вы определили яд? — с надеждой спросил Виктор.
— Честно признаться, месье Легри, вы меня страшно огорчили. Я и помыслить не мог, что вы способны на столь жестокие розыгрыши. А уж месье Пиньо будет иметь со мной весьма неприятный разговор!
— Однако я..
— Если мед, мука, сахар, дрожжи, яйца и молоко пока еще не причислены к разряду ядовитых веществ, ума не приложу, как кого бы то ни было угораздит отравиться подобным лакомством. Вы, вероятно, ответите мне, что выдуманный месье Пиньо убийца избрал жертвой диабетика или какого-нибудь бедолагу с аллергией на черствый хлеб? Ибо этот ваш пряник тверже камня. Весьма сочувствую тому, кто попытается его разгрызть — он либо зубы поломает, либо подавится и немедленно задохнется.
— Так, значит, нет никакого яда? — разочарованно уточнил Виктор.
— Вот именно! — взвился месье Шодре. — По вашей милости я потратил впустую несколько драгоценных часов! Уже получил за это нагоняй от супруги и выслушал упреки клиентов! Вот уж не замечал за вами склонности к таким злым шуткам, месье Легри! И впредь упражняйтесь в остроумии на ком-нибудь другом!
— Но я тут ни при чем, уверяю вас…
— О, ну конечно!
Несмотря на отповедь месье Шодре, из аптеки Виктор вышел в прекрасном настроении, которое, однако, не погасило в нем неясной тревоги. Теперь он знал, что ни Таша, ни ребенку ничто не угрожало… в тот момент, когда Таша собиралась съесть пряничную свинку. Но что означал этот подарок? Кто прислал лакомство и почему? Возможно, это было предупреждение — мол, в следующий раз, приятель, я не буду таким добрым и кто-нибудь из твоих близких, отведав моего угощения, разделит судьбу Тони Аркуэ, Жоашена Бландена и Аженора Фералеса!
Виктор снова почувствовал страх и гнев, но смутная тревога всё пересилила. Отчаянное положение: продолжив расследование, он запустит механизм, подобный тому, что на оперной сцене приводит в движение колосники, только вместо занавеса на голову кого-то из его близких упадет нож…
Вдруг в памяти всплыли слова месье Шодре о том, что пряничная свинка была черствой и тот, кто ее съест, рискует подавиться и задохнуться. Но ведь именно так умерла мадам Бруссар, жена владельца скобяной лавки…
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Среда, 14 апреля
Полина Драпье провела ночь, свернувшись клубком у дощатой стенки разломанного железнодорожного вагона. Она прибежала сюда в приступе паники и, обессиленная, уснула. Накануне вечером, возвратившись с уроков на улице Шарантон, она снова застала дверь фургона приоткрытой и на сей раз обнаружила в своем жилище уже двенадцать карточек бон-пуэн — семь из них были выложены на кушетке в вертикальный ряд, пять — в горизонтальный, так что получился крест, знак, не оставлявший никаких сомнений в том, что ее ждет, если она осмелится кому-нибудь рассказать об увиденном месяц назад во дворе дома мадам Арбуа.
Проснувшись, Полина с трудом уняла дрожь, охватившую ее при воспоминании о прошлом вечере, и побрела к своему фургону. Там поспешно собрала школьные учебники и пожитки. Пролистала «Франсинэ» — пригласительная открытка на представление «Коппелии» в Опера, запрятанная между страницами, исчезла. И тут она услышала странные звуки.
Кто-то плакал.
Полина подкралась к окну, трясущейся рукой отодвинула занавеску и выглянула. Сумерки медленно растворялись в молочно-белом рассвете. Облака тумана погребли под собой гласисы фортификаций. И снова раздалось жалобное хныканье. Ребенок?.. Полина набралась смелости, резко распахнула дверь и… увидела кота. Очень знакомого кота. Он поднял на нее изумрудно-зеленые глазища.
— Господин Дюверзьё! — Полина подхватила зверя на руки — он так исхудал, что почти ничего не весил. — Бедный Господин Дюверзьё, ты проголодался? — Поставив кота на пол фургончика, она из плетеной корзинки достала сосиску, мелко порезала ее. — Вот, ешь всё, я сейчас не смогу проглотить ни кусочка… Теперь нас двое. — Девушка вздохнула. — И мы оба в отчаянном положении.
Полина почувствовала, что не дождется 18 апреля — начала Тронной ярмарки, — чтобы переехать с фургоном на площадь Нации. Одна с котом в крошечном жилище на колесах, в каких-то сотнях метров от дома бедной Сюзанны Арбуа, нашедшей смерть на дне колодца, она обмирала от страха и не могла ни о чем думать, кроме той ужасной тени в плаще с капюшоном. Промучившись так какое-то время, Полина вскочила, схватила пожитки, посадила кота в корзинку и выбежала из фургона. Недавно приятельница мадам Селестен — Луиза Вебер — предлагала приютить ее у себя на пару дней, если гостья согласится присматривать за домиком в отсутствие хозяйки.
Лет десять назад Луиза Вебер покорила весь Париж, выступая на подмостках «Мулен-Руж» под псевдонимом Ла Гулю.
[826] Пышные юбки из шестидесяти метров кружев взлетали выше головы от взмаха ножки, затянутой в черный чулок, — этим номером она и прославилась. Потом Монмартр канкана, Салиса и Брюана
[827] остался лишь в воспоминаниях. Ла Гулю исполнилось двадцать восемь лет, она сохранила былое очарование, но рождение ребенка преждевременно состарило ее. Танцовщица прекратила выходить на большую сцену, однако перед публикой по-прежнему появлялась. На собственные сбережения она поставила ярмарочный номер: в мавританском костюме, в окружении нескольких статисток являла взорам чувственный хореографический этюд под названием «Пляска альмы».
[828] С этим номером Луиза Вебер недавно перекочевала с Тронной площади на праздничные гулянья в Нейи. Весной 1895 года в рекламных целях она упросила своего старого знакомого Тулуз-Лотрека расписать фасад ее домика. Тот согласился, и Ла Гулю обзавелась двумя «фресками» три метра на три. Слева от входа художник изобразил саму хозяйку на пике славы рядом с Валантеном ле Дезоссе,
[829] справа — ее же в образе альмы перед зрителями, среди которых можно было узнать Габриэля Тапье де Селейрана, Поля Сеско, Жанну Авриль, Феликса Фенеона,
[830] Оскара Уайльда и собственно Тулуз-Лотрека.
Несмотря на страх, Полина Драпье решила воспользоваться предложением. До Тронной площади она добралась, когда там в шуме, толчее и ругани заканчивался монтаж последних строений. Домик Ла Гулю девушка нашла по описанию, которое ей дала мадам Селестен. Кстати, в репортаже газеты «Фэн де сьекль» по поводу работы Тулуз-Лотрека говорилось вот что:
Два настенных панно снискали оглушительный успех <…> Потрясающие картины…
А «Ви паризьен» высказалась так:
Это грандиозная насмешка Тулуз-Лотрека, художника крайне эксцентричного. На сей раз он решил развлечься, обратившись к народному творчеству, наглому и лихому: сама толпа запечатлена в настенной росписи, неистовство символического городского гулянья! Кричащие цвета, немыслимый рисунок — и все же это действительно забавно, и чувствуется беспримерная ирония художника в том, что на первом плане он изобразил Оскара Уайльда! О! Как приятно видеть человека, который бесстрашно потешается над публикой!
Встретила Полину мадам Селестен и ознакомила с окрестностями. Но принять ее приглашение на завтрак девушка постеснялась. Сославшись на головную боль, она заперлась в домике Ла Гулю, повернув ключ на два оборота, и молила Всевышнего о том, чтобы тень в плаще с капюшоном никогда не нашла ее здесь. Мурлыканье и само присутствие Господина Дюверзьё ее немного успокоили, Полина смогла наконец отвлечься от страшных мыслей и немного отдохнуть, но когда свечерело, ее снова охватил ужас. Чудовищное видение — задушенная Сюзанна Арбуа — встало перед глазами, лишив способности соображать.
Четверг, 15 апреля
Таша, растянувшись на бержерке, уже некоторое время наблюдала, как муж сражается с накрахмаленным пристегивающимся воротничком каменной твердости. Замурованный в этот ошейник по самые уши, Виктор изо всех сил задирал подбородок, но все равно задыхался.
— Милый, знаешь, что я прочитала в журнале «Натюр»? Два года назад в купе поезда Ницца — Париж был обнаружен труп богатого американца. Расследование и судебно-медицинская экспертиза показали, что путешественник был задушен… собственным пристегивающимся воротничком.
— Спасибо, дорогая, очень любезно с твоей стороны сообщить мне об этом.
— По-моему, весьма плодотворный сюжет для Жозефа. Идеальное преступление: истреблять с помощью удушения бумажных героев, разгуливающих в этой тюремной колодке на шее. А вообще, конечно, мода — глупейшая штука. И я тоже особого ума не проявила: рассуждаю о преступлениях, тогда как сама готовлюсь дать жизнь человеку. — Пробормотав это, Таша снова погрузилась в чтение. — Бедный Альфред Сислей, — вздохнула она, просматривая статью в разделе «Искусство». — Похоже, его выставка у Пети закончилась катастрофой. А я-то ему и в подметки не гожусь, так что завоевать восторги публики и критиков у меня нет никакой надежды, тем более сейчас, когда дни напролет приходится проводить в постели.
— Черт, сдаюсь! — не выдержал Виктор. — Отдай этот пыточный инструмент Кошке, пусть об него когти точит. — И схватил свою старую голубую рубашку с мягким отложным воротничком.
— Замри! Ты сейчас потрясающе выглядишь! — Таша широкими штрихами принялась набрасывать в блокноте силуэт мужа с голыми ногами.
— Солнышко, я ценю твое стремление запечатлеть меня на века без штанов, но мне совершенно необходимо облачиться в эти полосатые брюки и эти штиблеты на застежках. Я должен соблазнить мадам де Салиньяк, которая удостоит «Эльзевир» своим визитом нынче утром. Надеюсь, мой безупречный внешний вид очарует нашу дражайшую Олимпию и она сдастся на милость победителя, то есть на мою. Потому что я намерен всучить ей тонну любовных романов так, чтобы она не очень отбивалась.
— Между прочим, твой кофе уже остыл.
Не успел Виктор добраться до чашки, как раздался громкий стук в дверь. Он накинул пиджак британского покроя, пошел открывать и, толкнув створку, замер на пороге: перед ним стоял высокий щуплый господин, взъерошенный и сильно огорченный. На Виктора пристально смотрели бледно-голубые глаза.
— Месье Паже! Какой сюрприз! — воскликнул он и немедленно шагнул вперед, вытесняя гостя во двор, чтобы его не увидела Таша.
— Месье Легри, как хорошо, что вы оставили мне свой адрес, иначе я не знал бы, к кому обратиться за помощью. Я погибаю от ужаса! Подумайте только — мне прислали вторую пряничную свинку, а после всего, что вы поведали мне в ресторане…
— Свинка у вас с собой?
— Я так перепугался при виде этой кошмарной штуки, что выронил ее из рук. Она осталась у железистой скважины.
— У железистой скважины? — не понял Виктор.
— Я живу в Пасси рядом с бывшим парком термальных источников. Сейчас там частное владение, но мне любезно дозволили продолжать лечение.
— Ах вот оно что! Это все объясняет. Вы не были ни в Пломбьере, ни в Баньер-де-Люшоне, а сидели в Париже!
— Ну разумеется! Кто вам сказал, что я уехал из города?
— О, это было просто предположение. Так, собственно, чем могу помочь?
— Проводите меня до дома, я покажу вам пряник, и если вы сочтете необходимым, мы предъявим его как улику в суде. Не хотелось бы мне разделить судьбу Тони и Жоашена.
Виктор задумался Кэндзи придет в ярость, если ему позвонить из квартиры в такой час. Лучше уж потом извиниться за опоздание. Что до Таша… Только бы она не подслушала беседу с Паже!
Но Таша подслушала. Тихонько выскользнула за мужем в прихожую и уловила обрывки разговора. Когда Виктор вернулся в альков, она уже снова лежала на бержерке. Он застегнул пиджак, надел шляпу, взял трость и перчатки и наклонился поцеловать жену.
— Что, какому-то клиенту не терпится раздобыть книжную диковинку, милый?
— Какая проницательность! Так и есть. Я буду к вечеру. Не вздумай рисовать за мольбертом. Скоро придет Эфросинья и накормит тебя своим фирменным рагу.
— Чтобы меня еще больше разнесло вширь? Ну уж нет!
— Подумай о ребенке.
— Ты тоже о нем не забывай. Поменьше слушай сказки своих знакомцев.
— Не понял, это намек на какой-то конкретный эпизод?
— Нет, это скорее мой совет самой себе. Я вспомнила про концерт в Катакомбах. Айрис почему-то думает, что вы с Жозефом были там в тот вечер, хотя на самом деле вы же работали в библиотеке герцога де Фриуля, правда? Впрочем, у нее буйное воображение… Иди, милый, а то твой клиент и графиня де Салиньяк уже истомились.
Виктор озадаченно посмотрел на жену, хотел что-то сказать, но вышел из дома, не проронив ни слова и размышляя, что могло означать загадочное выражение ее лица.
Огюстен Вальми нервничал. Фиакр, на котором он ехал, намертво застрял в потоке других транспортных средств и отказывался двигаться с места.
«Я их потеряю, — сокрушался инспектор, — непременно потеряю, вот же невезение!»
Выскочив на проезжую часть, он бросился бежать, петляя между экипажами, чтобы хотя бы запомнить номер пролетки, на которой укатили Виктор и его гость. Но пролетки нигде не было видно.
Ламбер Паже попросил кучера высадить их на набережной Пасси.
— Сейчас пройдем по проезду Дез-О,
[831] поднимемся по лестнице и окажемся как раз на улице Ренуар. Там я и живу, — пояснил он Виктору.
Виктор подивился архитектурной причуде: Эйфелева башня на Левом берегу огромной ажурной буровой вышкой вздымалась над этой дорогой, словно вынырнувшей из прошлого. Здесь пересекались два мира — один ощетинился арматурой, воздел железные балки, норовя проткнуть облака, второй будто сошел с какой-нибудь гравюры Гюстава Доре. Склон был крутой, и Виктор пожалел, что надел жесткие ботинки — ступеньки, в трещинах и выбоинах, могли бы привести в восторг разве что овечью отару. Они резко уходили вверх по откосу от одной стены — низенькой, увитой плющом, до другой — высокой и заросшей мхом. Виктор заметил столб с кронштейном и крестовиной — остатки фонаря с масляными лампами, такого же, как тот, что сломал Жан Вальжан в «Отверженных», убегая от полицейского Жавера у монастыря Пти-Пикпюс.
Дальше Виктор вслед за Ламбером Паже прошел под аркой, оказался на улице Ренуар и словно вернулся в цивилизацию — перед ним снова были многоэтажные дома, павильоны, бутики, экипажи. Между делом Паже, как заправский чичероне, показал ему дом Бенджамина Франклина, где тот проводил первые опыты с громоотводами. Сам Паже жил в доме номер 42, где сдавались меблированные комнаты, по соседству с шансонье Беранже.
Они дошли до номера 27 и свернули в ворота, через которые с любезного дозволения баронессы Бартольди Ламбер Паже беспрепятственно проникал в парк Делессер, куда прочим любителям минеральных вод доступ теперь был заказан.
[832] По словам Паже, раньше это местечко привлекало многих адептов целебных вод — в том числе знаменитостей, таких как мадам де Тансен,
[833] Жан-Жак Руссо и Бенджамин Франклин.
— Некогда аббат Лерагуа, казначей мадам де Ментенон, купив эти владения, обнаружил, что приобрел вместе с ними истинное сокровище — три источника минеральной воды. И таким образом с тысяча семьсот двадцатого года Пасси прославился, — сообщил Ламбер Паже, слегка задыхаясь на ходу. — В действительности источники в Пасси были открыты еще в середине семнадцатого века. Затем ученые мужи изучили целебные свойства вод и установили, что воды эти «железистые» и «бальзамические». Некоторые утверждали, что они врачуют женское бесплодие и приливы, — добавил он, уводя Виктора все дальше по холмистым лужайкам, заполоненным полчищами маргариток.
Они прошли мимо шале, который был куплен в Швейцарии в 1825 году, привезен сюда по частям и собран на месте; фасад его украшали резной орнамент и витражи. Глядя на розарий, оранжереи, фруктовый сад, виноградники, Виктор с трудом мог поверить, что он все еще в столице, а река, поблескивающая на солнце вдалеке, — Сена.
— Удивлены, да? А представьте себе цветущую сирень и сотни вьющихся над ней бабочек, более занятых насыщением друг другом, нежели утренней росой на листьях… В тысяча восемьсот двенадцатом году месье Делессер обустроил здесь рафинадную фабрику, на которой впервые стали получать сахар из свеклы. А водолечебницу закрыли лет тридцать назад, но владельцы участка еще долго дозволяли больным продолжать процедуры. Сам я тут пользую железосодержащую воду. Другие источники богаты серой и купоросом.
— Надеюсь, вы эту воду не пьете?
— Пью, но в ничтожных дозах. Что делать, если мой желудок нуждается в ржавчине. Приходится пить, хотя на вкус вода отвратительна и воняет чернилами.
— С тем же успехом можно грызть ржавые ключи, — хмыкнул Виктор.
Почва под ногами стала мягкой и влажной. Они спустились по пологой лестнице и оказались на пороге пещеры, откуда вытекал мутный ручей. Нависшие над ним кроны вековых деревьев сгущали тени, и атмосфера в сочетании со стойким запахом серы не располагала к веселью. Внутри у входа в пещеру стояли вдоль стенки старые глиняные кувшины, когда-то служившие для отстоя воды.
— Так где же вы оставили пряничную свинку? — спросил Виктор, которому захотелось поскорее очутиться подальше от этого места и вдохнуть свежего воздуха.
— Вон там, — указал Ламбер Паже, — справа от того кубического камня.
— А, вижу. Ваше имя написано на ней оранжевой глазурью.
— Нет, розовой, просто в сумраке не разобрать.
Наклонившись, чтобы поднять свинку, Виктор услышал позади шорох, а в следующий миг затылок взорвался болью и перед глазами заплясал хоровод солнечных зайчиков. «Кувшином огрели…» — мелькнула мысль, прежде чем ноги его подогнулись и он упал на замшелый пол пещеры. Солнечные зайчики потухли, мир вокруг погрузился во мрак.
Очнулся Виктор опять же от боли в затылке. Сколько он пролежал без сознания, определить не представлялось возможным. Ему с трудом удалось сначала встать на колени, затем выпрямиться, опираясь на камень. Виктор машинально отряхнул брюки. Чье это тяжелое дыхание шумит в ушах? Его собственное или Ламбера Паже?.. Он огляделся. Паже лежал навзничь у ручья, на его шее алело несколько порезов.
— Господи, ранен! — выпалил Виктор и, доковыляв до неподвижного тела, прижал к царапинам свой платок.
Ламбер Паже захрипел. Виктор похлопал его по щекам, чтобы привести в чувство, и эти нехитрые движения тотчас отозвались очередным всплеском боли в затылке. Ругаясь сквозь зубы, Виктор на коленях подполз к ручью, окунул в него лицо, поплескал водой на голову и зашипел — затылок словно огнем ожгло.
Паже тем временем открыл глаза, закашлялся и попытался сесть.
— Лучше полежите, — посоветовал Виктор.
— Вы кто?
— Легри, книготорговец. Друг. Вы в порядке?
— О нет, едва ли. Что произошло?
— Нас обоих оглушили.
Ламбер Паже схватился за шею, увидел кровь на своих пальцах и в ужасе уставился на Виктора..
— Не волнуйтесь — по-моему, это всего лишь царапины. Давайте я помогу вам подняться… Чертовы ботинки… скользят… Так, держитесь за мое плечо… — Виктор поставил собрата по несчастью на ноги, с трудом подобрал с пола свою шляпу, трость, перепачканные перчатки.
— Кто оглушил? Зачем?.. Ай! — Ламбер Паже пошатнулся, но устоял.
— Чтобы забрать пряничную свинку. Видите, ее нет?
— Но это же бессмысленно! Зачем ее тогда мне прислали?
— Ох, мой платок уже ни на что не годится… — Виктор снял свою любимую голубую рубашку и обмотал ее вокруг кровоточащей шеи Ламбера Паже. Он надеялся, что под английским пиджаком не будет видно, что на нем только майка.
Подняться по ступенькам было делом нелегким. Несколько раз они чуть не покатились вниз друг за другом — то Виктор терял равновесие, то Ламбер Паже вдруг повисал на нем, как тряпичная кукла, набитая не ватой, а кирпичами. И оба опасались, что враг поджидает их наверху. Но там никого не было. По счастью, и свидетелей их возвращения через парк поблизости не оказалось — только кипарисы свысока взирали на двух бедолаг среди деревьев пониже, высаженных в шахматном порядке.
— Я бы предпочел, чтобы баронесса Бартольди не выбрала этот благословенный час для своей прогулки, — пробормотал Паже. — Должно быть, мы выглядим как два пьянчуги или того хуже — как уличная шпана, попавшая в переделку.
— Уж в переделку-то мы точно попали, — проворчал Виктор.
На улице Ренуар внимания прохожих избежать не удалось. Какой-то шалопай даже запустил в них пригоршней щебня с воплем:
— Глядите на верблюдов! В хлам упились!
— Ну надо же! — вконец огорчился Ламбер Паже. — Я ж никогда ни капли!
У дверей собственного дома он неожиданно уперся — наотрез отказался входить из страха, что убийца подкарауливает его в комнате, но после уговоров Виктора все-таки сдался. На площадке второго этажа навстречу им попалась пожилая дама и заохала при виде соседа:
— Ой-ой, месье Паже, что это вы так закутались? Неужто простыли?
— Да-да, мадам Шанак, ужасно разболелось горло.
— Я вообще-то иду на рынок за репой, но это может подождать. Давайте-ка я приготовлю вам отвар из просвирняка.
— Что вы, не утруждайтесь.
— Напрасно отказываетесь, очень действенное средство. А грелка у вас есть? Могу одолжить…
Вместо благодарности Ламбер Паже захлопнул дверь прямо перед носом сердобольной соседки и сразу бросился на кровать, на которой, как заметил Виктор, простыни не меняли, похоже, с прошлого лета — были они засаленные, скомканные, щедро усыпанные крошками и, помимо одеяла, несли на себе массу вещей, не имеющих отношения к постельным принадлежностям.
Виктор подложил хозяину апартаментов под голову подушки в пожелтевших наволочках. Кровь на шее подсохла, порезы действительно оказались неглубокими, но Паже повезло, что нападавший не задел сонную артерию. Виктор осторожно ощупал его затылок — под волосами обнаружилась незначительная шишка, такая же, как у него самого.
— Ну как? Я серьезно ранен? — слабым голосом вопросил Ламбер Паже.
— Нет. Нужно продезинфецировать и перевязать ваши царапины, они быстро затянутся. По-моему, со стороны нападавшего или нападавших это было что-то вроде предупреждения — ведь им не составило бы труда перерезать вам яремную вену, а они оставили всего-то пару ссадин. Меня же и вовсе просто оглушили…
— Куда вы? Не уходите!
— Я ищу, чем бы промыть и забинтовать вам шею.
— Раковина на лестничной площадке. Только убедитесь, что мадам Шанак убралась восвояси, а то она способна всполошить всю округу.
Пока Виктор суетился вокруг раненого, тот проявлял полнейшее бездействие.
— У вас найдется бинт? Или чистая тряпица?
— В шкафу есть простыня, разорвите ее на полосы.
— Вообще-то ей место на вашем матрасе…
— Ничего, обойдусь. Рвите без зазрения совести.
Виктор послушался, и когда перевязка была закончена, лицо Ламбера Паже словно выглядывало из огромного снежного кома.
— Попытайтесь немного поспать, а потом сходите к аптекарю или к врачу, — посоветовал ему Виктор.
— И что же я им скажу? — скривился Паже. — Что меня сбил омнибус?
— Придумайте что-нибудь поправдоподобнее, язык у вас хорошо подвешен. К тому же как только вы выложите деньги за лечение, вопросы о происхождении ваших ран у врача и аптекаря отпадут сами собой, ничего объяснять не придется. А теперь позвольте вас покинуть — мои совладельцы уже, наверное, соскучились.
…Жил на свете человечек,
Сам не больше воробья.
На охоте настрелял он
Много дикого зверья.
— Это я, Адонис. Охота и правда была удачной.
Мельхиор Шалюмо запер дверь своей каморки, потер ручки и принялся раздеваться.
— Все прошло отлично, Адонис! Никто меня не заметил. Признай же, что я не лишен гениальности! Достаточно было нахлобучить берет, накинуть школьную пелеринку, влезть в пару галош, замотаться шарфом до
самого носа, и — оп-ля! — перед вами миленький маленький мальчик, на которого никто не обращает внимания! За ними нужно было непременно проследить, понимаешь? Этот книготорговец, повсюду сующий нос, начинает меня нервировать… Ты что, не слушаешь, Адонис? Ах да, сочувствую, у тебя, надо думать, ужасно болит шея, но у меня хлопот полон рот, так что не могу прямо сейчас тебя полечить. Не хнычь, потерпи еще немного.
Мельхиор надел узкие брючки, хлопковую рубашку и темно-серый пиджак, аккуратно запаковал школьную одежду и положил ее на молельную скамеечку.
— Нужно вернуть эти тряпки в магазин. Знаешь, Адонис, упросить кучера следовать за пролеткой моей тетушки Аспазии, которая забыла меня, малютку, в «Магазэн дю Прентан», было нечеловечески просто. Он скушал мою байку и не подавился, к тому же я заранее отсыпал ему царские чаевые. Самым неприятным было то, что мне пришлось пожертвовать усами и побрить ноги. Ну да ничего, волосы отрастут! Коли собираешься сыграть роль надлежащим образом, нужно быть готовым войти в соответствие с ней, а чтобы войти в соответствие с ней, нужно в нее вжиться… Так, почти полдень. Надо срочно разыскать этого пьянчужку Рике. Он сейчас наверняка ошивается где-то в окрестностях казармы пожарных — ждет, что ему поднесут стаканчик вина…
По причине отсутствия фиакров на улице Ренуар Виктору пришлось свернуть на улицу Бертон. Он шел, не видя ничего вокруг и под ногами, по маковому цвету и заячьей капусте, пробивающимся меж булыжников мостовой, мимо дома, где когда-то жил Бальзак, и лечебницы для нервнобольных.
[834] Лишь пение петуха за кованой решеткой в обширном саду, по которому бродили неврастеники, и Эйфелева башня впереди, чей силуэт четко выделялся на сером фоне квартала Гренель, ненадолго отвлекли его от напряженных размышлений.
На набережной Пасси кучер из компании «Юрбен» принял Виктора на борт желтой колымаги. Виктор забился в угол, привалился к оконному стеклу. От усталости и пережитых эмоций страшно хотелось спать, но нужно было еще придумать объяснение своему двухчасовому опозданию…
Кэндзи, раздираемый гневом и беспокойством, побарабанил пальцами по бюстику Мольера на каминном колпаке и прервал замысловатый рассказ Виктора — речь в нем шла о падении с велосипеда и о пустячном ударе затылком о мостовую.
— И вы полагаете, я поверю в эти бредни? Кстати, вы обращались к врачу? Нет? Я сейчас же вызову доктора Рейно, вам необходимы компресс и постельный режим.
— Что вы, нет смысла беспокоить доктора из-за какого-то синяка. — Помолчав, Виктор добавил, что успел прийти в себя в кафе, рядом с которым и случилось это досадное, но не стоящее внимания происшествие, и что велосипед и грязную рубашку он оставил у хозяина заведения.
— Стало быть, вам нужна рубашка, — решил Кэндзи. — Поднимитесь на второй этаж, Джины сейчас там нет. Все необходимое вы найдете в моей спальне. К рубашке можете подобрать галстук-«бабочку». Жозеф скоро придет, а у меня через час назначена экспертиза.
Пока Виктор наверху напряженно размышлял над двумя рубашками — шелковой бежевой и льняной белой, не зная, какую выбрать, Кэндзи вспомнил слова Таша, которая телефонировала ему сегодня утром: «Мы с Айрис уверены, что они снова взялись за старое и затеяли очередное расследование. Умоляю, присмотрите за ними, мы не хотим, чтобы наши дети стали сиротами».
Виктор подошел к большому зеркалу и окинул взглядом свое отражение в полный рост. Обнаружив, что отворот на одной штанине помялся, он наклонился расправить ткань, заметил под складкой странный отблеск, как будто туда завалился кусочек металла, попытался его достать и едва не вскрикнул — на указательном пальце появился глубокий порез, полилась кровь. Бросившись в ванную, Виктор сунул палец под струю холодной воды, забинтовал порез и вернулся в спальню посмотреть, что же его поранило. На ковре лежало тончайшее прямоугольное лезвие с острыми краями. Виктор аккуратно завернул его в лист бумаги, прихваченный со стола Кэндзи, спрятал в карман и направился к винтовой лестнице, соединявшей книжную лавку с жилыми помещениями. Проходя мимо кухни, он коротко поприветствовал Мелию Беллак, чистившую морковь.
— Великолепно, — проворчал Кэндзи, оценив выбор Виктора. — Это моя любимая. Что может быть элегантнее белой сорочки с черной «бабочкой»? Берегите ее. А теперь вы скажете мне, кто на вас напал.
Виктор изобразил полнейшее непонимание.
— Не надо мне тут разыгрывать святую невинность! — рявкнул Кэндзи. — Вы ничуть не изменились с тех пор, как я с вами познакомился. С младых ногтей обладаете даром убедительно отрицать очевидное. Еще ребенком вы лгали не краснея и делали это так обаятельно, что любой другой на месте вашего батюшки тотчас простил бы вам кражу сладостей из буфета. Сейчас происходит то же самое, только за пазухой вы прячете от близких уже не мармеладки, а кое-что посерьезнее, и с каждым годом ваши тайны все опаснее. Когда ж вы наконец осознаете свою моральную ответственность перед теми, кто вам дорог? И мой неугомонный зять от вас не отстает! Да вы скоро отцами станете, надо же думать о детях, черт побери!
— Кэндзи, ругаться вам как-то не к лицу…
— А вам не к лицу лукавить! Черт побери и еще раз черт побери! Вы не только отрицаете очевидное, но еще и насмехаетесь надо мной! Вы составляли опись библиотеки герцога де Фриуля, да? А может, нет? Может, вы были на ночном концерте в Катакомбах? Что вы там затеяли совместно с княгиней Максимовой, а?
— Ах, стало быть, Эдокси по-прежнему развлекает вас… сказками? Джине не понравится, если она об этом узнает.
Побагровев от ярости, японец нахлобучил цилиндр и грозно потряс в воздухе тростью с нефритовым набалдашником:
— Ну разумеется, лучшая защита — это нападение! Однако вы так просто не отделаетесь! Если я узнаю, что вы с Жожо все-таки ввязались в расследование, я вам… уши надеру!
— Это доказывает, что вы видите во мне сына, которого у вас никогда не было, — расплылся в улыбке Виктор. — И я счастлив.
— Паяц! — Кэндзи устремился прочь и так хлопнул дверью лавки, что колокольчик зашелся в истерике.
А Виктор возблагодарил небо за то, что в торговом зале все это время не было ни единого покупателя.
Через несколько минут вбежал Жозеф и уставился на коллегу круглыми от удивления глазами:
— Мне почудилось или это действительно Кэндзи сейчас промчался мимо, бормоча под нос проклятия?!
— Он подозревает, что мы опять ведем расследование, — вздохнул Виктор. — Кстати, пока не нагрянули клиенты, я должен поведать вам о моих сегодняшних приключениях.
Он вкратце рассказал о паломничестве с Ламбером Паже к минеральным источникам в Пасси и о нападении, которому они оба подверглись.
— Мне не дает покоя эта цепочка нелогичных поступков. Кто-то пытается убить Ламбера Паже, послав ему отравленную пряничную свинку. Затем мы с ним попадаем в ловушку, а свинка исчезает. Может, это был безобидный пряник, такой же, как тот, что чуть не съела Таша? При том Паже все же здорово досталось — ему порезали шею. Вероятно, вот этим. — Виктор достал из кармана упакованное лезвие и развернул бумагу. — Что это, по-вашему?
— Очень похоже на то, что я видел в рекламном проспекте, который мне показал племянник Анисэ Бруссара, владельца скобяной лавки. Я бы сказал, что это лезвие для бритвы «Кинг Кэмп Джиллетт», новомодного американского изобретения.
— Сегодня же надо убедиться наверняка. Отправляйтесь на улицу Вут, я подежурю в лавке.
— А если этот питекантроп, племянник Бруссара, и меня порежет?
— Вас? Ни в коем случае, вы же мастер выпутываться из опасных ситуаций, вас этому учили Эмиль Габорио и Конан Дойл!
— Но на их героев никто не нападал с лезвиями и смертоносными пряничными свинками!
— Зато вы превосходите своих наставников силой воображения. А я, как только отделаюсь от графини де Салиньяк, грозившейся нас сегодня посетить, закрою лавку и отправлюсь спать — жутко болит голова. Не телефонируйте мне сегодня — завтра увидимся.
Мельхиор Шалюмо как раз собирался прошмыгнуть мимо владений вахтеров, когда на его плечо легла чья-то рука. Человечек вздрогнул, будто его укусили, и обернулся. Вот оно что, его напугала эта русская кукла. И какого же черта? Жаль, что она всего лишь упала тогда на сцене в первом акте «Коппелии»…
— Малютка Мельхиор, можно вас на минутку? Я хотела попросить об одной услуге… — Балерина увлекла его в коридор и присела на корточки, чтобы разговаривать лицом к лицу.
«Жеманница! Плутовка!» — мысленно вознегодовал Мельхиор.
— Дело касается Амедэ Розеля. Он у меня ужасно ревнивый и вечно выдумывает невесть что. Вбил себе в голову, что я дарю своей благосклонностью множество мужчин. С Тони Аркуэ, дескать, любезничала, с Жоашеном Бланденом, земля им пухом, а теперь вот с Анисэ Бруссаром.
— А я-то здесь при чем? — буркнул Мельхиор.
— Было бы очень любезно с вашей стороны заверить Розеля в том, что я живу только искусством, мечтаю лишь танцевать — а это есть чистейшая правда, — что я сама добродетель и никогда-никогда не ступала на путь порока… В общем, вы меня понимаете.
— Ничего я не понимаю.
Ольга Вологда выпрямилась, слащавый тон ее изменился:
— Не делайте вид, что вы глупее, чем есть на самом деле. Я давно за вами наблюдаю и пришла к выводу, что истинный хранитель Опера — это вы, а не какой-нибудь остолоп Марсо. Стало быть, если вы, человек, пребывающий в курсе всех амурных делишек балерин, засвидетельствуете Розелю мое безупречное поведение, он вам поверит и будет по-прежнему отстаивать мои интересы перед дирекцией театра. В противном случае…
— Это что, ультиматум? Мне? Как вы смеете!
— В противном случае, — продолжила Ольга, не обращая внимания на возмущение человечка, — я вынуждена буду открыть руководству глаза на некоторые ваши поступки. Ваше поведение, в отличие от моего, не так уж безупречно. Посему в наших с вами общих интересах договориться.
Мельхиор смерил балерину злобным взглядом, но, поразмыслив, кивнул, не сказав ни слова. Ольга торжествующе улыбнулась, тоже кивнула — в знак благодарности, — но Мельхиор уже демонстративно отвернулся.
К своему убежищу на седьмом этаже он прискакал с проворством зайца, преследуемого сворой собак, убедился, что его там никто не подстерегает, и лишь тогда отворил дверь.
— Дорогой Адонис, молчок, рот на крючок — сейчас я пополню свою коллекцию еще одной бесценной вещицей.
Открыв ларец «Саламбо», Мельхиор положил туда пряничную свинку, на которой розовой глазурью было написано имя, полюбовался и с довольным видом захлопнул крышку. Затем еще раз оглядел результат «лечения» Адониса — сегодня он починил манекен, и тот снова мог озирать окрестности, выпрямившись во весь рост.
— Чертов книготорговец хотел тебя убить, Адонис. Проныра! Влез в мой дом! О Всемогущий, не обойди меня Своей милостью, защити от злоумышленников, норовящих изгнать меня из этой тихой гавани!
Мельхиор перекрестился и, поднявшись на цыпочки, чмокнул Адониса в щеку.
Осторожно заглянув в недра скобяной лавки из-за траурного полога, по-прежнему висевшего на входе, Жозеф помялся на пороге, но все же осмелился ступить в логово людоеда, поджидавшего его там. И с облегчением обнаружил, что торговый зал пуст. Вот и славно, лучше зайти в другой раз. Он собрался уже развернуться, но из глубины помещения его окликнули:
— Чего изволите?
За прилавком стоял вовсе не бородатый лицемер, а незнакомец лет пятидесяти, широкоплечий и приземистый. Красный нос выдавал склонность своего владельца к крепким напиткам, которую опровергал ровный, поставленный голос.
— Вы месье Анисэ Бруссар?
— Он самый, и пусть кто-нибудь попытается оспорить мое право носить это имя.
— Мои соболезнования, — поспешно сказал Жозеф, чтобы Бруссар не заподозрил его в намерении оспорить право.
— По поводу? — удивился хозяин заведения. — Я вроде жив-здоров. Правда, так понервничал нынче утром из-за мадам Марут, что чуть удар меня не хватил.
— Мадам Марут? Дама с тростью? — вспомнил Жозеф.
— Вы ее родственник?
— Нет, просто видел ее здесь, когда вы были в Гавре.
— Ох уж она нам сегодня устроила! Представьте себе: впервые за все мои годы работы у покупательницы случился сердечный приступ прямо в нашем торговом зале! Я тотчас отправил Антельма звать пожарных, чтобы отвезли ее в больницу — старуха-то уже посинела, так что спас я ее, считайте, она мне теперь жизнью обязана! Ну вот, пожарные приехали и вовремя доставили ее к врачу, а я потерял полдня, отвечая на вопросы полицейских. С мадам Марут теперь все в порядке, но мне-то каково пришлось! И что за причуда в ее-то возрасте спускаться по лестнице на шесть этажей из-за жирного кота, который, видите ли, завел привычку дрыхнуть на ее швейной машинке!.. Так, собственно, почему вы мне соболезнуете?
— Но ведь… ваша супруга…
— Ах да, бедняжка Берта, — спохватился Бруссар. — Верно, верно. Прошу прощения, я совсем закрутился, вымотался ужасно — этот съезд владельцев скобяных лавок, путешествие туда-обратно, мадам Марут вот сегодня… Голова кругом идет. Вы были знакомы с моей покойной женой?
— Не имел чести. Я знаком только с вашим племянником Антельмом. Он здесь?
— Пошел кормить Гару, кота мадам Марут. Этого зверя на ярмарках нужно показывать за деньги — он весит килограммов десять, не меньше. Так что Антельм вернется нескоро — поди накорми такого проглота.
«Нескоро, и отлично», — подумал Жозеф. За время разговора он подошел к прилавку в глубине помещения; на прилавке в скудном свете поблескивали несколько кастрюль.
— Ваш адрес дал мне один из моих клиентов, когда я обмолвился, что собираюсь обзавестись кухонной утварью. Ламбер Паже.
— Неужели? Пару дней назад он сюда заходил, но я был в отлучке. Да-да, как раз тринадцатого числа он наведался, а я тринадцатого ездил в Эрменонвиль. О, не для того чтобы полюбоваться сельскими красотами — нужно было провести испытания нового станка для бритья. Ламбера Паже принимал Антельм и совсем его заболтал, расхваливая наши товары, а Паже такие разговоры терпеть не может — его интересуют только биржевые котировки.
— Да уж, ваш племянник за словом в карман не полезет — я войти не успел, а он мне уже выложил все о достоинствах механического противня, универсальной газовой плиты, кофемолок и детских колясок, без которых я прекрасно обходился, а теперь вот задумался.
— Это он умеет. А Ламбер — славный парень. В последний раз мы с ним виделись при трагических обстоятельствах, когда утонул один наш общий знакомый. Дело на свадебном гулянье было. Потом я узнал, что жених, инспектор сцены в Опера по имени Аженор Фералес, упал в люк и разбился насмерть. Решительно, я…
— Так я, собственно, нигде не могу застать Ламбера, — перебил Жозеф. — Ничего не можете подсказать?
— Ну, кроме того, что он постоянно бывает на Больших бульварах, в «Островах удачи» или у себя дома в Пасси…
— В Пасси пусто. Что любопытно, соседка Ламбера рассказала мне, что видела порезы на его шее. Это мне сразу напомнило о новой бритве, устройство которой описал мне ваш племянник. Называется… э-э… какая-то американская модель.
— «Кинг Кэмп Джиллетт»? Вот ведь дубина стоеросовая, все выболтал раньше времени! — разволновался Анисэ Бруссар. — «Джиллетт» еще не вышел на французский рынок, у меня эксклюзивное право на продажу. Надеюсь, вы не собираетесь перебежать мне дорогу? Предупреждаю: я уже подписал контракт!
— Заняться сбытом средств гигиены? Мне, книготорговцу? Да вы шутите! Кстати, Ламбер Паже заказал у меня очень ценное издание и даже заплатил аванс, поэтому…
— Так вот, я, единственный владелец права на распространение этой бритвы и единственный человек во Франции, проверивший ее на практике, гарантирую вам, что сие изобретение ждет блестящее будущее!
Жозеф вздохнул. Либо Бруссар ловко ломает комедию, либо он не имеет отношения к порезам Ламбера Паже. А значит, в деле может быть замешан его племянник…
— Знаете, я не слишком разбираюсь во всех этих механических штуках, — пожал плечами Жозеф, направляясь к выходу из скобяной лавки, — но ваш «Джиллетт» показался мне удобным изобретением. Станок ухватистый, бритвы менять можно. Их продают упаковками по десять штук вроде бы?
— Этот дурень Антельм совершенно не умеет держать язык за зубами! — снова возмутился Анисэ Бруссар. — Да, упаковками по десять штук. Погодите-ка, я кое-что вспомнил. У Ламбера же есть любовница, какая-то актрисулька или танцовщица, имя вот забыл… Ах да, она обычно представляется Королевой Маб. Предсказывает будущее по кофейной гуще и выступает с двумя мартышками в «Фоли-Бержер». Можете у нее про Ламбера спросить.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Пятница, 16 апреля
— В «Фоли-Бержер»? Сегодня вечером? Вы в своем уме? — прошептал Виктор Жозефу в подсобке, откуда они наблюдали за единственным клиентом, увлеченным поиском романтической литературы.
— Шишка у вас на затылке уже сдулась, вы в полном порядке, разве нет? А железо, как известно, надо ковать, пока горячо. Наши жены, между прочим, не дремлют и воспользуются любым предлогом, чтобы посадить нас под домашний арест и лишить возможности расследования. Я уж не говорю про свою матушку и Кэндзи.
Виктор задумчиво потер подбородок — его не прельщала перспектива вернуться домой поздно и застать Таша на грани нервного срыва. Раз уж их эскапада в Катакомбы раскрыта, совершенно очевидно, что теперь лишь предельная осторожность и беспримерная хитрость позволят им продолжать расследование.
— Хорошо, как только этот клиент определится наконец с выбором между Готье, Виньи и Ламартином, мы протелефонируем женам и… Что? Что с вами, Жозеф?
Молодой человек, устремив взгляд поверх плеча Виктора, отчаянно закашлялся. И в этот момент на входной двери зазвенел колокольчик. Охваченный недобрым предчувствием, Виктор обернулся. Дама, тощая, как Росинант, в чопорном туалете канареечного цвета, таращилась на него в лорнет. Сразу появилось неприятное ощущение, будто в него, как в коллекционную бабочку, втыкается булавка. А Бланш де Камбрези продолжала его неприветливо рассматривать, на ее овечьей мордочке не было и следа симпатии. Явилась она на сей раз не одна — рядом стояла миниатюрная старушка с темной кожей и белоснежными курчавыми волосами. Одета она была в черное, на голове красовалась круглая плоская шляпка. В торговом зале медленно сгущалась грозовая атмосфера — до тех пор пока длинная физиономия мадам де Камбрези не растянулась в хитрой улыбке:
— Месье Легри, я привела к вам знаменитость, увлеченную коллекционированием инкунабул. Насколько мне известно, у вас богатое собрание книг по оккультным наукам, и посему я предложила моей гостье, госпоже Эванджелине Бёрд, посетить вашу пещеру сокровищ.
Виктор уже обрел связь с суровой реальностью и сразу включился в деловой разговор.
— Для меня это большая честь, однако боюсь вас разочаровать Жозеф! Принесите стулья для наших дам.
Он отошел с мадам де Камбрези к книжным полкам, а Жозеф поволок стулья в торговый зал, и лицо у него при этом было такое, будто его ждет встреча с двумя тарантулами.
— Не стоит выставлять напоказ вашу неприязнь к мадам де Камбрези, юноша, — шепнула ему госпожа Эванджелина Бёрд, усаживаясь и снимая перчатки. — Лучшее средство против злых языков — безмятежная мина и молчание.
Жозеф удивленно воззрился на старую темнокожую женщину, на ее иссохшие руки. Она в свою очередь весело взглянула на него:
— Я родилась в тысяча семьсот девяносто третьем году, вы ведь это хотели узнать? Скоро мне предстоит ступить по ту сторону зеркала иллюзий, но прежде чем путешествие в зазеркалье состоится, я успею сказать, что вам уготовано в будущем. Ваша буйная фантазия принесет плоды, у вас впереди долгие годы, насыщенные событиями, пользуйтесь этой передышкой — она продлится семнадцать лет.
— А потом?
— Потом грядут страшные потрясения, но вас и ваших близких они не коснутся. — Эванджелина Берд поднялась с живостью молоденькой девушки. — Покажите мне сокровища, те, что я мельком заметила в комнатке у входа.
Эта комната была набита книгами, посвященными странам, которые Кэндзи Мори посетил десятилетия назад, и разными диковинками. Застекленный шкаф хранил невиданные редкости: первое издание «Свадебных и погребальных церемоний Японии» 1819 года соседствовало там с сочинением об ужасающих условиях, в каких негритянских рабов перевозили в корабельных трюмах в Америку. Госпожа Эванджелина Бёрд вполголоса прочитала название:
— «Крик африканской души в знак протеста угнетению ее европейцами». Я слышала об этой книге — самом знаменитом обличительном трактате Томаса Кларксона против рабства, но никогда не видела ее.
Рядом в переплете, обтянутом светлой крапчатой замшей, лежало издание «The Kingdom and People of Siam»,
[835] а подле него — анонимная реляция о научных изысканиях в Порто-Рико, открытая на цветной гравюре с изображением стада диких свиней.
— Это знак, — едва слышно произнесла госпожа Эванджелина.
— Знак? Какой знак? — удивился Жозеф.
Она не ответила, отошла от шкафа и задержалась перед выложенными в ряд стальными гребнями, расческами, металлическими заколками с острыми стержнями и прочими чудесами ремесленного искусства.
— С каким мастерством это сделано! Решительно, браслеты с сердоликом, колчаны и сарбаканы занимают меня куда больше, чем книги о магии.
Едва оставшись наедине с Виктором, Бланш де Камбрези дала волю своей страсти к сплетням.
— Знаете ли вы, что звезда русского балета, Ольга Вологда, крутит амуры с подданным ее величества королевы Английской? Она бросила месье Розеля ради борца за чистоту окружающей среды, некоего Алистера Пейлтока, и сейчас они уже на пути в Овернь, в его замок в Амбере. Там она сможет танцевать бурре до посинения!
— Признаться, эта новость не вызывает у меня интереса.
— Да неужели? А как же ваша дорогая подруга Эдокси? Она ведь теперь окажется на улице, поскольку и речи не может быть о том, чтобы ей остаться в квартире месье Розеля — что скажут люди? Бедная, бедная княгиня Максимова, одна-одинешенька, без угла! Я посоветовала ей обратиться к вашему совладельцу-азиату, но кажется, он уже кого-то приютил, не так ли?
— Мой приемный отец и матушка моей супруги питают друг к другу взаимную симпатию.
— Какая ирония судьбы: семейная склонность к франко-русским союзам! Или в данном случае союз лучше будет назвать японско-еврейским?
— Как вам угодно, дорогая мадам. Вы, собственно, ищете какое-то определенное издание?
Госпожа Эванджелина Бёрд отступила на шаг от драгоценной коллекции Кэндзи Мори, чтобы получше рассмотреть два деревянных щита, украшенных резными изображениями животных.
— Вот опять ваш нынешний тотем, он появляется уже во второй раз — это доброе предзнаменование.
— Пред… предзнаменование? — пробормотал Жозеф. — Это… это же кабан! А на гравюре были… свиньи. Как… как же это возможно?
— Нет ничего невозможного, мой мальчик, вы должны научиться читать самые незаметные и незначительные знаки. Незаметные и незначительные — наиболее важные, нужно им верить и толковать их, доверяясь интуиции.
Жозеф покраснел от волнения, капля пота скатилась по виску, сердце заколотилось сильнее.
— Откуда вы знаете?..
— Порой у меня бывают видения. Каждый из нас способен их воспринять, но человеческое общество стало насквозь материалистичным, и большинство его членов слепы, глухи и нечувствительны к отголоскам потустороннего. Надо постоянно быть начеку, чтобы не пропустить их. Я с младых ногтей научилась ценить то, что вы, люди, называющие себя цивилизованными, почитаете бессмысленным. Вы мчитесь вдогонку прогрессу, полагая, что он облегчит вашу жизнь. Но прогресс вас только портит, превращает в животных — взгляните, что сделалось с этой планетой: повсюду несправедливость, эксплуатация, бойни…
Жозеф открыл было рот, но не произнес ни звука.
— Нет-нет, я не безумна, юноша! Просто я умею видеть и слышать. И я доверилась именно вам, потому что знаю, что ваш совладелец месье Легри не приемлет мой взгляд на вещи. Он заблуждается. Матушка до сих пор присматривает за ним, защищает…
— Но его мать…
— Давно на той стороне реки, да.
— Вы предсказываете будущее? — спросил Жозеф дрогнувшим голосом.
— Предсказываю, но иллюзий не питаю — мне мало кто верит… Однако в том, что я предчувствую, всегда есть крупица истины. Остерегайтесь расхожих мнений, мой мальчик. — В глазах старой женщины проскользнуло беспокойство. — И будьте снисходительны к мадам де Камбрези — очень скоро вы ее больше не увидите. — Она нахмурилась — картина, представшая перед внутренним взором, вероятно, ей не понравилась. — Что ж, а теперь можете задать мне ваш вопрос, юноша — я же вижу, что вы сгораете от нетерпения узнать ответ.
— Ну… на сегодняшний вечер у нас с месье Легри назначено некое предприятие, и…
— И вы оба ломаете голову, измышляя убедительную ложь для своих жен. — Госпожа Эванджелина Бёрд подошла ближе к Жозефу, и тот окаменел, завороженный зеленоватым блеском ее глаз. — Сегодня «Магазэн дю Прентан» будут работать всю ночь. Парочка слюнявчиков и распашонок станут превосходным предлогом для отлучки и надежным алиби. И помните: никому ни слова о нашем с вами разговоре. Выдавать священные тайны — дело опасное.
Жозеф хотел заверить, что не выдаст, но перехватило горло — он лишь издал звук, похожий на «да», и кивнул.
— Не переживайте так, мой мальчик. Единственное, что имеет значение в этом мире, — способность дарить радость и счастье тем, кого вы любите.
— Я вас обожаю за то, что вы дали мне возможность увидеть эти чудеса! — Джина поцеловала Кэндзи в щеку и смеясь побежала на второй этаж.
Он замер на мгновение, изумленный и восхищенный смелостью своей подруги, потом устремился следом.
— Какая громадина! Должно быть, весит не меньше тонны! — воскликнула Джина, остановившись перед четырехметровой бронзовой статуей Будды. — Очень любезно со стороны господина хранителя коллекции дозволить нам полюбоваться уникальными экспонатами. И самое приятное, что мы здесь единственные посетители. Вы были знакомы с покойным месье Чернуши?
— О да, тогда он был директором Парижского банка и страстным поклонником китайского и японского искусства. Во время поездки на Дальний Восток потратил уйму времени и денег на то, чтобы собрать эти шедевры. В своем завещании он вместе с особняком отписал их Парижу, скоро этот музей откроется для публики.
— Восхитительно! — ахнула Джина при виде картины на высокой, в человеческий рост цилиндрической подставке, которую можно было вертеть, чтобы рассмотреть все фрагменты.
— Это очень древнее какэмоно,
[836] — принялся рассказывать Кэндзи. — На нем изображен Бэнь-Гунь, его страсть — охота на летучих мышей, а обязанность… пожалуй, Бэнь-Гуня можно уподобить христианскому святому Петру. Так вот, его страстью пользуются нечистые души, стремящиеся попасть на небо. Они берут с собой летучих мышей, выпускают их, Бэнь-Гунь бросает вахту у небесных врат и устремляется за крылатыми созданиями, а нечистые души таким образом обманом проникают в рай.
— Это же безнравственно, — поморщилась Джина.
— А вы думаете, что люди, переступая черту жизни, сразу начинают хорошо себя вести?
Джина хмыкнула и подошла к витрине, на которой были выставлены изящные шкатулки, покрытые красным и золотистым лаком.
— Что это?
— Инро. Внутри этих шкатулок несколько отделений — для снадобий, целебных трав, табака, монет. Их крепят к поясу с помощью нэцкэ — маленьких статуэток в виде животных, цветов, фруктов или мифологических персонажей. — Кэндзи привлек Джину к себе и ласково коснулся ее щеки. — Вы устали, моя дорогая, пойдемте отдохнем в парке на свежем воздухе, а потом отправимся обедать.
Они прошли по авеню Веласкеса и ступили в тень высоких деревьев парка Монсо. Миновали колоннаду, окружающую пруд, полюбовались гротом с искусственными сталактитами, из которого струился водопад, одолели итальянский мостик — копию венецианского Риальто, — и сели на скамейку под зелеными кронами рядом с детской площадкой. Карапузы, вооруженные ведерками и лопатками, возились в песочнице под бдительным оком нянек в шляпках с разноцветными лентами, девочки играли в «уголки», мальчишки гоняли обручи по аллеям.
Джина крепче сжала локоть Кэндзи; ее переполняли нежность и жизненная сила. Вдруг она заметила странный силуэт — в десятке метров у подножия статуи приплясывал чудной человечек в яблочно-зеленом камзоле и клетчатых пантолонах. Сначала ей показалось, что это мальчик, нарядившийся лесным фавном для какого-нибудь школьного праздника. Но в его манере держаться не было ничего мальчишеского. А тут он еще и запел взрослым голосом на забавный мотивчик:
Человечек жил на свете.
Сам не больше воробья.
«Чик-Чирик!» — кричали дети…
В детстве Джина безоглядно верила в сказки о добрых волшебницах и домашних духах из славянской мифологии. Она очень почитала домового — украдкой клала для него под печку то кусочек хлеба, то какое-нибудь лакомство. А любимая книжка с картинками Кейт Гриневей
[837] уносила ее в сказочные миры, которые представлялись совсем настоящими. Больше всего Джине нравились иллюстрации к «Гамельнскому крысолову».
Человечек улыбался, глядя прямо на нее. Неужели померещилось?.. Джина покосилась на Кэндзи — он дремал. По дорожкам прогуливались пары, дети забавлялись, няньки вязали, болтая о пустяках. Маленькое существо в причудливом наряде казалось не менее реальным и материальным, чем они. Джина наблюдала за человечком, а он шагал к ее скамейке. Остановился, подался к ней всем корпусом и шепнул:
— Ты меня видишь?
— Да… — вконец растерялась Джина.
— Это для Кэндзи Мори. — Он положил ей на колени сверток, перевязанный розовой ленточкой. — От друга, мадам.
— Как тебя зовут, человечек?
— Это секрет. Прощайте. — Странное существо хихикнуло и в считаные секунды исчезло за пышной клумбой.
Джина собралась переложить сверток на колени Кэндзи, но внезапно посылку выхватила у нее чья-то рука в перчатке.
— Не трогайте, мадам, заклинаю вас! Это опасно!
— В чем дело? — очнулся Кэндзи и собрался уже вступить в схватку с нарушителем спокойствия — флегматичным щеголем лет сорока с серо-голубыми глазами и темными волосами, набриолиненными и уложенными на прямой пробор. Поверх элегантного костюма на незнакомце было пальто из вигоневой шерсти.
— Месье Мори, позвольте представиться: Огюстен Вальми, инспектор полиции с набережной Орфевр. — Он достал из кармана платок, затем, осторожно придерживая сверток с его помощью, развязал ленточку, развернул бумагу и извлек на свет пряничную свинку; у нее на боку глазурью было выведено имя «Кэндзи». — Я так и думал, — пробормотал инспектор.
— Что все это значит? — возмутился японец. — Вы напугали мою подругу!
— Прошу прощения, но я должен сообщить вам известия чрезвычайной важности. Мы можем побеседовать наедине?
— Мне нечего скрывать от мадам Херсон. Слушаю вас.
В нескольких словах инспектор Вальми поведал Джине и Кэндзи о недавних событиях.
— Ваш сын и ваш зять ввязались в это дело, да так, что я опасаюсь, как бы они сами не пострадали. Уже есть жертвы, теперь убийца покушается на вас — хорошо что я вовремя успел. Отдам эту пряничную свинку на экспертизу. Когда будут результаты — сообщу вам.
Кэндзи молчал. На лице его ясно читалось смятение, но, поразмыслив немного, он спокойно заключил:
— Стало быть, мальчишки снова разворошили осиное гнездо. Вы сказали, есть жертвы. Как они умерли?
— Отравлены аконитом.
— Но это ведь цветок? Борец?
— Совершенно верно. Очень ядовитый цветок. Яд убивает не сразу и безболезненно, действие его выражается всего лишь в сильном желании уснуть. Четыре грамма яда из корней приводят к смертельному исходу, отравы из листьев понадобится больше — от восьмидесяти до ста граммов, но результат будет тот же. Симптомы — замедление сердцебиения, стесненное дыхание, расширенные зрачки, дрожание членов и страшная слабость. Они проявляются через тридцать-сорок минут после того, как яд попадает в желудок. Определить наличие алкалоида из аконита в организме после смерти можно только путем химического анализа.
— И давно вы знаете об этих преступлениях и о том, что Виктор с Жозефом ввязались в расследование? — нахмурился Кэндзи.
— Какое-то время, — уклонился от ответа инспектор.
— А меня предупредили только сейчас!
— Не волнуйтесь, месье Мори, мои сотрудники не теряют бдительности. У нас уже есть подозреваемый, и мы полагаем, что в его вине можно не сомневаться. Именно он вручил сверток мадам Херсон.
— Тот человечек? — ахнула Джина. — Но он показался мне совсем безобидным!
— Только на вид, мадам. — Огюстен Вальми брезгливо встряхнул платок, держа его двумя пальцами так, будто он пропитан ядом. — Прошу прощения, мне пора в лабораторию. С вами можно связаться по телефонной линии?
— Телефонируйте мне на улицу Сен-Пер, — кивнул Кэндзи. — Но зачем я вам нужен?
— Мы установили наблюдение за вашими сыном и зятем. Если заметим что-нибудь подозрительное, я вас извещу.
Когда инспектор Вальми удалился, Джина схватила японца за руку и подняла на него полные слез глаза.
— Ведь я могла потерять тебя… — прошептала она.
— Ну что ты, — ласково улыбнулся он, — такого не могло случиться, инспектор прибыл вовремя, не переживай понапрасну. А уж с этими двумя шалопаями я еще побеседую по душам, я им…
Кэндзи осекся, и Джина смотрела на него, тоже не говоря ни слова, — оба внезапно осознали, что еще ни разу не обращались друг к другу на «ты».
— Пойдем домой, дорогая. В спальню…
Джина спала. Кэндзи слушал ее ровное дыхание, а за окном бушевал ливень, колотил по стеклу мокрыми кулаками. Кэндзи зарылся лицом в волосы возлюбленной, она открыла глаза.
— Джина, ты счастлива? — тихо спросил он, прижимаясь щекой к ее груди.
— Да. С тех пор как тебя встретила, я живу в радости, я забыла о возрасте. Раньше я занималась любовью потому, что считала это супружеским долгом. О нет, у меня был прекрасный муж, но… только с тобой я узнала, что значит истинное наслаждение, какое это пьянящее чувство…
Кэндзи был благодарен Джине за то, что она никогда не требовала от него пустых пафосных слов — банальностей, которыми принято обмениваться у влюбленных. Люди злоупотребляют словами, и слова теряют смысл. Сколько ночей провел он рядом с женщинами, которые умоляли его: «Скажи, что ты меня любишь! Ну что же ты молчишь?!»
Джина накинула пеньюар и подошла к окну.
— Дождь закончился, солнышко вернулось… Кэндзи, меня беспокоит поведение Жозефа и Виктора. Я за них боюсь. Неужели они настолько безрассудны?
— Не надо за них бояться.
— И все же я боюсь. Всего боюсь. Боюсь счастья, которое на меня обрушилось, боюсь, что оно не продлится долго, боюсь времени, которое мчится вскачь, и бед, которые не смогу вынести…
— «Уступи страху несчастья — и познаешь несчастье страха».
— Опять твои поговорки! — невольно улыбнулась она.
— Это не моя поговорка, а слова Бомарше из «Севильского цирюльника». Если хочешь, могу привести такую цитату: «Любовь и страх не ходят парой», — серьезно проговорил Кэндзи.
Джина вернулась в постель, легла рядом с ним и шепнула:
— В твоих объятиях я чувствую себя в безопасности.
Кэндзи нахмурился, по его лбу и от уголков глаз разбежались морщинки. Он молчал некоторое время, глядя на гравюру Хиросигэ «Побережье Майко», и вдруг предложил:
— А не съездить ли нам на море? Вдвоем — только ты и я.
— Нашим дочерям скоро рожать…
— И мы станем бабушкой и дедушкой. А их мужья тем временем совсем совесть потеряли. Ничего, я этих оболтусов еще приведу в чувство! Прежде всего надо предупредить Эфросинью, чтобы приглядывала за сыном.
— Она же в обморок упадет, если ты ей расскажешь историю пряничных свинок.
— Ну я-то, в отличие от некоторых, уж точно не безрассуден — изложу в лучшем виде. Умолчание не есть ложь. Попрошу ее отчитать Жозефа за то, что его частые отлучки вредят нашему общему книжному делу… Всё, милая, решено, едем на море — имеем же мы право немного пожить свободно! А я мечтаю побывать в краях Барбе д’Оревильи.
[838] Как только наши шалопаи прекратят играть в воров и полицейских — а они прекратят, уж я об этом позабочусь, — Котантен
[839] будет безраздельно принадлежать нам с тобой!
…Эфросинья отлучилась из столовой во время семейного обеда и беседовала по телефону с неизвестным абонентом. Жозефу было страшно любопытно, кто ее вызвал и зачем, но матушка плотно закрыла за собой дверь, а аппарат стоял на геридоне у входа, и возможности подслушать не предвиделось. Вернулась Эфросинья, когда супруги уже добрались до десерта, и выражение лица у нее было угрожающее.
— Матушка, кто звонил? — не выдержал Жозеф.
— Кое-кто по личному делу. Что это, вам не понравился мой английский крем?
— Очень понравился, но мы ждали тебя.
— Не ори так — Дафнэ разбудишь. Айрис, милая моя, может быть, вам прилечь на софе? Вы совсем бледненькая. А ты, бездельник, пойдешь со мной — поможешь маме вымыть посуду. Мне надо с тобой поговорить.
Из кухни Жозефа выпустили через полчаса, и вывалился он оттуда с видом маленького мальчика, которому только что устроили хорошую трепку. В довершение всех бед Айрис тотчас нежно ему улыбнулась — это было невыносимо, поскольку предстояло ей солгать, ведь Жозеф вопреки всему не собирался отказываться от вечернего похода в «Фоли-Бержер».
— Мне нужно сходить за покупками, это будет сюрприз! — заявил он. — Вот увидишь, тебе понравится! Ты хорошо себя чувствуешь? Малыш не толкается?
Айрис глубоко вздохнула, покачала головой и, направляясь к спальне, бросила через плечо:
— Нет, просто я немножко устала. Посплю.
— …Жозеф, вы гений! Ну и обалдели же продавщицы «Магазэн дю Прентан»! Еще бы — двое мужчин увлеченно выбирали игрушки-погремушки у них перед носом!
— Да уж, надеюсь, теперь у Кэндзи и моей неистовой матушки не будет ни малейшего повода для подозрений, если им вздумается проверить наше алиби.
Улица Фобур-Монмартр празднично сверкала в желтом свете фонарей. Полуночники, спешившие по тротуарам, замедляли шаг, сливаясь в плотный, бурлящий жизнью поток у входа в кабаре, на фасаде которого пылали огнем буквы: «Фоли-Бержер». Виктор и Жозеф, оба с набитыми свертками карманами, выскочили из фиакра и смешались с толпой, окружившей лотки торговцев лимонадом и сладостями. Жозеф задержался купить два миндальных пирожных и бросился догонять Виктора — тот уже ступил в зимний сад, разбитый под широким тентом. Под ногами заскрипели мелкие камушки, шум фонтана заглушили фанфары. Сыщики-любители начали лавировать между столиками, стульями и кадками с растениями. Вокруг на английском, немецком, испанском болтали кутилы. Солдат муниципальной гвардии неодобрительно косился на компанию молодых оболтусов в кепи и с сигаретами в зубах, готовый в любой момент призвать их к порядку. Сомнительное общество разбавляли добропорядочные семейства, пришедшие сюда поглазеть на клоунов, акробатов и борцов. Виктор и Жозеф следом за ними добрались до окошка кассы, купили билеты и вошли в зрительный зал, имеющий форму подковы. В нос сразу ударил резкий запах табака. На сцене тем временем заканчивался балет с сюжетом из древне-римской истории — патриции и сабинянки зажигательно отплясывали на Форуме.
— «Похищение сабинянок», — прочел Жозеф в программке. — Не думал, что здесь уделяют внимание просветительской деятельности.
— Только на предмет анатомии, Жозеф.
Служительница провела их в украшенную алым бархатом тесную ложу. Оттуда сыщики-любители попытались рассмотреть сцену сквозь клубы табачного дыма, поднимающиеся до потолка, — галерея вверху, над которой нависала витая, в форме купола люстра, показалась им облаком, населенным бледными призраками, и Виктор, несмотря на желание закурить, не стал доставать сигарету.
— Ты уже видела, как мисс Океана пляшет на железном тросе? Такое выделывает! — прозвучало из соседней ложи. Там тучная дама беседовала с тощей, не в меру напудренной соседкой.
— Нет еще, но я в восторге от человека-змеи: у него чешуйчатая кожа, и он умеет извиваться, как гадюка!
— Мерзость какая, даже подумать страшно, не то что посмотреть!
— Не переживай, сегодня программу изменили.
Свет сделался приглушенным, загремели барабаны, жалобно взвыли кларнеты. Прекрасная Миранда, королева диаболо, исполняя номер в луче прожектора, держала публику в напряжении до тех пор, пока ей на смену не пришла девица, которая принялась крутиться вокруг своей оси на трапеции, держась зубами за специальное приспособление.
— Лишь бы она всю челюсть на этой трапеции не оставила, — прокомментировала тощая соседка.
Далее боксирующий кенгуру, вальсирующий верблюд и петух, совершающий арифметические действия, убедительно продемонстрировали публике равенство между животными и человеком. Виктор и Жозеф уже ерзали от нетерпения в ожидании, когда на сцене появятся две обезьянки и гадалка с кофейником. Объявили антракт, а Королева Маб так и не выступила.
— Наверное, ее номер приберегают напоследок, — проворчал Жозеф.
Они вышли из ложи размять ноги. Ни один, ни другой не заметили человека в пальто из вигоневой шерсти и в шляпе, надвинутой до бровей, стоявшего возле уборной.
Инспектор Вальми с омерзением взирал на публику «Фоли-Бержер», то и дело вытирая платком лоб. Вокруг в избытке были представлены сводники в цилиндрах и лайковых перчатках, при всем респектабельном облике ничем не превосходившие своих подзаборных собратьев, а девицы легкого поведения ловили клиентов, не опасаясь полиции нравов. В действительности представления в этом кабаре были всего лишь прикрытием — главные спектакли здесь давали не на сцене, а в залах и коридорах, особенно на первом этаже, прозванном «мясным рынком», где вовсю шла торговля женским телом.
«Разодеты в шелка — так свиней на
сельских праздниках украшают лентами, — мысленно высказался инспектор Вальми про местных барышень и снова перенес внимание на двоих книготорговцев. — Где же этот японец, что он себе думает? Я ему протелефонировал час назад! Надобно, чтобы он увидел воочию проделки своих родственничков. Да уж, вся она такая, буржуазия!» Охваченный приступом отвращения, он метнулся в уборную, достал пилочку и принялся яростно вычищать несуществующую грязь из-под ногтей. Брезгливо покосился на засаленное полотенце рядом с умывальником, протер руки одеколоном и вышел из уборной. Дверную ручку, открывая створку, он обернул туалетной бумагой и немедленно выбросил смятый комок в урну. Оглядевшись, замер: «О боже, куда они подевались?!» Но, взбежав по лестнице, вздохнул с облегчением: двое повес как раз возвращались в зрительный зал.
Тут к инспектору, покачивая обширными бедрами, подступила блондинистая девица с пурпурными губами и щедро выставленной напоказ грудью, повисла на руке:
— Угостишь даму стаканчиком, красавчик? Даме очень не хватает стаканчика лимонада и капельки любви!
Огюстен Вальми отшатнулся, воздел палец и взревел:
— Убирайся прочь, потаскушка!
— Разорался, недотрога, — фыркнула «дама». — Или ты жадина? А рожа-то у тебя такая, что сразу ясно: в твоей постельке разве только клопы частые гости!
За этой перепалкой с удовольствием наблюдал Кэндзи, прячась за спинами прожигателей жизни. Сделав каменное лицо, он приблизился к инспектору, когда «дама» отошла, и тот шепнул ему, проходя мимо:
— Они вернулись на свои места в зале. Мой человек глаз не спускает с их ложи.
Второе действие шло полным ходом. После номера на роликовых коньках публика освистала двух незадачливых клоунов, затем, отчаянно чихая, бисировала полуголой кавалерист-девице, которая, вздымая тучи опилок, отработала на славу. Апофеозом представления стал сиамский балет — танцовщицы в чем-то похожем на кимоно и в головных уборах в виде пагод выделывали замысловатые па вокруг шестирукой богини в трико и символическом бюстгальтере из двух морских раковин. Она грозно размахивала двумя трезубцами, потом демон, вымазанный гуталином, их отобрал и растоптал копытцами, а сиамские танцовщицы тотчас разоблачились, и полуголая труппа исполнила бесстыдную сарабанду под гром аплодисментов и какофонию оркестра.
— Эй, а где Королева Маб?! Королеву Маб давай! — не выдержав, заорал Жозеф.
— Королева Маб? Здесь вы ее нескоро увидите — она готовится к выступлениям на Тронной ярмарке, — просветила его тучная дама из соседней ложи. — Впрочем, невелика потеря для «Фоли-Бержер»: эта девка со своими мартышками только и умеет, что людям головы дурить. Мне она заявила, что я в этом году выйду замуж, да еще и за богача, потому что, дескать, ей привиделись на блюдце ровненькие кружочки из кофейной гущи — монеты, то бишь. И что в результате? Ни мужчины на горизонте, ни денег!
Помощник инспектора Вальми тихо отошел от ложи и бросился бегом к начальству передать сведения, любезно предоставленные толстой кумушкой.
Представление закончилось, Виктор и Жозеф побрели по коридору к выходу. Если бы они были повнимательнее и снизошли до того, чтобы приглядеться к веселой толпе, приумноженной зеркалами, непременно заметили бы среди кутил и добропорядочных семейств инспектора Вальми и следующего за ним тенью Кэндзи Мори. Но оба были погружены в свои мысли — беспокоились, какой прием им окажут дома, — и сосредоточенно работали локтями, пробираясь на улицу.
Суббота, 17 апреля, час ночи
С ботинками в руках Жозеф бесшумно переступил порог квартиры.
— Ага! Явился-таки! — Эфросинья Пиньо, настроенная агрессивнее обычного, стояла в проеме кухонной двери.
— Матушка, ты еще здесь? — обомлел Жозеф.
Тут уж Эфросинья дала волю своему гневу, но при этом изо всех сил старалась говорить тихо, отчего было еще страшнее:
— Ты, значит, где-то шляешься, домой под утро возвращаешься, а твоя жена, между прочим, в обморок упала! Иисус-Мария-Иосиф, чем же я Господа так прогневала, что он послал мне такого сына?! Я дома была, спокойно себе спала, а тут прибегает соседка и кричит, что Айрис сделалось дурно! У меня чуть сердце не остановилось!
— Айрис дурно? Обморок? — Жозеф устремился было в спальню, но мать заступила ему дорогу:
— Бедняжка погибает, а ты шатаешься где ни попадя!
Совсем обезумев от тревоги за жену, Жозеф оттолкнул Эфросинью и ворвался в спальню. Айрис лежала на кровати, рядом сидел доктор Рейно со стетоскопом на шее и, глядя на часы, считал ее пульс. Закончив, он улыбнулся Жозефу:
— Ничего страшного не случилось, мальчик мой. Ну-ка вдохните-выдохните и успокойтесь, не то у меня станет пациентом больше, а мне и одного в такой час достаточно. Ну-с, как себя чувствуете, милочка?
— Хорошо, доктор, — тоже попыталась улыбнуться Айрис. — Просто голова закружилась.
— Прекрасно, прекрасно. Это ведь будет ваш второй ребенок? — обернулся врач к Жозефу.
Тот кивнул. Он был бледен, но, похоже, уже пришел в себя.
— Что ж, посмотрим, как у малыша дела. Месье Пиньо, извольте-ка выйти. Мадам, поднимите ноги.
— Но… — начал было Жозеф.
— Молчи и выметайся отсюда, — зашипела на него Эфросинья.
Молодой человек неохотно вышел в коридор и тотчас приник ухом к двери, которая захлопнулась у него перед носом. Но ему так и не удалось ничего услышать. Пришлось ждать, когда впустят обратно. Наконец дверь снова открылась.
— Нет никаких причин для беспокойства, — сообщил доктор, — срок еще не подошел. Сегодня семнадцатое апреля, а ваш наследник планирует появиться не раньше середины мая. Все, что вам нужно до тех пор, — покой, сон и здоровое питание. Вы собираетесь рожать дома или в больнице?
— Разумеется, дома, — влезла Эфросинья. — Ну вы придумали — в больнице! Там ужасные условия. Надеюсь, вы будете присутствовать при родах, доктор?
— Конечно. Как поживает малютка Дафнэ?
— Мы с ней уже подружки, доктор, — заулыбалась Айрис.
— Через шесть недель у вас будет еще одна подружка или дружок. Ну-с, месье Пиньо, кого вы на сей раз ждете — сына или дочку?
— Ему без разницы, — проворчала Эфросинья. — Он, видите ли, считает, что главное — чтобы ребеночек был хорошо сложен. Я вот никогда не слыхала про папаш, которых не волнует пол наследника…
— Матушка!
— …но мне-то главное, чтобы он не унаследовал твой скверный характер!
Жозеф не решился спорить — закусил губу и умолк.
— Я прописал пациентке полный покой, — напомнил доктор Рейно Эфросинье. — Идемте, оставим их.
— Любимая, обещаю: никогда больше тебя не брошу! — кинулся Жозеф к Айрис, как только дверь за матерью и врачом закрылась. — Завтра не пойду на работу! И вообще не пойду, если ты хочешь, — в лавке и без меня справятся!
— Ну что ты, — засмеялась Айрис, — так много от тебя я не требую. И не обижайся на матушку — она и в самом деле страшно перепугалась. Ты бы видел, как она врача вызывала по телефону — взяла аппарат приступом и одержала молниеносную победу! Ну же, перестань нервничать милый. Ты — лучший отец на свете! Кстати, Дафнэ мечтает посмотреть на медведей в Зоологическом саду. Сводишь ее завтра?
Жозеф обнял жену. Он уже забыл о погремушках и пеленках, купленных в «Магазэн дю Прентан».
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Воскресенье, 18 апреля
Виктор стоял у ярмарочного тира, где у них с Жозефом была назначена встреча. Он уже жалел, что взял с собой треножник и массивный фотографический аппарат в футляре на ремне, который сейчас оттягивал плечо. Но он клятвенно заверил Таша, что собирается увековечить несколько ярмарочных сценок, а стало быть, пришлось волей-неволей захватить орудия труда. Погода, по счастью, благоприятствовала. Виктор рассеянно понаблюдал за посетителями тира, палившими по скверно нарисованным портретам Феликса Фора,
[840] Альфреда Дрейфуса, Вильгельма II, Бисмарка и иже с ними… Жозеф предупредил, что задержится, потому что позавчера ночью Айрис нездоровилось и он за нее до сих пор переживает, но вот наконец Виктор заметил его в толпе. В глазах молодого человека читалась победа, доставшаяся в нелегкой борьбе с беспокойством за любимую жену.
— Как себя чувствует Айрис? — сразу спросил Виктор.
— Хорошо, иначе я не пришел бы. Айрис меня почти что вытолкала за дверь — сказала, мне нужно прогуляться. Не знаю, что бы я без нее делал… Вчера вот удалось вырваться с дочкой в Зоологический сад, а так матушка решила мне устроить кошмарную жизнь, это каторга какая-то, я долго не выдержу!
— Жозеф, старина, вы слишком покладисты. Дайте ей уже наконец отпор раз и навсегда, вам ведь двадцать девять лет!
— Не могу, у матушки, кроме нас с Айрис и Дафнэ, никого нет. Она сделалась незаменимой, убирает, готовит, на ней весь дом держится… А мы смирились. Кстати, она не запрещала мне сегодня отлучаться из квартиры, даже хотела, чтобы я взял с собой Дафнэ и мы погуляли по ярмарочной площади, но по счастью, Айрис убедила ее, что девочку испугает шумная толпа. Да и опасно это — тащить в такую сутолоку малютку, которой и трех лет не исполнилось.
Они зашагали по украшенной гирляндами и серпантином улице, простиравшейся более чем на километр — от железной дороги до площади Нации. Пригородный квартал, обычно тихий, заполонили крикливые торговцы сладостями. Жозеф восторженно глазел по сторонам: знакомый пейзаж изменился до неузнаваемости, превратившись в сказочную страну — подмостки, повозки бродячих артистов, зверинцы преобразили серость повседневности. Как будто учебник грамматики вдруг обернулся приключенческим романом. Виктора же быстро утомили и прогулка, и суета вокруг — все толкались, куда-то спешили. Он остановился у маленького шапито с вывеской «Ноев ковчег Марио Дзанфреди».
— Что? — забеспокоился Жозеф.
— Вы-то молодой, вам этот марш-бросок в радость. А у меня уже ноги подгибаются, нет сил тащить на себе амуницию…
— Ох, да вы совсем побледнели! Давайте сюда ваш треножник.
«Дзынь! Бум! Бам! Трам-пам-пам!» — неслось со всех сторон. Приходилось кричать, чтобы перекрыть вой тромбонов, какофонию шарманок и свист паровых двигателей. Неподалеку колотили в огромный барабан, призывая всех желающих за два су стать свидетелями эпической битвы женщины-омара и самого настоящего каннибала с Сандвичевых островов. Виктор залез на кучу досок, оттуда перебрался на крышу каретного сарая и обозрел ярмарочные задворки. Ему открылся истинный Двор Чудес: латаные шатры, пестрые, как плащ Арлекина, а среди них мужчины и женщины, все заняты делом — орудуют молотками, забивая гвозди, стругают доски для подмостков, репетируют цирковые номера, стирают белье в чанах, разбрызгивая мыльную воду; вокруг мельтешат ватаги ребятишек в обносках.
— Ну где вы там? Спускайтесь уже! — сердито пропыхтел Жозеф, которого одолел приступ чихания от резкого запаха свежей краски.
Они подошли к эстраде, где целая команда пуделей выделывала трюки под присмотром украшенной лентами козочки. Фотографировать их Виктор не стал, зато навел объектив на заковыристый механизм, по которому несколько парней по очереди лупили деревянными колотушками, чтобы в качестве награды полюбоваться на куклу в кружевном чепчике — она должна была появиться, когда механизм сработает.
Жозеф, увидев колесо фортуны, собрался было разориться в пух и прах, но Виктору удалось отвратить его от этой идеи пинком.
— Ох, куда ж вы так торопитесь? — проворчал молодой человек, с трудом поспевая за шурином. — И вообще, сдалась вам эта Королева Маб! О чем вы собираетесь ее расспрашивать? Мы и так знаем, где живет Ламбер Паже.
— Она же его любовница. Может быть, тоже замешана в деле, — отозвался Виктор, с отвращением шарахнувшись от афиши, где была изображена барышня с головой коровы.
— «Буржуазия — корова, на голову нездорова»,
[841] — прокомментировал художество Жозеф. — А вы уверены, что нам удастся отыскать Королеву Маб в этом пандемониуме?
— Я ни в чем не уверен, кроме одного: назад той же дорогой нам уже не вернуться.
И правда, толпа несла их вперед, остановиться не было возможности — затопчут. Обогнав набеленного мукой клоуна (тот тщетно пытался насмешить народ красным носом, огромными прохудившимися башмаками — из дыр торчали грязные пальцы — и дудкой, через которую он плевался водой), Виктор свернул в сторону поприветствовать месье Оноре Селестена, силача с улицы Дюране, после чего не без труда отыскал Жозефа у анатомического театра. Молодой человек разинув рот слушал зазывалу, а тот надрывался:
— Входите, входите и содрогнитесь при виде расчлененных трупов прелюбодеев, живых мертвецов и чудовищных младенцев о трех головах!
— Я просто обязан войти и содрогнуться — мне это необходимо, чтобы написать страшную сцену в романе «Демоническая утка»! — заявил Жозеф.
— О нет! — запротестовал Виктор. — Вы же обещали мне помочь и…
— Все на феерическое выступление Королевы Маб! — завопил другой зазывала. — В путешествиях по Персии, Китаю, Индиям и островам Малабара сия прекрасная Венера познала чудесные тайны! Ее родные братья Фиджет и Миджет были обращены злыми духами в обезьянок и с тех пор ей прислуживают! Всякий желающий узнать свое будущее да попросит их вылить заколдованный кофе на блюдце Королевы Маб — и сия Саломея наших дней откроет ему судьбу, а равно его склонности и устремления. Вы также узрите диавольские сущности, резвящиеся вокруг предсказательницы — это станет возможным благодаря новейшему проекционному аппарату, привезенному из Англии! В программе: «Пляска смерти», трехминутный показ движущихся картинок! И всё за каких-то десять су!
Виктор и Жозеф приступом взяли два места на скамейке в первом ряду. Выступление гадалки проходило в павильончике, увешанном зеркалами. Когда помещение было забито до отказа и публика начала выражать нетерпение, занавес поднялся и взорам предстал помост, задрапированный тканями с персидскими узорами. На красных лакированных подставках курился ладан. Две гипсовые корейские собаки-льва, коренастые, с налитыми кровью глазами, сторожили гору разноцветных пуфов и подушек, наваленных перед белым экраном. Жаловалась на жизнь невидимая флейта, звенел бубен, а некое создание, с ног до макушки закутанное в одежды из ткани, похожей на паутину, исполняло танец — по задумке, экзотический. Один за другим отрезы материи, служившие танцовщице нарядом, облетали с нее, словно луковые перья, и в конце концов она осталась в расшитом звездами корсете, сетчатых чулках и туфлях без задников на высоких каблуках. В финале танца она сорвала муслиновый платок, скрывавший лицо, и по плечам рассыпались белокурые кудряшки.
— Надувательство, конечно, все эти гадания, но тетка улётная, — высказался уличный мальчишка по соседству с Виктором.
«Странное дело, по-моему, я ее где-то видел», — подумал тот. Зачарованный происходящим на помосте Жозеф тем временем резво притопывал ногами в такт эротическим телодвижениям Королевы Маб.
В конце концов она его заметила и щелкнула пальцами. Две обезьянки в пышных панталонах и фесках притащили кофейник с горбатым носиком, стопку блюдец и расставили все на медном подносе.
— Благодарю вас, милые мои Фиджет и Миджет. Да вернут вам злокозненные силы, некогда превратившие вас в зверей, истинный облик! — воскликнула Королева Маб пригородным говорком. — А сейчас, месье Фиджет, извольте-ка перемешать гущу в кофейнике и вылейте-ка ее на блюдце, которое подержит для вас месье Миджет.
— Эй, цыпа, кончай трепаться! Давай уже предсказывай! — заорал какой-то матрос.
Королева Маб, подбоченившись, встала на краю помоста и презрительно посмотрела на парня сверху вниз:
— Тебе, мокрозадый, я предсказываю капитанское звание. Только кораблик твой потонет! — Тут она повернулась к Жозефу и, одарив его очаровательной улыбкой, медоточиво продолжила: — У нас тут есть прехорошенький юноша, обеспокоенный своим будущим. Желает ли юноша узнать судьбу?
— Э-э… ну если только вы скажете мне что-нибудь хорошее, — промямлил Жозеф.
— Вспомнил, где я встречал эту девушку! — спохватился Виктор. — На концерте в Катакомбах!
Но Жозеф уже стоял у помоста и завороженно вглядывался в узоры из кофейной гущи на блюдце.
— Ну-ка, ну-ка, — бормотала прекрасная гетера, — что тут у нас? Много четко очерченных кружочков. Ждите прибытка! О, а в серединке крест — вы доживете до глубокой старости. А вот здесь еще один круг с четырьмя белыми точками. У вас, значит, будет четверо детишек.
— О нет! — вырвалось у Жозефа.
— Эй, красотуля, а мне что напророчишь? — завопили в зале. — Что ты там про меня видишь в этом своем цикории?
Виктор дернул Жозефа за рукав:
— Посмотрите туда! Это он, человечек из Опера!
В третьем ряду сидел Мельхиор Шалюмо собственной персоной и беззастенчиво пялился на них.
— А про вас, месье, я вижу вот что… — отозвалась Королева Маб.
Свет в павильоне погас. Несколько минут в непроглядной тьме звучали шорохи и нервное перешептывание, затем воцарилась тишина, потому что белая простыня, натянутая в качестве экрана над горой подушек, осветилась и на ней зашевелились причудливые тени: бесы принялись энергично размахивать метлами, их растолкала фигура без головы и исполнила неистовый танец вокруг алхимического перегонного куба, откуда вырвалось целое облако цветов и звезд.
Виктор смотрел на экран не отрываясь, но едва включили свет, он обернулся — человечек из Опера исчез.
— Это надувательство! — завопил матрос. — У нее есть сообщник! Такие фокусы в театре «Робер Уден» показывают!
— Ошибаетесь, месье, — холодно заявила Королева Маб. — Цветы и звезды — благое предзнаменование. — И скрылась за кулисой.
Публика потянулась к выходу — кто посмеиваясь, кто выражая разочарование.
— Куда подевался коротышка? — забеспокоился Жозеф.
— Бегите вперед, разыщите его, — подтолкнул зятя Виктор, — я за вами. Если разделимся, шансы найти его удвоятся.
Однако сам он устремился в другом направлении — к владельцу павильона и проекционного аппарата. Тот как раз перематывал бабину с только что продемонстрированной фильмой.
— Вы позволите взглянуть на ваш проектор?
— Да вот он, глядите сколько пожелаете. Я вообще-то собираюсь его продать. Вот когда кто-нибудь придумает, как добиться, чтобы изображение на экране не дрожало, вот это будет зрелище! Да, месье, когда-нибудь синематограф сможет потягаться и с литературой и с прессой. Репортеры останутся не у дел: люди будут слушать новости с помощью фонографа и смотреть живые картинки. Кстати, если желаете приобрести проектор, я сделаю вам скидку. Надоело, знаете ли, крутить ручку и одновременно напевать «Самбра и Маас», чтобы четко выдерживать ритм смены картинок. Вот я и столковался о работе с месье Шарлем Пате — он открыл магазин фонографов тут неподалеку. Так сказать, делает деньги из звука. Отличная штука эти фонографы, можно послушать «Магали», представляете? Но сейчас бешеным успехом пользуется последняя речь президента Карно
[842] в Лионе. Месье Пате самолично ее начитал и записал.
— А откуда этот проектор?
— Из Лондона.
— Сейчас я спешу, но непременно вернусь. Меня очень заинтересовало ваше предложение.
Жозеф ждал Виктора у павильона.
— Коротышка испарился! — возмущенно сообщил молодой человек. — И всё из-за вас — бросили меня одного!
— Да вон же он, там, у качелей! Бежим скорее!
В мгновение ока они оказались у ограды вокруг качелей в форме больших зеленых лодок, на которых молодежь, опьяненная скоростью, взлетала к небу.
— Это же гадалка! — выпалил Жозеф.
В шелках и шляпке с фиалками Королева Маб прошествовала прямиком к Мельхиору Шалюмо, и тот подхватил ее под локоток — вернее, повис на руке. Парочка направилась к Тронной площади. И следовать за ними в толкающейся гомонящей толпе не показалось Жозефу с Виктором приятной прогулкой. Неожиданно они очутились на пятачке, окруженном «русскими горками» и большими каруселями, вертящимися под завывания шарманок.
— Смотрите, они расстаются! Вы за коротышкой! — велел Виктор.
— Вот уж нет! Уже почти шесть часов, я обещал вернуться пораньше.
— Досадно, кого-то дома будет ждать скандал. За коротышкой! А я беру на себя Королеву Маб. Обменяемся впечатлениями завтра утром в лавке.
— А что мне делать с вашим треножником?
— Завтра вернете, завтра! — отмахнулся Виктор, устремляясь за гадалкой.
Жозеф прошел несколько метров прогулочным шагом и остановился, сделав вид, что его чрезвычайно увлекло представление на очередном помосте: там шимпанзе в костюме повара готовила еду для пони. Все это время молодой человек не выпускал из виду Мельхиора Шалюмо. А тот купил билет на остановке, и вскоре омнибус отправился в путь к площади Сент-Огюстен.
Первое, что бросилось в глаза Виктору за витриной кафе, куда только что вошла Королева Маб, — это огненная грива Ламбера Паже. Шея его по-прежнему была перевязана. Паже поднялся из-за столика навстречу гадалке, они заказали две кружки пива и принялись что-то оживленно обсуждать. Усевшись на лавочку, Виктор погрузился в мечты о проекционном аппарате, который собирался выставить на продажу хозяин ярмарочного павильончика. От усталости его быстро сморило, голова свесилась на грудь. А очнулся он, лишь когда мимо промчалась шумная крикливая компания. Виктор вскочил — Ламбер Паже все еще сидел в кафе, но за его столиком больше никого не было. Виктор бросился в узкий проход между двумя каруселями — в конце его как ни в чем не бывало стояла Королева Маб и неодобрительно разглядывала «стрелку» на своем чулке. Покачав головой, она пристроилась в очередь пассажиров, ожидавших на остановке трамвай маршрута G. Виктор, сгибаясь под тяжестью фотоаппарата, домчался до остановки и успел запрыгнуть на платформу трамвая в самый последний момент.
За окнами трамвая на всем пути от площади Нации до Шарантонских ворот нескончаемо тянулись улицы, возносившие дома-утесы к серому небосводу. И куда ни глянь — рельсы, пустыри, неприютность. Промчался поезд Париж — Лион — Марсель в сером, как небо, облаке пара. Кое-где еще уцелели трущобы, до которых не добрались торговцы недвижимостью; покосившиеся двери и распахнутые окна с помятыми занавесками являли взору убогое нутро квартирок.
Виктору, спрыгнувшему с подножки трамвая на мостовую, почудилось, что он попал в параллельный мир. Для многих Париж — город блеска и роскоши, прочее остается за кадром, а здесь — живые изгороди из хмеля и барбариса вокруг каких-то лачуг, над ними вдалеке громоздится темной горой дымящая фабрика…
Королева Маб шагала быстро — сохранять дистанцию Виктору было трудно, приходилось даже нагонять. По пути к нему пристала престарелая любительница абсента — он бросил ей монетку. Королева Маб маячила далеко впереди смутным силуэтом. Он прибавил шаг, почти пробежал вдоль фортификаций, нырнул в потерну,
[843] выскочил по другую сторону стены укреплений и оказался у кладбищенской решетки; вокруг волновалось море трав и сорняков. Чуть поодаль из этого моря прибрежным, источенным приливами валуном торчал ветхий домишко. Насколько хватало глаз, это было единственное жилище в округе. Неужели Королева Маб вошла туда?.. Виктор, не обнаружив в пределах видимости объекта слежки, со всех ног устремился по ухабистой тропинке, подскользнулся в размокшей грязи и растянулся на животе. Ударом о землю из легких выбило весь воздух. Уткнувшись лицом в локоть, он услышал женский голос:
— Матушка! Матушка, ты дома? Это я, Жозетта!
Виктор отдышался наконец, кое-как поднялся и первым делом проверил, не пострадал ли фотографический аппарат. Вроде бы все было в порядке, ничего не сломалось. Теперь он не только слышал, но и видел Королеву Маб: она изо всех сил колотила в закрытые ставни домишки, потом повернулась и прошла вдоль стены — ее скрыли кусты сирени. Виктор незаметно проник в заросший, неухоженный сад, посреди которого стоял колодезный сруб, и осмотрелся. Королева Маб ломилась в растрескавшуюся, опечатанную дверь:
— Матушка, ты где? Я к тебе пришла!
Она бросилась назад, к тропинке, и Виктор поспешно шмыгнул в кусты сирени.
— Зря вы тут надрываетесь, старушка переехала.
Королева Маб встала как вкопанная, едва не сбив с ног толстячка на деревянной ноге и с барабаном на перевязи.
— Вы кто такой?
— Когда-то я был глашатаем, — охотно принялся рассказывать толстячок. — Бил в барабан и зачитывал вслух постановления муниципального совета. А потом все оповещения начали печатать в типографиях и расклеивать на стенах, вот я и остался не у дел. Ну мне сразу, как водится, под зад коленом — мол, выметайся. Но барабан я им не отдал!
— Да наплевать на ваш барабан! — надвинулась на него Королева Маб. — Полгода назад в этом доме жила мадам Арбуа. Куда она переехала?
Толстячок ткнул пальцем в сторону кладбища.
— Матушка умерла? — попятилась гадалка. — Когда?!
— Вы что же, дочка ей, что ли?
— Ну разумеется, иначе я не назвала бы ее «матушка»!
— В марте это случилось, в марте. Ее задушили, тело потом нашлось на дне колодца. Вас стали разыскивать, хотели об этом сообщить, но вы куда-то запропастились. А старушку флики забрали в городской морг, потом соседи вскладчину купили для нее участок на местном кладбище, чтоб рядом с домом, где она всю жизнь прожила. На могильной плите даже ее имя выгравировали, очень миленькая могилка получилась, смею вас заверить, вся в цветах…
— Убийцу уже арестовали? — перебила Королева Маб.
— Куда там! — махнул рукой толстячок. — Станут флики тратить на нас, на бедняков, время. Для них этот квартал считайте не существует. Да он и взаправду вроде как не существует. А когда-то здесь было славно — маленькие домики, садики-огородики, хозяева выносили стулья на крыльцо, садились и обозревали окрестности. И у меня по ночам был кров над головой в приюте, а днем — тарелка бесплатного супа. Ну а потом эти господа инженеры, санитарные врачи, архитекторы и всякие перекупщики тут все разорили. Да и черт с ним. Но если вы дочурка Арбуа, должны помнить те времена, верно ведь? У вас пары монеток не найдется?
Королева Маб посмотрела на кладбище и, не сказав больше ни слова, отправилась в ту сторону, откуда пришла. Пожав плечами, толстячок с барабаном тоже заковылял своей дорогой — к стене укреплений.
А Виктор выбрался из кустов сирени в полнейшей растерянности. Все услышанное его сильно озадачило. Он брезгливо обошел лужу помоев и зашагал вверх по откосу, заваленному выпотрошенными матрасами. Вокруг было тихо, лишь лягушачье кваканье нарушало тишину. Заходящее солнце окрасило мир в сиреневые тона. Виктор резко остановился — ему почудилось глухое рычание, но звуки смолкли, прежде чем он успел определить их источник. Продолжив путь, он снова услышал шум, на сей раз ближе и отчетливее — это действительно было рычание. Прямо по курсу на дороге возле фургона стояла огромная собака и пристально смотрела на него.
— Сидеть! — выкрикнул Виктор дрогнувшим голосом, видя, что зверь приготовился к прыжку.
— Цыц, Тоска! — рявкнул собаке появившийся из-за фургона мужчина, и та захлопнула пасть. — Простите ее, месье, она у нас вообще-то не злая, просто бдит на совесть.
— Выглядит, однако, жутковато, — поежился Виктор, понемногу приходя в себя — испугался он не на шутку.
— Да что вы, обычная овчарка.
— Месье Пипат, я готова, — раздался женский голосок.
— Сейчас, сейчас поедем, пора уж. Нам до самой площади Нации добираться, а кобылка у меня не шустрая.
— Вы едете в Париж? — оживился Виктор. — Не могли бы меня подбросить?
— Нет! — истерически прозвучал тот же женский голосок, и мужчины удивленно обернулись.
— Что это на тебя нашло, Полина? — спросил месье Пипат. — Почему нет? Ты обычно такая вежливая…
— Здравствуйте, мадемуазель, — приподнял шляпу Виктор. — А я вас видел на Тронной ярмарке, когда там шли подготовительные работы. Мадам Селестен сказала, что вы учите грамоте маленьких циркачей.
Полина Драпье ошеломленно молчала. На Виктора она не смотрела — ее взгляд был прикован к огромному футляру, висевшему у него на плече. Виктор рассмеялся:
— Вас напугала эта махина? Всего лишь фотографический аппарат.
— Не обращайте внимания, — посоветовал месье Пипат, — Полина просто устала, у нее был суматошный день. Она перебирается к Венсенским воротам, а мы с Пегаской — это моя кобылка — пришли помочь перегнать ее фургон. Ну, пора отправляться, а то уже темнеет. Давай-ка, Полина, бери вожжи, только не дергай слишком сильно — Пегаска этого не любит. А я пешочком пройдусь до бульвара, так что вы тоже присаживайтесь, месье. Н-но, пошла, ласточка моя!
Забравшись на облучок, Виктор пристроился рядом с Полиной. Некоторое время девушка, бледная, будто все еще напуганная, ехала молча, не решаясь на него смотреть. Затем тихо спросила:
— Вы явились за мной?
— Не понял?..
— Если вы желаете мне зла, сделайте свое черное дело сразу, не хочу ждать.
— Какое черное дело? — растерялся Виктор. — И почему я должен желать вам зла? Я всего лишь книготорговец и фотограф-любитель… Да что ж вас так напугало, милая барышня? Неужели убийство той старой женщины?
— Откуда вы знаете, что ее убили?
— Мне так сказал человек с барабаном.
— Папаша Леон? — прищурилась Полина.
— Понятия не имею, как его зовут, — развел руками Виктор.
Девушка с облегчением улыбнулась:
— Если бы вы сказали «да», я бы не поверила ни единому вашему слову, потому что его на самом деле зовут Рири Ватье, он живет подаянием, всегда просит «парочку монеток» — два су, не меньше и не больше… А вы правда книготорговец?
— Вот моя визитная карточка. — Виктор протянул девушке картонный прямоугольник. — Я правда книготорговец, женат, скоро стану отцом. Могу я вам чем-нибудь помочь? Чего вы боитесь?
— Я случайно стала свидетельницей убийства бедной мадам Арбуа, — решилась Полина. — И убийца не мог меня не заметить. Рано или поздно он придет за мной и заставит замолчать навсегда.
— Вы заявили об этом в полицию? — нахмурился Виктор.
— Нет.
— А почему убили мадам Арбуа, вы знаете?
— Даже не догадываюсь. Она была добрая женщина. И сильная. Я слышала, что у нее в жизни случилась страшная история, связанная с ее дочерью Жозеттой.
«Жозетта! — мысленно отметил Виктор. — Королева Маб?» Теперь он вспомнил, где встречал танцовщицу с белокурыми кудряшками, ту, что называла себя теперь Королевой Маб. Не только в Катакомбах. В первый раз это было шесть лет назад, в «Мулен-Руж», тогда она вела разгульную жизнь под именем Молина.
[844]
— Жозетта, стало быть? Девица вольных взглядов, парвеню из тех, кто зарабатывает на хлеб собственной внешностью. Такие мечтают лишь о том, чтобы заполучить богатого любовника и собственный особняк, — прокомментировал Виктор.
Полина покосилась на него и отвела взгляд.
— Мать в ней души не чаяла, — вздохнула она. — Не думаю, что ей понравились бы ваши слова. Мадам Арбуа гордилась Жозеттой, потому что той удалось, по ее мнению, пробиться в высший свет — она выступала в кабаре. Это все же лучше, чем спички на фабрике фасовать, так мадам Арбуа говорила… Ах, она с Жозетты пылинки сдувала, с тех пор как девочка чуть не погибла, просто боготворила ее. А дочь презирала мать, потешалась над ее горькой судьбой. Навещала ее всего-то раз в полгода…
— Расскажите о той трагедии. Почему Жозетта чуть не погибла?
— В детстве Жозетта мечтала стать балериной и училась в балетной школе Опера, тогда еще в здании на улице Ле-Пелетье. А чуть не погибла она во время пожара. Известная давняя история, Жозетте тогда было лет семь-восемь. Какой-то человек спас ее из огня. А мадам Арбуа после этого строго-настрого запретила ей продолжать занятия. Жозетта почти ничего не могла сказать о том, что случилось, говорила, что ничего не помнит, но по ночам просыпалась от собственного крика — ей снились кошмары. Дети стали ее сторониться, она замкнулась в себе. Тем временем мать надрывалась на табачной фабрике ради того, чтобы обеспечить дочери достойное будущее. А однажды она получила банковский чек и письмо с пояснением. Мадам Арбуа мне его читала вслух, там говорилось вот что: «Эти деньги предназначены вашей Жозетте. Меня вы не знаете и никогда не узнаете, но я буду оказывать вам денежное вспомоществование, пока девочке не исполнится восемнадцать лет. Ваша дочь — мое спасенье, мое искупление». Из этих денег мадам Арбуа оплачивала начальное образование Жозетты, девочка научилась читать, писать и считать, а потом брала уроки у преподавателя из хореографической школы Бюлье. Балериной она не стала, но для кабаре навыков хватило. После того как ей исполнилось восемнадцать, денежные переводы перестали приходить, и Жозетта покинула квартал.
Виктор задумчиво кивнул.
— Вы можете описать убийцу?
— Он был в плаще с капюшоном, я не видела его лица.
— Высокий, низкий? Мужчина или женщина?
— Я была так напугана, что ничего не разглядела… Но мадам Арбуа впустила этого человека в дом, то есть она определенно была с ним знакома. Предложила ему присесть и сказала: «Вы ведь мне дюжину заказали, верно? По одному су за каждую».
— Дюжину чего?
— Наверное, каких-нибудь пирожных или печенья — я слышала запах меда. Мадам Арбуа делала печенье мадлен, тарталетки, пряники, марципан и за несколько су продавала все это в бакалейные лавки или в трактиры. Зарабатывала она сущие гроши, но как-то все же сводила концы с концами. Основную прибыль приносила продажа сладостей на ярмарках в Париже и пригородах. На дочь-то ей рассчитывать не приходилось.
— Вы сказали — пряники? Может быть, убийца заказал ей пряничных свинок, по одному су за каждую? — Виктор задал вопрос просто так, на удачу — он все это время пытался привести в порядок обрывки мыслей и догадок, которые никак не складывались в цельную картину.
— Может быть, — покивала Полина.
Колеса фургона между тем загрохотали по мостовой — они уже добрались до авеню Генерала Мишеля Бизо.
— Высадим вас здесь? — обернулся к Виктору месье Пипат, шагавший рядом с кобылкой. — Тут в двух шагах остановка фиакров.
— Да-да, спасибо! — отозвался Виктор и взял Полину за руку. — Послушайте меня внимательно, мадемуазель. Завтра утром ступайте не мешкая на набережную Орфевр, найдите инспектора Вальми и повторите ему все то, что рассказали мне. Он честный полицейский и непременно вас защитит. По личным причинам прошу вас не упоминать при нем моего имени — у нас с ним есть некоторые разногласия… в общем, мы не ладим. Если вы все же сообщите инспектору, кто вас надоумил к нему обратиться, мне придется дать ему разъяснения, а я предпочел бы этого не делать. Разумеется, при малейшей необходимости вы можете мне телефонировать, номер указан на визитной карточке.
— Почему вы помогаете мне, месье Легри? — тихо спросила девушка.
— Один мой добрый друг любит повторять: «Спасение человеческой жизни — деяние более ценное, нежели строительство семиярусной пагоды». Не падайте духом, мадемуазель, скоро у вас все наладится, обещаю.
Виктор спрыгнул на мостовую, некоторое время смотрел вслед удалявшемуся фургону, а затем отправился ловить фиакр.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Понедельник, 19 апреля
Три запечатанных цилиндра с посланиями внутри на полной скорости промчались по лабиринту пневматической почты в подземельях столицы. По прибытии в пункты назначения контейнеры были вскрыты, а их содержимое доверено добросовестным почтальонам. И менее чем через час с момента отправки адресаты уже с трудом разбирали каракули Ольги Вологды. Каждого она приглашала в этот день к 14 часам на станцию окружной железной дороги у моста над Венсенским трактом. Каждый при этом испытывал разные чувства. Текст во всех трех письмах совпадал слово в слово:
Дорогой друг, в истории, касающейся нас обоих, произошли непредвиденные события. Мне необходимо сообщить вам сведения чрезвычайной важности. Я в ужасной беде и взываю о помощи, предаю себя душой и телом на милость того, кому, насколько мне известно, я небезразлична.
Не подведите меня!
Ваша Ольга.
Анисэ Бруссар преисполнился решимости спасти предмет своей страсти. Он немедленно извлек из гардероба свадебный костюм с карманами, набитыми нафталином, после чего, вооружившись бритвой «Джиллетт», подравнял бакенбарды и кончики усов, оделся и пошел будить оглушительно храпевшего бездельника Антельма, чтобы оставить его на хозяйстве.
Ламбер Паже испытал живейшую досаду. Вторая половина дня у него уже была распланирована — предстояло сделать кое-что важное, а тут письмо от Ольги… Однако, взвесив все за и против, он пришел к выводу, что важное дело вполне можно отодвинуть на пару часов, а отказываться от такого приглашения было бы глупо.
Что до Виктора Легри, его это послание одновременно заинтриговало и обеспокоило.
— Ну и зачем вам с ним встречаться? У вас и так довольно знакомых в области синематографа, и даже Жорж Мельес среди них не самый главный знаток. А вы откопали какого-то ярмарочного торговца и собираетесь покупать у него проектор. Да он вам распоследнюю рухлядь всучит за бешеные деньги!
— Я не такой простак, как вы изволите думать. К тому же у меня нет ни малейшего намерения покупать этот проектор — я просто хочу понять, как он устроен.
Книголюбам, листающим в лавке «Эльзевир» древние и свежеизданные фолианты, Кэндзи и Виктор сейчас могли бы показаться со стороны двумя добрыми приятелями, которые непринужденно обсуждают новейшее и пока еще недоступное для широкой публики изобретение. Однако же человек, давно знакомый с обоими, непременно понял бы, что японец сильно раздосадован, судя по тому, как он барабанит пальцами по бюстику Мольера на каминном колпаке, и не преминул бы заметить, что приемный сын обращается к нему с вызовом и намерен стоять на своем — об этом свидетельствовали вертикальные морщинки на лбу, придававшие Виктору вид кокер-спаниеля, занятого решением философской дилеммы.
— Если вы сейчас удалитесь, мне придется весь день проторчать в лавке, потому что Жозеф вытребовал себе выходной.
— Не весь день, — заверил Виктор. — Обещаю, что скоро вернусь и освобожу вас из заключения. Честное слово, я быстро — туда-обратно на фиакре, и все!
— Нет, не все, — буркнул Кэндзи. — Пока вы туда-обратно на фиакре, я себе голову сломаю, гадая, что вы опять затеяли.
Но Виктор этого не слышал — он уже мчался к бульвару Сен-Жермен. Телефонного звонка он не слышал тоже.
Кэндзи некоторое время стоял неподвижно, глядя в пространство. Телефон не умолкал. Наконец японец рассеянно снял рожки.
— Месье Мори? Приветствую вас. Инспектор Огюстен Вальми. Не могли бы вы позвать к аппарату месье Легри?
— Он только что убежал.
— А не сказал вам, куда?
— Якобы на Тронную ярмарку — у него встреча с каким-то сомнительным владельцем синематографического проектора.
— Этого я и боялся. Мы должны поспешить, иначе произойдет несчастье. В лаборатории провели анализ: пряничная свинка, которую вы получили, не содержит никаких ядовитых веществ, однако те, что уже убили троих людей, отравой прямо-таки нашпигованы. Мне наконец-то удалось добиться разрешения на эксгумацию трупов Тони Аркуэ и Аженора Фералеса, мы провели аутопсию. Судмедэксперт высказался однозначно: он нашел четкие следы одного и того же яда. А где, позвольте спросить, водятся пряничные свинки?
— На Тронной ярмарке, — мрачно ответил Кэндзи. — Где вас там найти?
— На площади, у карусели с кошками. Не медлите!
Кэндзи повесил рожки на телефонный аппарат.
Некоторое время он просто стоял, опустив руки, как марионетка, чьи веревки выронил кукольник, и глубоко дышал, пытаясь успокоить нервы. Потом заметил, что пальцы у него дрожат. «Когда же эти два шалопая перестанут отравлять мне существование?!» — с этой мыслью японец поднялся на второй этаж.
Джина, страдавшая с утра мигренью, дремала. Кэндзи еще ни разу не просил ее поучаствовать в деловой жизни «Эльзевира» — считал, что уроки акварели, которые она дает, и так отнимают слишком много сил. Но истинная причина была в другом: месье Мори боялся кривотолков, вопреки своему извечному презрению к благонравию и правилам приличия. Нет, он смирился с тем, что возлюбленная никогда не станет его женой, ибо законный муж Джины, перебравшийся в Нью-Йорк, упорно отказывается дать ей развод. И пусть хоть весь Париж хором осудит любовников — Кэндзи до этого не было дела. А вот что скажут клиенты книжной лавки, имело для него очень большое значение. Потому-то Джине пока так и не довелось встать за прилавок. Но сейчас деваться было некуда.
— Дорогая, не могла бы ты подежурить в торговом зале пару часов? — осторожно начал Кэндзи, заметив, что Джина открыла глаза.
Без лишних вопросов, с милой улыбкой, несмотря на головную боль, которую не сумела победить таблетка церебрина, Джина встала с постели и последовала за своим мужчиной к винтовой лестнице.
— Я раньше никогда этого не делала!
— Не бойся, тебе и не придется ничего делать — постоянных клиентов попросишь прийти в другой раз, а случайные вряд ли появятся.
— Нет, ты не понял — я ужасно горжусь оказанным доверием! Как будто я стала настоящей мадам Мори.
— Ты и есть мадам Мори, особенно после нынешней бессонной ночи, — улыбнулся Кэндзи. — И главное, не забудь: если тебе принесут пряничную свинку, не прикасайся к ней!
— …Виктор, вы меня разыгрываете? Пневматическая почта от Ольги Вологды? Я думал, она променяла Париж на овернские вулканы, сбежала на природу с этим, помните, ревнителем чистоты, борцом с загрязнением и поклонником Робиды… О, понял! Это хитроумная ловушка, расставленная Эдокси Максимовой! Она снова решила вас соблазнить…
— Не говорите глупостей. Так что насчет похода на Тронную ярмарку? Вы со мной или нет?
— Вовсе не глупости я говорю. Это западня, предупреждаю вас! Чует мое сердце, придется уносить ноги.
Жозеф в задумчивости пристроил телефонный рожок на рычаг. Отказать Виктору у него не хватило духу — новое приключение взбудоражило, раздразнило, но при этом ему не хотелось оставлять Айрис, пока не вернутся Эфросинья с Дафнэ — бабушка повела
внучку в обувную лавку за новыми башмачками.
— Они долго не задержатся, и потом, у тебя телефон под боком, — решился он наконец.
Айрис вздохнула. Укорять Жозефа не было ни смысла, ни желания. Она относилась к мужу с тем же нежным снисхождением, что и к дочери, пожалуй даже с большим. Но у нее было подозрение, что Жозеф ей лжет.
— Дай мне честное слово, что звонил Виктор. Неужели он без тебя не справится с покупкой этого проектора?
— Дело не в покупке. Аппарат-то тяжелый, тащить его вдвоем сподручнее. Быстро не обернемся — пока сторгуемся, потом еще с этой махиной пробираться в толпе бездельников, которые так и норовят наступить на мозоль…
— А потом еще полакомиться сладкой ватой или пряничной свинкой! — подхватила Айрис.
— Я? Лопать такую гадость?! I swear never to eat a pig!
[845] — вскричал Жозеф, постаравшись воспроизвести произношение лондонского денди.
— Браво, ты делаешь успехи в английском! — засмеялась жена. — Дорога истины вымощена сладкозвучными клятвами. Я требую, чтобы ты свою клятву сдержал, на каком бы языке она ни прозвучала.
Приложив правую руку к сердцу, а левую воздев к потолку, Жозеф призвал небо в свидетели, что не родился еще на свет тот, кто увидит его с пряничной свинкой в зубах.
— И ты, дорогая, опасайся этих мерзких животных, и к Дафнэ их ни за что не подпускай.
— Животные… — рассеянно пробормотала Айрис, когда муж удалился. — Меня гораздо больше занимают часы…
Она взяла тетрадку с новой сказкой и принялась писать:
«Откройте-ка учебники, настало время заняться умножением, сложением и вычитанием!» — затикали самые большие настенные часы с маятником, выполнявшие обязанности главного наставника. Детишки послушно открыли учебники, и только Полетта пропищала: «А плетением? Мы займемся плетением? Я хочу научиться плести всякие небылицы!»
Виктор и Жозеф встретились у качелей на ярмарочной площади за полчаса до указанного в письме Ольги Вологды времени и теперь томились в ожидании у входа на станцию, вдыхая аромат нуги и сахарной ваты — эти сласти с шутками и прибаутками рядом предлагал праздным прохожим парень с фигурой атлета.
Поезда останавливались, вытряхивая на перрон толпы пассажиров — большинство из них, как заправские ныряльщики, тотчас бросались в людское море, бушевавшее на ярмарочной площади. Залпы в тире сливались со звонкими руладами уличных певцов. Девчонка голосила под аккомпанемент рыдающей скрипки:
Какой красавчик, гляди, гляди!
Он любовник Эвриди… Эвриди…
ки!
Виктор дернул Жозефа за рукав:
— Паже!
Сыщики-любители проворно спрятались за металлическими опорами вокзала.
Ламбер Паже прихорошился: буйная рыжая грива укрощена бриллиантином, на макушке красуется шляпа-канотье. Он нервно расхаживал по перрону, зыркая по сторонам. И вдруг ему навстречу выдвинулся не кто иной, как Анисэ Бруссар, владелец скобяной лавки, и тоже при параде: в строгом черном костюме и котелке в тон.
— Вот это да! — выдохнул Жозеф. — Тут явно не хватает только прекрасной Ольги…
Виктор щелчком пальцами призвал его к молчанию.
Они не заметили, что на второй платформе пристроился на скамеечке Мельхиор Шалюмо. Да и трудно было заметить какого-то мальчишку в школьной пелеринке, в берете, надвинутом до бровей, и с леденцом на палочке. Он безмятежно созерцал разыгрывавшийся спектакль, среди персонажей которого были два сыщика-любителя и два опереточных дурня.
Анисэ Бруссар и Ламбер Паже вели оживленный диалог. Бруссар, похоже, был в ярости: размахивал руками и грозил собеседнику пальцем. Паже, напротив, являл собой воплощенное спокойствие. В конце концов Бруссар выхватил из кармана сложенный листок и протянул его биржевому игроку. Тот развернул бумагу, прочитал, покачал головой и вернул письмо Бруссару, который уже поутих и даже попытался изобразить нечто похожее на улыбку. Какое-то время они молча смотрели друг на друга, затем Бруссар подхватил Паже под локоть и повлек его к выходу. Покинув станцию, они направились к проспекту, на котором шумела ярмарочная толпа.
«Вот это компания, о Всемогущий! Ну и шутку Ты с ними сыграл! Русскую балерину они могли тут ждать до скончания веков с таким же успехом, как папу римского. А эти два олуха еще и прошляпили другую парочку у себя на хвосте. Я уже лопаюсь от смеха, а веселье-то продолжается — идем-ка за ними!»
Жозеф с удовольствием избавился бы от нескольких су в обмен на кулек картошки-фри, но Виктор, железной хваткой вцепившийся в его рукав, тащил зятя за собой, не спуская глаз с Паже и Бруссара. Дорогу им внезапно заступила банда уличных хулиганов, пристававших к девушкам. Вокруг зазвенели пощечины, посыпались оскорбления. Когда Виктор протолкался сквозь затор, Паже и Бруссара уже и след простыл.
— Где они?
— Да вон же! — Жозеф ткнул пальцем в сторону вывески на павильоне аттракционов:
ВАС ЖДУТ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ТАИНСТВЕННОЙ РЕКЕ,
ДИКИЕ ОСТРОВА И НЕЖНЫЕ ДИКАРКИ!
Прочитав это обещание, выписанное огромными изумрудно-зелеными буквами на фанере, Виктор потянул Жозефа к павильону, в котором исчезли объекты наблюдения, и вскоре сыщики-любители уже сидели в лодке. Как только мелочь перекочевала из их карманов в кулак владельца аттракционов, лодка неспешно двинулась по реке, оказавшейся жалким ручьем, в темный проем павильона.
— Да будьте же милосердны, я не умею плавать! — запоздало возмутился Жозеф.
— Друг мой, ручей тут для красоты, наш броненосец катится по рельсам. Главное, не упустите из виду тех двоих, мало ли что они замышляют.
Вторая лодка пока оставалась в пределах видимости, Виктор даже различал огненную шевелюру Паже, норовившую избавиться и от оков бриллиантина, и от соломенной шляпы, а рядом с ней маячил котелок Бруссара.
— Батюшки, туннель, этого еще не хватало! — проворчал Жозеф.
Вокруг теперь царила тьма, и из тьмы со всех сторон вдруг зазвучали девичьи голоса: «Ми-илый, где же ты? Иди к нам!» Но медоточивые сирены тщетно пытались за четыре су заманить в свои сети сыщиков-любителей.
— Я бы с удовольствием, мадемуазель… или мадам, пардон, я вас не вижу… да только ваш остров — это чернильница какая-то, а я чернилам только одно применение нахожу — для литературного творчества.
— Боже мой, да замолчите вы! — зашипел на Жозефа Виктор. — Разговаривать еще с этими…
— Где ваша вежливость? Мне сделали предложение — я от него изящно отказался.
Дальше стало посветлее, лодка подплыла к понтону, и зловещего вида пират — настоящий висельник, — бесцеремонно схватив путешественников за руки, выдернул обоих из лодки.
— Ну и зверюга! У меня ж синяки останутся!
— Жозеф, скорее, они вошли в лабиринт!
— Вы это называете лабиринтом? Вот эту кучу досок, похожую на строительные леса?
На очередной фанерке полыхали алые буквы, теперь это было предупреждение:
ТЫ, ВСТУПАЮЩИЙ В ЛАБИРИНТ,
НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕЧАТЬ ДОРОГУ,
ИНАЧЕ НАВСЕГДА ОСТАНЕШЬСЯ ПЛЕННИКОМ!
— И как же, с вашего позволения, тут отмечать дорогу? — пропыхтел Жозеф, с трудом поспевая за Виктором. — Я вам не Мальчик-с-пальчик, нет у меня ни хлебных крошек, ни камешков. А вы, между прочим, мне даже картошку-фри купить не дали!
Как ни старался он не отставать от Виктора, вскоре потерял его из виду и очутился один-одинешенек посреди тесного прохода, по сторонам которого тянулся глухой дощатый забор, размалеванный разноцветными красками.
— Эй! Кто-нибудь!
В голове вдруг сделалось пусто, но Жозеф, не теряя надежды, что стоит свернуть за угол в конце прохода — и одиночеству придет конец, устремился вперед. Надежда в некотором смысле оправдалась: он обрел целую толпу в виде ополоумевшей от долгого блуждания по лабиринту дамочки, двух хнычущих девочек и старика с моноклем, немедленно уставившегося на него с подозрением. Но Виктора среди них не было.
«Черт! Куда он подевался?» — совсем растерялся Жозеф.
А Виктор тем временем пребывал в бешенстве — еще бы, ему приходится разыскивать зятя, который исчез в неизвестном направлении, а Паже и Бруссар, оторвавшись от погони, где-то проворачивают черные делишки!
Так, читая угрозы и издевки на фанерках, начертанные теми же крупными буквами, что и на вывеске, например:
ГОРЕ ЗАБЛУДШЕМУ!
МОЖЕТ, ЭТО И ПОХОЖЕ НА ВЫХОД,
НО ТЫ В ТУПИКЕ!
или:
НАБЕРИСЬ ТЕРПЕНИЯ:
ВСЕГО-ТО ПАРУ СОТЕН ЛЕТ В ЛАБИРИНТЕ МИНОТАВРА,
И НИКАКОЙ ТЕБЕ АРИАДНЫ!
они — Виктор и Жозеф — через параллельные выходы вырвались на свежий воздух и тотчас бросились друг к другу одновременно с облегчением и негодованием.
— Вы что, смерти моей желаете?! — возопил Жозеф.
— Из-за вас они уже потерялись в толпе! — взревел Виктор, пытаясь перекричать ярмарочный шум.
Но тут их внимание отвлекли.
— Благородные рыцари, призываем вас сразиться с привидениями и темными личностями, коих мы замуровали в зловещем узилище! Они уже поджидают вас, готовятся к битве, в каковой вы либо голову сложите, либо одержите победу, коли у вас достанет мужества и доблести! Решитесь ли вы избавить мир от козней сатанинских сил? Или же в страхе сбежите, ничтожества этакие, поелику не владеете ни сердцем отважным, ни пятнадцатью су, потребными для участия в славной баталии?
Человек, все это громогласно изрекавший, стоял перед павильоном с фасадом из папье-маше, который какой-то безумный гений изрисовал плодами своих фантазий. По высоте полета творческой мысли композиция превосходила самые смелые деяния современных живописцев. В центре ее изображен был монстр о двух головах, и у каждой клыки свисали аж до локтей.
— Ну же, цыпа моя, идем туда, печенкой чую: будет весело! Позабавимся похлеще, чем в павильоне укротительницы блох! — уговаривал подружку молодой солдатик в увольнительной.
Рыжие волосы Паже на мгновение огнем полыхнули из-под канотье рядом с вывеской «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ», а котелок Бруссара уже исчезал в дверях.
— О нет, вот только битвы с привидениями мне еще не хватало! — простонал Жозеф, бросаясь к монструозному павильону вслед за Виктором.
Сначала они ничего не видели и не слышали. Потом чьи-то незримые руки сунули им в кулаки свечи и прозвучал тихий голос:
— Вы в чертогах Времени!
В темноте вырисовался смутный силуэт: долговязая тощая фигура, закутанная в простыню и вооруженная огромной косой. Виктор при виде ее лишь плечами пожал, но все же почувствовал, как по спине пробежал холодок; Жозеф отчетливо охнул, будто с размаху получил в живот. Они шагнули к тускло освещенному красным фонарем дверному проему, а когда переступали порог, тем же голосом их напутствовали:
— Поставьте свечи на алтарь, благородные рыцари! Вы вторглись в логово женщины-ската — стоит вам коснуться ее хоть кончиком меча, и вы получите электрический разряд, равный по силе тому, коим убивает небезызвестная морская рыба. Берегитесь!
В слабом белесом свете фонариков навстречу им качнулась расплывчатая темная туша, намеренная, видимо, ткнуть благородных рыцарей спрятанной под пестрым балахоном гальванической батарейкой. Жозеф и Виктор, шарахнувшись в сторону, продолжили путь по следам Паже и Бруссара, чьи голоса звучали в отдалении.
— Не иначе как по насмешке злой судьбы вы очутились в обиталище гарпий, чужестранцы! — раздался скрежещущий голос, обладателю коего не помешала бы большая ложка сиропа от кашля.
Замигали лампы на рамах зеркал, и в них отразились, многократно умноженные, три девицы, закружившиеся в пляске — куда там дервишам до того кружения.
— Надеюсь, что бедняжкам за это хорошо платят и что их не стошнит, а то у меня у самого голова кругом идет, — пробормотал Жозеф. — Ай! Перестаньте меня щипать! — Он гневно обернулся к Виктору, но Виктора там не было — молодому человеку в лицо радостно скалился череп.
Конечно, отважный рыцарь должен был бы немедленно сразиться с нечистью, но у рыцаря имелись заботы поважнее — срочно отыскать шурина и желательно подальше от скелета, например в соседней комнате. Жозеф, икнув, бросился туда со всех ног.
Увы, это оказалась камера пыток, оборудованная дыбой, «железной девой» и прочими приспособлениями, эффективность которых проверяли на себе восковые манекены.
— Виктор, это вы? — выдохнул Жозеф, склоняясь над перекошенным лицом жертвы, растянутой на пыточном станке. Но ответом ему были стеклянный взгляд куклы и чей-то утробный смех.
Вдруг откуда-то налетело темное облако, завихрилось вокруг — словно сонм черных бабочек отчаянно рвался к свету. Этого Жозеф уже не вынес, помчался во всю прыть к единственному выходу — на шаткую лестницу, ведущую вверх, в царство мертвых, попросту на темный чердак. Дальше был панический бег с препятствиями в виде сваленных повсюду в кучи гробов из папье-маше и усложненный погоней: за Жозефом скакали четверо мертвецов, призванных показать живым, почем литр масла в геенне огненной. От кульбитов и зигзагов, которые приходилось выделывать на бегу, чтобы не запутаться ногами в зловещей паутине — веревочных сетках, — у Жозефа сбилось дыхание и кружилась голова, он был уже на пределе сил. Разумеется, под личинами настигающих его мертвецов скрывались артисты массовки из какого-нибудь второразрядного театра или уличные зазывалы и раздатчики рекламных проспектов — Жозеф это прекрасно понимал, но от того было не легче, он удирал от них как в кошмарном сне, по позвоночнику то и дело прокатывалась холодная волна страха, в груди застряла глыба льда. «Ну что, будешь еще сочинять ужасные сцены для своей „Демонической утки“?» — спрашивал он себя, задыхаясь.
Неожиданно, когда у Жозефа уже подгибались ноги от слабости и он думал, что упадет, воцарилась тишина, топот преследователей стих. Потом в темноте заворочалась чернильно-черная масса, послышалось хриплое страшное дыхание и хрипы постепенно сложились в слова:
— Взгляни на эти маски, прочти на их безмолвных губах свой смертный приговор! Приговор будет исполнен, если ты не сумеешь покинуть это место!
Голос скрипел и скрежетал похлеще того, что Жозеф слышал на первом этаже. «Они что тут, все простуженные? Мне вот еще насморк подхватить осталось!» — ужаснулся молодой человек. И в этот момент кто-то хлопнул его сзади по плечу — сердце провалилось в пятки, он чуть язык не прикусил, но все же выговорил:
— Виктор, это вы?
— Если бы вы не думали только о развлечениях, мы бы их уже догнали! — рявкнул Виктор и сердито стукнул тростью в пол.
— Уф-ф… Бо… боже, какие страхолюдины! — выдавил Жозеф, тыча пальцем в сторону кривобоких фигур с зелеными, тускло мерцающими лицами.
— Всего лишь фосфоресцентная краска… Тихо! Я, кажется, что-то нашел… — В следующую секунду Виктор растянулся на полу рядом с человеком, о которого он споткнулся.
Человек лежал на боку, шляпа валялась возле плеча, из-под головы натекла черная лужа. Виктор, превозмогая отвращение, опустил в лужу палец, поднес его ко рту и лизнул. Солоновато-металлический привкус он бы ни с чем не спутал — это была кровь! Издав придушенный стон, Виктор с трудом поднялся на четвереньки, а затем, шатаясь, выпрямился.
Жозеф непременно помог бы ему, но при виде трупа молодой человек слишком перепугался и теперь пятился с воплями:
— Дайте свет! На помощь! Скорее! Здесь покойник!
В несколько прыжков, мгновенно забыв и о страшных масках вокруг и о зяте, пребывавшем в состоянии шока, Виктор достиг лестницы и помчался вниз по ступенькам. Солнечный свет после темного чердака ослепил, заставил остановиться. Проморгавшись, Виктор завертел головой в поисках беглеца, увидел, как тот яростно продирается сквозь толпу у ближайших аттракционов, и устремился следом. По пути пришлось обогнуть помост, на котором Оноре Селестен, силач с улицы Дюранс, боролся один против шестерых противников, среди коих были представители обоих полов. Все шестеро щеголяли в розовых трико и туниках, а женщины — еще и в пеплумах. Вероятно, речь шла о противостоянии могучего галла римским легионерам и их боевым подругам.
— Оноре! — заорал Виктор на бегу. — И вы, силачи! За мной! Совершено преступление! Убийца бежит к площади Нации, нужно его задержать!
Месье Селестен и его команда без колебаний спрыгнули с помоста. Решив, что это какой-то предусмотренный представлением трюк, зрители возликовали, сгрудились вокруг них и всей гурьбой рванули за Виктором. Вскоре задыхающаяся, разгоряченная бегом и весельем толпа заполнила ближайшую аллею, переполошив и повергнув в негодование торговцев карамелью и леденцами. Продавец пряничных свинок, как раз дорисовывавший глазурью имя «Генриетта» на боку одной из них, выронил от неожиданности тюбик, и буква «а» превратилась в «р».
— Что за «Генриеттр» такой? — обиделась юная обладательница имени и белокурой косы до пояса. — Такого даже в святцах нет!
— А что происходит-то? — заинтересовался продавец пряничных свинок.
— Убийцу ловим! Ату его! — пропыхтел Жозеф, бежавший изо всех сил в последних рядах преследователей. — Кровищи там море!
Где-то рядом зазвенели фарфоровые вазы, взлетели в воздух открытки, лотерейные билеты дождем просыпались в лоток с макаронами.
— Ах черти, они нам весь товар перепортят и покупателей распугают! — завизжали ямарочные торговки и бросились заталкивать своих отпрысков в фургоны, чтобы не умчались за толпой.
— Месье Виктор, глядите! Что делать будем?! — крикнул Оноре Селестен, указывая пальцем на беглеца, который в этот момент залезал на огромную карусель с механическим, ощетинившимся медными раструбами органом в центре.
Виктор не мешкая устремился к круглой платформе, уже набиравшей обороты вращения. Беглец оседлал корову, Виктор вцепился в кролика-переростка, Оноре следом за ними вскочил на гигантскую крысу и завопил своим:
— Эй, Огюст! Да, ты, Защитник Камарга! Запрыгивай скорей на слона! А ты, Роже, Угорь из Пуату, — на зебру! Лулу, Пепе, Железные Сестрички, в вашем распоряжении крокодил и страус, а вы, близнецы, Мушкетеры Лотарингии, караульте этого негодяя на земле, да смотрите, не упустите его, если вздумает удрать!
Жозеф, тоже добежавший до карусели, на несколько мгновений замер в растерянности, не в силах выбрать себе скакуна, но наконец решился укротить свирепого вида буйвола. Когда карусель раскрутилась в полную силу, заработал духовой орган, и победоносно грянули фанфары, перекрыв визг железа и оглушительный шум на «русских горках» по соседству.
Не обращая внимания на крики и ругань распорядителя аттракциона — тот носился вокруг карусели и рвал на себе волосы, — Оноре, его друзья-силачи, Виктор и последним Жозеф принялись перебираться с одного «скакуна» на другого, то и дело теряя равновесие и хватаясь за прочих животных из папье-маше, сидя верхом на которых, малышня размахивала длинными прутьями, предназначенными для того, чтобы срывать разноцветные кольца, прикрепленные на дощечках по ободу карусели.
Крепко обняв свою скаковую корову за шею, беглец закрыл глаза, и перед его мысленным взором мелькали сцены свадебного гулянья на озере Францисканцев в Булонском лесу, бурной килевой качки, устроенной на лодке Жоашеном Бланденом, и лицо Тони Аркуэ, барахтающегося в воде… Движение и шум его оглушили.
Наконец распорядитель аттракциона изо всех сил налег на рычаг, и карусель резко остановилась — вся команда Оноре Селестена тотчас посыпалась на помост, как кегли, к великой радости детворы. Беглец, очнувшись, стремительно соскочил с карусели, оставив в дураках Мушкетеров Лотарингии, и растворился в толпе. И он непременно ушел бы от погони, если бы мальчуган в берете и с леденцом на палочке не поставил ему подножку. Беглец упал на четвереньки, хотел подняться, но азиат лет пятидесяти-шестидесяти молниеносно прижал его к земле коленом и парализовал болевым захватом, а пути к дальнейшему бегству быстро перекрыли долговязый щеголь в пальто и перчатках сливочного цвета и задыхающийся темноволосый мужчина в простом костюме.
— Браво, месье Мори, блестящая демонстрация ваших талантов! Господа силачи обзавидуются. Вы, кстати, изволили опоздать на десять минут, и я назначил вам встречу вовсе не здесь, а у карусели с кошками, но все хорошо, что хорошо кончается. Что до вас, месье Легри, вам стоит принять участие в марафоне на ближайших олимпийских играх. Ах, вот и вы, месье Пиньо, да только праздник уже окончен.
— Клянусь, ни… когда… никогда больше не сяду на карусель… и вообще их нужно запретить… детей туда не пускать… — отчаянно борясь с тошнотой, прохрипел Жозеф и, увидев наконец, кто распростерт перед ним на земле, выпалил: — Это же он!
Кэндзи и инспектор Вальми подняли Ламбера Паже на ноги. Он стоял, пошатываясь, с блуждающим взором, странно улыбался в пространство и не оказал ни малейшего сопротивления, когда двое полицейских надевали на него наручники.
— У этого человека шок, ему нужна медицинская помощь, — забеспокоился Виктор.
— Боже мой, какое благородство! — проворчал Кэндзи.
— Вы же сами говорили: «Мучить преступника — значит уподобиться ему», — напомнил тестю Жозеф.
Японец лишь мрачно покосился на него.
— Отведите этого негодяя в изолятор на набережной Орфевр, — приказал инспектор Вальми подчиненным. — Когда он придет в себя, я его допрошу. А вас, господа, я приглашаю вон в то заведение на другом краю площади — приведем себя в порядок, выпьем чего-нибудь освежающего и потолкуем… Э нет, уважаемые силачи, мы обойдемся без вас. Можете вернуться к вашим кулачным боям на радость почтеннейшей публике.
Разочарованный Оноре Селестен сделал знак собратьям возвращаться на ярмарку. Виктор, когда вся команда понуро побрела восвояси, сунул им несколько монет за труды.
— Лихо отплясывают! — пробормотал под нос Мельхиор Шалюмо, созерцая телодвижения четырех лже-черкешенок, исполняющих неистовый танец под безумную музыку вокруг абрека в кафтане с газырями. Краем глаза, однако, человечек не забывал следить за тем, что происходило на площади.
«Вот и всё, любезный Паже, игра окончена. Больше ты не будешь меня эксплуатировать. Твоя ничтожная жизнь прервется здесь, в разгар праздника, а моя только начнется! О Всемогущий, не знаю, как Тебя благодарить!»
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Вечер того же дня
За столиком в биллиардном зале кафе пригорода Сент-Антуан четверо мужчин молча смотрели каждый в свой бокал с мятной водой. Наконец инспектор Вальми опустил в воду соломинку, освежил горло и нарушил молчание:
— Прежде всего, господа, я попросил бы вас поведать, какова ваша роль в череде известных нам убийств. — И в его голосе прозвучала угроза.
— О чем вы? — разыграл недоумение Виктор. — Мы вообще не имеем к этому никакого отношения!
— Шутить изволите? — Огюстен Вальми достал из кармана потрепанный блокнот. — Господа, эти записи касаются вас. Здесь зафиксированы все ваши действия, связанные с упомянутыми мною преступлениями, так что я не потерплю возражений.
— Могу я взглянуть на ваши записи? — нахмурился Виктор.
— Нет. Я сам зачитаю их специально для месье Мори — ему будет весьма любопытно узнать о ваших деяниях. Итак, пятого апреля я неожиданно для себя встретил месье Легри у квартиры месье Розеля, фотографа. Месье Легри принял меня за полного идиота и наплел таких небылиц, что я насторожился, а затем пришел к выводу, что он затеял некое новое расследование, и решил не упускать его из виду. Восьмого апреля месье Легри учинил допрос месье Марсо, вахтеру служебного хода Опера, а затем докучал бывшему старшине пожарных театра, месье Рике, выпытывая адрес мадам Фералес, вдовы одного из сотрудников этого заведения. Во второй половине того же дня его верный помощник, уважаемый месье Пиньо, заявился к безутешной вдове в гости с вопросами. Десятого числа наши доморощенные детективы завтракали в ресторане на озере Францисканцев. Двенадцатого месье Легри отправился в Опера, но вместо того чтобы насладиться музыкой, побеседовал там с княгиней Максимовой, после чего устроил обыск в жилище оповестителя по имени Мельхиор Шалюмо. Тринадцатого месье Легри побывал в архиве редакции «Пти журналь», где изучил статью, посвященную ядовитым растениям. Пятнадцатого к месье Легри на улицу Фонтен явился месье Паже, и они вместе уехали на фиакре — я, к сожалению, не смог за ними проследить из-за крайне затрудненного дорожного движения. Вечером господа Легри и Пиньо стремительно совершили покупки в детском отделе «Магазэн дю Прентан» и устремились в «Фоли-Бержер». Там, месье Мори, вы присоединились ко мне, так что остальное вам известно. Восемнадцатого я обнаружил их на Тронной ярмарке — господа присутствовали на сеансе гадания, проводившемся некой Королевой Маб. А сегодня… вы и так в курсе, чем все закончилось, месье Мори. — Огюстен Вальми захлопнул блокнот и приник к бокалу с водой.
— Да уж, дела… — проворчал Кэндзи. — Я знал об их приключениях в Катакомбах, но это!.. И подумать только — у одного уже есть дочь и еще один ребенок на подходе, а второй скоро впервые станет отцом! Да у вас нет никакого понятия о долге перед семьей, господа! Хуже того — вы лжете, вы обманываете доверие близких, вы ставите их жизнь под угрозу! Вы хоть осознаёте, до чего может довести ваше неблагоразумие?
— Любая авантюра неблагоразумна, но без авантюр не жизнь, а скука смертная, — буркнул Жозеф.
— Если работа в книжной лавке навевает на вас тоску, посвятите себя без остатка сочинению своих пошлых романов-фельетонов! — взорвался Кэндзи. — Не представляю, как вы будете сводить концы с концами, имея двоих детей на руках!
— Мои романы-фельетоны приносят мне… — Жозеф осекся, рассудив, что выбрал неподходящий момент для душевных излияний.
Виктор же понял, что дальше нужно действовать осторожно.
— Что ж, Кэндзи, вы совершенно правы, и я прошу прощения: снова не смог устоять перед очередной загадкой. Но отныне — клянусь! — никаких авантюр, никаких расследований! — Говоря это, он скрестил пальцы за спиной. — Инспектор, позвольте выразить вам восхищение: мы ни на секунду не заподозрили, что находимся под наблюдением. — И с невинным видом добавил: — Проявите великодушие, удовлетворите наше любопытство: когда вы раскрыли всю подноготную этой истории?
Огюстен Вальми пристально уставился на него:
— А вам, стало быть, известна не вся подноготная?
— О нет. Прежде всего я даже не догадываюсь о мотивах убийцы.
— Увы, я тоже, — с неохотой признался инспектор.
Кэндзи с грохотом отодвинул стул и поднялся.
— Я возвращаюсь в лавку, меня ждут. Вы двое — по домам. Если, конечно, инспектор не намерен бросить вас обоих за решетку.
— Я, пожалуй, ограничусь тем, что приглашу их еще на одну беседу в ближайшее время… — отозвался Огюстен Вальми. — Нет-нет, не нужно, я сам оплачу счет.
У него отобрали часы, бумажник, галстук, подтяжки и оставили одного в камере. Казенный врач — прыщавый задохлик с надменным видом — осмотрел его с ног до головы и обмазал всего каким-то антисептическим средством с мерзким запахом. После врача явился надзиратель, поставил на стол еду на подносе и удалился. От одного взгляда на тарелку затошнило: брокколи, похожие на линялую зеленую губку, соседствовали там с треской, утонувшей в бледном комковатом соусе.
Ламбер Паже поморщился и растянулся на откидной койке.
…Лишь опустившись на стул за рабочим столом в своем кабинете, Огюстен Вальми прочувствовал, насколько вымотался за сегодняшний день. Стены кабинета, оклеенные жуткими бежевыми обоями в мелких коричневых прямоугольниках, окончательно испортили ему настроение. Даже сходить вымыть руки сил не хватило — он ограничился тем, что протер их платком, смоченным одеколоном. Открылась дверь, судебный секретарь бесшумно скользнул за конторку в углу, следом двое полицейских ввели Ламбера Паже — тот обеими руками поддерживал спадавшие брюки. Инспектор Вальми указал ему на стул и кивком отпустил конвоиров.
— Сожалею, что пришлось отобрать у вас подтяжки, месье Паже, но таковы правила. Вынужденная мера на случай, если…
— На какой случай?
— Если вы вдруг решите свести счеты с жизнью.
— С чего бы это мне сводить счеты с жизнью? Я невиновен. Кстати, ваши тюремщики назвали эту конуру кабинетом инспектора. — Ламбер Паже демонстративно огляделся. — По-моему, больше похоже на чулан, вы не находите?
— Не возражаете, если вопросы здесь буду задавать я?
— Господин инспектор, мне это записать? — робко подал голос из угла судебный секретарь.
— Как вам будет угодно, месье Делорм, но должен вам сообщить, что это всего лишь преамбула. Что до вас, месье Паже, не стоит относиться к своему положению слишком легкомысленно. Вы задержаны по подозрению в убийстве Анисэ Бруссара, владельца скобяной лавки на улице Вут. Вот теперь, месье Делорм, начинайте записывать. Я внимательно вас слушаю, месье Паже.
Ламбер пожал плечами:
— Это был несчастный случай. Бруссар напал на меня с намерением убить, мне пришлось защищаться.
— Стало быть, самооборона? Почему же вы тогда сбежали, вместо того чтобы немедленно обратиться в полицию?
— Я был в состоянии шока, не соображал, что делаю. Ну и перепугался не на шутку.
— Вы были хорошо знакомы с месье Бруссаром?
— Мы частенько сталкивались в Опера. Иногда он спрашивал у меня совета по поводу финансовых инвестиций.
— У него были причины желать вам смерти?
— Бруссар с ума сходил от ревности, потому что Ольга Вологда, прима санкт-петербургского балета, предпочла меня ему. Он два раза пытался меня убить. Видите шрамы? — Ламбер Паже задрал подбородок, показывая затянувшиеся царапины на шее. — Бруссар порезал меня бритвенным лезвием «Джиллетт» — новомодное американское изобретение, такие во Франции пока что не продаются, и он был их единственным обладателем, можете проверить. К тому же у меня есть свидетель нападения. Когда это произошло, со мной рядом находился месье Легри, книготорговец с улицы Сен-Пер. Бруссар оглушил нас обоих и хотел меня зарезать… До сих пор, как вспомню, в дрожь бросает.
— И когда же это случилось?
— В прошлый четверг.
Огюстен Вальми полистал потрепанный блокнот, вздохнул и захлопнул его — именно в прошлый четверг, 15 апреля, он упустил Легри и Паже из-за затора на дороге.
— У вас прекрасная память, месье Паже. А я не вспомню, что делал и позавчера.
— Своего рода профессиональный навык — я, знаете ли, поигрываю на Бирже, приходится запоминать котировки.
— Зачем вы с месье Легри ездили в Пасси?
— Возможно, вам это покажется странным… По-моему, у господина книготорговца не все дома. Но это я сейчас так думаю. Когда же он заявил мне, что несколько человек из моего окружения были отравлены пряничными свинками, я слегка насторожился. А потом мне самому подкинули пряничную свинку прямо в пещеру с минеральными источниками, где я прохожу курс лечения. Я испугался и привел месье Легри в термальный парк, чтобы он взглянул на «подарок» собственными глазами.
— Действительно, странная история. У вас сохранилась та пряничная свинка?
— Нет. Я был напуган, и когда мы с книготорговцем выбирались из пещеры, даже не подумал ее прихватить.
— Что ж вы такой пугливый, месье Паже? То и дело пугаетесь… Однако вот в чем загвоздка: пресловутым лезвием, которое не продается во Франции и единственным обладателем которого был месье Бруссар, зарезан именно месье Бруссар. Откуда же оно у вас оказалось? — Огюстен Вальми развернул сложенный лист бумаги и принялся разглядывать лежащую на нем металлическую полоску два с половиной на четыре с половиной сантиметра с прорезью посередине. — Прелюбопытный предмет, и очень острый, — сделал он вывод.
— Бруссар сначала угрожал мне на словах, потом набросился на меня, замахнулся… Я перехватил его кулак и оттолкнул изо всех сил — лезвие, которое он сжимал пальцами, угодило ему в горло.
— Да-да, точно в сонную артерию, какое невезение… Вы встретились с ним на Тронной ярмарке случайно?
— Нет, он нарочно заманил меня в ловушку, по крайней мере я так полагаю. Утром мне доставили письмо, отправленное пневматической почтой якобы Ольгой Вологдой.
— И что же было в том письме?
— Просьба о помощи и подпись «Ваша Ольга». Совсем не в ее стиле. Но я не мог проигнорировать такой призыв, а когда явился в условленное место и увидел Бруссара, понял, что послание от него.
— Дальше?
— Он показал мне точно такое же послание, только адресованное ему. Я решил вступить в игру и не стал говорить, что получил пневматическую почту. Сказал, что очутился в этих местах потому, что провел ночь у любовницы, Королевы Маб — она дает сеансы магии и гадания на Тронной ярмарке. Еще я сообщил ему, что Ольга Вологда бросила своего дорогого друга месье Розеля ради какого-то англичанина, у которого замок в Амбере.
— Откуда вам об этом известно?
— Услышал от месье Станислава де Камбрези. Ольга Вологда знакома с его супругой.
— Бруссар вам поверил?
— Не имею представления. Однако новость он воспринял спокойно и пригласил меня прогуляться… Когда я смогу быть свободным?
— Когда я проверю ваши показания. Человек мертв, вы имеете к этой смерти прямое отношение… Я распоряжусь, чтобы вам выделили камеру поприличнее. Правосудие должно быть беспристрастным.
Ламбер Паже презрительно фыркнул:
— Правосудие? О да, оно беспристрастно. Только оглянитесь вокруг, инспектор. Где вы его видели, это правосудие, кроме как в сентиментальных романах? Вы искренне считаете, что праведникам воздастся, а грешники будут наказаны? Правосудие — не смешите меня! Тоже мне урок Закона Божьего…
Огюстен Вальми невозмутимо достал пилочку и, приводя ногти в порядок, произнес:
— Еще один вопрос, месье Паже. Настоящее имя вашей любовницы, Королевы Маб, — Жозетта Арбуа?
— Откуда мне знать? — вскинулся Ламбер Паже. Стало заметно, что он теряет терпение. — И какое отношение это имеет к делу? Моя частная жизнь никак не связана со смертью бедолаги Бруссара! Я не хотел его убить, это была самооборона, никто не сможет доказать обратное!
— Я государственный чиновник, месье Паже, и государство мне платит за то, что я делаю свою работу. А моя работа состоит в том, чтобы собрать как можно больше сведений. Мы оба устали за день, так что чем раньше закончим, тем лучше. — Инспектор Вальми, тоже утомленный разговором, покосился на стрелки больших настенных часов с маятником, тиканье которых выводило его из себя. — Боюсь, что не понимаю вас, месье Паже: вы содержите женщину и не знаете, как ее зовут?
— Содержать женщин мне не по средствам, Королева Маб — всего лишь мое мимолетное увлечение. Она назвалась Жозеттой, мне этого было достаточно. По обоюдному согласию мы встречаемся у нее на улице Рокетт, это удобно для нас обоих.
— Почему же не у вас, в Пасси? Неужто опасаетесь пересудов?
— Я закоренелый холостяк, инспектор, и образ жизни у меня соответствующий. В квартире бардак, черт ногу сломит. И потом, Пасси — не ближний край.
— Последний вопрос, и вас проводят в камеру. Доводилось ли вам прибегать к услугам месье Шалюмо для передачи посланий и посылок?
— Да. И не мне одному. Многие завсегдатаи фойе Танца годами прибегают к его услугам — Шалюмо таким образом подрабатывает. Могу я попросить вас об одолжении, инспектор?
— Я вас слушаю.
— Можно ли сделать так, чтобы мне давали еду, похожую на еду?
Вторник, 20 апреля
Огюстен Вальми усердно обрабатывал пилочкой ногти, искоса наблюдая за маневрами барж у берега. Он, Виктор и Жозеф сидели на скамеечке в сквере Вер-Галан на стрелке острова Сите. Прохожих в этот утренний час было мало, погода стояла замечательная, легкий ветерок носил по скверу запах сонной реки и звуки аккордеона.
— Здесь гораздо лучше, чем в вашем кабинете, — поделился очевидным выводом Жозеф.
— Будем считать, что вы всего лишь мои осведомители, а не свидетели по делу об убийстве, — отозвался инспектор. — Это облегчит жизнь всем нам. В кабинет для дачи показаний я вызову вас лишь в случае крайней необходимости.
— Очень любезно с вашей стороны, — буркнул Виктор. — Но у меня такое ощущение, что вы собираетесь присвоить результаты нашего расследования.
— Именно так. И ничуть этого не стыжусь. Не вы ли сами убеждали меня в том, что ваше расследование направлено исключительно на изучение низменных инстинктов рода людского? Стало быть, вам придется довольствоваться ролью социолога, а мне карьеру делать надо, уважаемый месье Легри. Однако я удовлетворю ваше любопытство. — Не переставая орудовать пилочкой, инспектор Вальми поведал сыщикам-любителям о допросе Ламбера Паже.
— Что еще он рассказал вам, инспектор? — спросил Виктор, когда Огюстен Вальми вкратце изложил факты.
— Сущий вздор. Например, что Бруссар в первый раз напал на него в Пасси, в тот день, когда я потерял вас, угодив в затор.
— То есть это было пятнадцатого числа? — уточнил Жозеф.
— Именно так.
— А вы выяснили, что делал в тот день Мельхиор Шалюмо?
— Конечно, — кивнул инспектор. — Он не покидал Опера, папаша Рике мне это засвидетельствовал. Они сначала поболтали, потом спустились под сцену проверить, все ли люки закрыты. После этого Мельхиор Шалюмо пригласил папашу Рике выпить стаканчик у него в каморке на седьмом этаже. Если бы Шалюмо обладал даром вездесущности, я бы сильно удивился.
— Это было утром или во второй половине дня?
— Ближе к полудню.
— Значит, утром Шалюмо мог съездить в Пасси и обратно, — заметил Виктор.
— Но тогда он должен был откуда-то узнать, что Ламбер Паже заявится к вам на улицу Фонтен, — покачал головой инспектор Вальми. — Нет, я думаю Шалюмо тут ни при чем.
— Что значит — ни при чем? — возмутился Виктор. — Он был на озере Францисканцев, как раз когда Тони Аркуэ сначала получил пряничную свинку, а после этого утонул! У Шалюмо был доступ в гримерку Ольги Вологды. И это он доставил на улицу Вут еще одну пряничную свинку, ставшую причиной смерти мадам Бруссар! Кроме того, вам прекрасно известно, что тем утром, когда я ходил в архив редакции «Пти журналь», моя жена тоже…
— Да-да, — перебил его Огюстен Вальми, — мне все это известно. Вашей жене пряничную свинку принес простой посыльный. Мы провели экспертизу, и она подтвердила вывод месье Шодре: в тесте не было и следа яда. Стало быть, повторяю, Мельхиор Шалюмо ни при чем.
— Я своими глазами видел, как он вручил пряничную свинку Жоашену Бландену в Катакомбах, — вмешался Жозеф. — А Фералес? Вы о нем забыли? Конечно, он не пригласил Мельхиора Шалюмо на свою свадьбу, однако нет доказательств, что…
— Нет вообще никаких доказательств. — Инспектор наконец завершил гигиеническую процедуру и убрал пилочку в карман. — А без доказательств у меня руки связаны. Да, я нашел в сундучке Шалюмо предметы, принадлежавшие покойным Аркуэ, Бландену и Фералесу, но для ордера на арест судье этого будет недостаточно. Кроме того, доставлять подарки и любовные записки входит в обязанности Шалюмо — тут тоже не подкопаешься.
Тут Жозеф так резко вскочил, что из-под его ноги брызнула галька, и безупречно чистые ботинки инспектора припорошило каменной крошкой.
— Шалюмо якшается с Королевой Маб!
— И что? — проворчал инспектор Вальми, тщательно вытирая ботинки платком. — Ламбер Паже тоже с ней якшается.
— Как — что? Настоящее имя Королебы Маб — Жозетта Арбуа, она дочь задушенной старухи, той самой, что напекла ядовитых пряничных свинок! Это ведь доказательство!
— Доказательство чего? Девица Драпье, которая наконец-то явилась в полицию, не в состоянии описать убийцу. Даже не может сказать, высокий он был или низкий. Девица Драпье, видите ли, не в курсе, она, видите ли, затаилась возле уборной, обмирая от страха, и оттуда ничего не сумела разглядеть. — Огюстен Вальми выбросил испачканный платок и надел перчатки. — Месье Легри, если вы предоставите мне неопровержимые факты, свидетельствующие о вине Мельхиора Шалюмо, он не избежит справедливого суда. Самое неприятное, что нам неизвестен мотив этих преступлений. Что же до Ламбера Паже… — Он посмотрел на памятник Генриху IV. — Возможно, именно в душе Ламбера Паже таится ответ на все загадки, как в этой бронзовой статуе — некие сокровища.
Виктор с Жозефом уставились на инспектора как на человека, внезапно потерявшего рассудок.
— Я в своем уме, господа, не надо на меня так таращиться. Вы что, не знаете эту историю? В начале эпохи Реставрации
[846] было решено отлить из бронзы и установить здесь конную статую короля Генриха. Но после опустошительных сражений, в которых принимала участие артиллерия, во Франции отчаянно не хватало этого металла — весь пошел на пушки, — и новое правительство распорядилось переплавить две статуи Наполеона: ту, что венчала Вандомскую колонну, и памятник работы Гудона с колонны в Булонь-сюр-Мер.
— А какое отношение это имеет к Ламберу Паже? — нахмурился Виктор.
— Говорят, что в знак протеста один из работавших над статуей Генриха Четвертого чеканщиков, будучи ярым бонапартистом, замуровал в правую руку монарха маленькую фигурку Наполеона, а в брюхо коня — кипу памфлетов, порочащих ненавистных Бурбонов. Никто не знает, легенда это или сущая правда. Мы не найдем ответ, пока не разломаем памятник. Обыск в квартире Жозетты Арбуа, более известной как Королева Маб, равно как и обыск в логове Паже, ничего не дал. У нас нет ни одной улики, которую можно было бы предоставить суду, а презумпция невиновности требует четких доказательств со стороны обвинения. Если Паже не подпишет чистосердечное признание, его будут судить только за непреднамеренное убийство Анисэ Бруссара. Адвокат заявит, что это была вынужденная самооборона или преступление на почве ревности. И в том и в другом случае больше трех-четырех лет Паже не дадут — присяжные обычно снисходительны в такого рода делах.
— Постойте-ка! — воскликнул вдруг Жозеф. — Пятнадцатое апреля, точно! Ламбер Паже утверждает, что шею ему порезал Бруссар, но это невозможно! Пятнадцатого апреля я видел Анисэ Бруссара на улице Вут. Утром у них там было чрезвычайное происшествие, приезжали полицейские и пожарные — старушке,
которая часто наведывается в скобяную лавку, стало плохо прямо в торговом зале, у нее случился сердечный приступ, и Бруссар хлопотал вокруг, пока пожарные не увезли ее в больницу. Стало быть, он не мог быть в Пасси! И вот еще что: Бруссар говорил мне, что Паже заходил в лавку двумя днями раньше, но не застал его, поскольку он в то время был в Эрменонвиле. Ламбер Паже вполне мог стащить лезвие и, вероятно…
— Минуточку! — перебил молодого человека инспектор. — Нет ничего проще, чем сделать ложные выводы на основе необоснованных предположений. «Мог» и «вероятно» — это не доказательства. Найдите и предъявите мне осязаемые улики или непреложные факты его вины. Пока этого не случится, нам не о чем с вами разговаривать.
Под застекленным куполом Восточного вокзала клубился сизый дым. Натужное дыхание паровозов, лязг вагонных сцепок, свистки и грохот багажных тележек по перрону сливались с гомоном толпы озабоченных путешественников. На лицах читались беспокойство — всё ли взяли в дорогу? — и горечь расставания. Мельхиор Шалюмо в безупречном костюме из альпаки
[847] самому себе казался великаном. Он величественно прокладывал дорогу в толчее, размахивая тростью, а за ним волоклись двое носильщиков с его пожитками: ларцом, на крышке которого красовалось выложенное мозаикой имя «Саламбо», кожаным саквояжем и манекеном из ивовых прутьев, одетым в форму гусарского полковника.
В конце перрона, вдали от толпы, зияло пустое пространство — там проводник в золотых галунах стоял на страже сверкающей железной машины, сложного механизма, соединенного с вагоном-рестораном и вагонами-купе. Маленький человек замедлил шаг, дабы обозреть это чудо из чудес. «Восточный экспресс», следующий в Константинополь через Вену, был здесь только ради него, Мельхиора Шалюмо, — сказочно прекрасный, надраенный до блеска, потрясающий воображение. Его карета.
Отдельное купе могло бы потягаться в роскоши с каким-нибудь великосветским салоном — просторное, уютное, со всеми удобствами. Мельхиор присел на койку, попрыгал, проверяя, насколько она мягкая, растянулся на ней с наслаждением, вдохнул запах свежего постельного белья. Затем встал и пристроил ивовый манекен в кресле.
— Особенным путешественникам — особенный поезд, Адонис. Я давно мечтал приобщиться к этому великолепию, доступному лишь избранным. Согласись, здесь получше будет, чем в чулане восьми квадратных метров на седьмом этаже! Не стану отрицать, обошлось мне это недешево, но за годы службы разносчиком тайных даров и посланий я успел набить чулок монетками под завязку… О, слышишь? Двери захлопали…
Прозвучали два долгих гудка. Ударили в стороны струи пара. «Восточный экспресс», едва ощутимо качнувшись, тронулся с места — Мельхиор даже не сразу осознал, что они отправились в путь, ему почудилось, что это соседний состав отошел от перрона. Но вскоре здание вокзала исчезло из виду, и маленький человек возликовал.
Поезд промчался по унылому предместью, галантно проследовал меж загородных вилл и дальше покатил по сельской местности: за окном потянулись поля, перелески, реки, проплыла мимо будка дежурного по переезду. С синего неба за «Восточным экспрессом» наблюдали редкие белые облачка.
Инспектор Вальми торжествовал — наконец-то в его руках оказался хоть один козырь. Полюбовавшись еще раз на важную улику, он спрятал ее в конверт — маленький картонный прямоугольник с цветной картинкой и подписью:
Г-н де Ножан застает Люлли, придворного поваренка мадемуазель де Монпансье, когда тот дает концерт на кухне перед своими собратьями.
В середине дня Огюстен Вальми вызвал на набережную Орфевр девицу Драпье и немедленно показал ей улику:
— Посмотрите внимательно: это одна из ваших карточек бон-пуэн, мадемуазель?
Полина Драпье не колебалась ни секунды:
— Да, господин инспектор. Их было восемнадцать, несколько штук я потеряла, потом кто-то подкинул их мне в фургон. Но собралось всего семнадцать. Все они из серии «Знаменитые дети», там есть Антонио Канова, Карл Линней…
Огюстен Вальми прервал девушку нетерпеливым жестом:
— Меня интересует только эта карточка. Я, кстати, не знал о флорентийских корнях Жан-Батиста Люлли
[848] и о том, что в возрасте десяти лет родители продали его шевалье де Гизу, чтобы мальчик стал шутом при дворе мадемуазель де Монпансье, а та сперва отправила его поваренком на кухню. Да уж, весьма поучительно для школьников.
— Где вы ее нашли? — спросила Полина.
Огюстен Вальми вместо ответа принялся разглядывать собственные ногти.
— Видите ли, мадемуазель, — наконец нарушил он молчание, — убийцы не хитрее большинства простых смертных, они тоже совершают ошибки. Я догадываюсь, почему он оставил при себе именно эту карточку… Жан-Батист Люлли был зачинателем оперы во Франции.
— Они надеются меня сломить? Болваны! Защищайся, Ламбер, и не забывай контролировать эмоции. Ты готов выдержать бесстрастный взгляд инспектора Вальми, не заробеешь при виде его ничего не выражающего лица, ответишь верно на все его каверзные вопросы. Да, ты готов ко всему. Нужно противостоять служителям закона отважно и хладнокровно, притвориться недоумком, чтобы сделать в конце концов дураков из них — а ты ведь это умеешь. Единственная тень на горизонте — та учительница… как же ее зовут?.. ах да, Полина Драпье. Интересно, она уже дала свидетельские показания?.. А о чем, собственно, она способна рассказать? Девчонка не видела моего лица, не слышала голоса… Так, а Жозетта? Жозетта ничего не знает, ее и вовсе можно списать со счетов. Остается Чик-Чирик. Коварный извращенец, хитрая бестия, однако же у него нет никакого резона меня топить, иначе пойдет на дно вместе со мной — окажется на скамье обвиняемых как соучастник… Чертов Мельхиор! Нет, он будет молчать… С другой стороны, он может заявить, что не ведал о содержимом посылок, которые доставлял по моей просьбе, а это сущая правда… Еще книготорговец. Этот чуть было не нарушил все мои планы, но я его перехитрил — он заглотил наживку и не поморщился. Понадобилось изрядное самообладание, чтобы его оглушить, а потом порезать себе шею бритвенным лезвием и засунуть его за отворот брючины Легри, тем самым направив подозрения доморощенного сыщика против Бруссара. Блестяще было задумано!.. Одно мне непонятно: куда подевалась свинка, которую я положил рядом с источником железистой воды?.. Ба, да какая разница, это был невинный пряник без крупицы яда.
Растянувшись на тюремной койке, Ламбер Паже вполголоса разрабатывал стратегию защиты. Он совершил пять убийств — шесть, если считать непредвиденную смерть Берты Бруссар, — и у полиции не было ни единой улики против него. Лишь убийство Анисэ Бруссара поставило его перед дилеммой.
— У тебя два варианта: преступление на почве ревности и вынужденная самооборона. И в том и в другом случае партия считай выиграна — к тебе наверняка проявят снисхождение. — Ламбер Паже улыбнулся. — Пара-тройка лет за решеткой? Что ж, будет время почитать и написать либретто еще одной оперы-балета за государственный счет. И мое новое творение будет лучше прежнего, «Гадес и Персефона» с ним не сравнится… Впрочем, если версия самообороны пройдет на «ура», тебя и вовсе оправдают.
Он поправил подушку под головой и повернулся к стене. Предыдущий обитатель узилища нацарапал на ней:
Там злые демоны! О, преисподней дщери!
Пришли меня терзать вы, как добычу — звери?
Те змеи, что шипят на ваших головах…
[849]
Перед мысленным взором тотчас возникла картинка.
Занавес закрывается на премьере его оперы-балета, в зале вспыхивает свет, исполнители партий Гадеса и Персефоны выходят на поклон под гром аплодисментов. Зал встает, раздаются восторженные крики «Браво!», овации не смолкают. Публика потрясена, зачарована, пение и хореография создали новое измерение, в котором властвуют эмоции…
Картинка стерлась, и он устремил взгляд на зарешеченное оконце.
— Четыре года труда уничтожены четверкой подлецов! Каким же я был идиотом — доверился Ольге Вологде, отдал ей законченное либретто! И оно исчезло, а всякий раз, когда я спрашивал о его судьбе, она отвечала уклончиво: «Ах, мой милый Ламбер, ваше либретто прелестно, это шедевр, вы невероятно талантливы. Однако же надобно время, чтобы найти достойных исполнителей, прежде всего хороших музыкантов». Змеи! Я сам влез в гадючник! Гореть им всем в аду!
Однажды вечером, в январе, он увидел в фойе Танца Анисэ Бруссара, беседовавшего с Максансом де Кермареком, антикваром с улицы Турнон. Ламбер стоял там, где они не могли его заметить, зато ему был прекрасно слышен разговор. Бруссара распирало от сознания собственной важности, он, выпячивая грудь, повествовал человеку в красном: «Дорогой мой Кермарек, вы удивитесь, но я финансирую постановку оперы-балета на сюжет из античной мифологии. А знаете, кто написал либретто? Сама Ольга Вологда! Действие происходит в царстве мертвых, но ничего общего с Оффенбахом!
[850] Господа Тони Аркуэ и Жоашен Бланден в поте лица трудятся над партитурой. Хореографическую партию Персефоны будет исполнять Ольга Вологда, вокальную — мадемуазель Сандерсон, дива из „Тайс“. На роль Гадеса мы подумываем пригласить месье Мореля, который прославился в партии Яго. Месье Фералес поклялся мне, что сделает все возможное, чтобы убедить их участвовать в спектакле».
Слова Бруссара тогда звоном отдавались в голове Ламбера Паже, во рту появился металлический привкус крови. Гомон в просторном зале делался все тише, будто Ламбер оглох и внезапно оказался в пустоте. Охваченный гневом, он скрипнул зубами, пошатнулся и схватился за колонну, на шее от внутреннего напряжения вздулись вены.
Той ночью он не мог заснуть. Сидел у открытого окна и, не обращая внимания на холод, курил сигарету за сигаретой до зари. В нем медленно созревал инфернальный план. Когда рассвело, Ламбер по пути к Жозетте завернул в муниципальную библиотеку — хотел почитать справочник по криминологии, но ему в руки попалась та книга. Ее название — «Пляски смерти в средневековой Франции» — рассеяло последние сомнения. Да, он способен на чрезвычайный поступок. Остается придумать, как именно его совершить. Сразу пришла мысль о яде — о таком яде, который не оставляет следов и который легко раздобыть, не обращаясь к аптекарю. Ламбер Паже остановился на аконите. Но как заставить четверых негодяев добровольно проглотить его?
Спустя неделю Ламбер все еще ломал голову над этой задачей. На ответ его, сама о том не ведая, натолкнула Жозетта: впервые со дня знакомства она вдруг завела речь о своей матери — жалкая старуха, мол, живет тем, что стряпает и продает сладости да пряничных свинок. Жозетта ее стыдилась. «Ах дружочек, глаза б мои не видели это убогое предместье, оно навевает на меня тоску!» Поначалу Ламбер не слушал душевные излияния любовницы, но слова «пряничные свинки» привлекли его внимание. Какой изящный ход — скормить четырем свиньям их пряничных соплеменниц, щедро сдобренных ядом!
Так он и познакомился с Сюзанной Арбуа. Поначалу Ламбер намеревался только выведать у нее рецепт и стянуть пару подходящих формочек для выпечки. Но тут опять пригодилась Жозетта — эта дуреха решила, что ради ее, Жозетты, прекрасных глаз возлюбленный хочет облагодетельствовать мамашу заказом: «Какой же ты благородненький, дружочек, прям настоящий джентльмен!..»
Лежа на тюремной койке, Ламбер Паже опять почувствовал, как в груди поднимается волна гнева:
— Свиньи, мерзавцы, воры! Это говорю вам я, настоящий джентльмен! Я уничтожил вас одного за другим! Ольга Вологда избежала смерти от яда, но с ней и так все кончено — в ее возрасте пора уходить со сцены, она не будет больше танцевать, а это жестокое наказание. Мадам Бруссар? Досадная ошибка, всякое бывает. Единственное, о чем я сожалею, — это о том, что пришлось задушить старуху, общение с ней мне уже начинало нравиться. Однако, не разбив яиц, омлета не приготовишь.
Он вдруг подумал, правда ли, что стремительно обрушивающийся на шею нож гильотины ощущается всего лишь как прикосновение ветра…
«Восточный экспресс» мчался сквозь ночь, как ему и положено, на восток. Мельхиор Шалюмо быстро привел себя в порядок: пригладил едва начавшие отрастать усы и сменил костюм из альпаки на вечернюю тройку.
— Путешествие будет долгим, Адонис, до Вены еще далеко. Я забронировал комнату в семейном пансионе на Кернтнер-штрассе в двух шагах от Венской оперы. Языком я более или менее владею, объясниться смогу, к тому же учебники немецкого и словарь при мне. Держи пальцы скрещенными, Адонис! Как только устроимся на новом месте, я испрошу аудиенции у баронессы Эммы фон Шей. Госпожа Эванджелина Бёрд любезно снабдила меня рекомендательным письмом к сей влиятельной особе. Да, не зря я тогда вернулся, чтобы еще раз побеседовать с предсказательницей — она напророчила мне блестящее будущее. Баронесса фон Шей знакома с новым директором Венской оперы, герром Густавом Малером — дирижером и композитором. Мое терпение безгранично, Адонис, обещаю тебе: я добьюсь своего во что бы то ни стало. Скоро на сцене Венской оперы будет поставлено мое сочинение «Гадес и Персефона»… Не смотри на меня, как дохлая рыба на водоросль, Адонис, ты же прекрасно понимаешь, о чем я… Ох, а ведь нет, не понимаешь, я же тебе об этом еще не рассказывал! Ну прости, пожалуйста, сейчас всё исправлю. Вот смотри.
Мельхиор открыл саквояж и извлек оттуда толстую тетрадь, страницы которой были сплошь заполнены убористым почерком.
— Вот оно, либретто, дружище… А? Что?.. Тебе не стоило об этом спрашивать, но я, так и быть, отвечу. Нет, сей шедевр создан не мною. Открывая тебе правду, я ничем не рискую, потому что рано или поздно истинный автор «Гадеса и Персефоны» обвенчается с мадемуазель Гильотиной. Хочешь знать, кто он? Погоди немного, ты о нем еще услышишь. Что, уже смеешься? И правильно делаешь. А я-то поумнее буду всей этой великосветской шушеры, что приобщается к искусству, ухлестывая за балеринами… Дурни! Думали, я не знал, что было в посылках и в конвертах, которые они передавали объектам своей страсти? Как бы не так! Я мог бы зашантажировать до сердечного приступа любого из этих олухов! Мне, видишь ли, Адонис, не лень было вести бортовой журнал. Помнишь, как однажды ночью — после полуночи дело было, не как-нибудь — меня разбудил Аженор Фералес и велел отнести Тони Аркуэ какую-то рукопись — дескать, тот потерял ее в оркестровой яме? Я не стал буянить, покорно покивал, но едва Фералес убрался восвояси, я улегся обратно в постельку. А рукопись оставил при себе.
Мельхиор расхохотался и запрыгал на койке.
— Они все со мной обращались как с рабом: «Чик-Чирик, вот тебе пять франков, отнеси это, отнеси то!..» А появление в моем тайнике пряничной свинки, завернутой в миленькую розовую бумажку и предназначенной Тони Аркуэ, но без имени дарителя, меня, помнится, сразу насторожило. Обычно дарители желают, чтобы сладкоежки знали, кто их подкармливает, кто же это такой щедрый. А тут, представляешь, только имя адресата, место назначения, дата доставки и купюра в десять франков. Да еще записка, весьма интригующая: «Съешь меня от пятачка до копыт — будешь удачлив, весел и сыт». Разумеется, обжора Тони не устоял перед лакомством. Преломил, так сказать, свой последний хлеб. Занятная превратность судьбы, да? Тем более что я подслушал разговор Ламбера Паже с Аженором Фералесом о той самой рукописи, которую мне надлежало доставить Тони, а точнее, о либретто оперы-балета, написанном якобы Ольгой Вологдой. Спустя неделю пряничная свинка снова вышла на охоту — на сей раз я уже знал, кто ее выпустил, — и она напала на прекрасную Ольгу, каковой было обещано вот что: «Съешь меня, я вкуснее всех, — и Коппелию ждет успех». Охота не удалась, зато Ольга обеспечила себе прекрасное алиби — ведь это она подбила всю ораву на свадьбе Фералеса прокатиться на лодке, в результате чего и утонул кларнетист. Как бы то ни было, я ждал развития событий. Что меня действительно огорошило, так это смерть Жоашена Бландена. Тут опять не обошлось без пряничной свинки: «Маэстро, съешьте меня, нос не воротите — и скрипичным смычком чудеса сотворите». Прочитав эти слова, я застыл, как Моисей перед Неопалимой Купиной — я еще ничего не понимал, и в то же время смутно прозревал все причины и следствия. И вдруг меня озарило, вспомнилось виденное недавно: Жозетта в обнимку с Ламбером Паже в салоне мадам де Камбрези, в тот день, когда там принимали госпожу Эванджелину Бёрд. Моя Жозетта, мое спасение, мое искупленье! Жозетта, вызволенная из пожара в Парижской опере на улице Ле-Пелетье моей рукой! Я и денег немало потратил, чтобы загладить вину… В общем, я озаботился разнюхать, чем зарабатывает на жизнь ее несчастная мамаша, Сюзанна Арбуа. И чем, ты думаешь? Печеньем и прочими пряниками! Чертов Ламбер! Неужели Жозетта — его сообщница? Я должен был в этом удостовериться. Я пошел к Сюзанне — оказалось, ее дом опечатан полицией. Я порыскал по округе и выяснил, что старуху задушили. Теперь мне необходимо было любой ценой защитить Жозетту, какова бы ни была ее роль в этом деле.
Не надо так глаза закатывать, Адонис. Знаю: я виноват, потому что продолжал разносить пряничных свинок. Сначала Аженору Фералесу — без зазрения совести, можешь не сомневаться. Потом этому оголтелому Легри, но тут уж я угощение подменил — та свинка, что его жена получила от посыльного, была самой обычной. Я проследил за ним и Ламбером Паже до Пасси, я всё видел. Пока они валялись на полу, я умыкнул пряничную свинку — просто так, чтобы досадить Ламберу. Сейчас она в безопасности, в ларце вместе с остальными трофеями. А Ламберу всё было мало — он попытался отравить японца. Но японцу в любом случае ничто не угрожало, даже если бы не вмешался полицейский инспектор, — я опять подменил пряник. На мысль о пневматической почте меня навела эта курица Ольга Вологда, когда набросилась на меня с ультиматумом. Я решил спровоцировать финальное столкновение. Ах, какое наслаждение было наблюдать, как друг друга потрошат вор и убийца!.. А теперь я свободен, «Гадес и Персефона» при мне, и никто не оспорит авторство сего творения. Но на всякий пожарный я принял меры предосторожности — Паже тот еще пройдоха, ему обдурить полицию как раз плюнуть. Так что я перевел либретто на итальянский, изменил название на «Плутон и Прозерпина», а действие перенес из Древней Греции в Древний Рим. Улавливаешь, Адонис?
Что-то я проголодался. А ты нет? Нет, ты никогда не испытываешь чувства голода, ты живешь любовью и росой. Я же, с твоего позволения, устрою себе пир в вагоне-ресторане… Ах да, забыл поведать тебе еще кое-что. Оцени мою предусмотрительность, Адонис: я все продумал. Я послал самому себе телеграмму, каковая при необходимости станет свидетельством того, что меня не было на Тронной ярмарке девятнадцатого числа, когда Паже угрохал Бруссара. Вот послушай мое сочинение: «Миленький Мельхиорчик зпт приезжайте замок Баливо зпт Амбер зпт поместье мистера Пейлтока тчк Богатый англичанин готов финансировать мой проект тчк Месье Розелем мы расстались друзьями зпт убедите его повлиять на директора Опера тчк Предаю себя душой и телом на вашу милость зпт ибо знаю зпт что я вам небезразлична тчк Искренне ваша Ольга». Датировано пятнадцатым апреля — вот наидостовернейший почтовый штемпель, Адонис.
Почему телеграмма? Да чтобы почерк не опознали, дубина. Тут же печатный текст, стало быть, никакой тебе графологической экспертизы. Знаю-знаю, о чем ты спросишь: место отправления. Нет, я никогда не был в Амбере, но и не такой лопух, чтобы посылать телеграмму из почтового отделения в районе Опера. Она ушла с Лионского вокзала. Доволен?
Мельхиор Шалюмо исполнил вокруг манекена жеманный танец.
— Ах, прекрасная Ольга без ума от меня! А когда она побывает на премьере моей оперы-балета, и вовсе рехнется!
Вторник, 21 апреля, на рассвете
Ламберу Паже казалось, что он живет в параноидальном кошмаре. Инспектор Вальми демонстрировал обманчивую вежливость, лукавство и маниакальную страсть к чистоте: за три часа допроса он вымыл руки уже двадцать раз, тщательно обрабатывая ногти намыленной щеточкой и используя пемзу для ладоней. Ненормальный! А его кабинет? Крысиная нора с видом на вонючий дворик! От аргументов Ламбера инспектор отмахивался, как от назойливых мух, пресекал все его попытки оправдаться — знал, что молчание порой красноречивее ответов на каверзные вопросы. На губах чистюли играла улыбка — издевательская, едва заметная, но ее значение не вызывало сомнений: «Ну что ж вы всё упорствуете? Я и так уже вывел вас на чистую воду, обо всем догадался!»
«Догадки не есть доказательства, инспектор! — мысленно усмехнулся Ламбер. — Ты блефуешь! У тебя ни единого козыря в рукаве. Хочешь, чтобы я сам раскололся? И не мечтай! Ты наверняка перевернул вверх дном мою квартиру, выпотрошил шкафы, вывернул наизнанку матрас, простучал пол, стены и потолок — но всё зря, ты не нашел ни одной улики. А на что ты надеялся? Найти формочки для выпечки в виде свинок? Корни аконита? Пряничные крошки, пропитанные ядом? Я успел избавиться от всего, что могло меня скомпрометировать. Бардак в моем жилище, повергнувший в ужас месье Легри, устроен намеренно, он призван усложнить тебе задачу».
Огюстен Вальми поднялся из-за рабочего стола, потянулся и опять направился к умывальнику.
«О нет! Господи, уйми его наконец!» — безмолвно взмолился Ламбер.
Однако инспектор не унимался — ритуал омовения повторился в двадцать первый раз. Судебный секретарь воспользовался очередной передышкой, чтобы дожевать половинку бисквита.
Ламбер принялся наблюдать за путешествием таракана по водопроводной трубе. И вдруг расхохотался.
— Вас так развеселила перспектива участия в судебном разбирательстве по делу о шести убийствах? — осведомился Огюстен Вальми, снова усаживаясь за стол.
— Я слушал вас очень внимательно, инспектор, и должен заметить, что у вас с месье Легри на редкость богатое воображение. Вы создали теорию, но не можете обосновать ни одного ее положения. Даже интересно, с чего вы собираетесь начать.
— Я знаю свое дело лучше, чем вы думаете, месье Паже. Вот потрудитесь взглянуть — я нашел это в вашем бумажнике.
На стол перед Ламбером Паже легла карточка бон-пуэн.
— Или это, по-вашему, тоже плод моего воображения?
— Шутить изволите? — фыркнул Паже. — Карточка бон-пуэн — доказательство моей вины? Я купил ее пару месяцев назад в писчебумажном магазине, который специализируется на школьных товарах. Хотите, продиктую адрес? Увидел картинку на витрине и не смог устоять, потому что тут изображен Жан-Батист Люлли. Опера Гарнье — мой второй дом, инспектор. Так к чему вы, собственно, клоните?
Огюстен Вальми откинулся на спинку стула и потер подбородок. Вид у Паже был по-прежнему уверенный, но инспектору показалось, что негодяй слегка занервничал.
— Не находите ли вы, инспектор, — продолжал между тем Ламбер Паже, — что как-то недостойно человека вашего звания и заслуг пытаться осудить в пяти убийствах невинного допропорядочного гражданина? Ведь это вовсе и не убийства, а несчастные случаи. Аркуэ утонул, Бландена подвело сердце — он много пил, Фералес свернул себе шею, провалившись в люк, мадам Бруссар подавилась, а по поводу смерти Сюзанны Арбуа, матушки моей подруги Жозетты, полиция уже четко ответила: преступление совершил бродяга.
Огюстен Вальми все время, пока подозреваемый говорил, задумчиво разглядывал лист бумаги с текстом, отпечатанным на машинке.
— Да что вам, в конце концов, от меня нужно?! — не выдержал Ламбер. — При всем моем уважении к вам, инспектор, я не намерен признаваться в пяти убийствах, которых не совершал! Сожалею, но не могу доставить вам такого удовольствия! Это ваша задача — доказать, что я убийца, а насколько мне известно, у вас нет ни одного аргумента. Ни свидетельских показаний, ни мотива, ни улик! Вам придется ограничиться судебным разбирательством по делу Анисэ Бруссара и принять мою версию вынужденной самообороны.
Пять дней спустя
— Как там продвигается ваше дело о пряничных свинках? — осведомился Кэндзи с плотоядной ухмылкой. — Вам удалось выяснить мотив преступлений?
— Нет, — надменно отозвался Жозеф, перевязывая стопку книг для доставки. — Ламбер Паже всё отрицает, признаёт лишь одно: что непреднамеренно убил Анисэ Бруссара в порядке самообороны. Об этом пишут в газетах. — Он запыхтел, пытаясь вытащить палец из тугого узла, который сам же и затянул. — Если вам любопытно, можете посвятить сегодняшний вечер чтению… О черт! Как мне надоели эти веревочки, тесемочки, бантики, хватит, не могу больше, это невыносимо! Просто китайская пытка какая-то!
— Дорогой мой Жозеф, в Японии существуют древние и славные традиции подарочной упаковки. Я всерьез подумываю о том, чтобы отправить вас туда на стажировку, только сперва вам придется выучить язык. Уверяю вас, японский куда проще китайского!
Эпилог
Июль 1897 г., воскресенье
Раскаленный добела город укрывал от солнца как мог редкие оазисы, поросшие чахлой травкой. Там парижане в промежутках между грозами могли отдохнуть на плетеных стульях, мысленно переносясь в какие-нибудь экзотические уголки планеты, пока вокруг грохочут омнибусы и кружатся на горячем ветру безвременно пожелтевшие, иссушенные жарой листья. Удовольствие стоило десять сантимов — именно за такую цену стулья выдавались напрокат.
[851]
Кабы не изнурительная духота, лето походило бы на осень. Июль изводил горожан зноем и одновременно навевал на них тоску, сдувая влажным тропическим дыханием листья с каштанов. Расположившись вокруг фонтана Медичи в Люксембургском саду, клан Легри-Мори-Пиньо нежился в скудной тени, которую отбрасывали ветки с еще уцелевшими листьями. Подле взрослых стояли две детские коляски. В одной, причмокивая и пуская пузыри, спал Артур Габен, наследник Жозефа и Айрис; за малышом бдительно присматривала старшая сестренка. Чуть поодаль пышнотелая коррезианка,
[852] младшая сестра Мелии Беллак, баюкала своего сыночка. У Айрис не хватало молока, пришлось обратиться к услугам кормилицы, и Пэррина Беллак — у нее-то молока на двоих младенцев было с лихвой, — поселилась в доме Пиньо, к величайшей досаде Эфросиньи. Особенно нервировал добрую женщину выдающийся бюст Пэррины, каковой так и тщился явить себя взорам публики, вырываясь из корсажа. «Истинная Иезавель эта толстуха, Иисус-Мария-Иосиф, хоть бы одевалась поскромнее, а то на такое богатство все мужики слетятся как конкистадоры на золото — не отобьется потом. Ах, если уж научный прогресс и принес нам что-то полезное, так это детский рожок для молока. Но нет, моя невестка питает к бутылочкам с соской предубеждение — ей чтоб все натурально было хочется!» — жаловалась Эфросинья всем подряд.
Дафнэ тоже с первой встречи невзлюбила румяную пейзанку — когда кормилица поднесла двух младенцев к могучей груди, девочка испугалась, что она подменит ее обожаемого братика на своего карапуза. Из-за неприкрытой враждебности со стороны бабушки и внучки Пиньо Пэррине Беллак приходилось порой спать на перекрученной простыне и пить кофе с солью вместо сахара, но добродушная жизнерадостная коррезианка безропотно сносила эти превратности судьбы, и с каждым днем грудь ее лишь больше наливалась молоком.
Во второй коляске посапывала во сне, крепко сжав кулачки, Алиса Элизабет Легри — Таша сама покормила ее час назад в подсобке книжной лавки «Эльзевир».
Виктор, обнаружив, как потяжелели, удвоившись в объеме, груди жены, был приятно удивлен. Однако пыл его быстро угас: все внимание Таша теперь принадлежало дочери. Мужу она тоже старалась уделять время, но времени отчаянно не хватало. «Просто нужно пережить тяжелый период, старина», — философски повторял себе Виктор. Впрочем, он был без ума от маленькой Алисы и ни за что на свете не стал бы требовать от жены сократить период кормления грудью.
Он склонился над дочерью. Какие мысли бродят в этой крошечной головке? Какие чувства таятся в сердечке? На кого она будет похожа, когда подрастет? Суждено ли ему быть рядом с ней, чтобы подмечать все изменения, происходящие в человечке в пору взросления?
На первый план вышли более прозаичные вопросы. Каким образом столь малому существу удается издавать столь пронзительный рев? Когда можно будет перестать объедаться снотворным на ночь, чтобы проспать несколько часов спокойно?..
Вдруг на плечо Виктора легла чья-то рука, а под нос ему сунули визитную карточку. Он машинально взял ее и прочел:
МОРИС ЛОМЬЕ
живописец
Специализация: портреты новорожденных
и сцены крещения
— Ломье?! Что это значит?.. — Виктор поднял голову: перед ним стоял старый знакомец в бархатном костюме и черной широкополой шляпе.
— Легри! Вот уж не ожидал вас встретить! Это чей карапуз, ваш? И твой? — последний вопрос Морис Ломье с улыбкой адресовал Таша, но та отвернулась с таким видом, будто они не знакомы.
— Неужто вы потеряли интерес к рыбацким лодкам и закатам на озере Бурже? — осведомился Виктор, еще раз поглядев на визитную карточку.
— Представьте себе, да. До смерти надоело малевать открытки и наблюдать, как Мими превращается в мещанку, которую интересуют только шляпки с перьями и покупка мебели в кредит у Дюфайеля. После эпических скандалов мы пришли к компромиссу: она перестает опустошать наш кошелек, а я берусь запечатлевать на холстах представителей рода людского.
— На мой взгляд, младенцы гораздо ближе к лягушкам, чем к Homo sapiens, — задумчиво сообщил Виктор.
— Пóлно вам! Младенец — это обещание стать человеком, в нем заключено столько задатков и возможностей!
— И еще это обещание выплатить ваши кредиты у Дюфайеля, — хмыкнул Виктор. — Такая возможность!
— Мой дорогой Легри, вы совсем не романтичны, зато честны. В любом случае моя идея заняться портретами новорожденных сулит неплохой доход, несмотря на конкуренцию со стороны фотографии. Раз уж вы стали отцом, мой талант в полном распоряжении…
— Моей дочери? Нет уж, благодарю вас. Не забывайте, что я фотограф-любитель, а Таша — не менее одаренный художник, чем вы.
— Полагаю, обращаться с тем же предложением к вашей сестрице, вон той чернокудрой Венере, нет смысла, — вздохнул Морис Ломье. — А ведь когда-то она поддалась моим чарам… Пойду-ка я, пожалуй, пока ее муженек, ваш доблестный напарник, не испепелил меня взглядом. Честь имею, Легри! — Живописец приподнял шляпу и направился к компании кумушек, ахавших от умиления вокруг пухленькой девчушки с белокурыми кудряшками.
Девчушка была полной противоположностью Дафнэ — та, стройненькая, с прямыми черными волосами, заплетенными в косичку, походила на маленького индейца. Сейчас она как раз затеяла исполнить боевой танец охотников за скальпами вокруг коляски спящего братика, и Эфросинья поспешно увела ее гулять по аллеям Люксембургского сада. Они похихикали над мальчишкой с огромным соломенным чубом — считалось, что такая прическа защищает детей от удара лбом при падении — и остановились у тележки мороженщика. Пока Дафнэ лакомилась лимонным шербетом, подставляя ветру игрушечную целлулоидную мельницу, бабушка разглядывала прохожих. Она даже подскочила, завидев красотку в капоре и платье из органди, украшенном букетиками фиалок. Красотка вышагивала под ручку с упитанным господином гораздо старше ее. Черный костюм, нарукавная повязка, антрацитовый цилиндр и галстук свидетельствовали о том, что господин носит траур.
— Ой батюшки, Иисус-Мария-Иосиф, это ж та бесстыдница, княгиня, понимаете ли, голышом перед всем честным народом выступавшая! Срам-то какой — подцепила благородного вдовца, подумать только, у него ведь жена заживо сгорела, не прошло и трех месяцев. Ох какой страшный пожар был на том Благотворительном базаре, а погибли-то в основном женщины — мужчины к выходу ломились не разбирая дороги, по головам шли, тростями размахивали, прокладывая путь, шкуру собственную спасая! — разворчалась Эфросинья, стараясь не замечать ироническую улыбку Эдокси Максимовой, которая конечно же тоже ее узнала.
— Баба Фосинья, ты со мной говолишь? — спросила Дафнэ.
— Нет-нет, золотко, это я сама с собой. Пойдем посмотрим на парусные лодочки.
Эдокси между тем сказала своему спутнику, Станиславу де Камбрези, что ненадолго отлучится, и величественно направилась к фонтану Медичи. Она только что установила местонахождение того, кого разыскивала взглядом с тех пор, как увидела старую ведьму, гуляющую с внучкой.
По счастью, Виктор, наблюдавший, как Таша заботливо протирает влажной салфеткой лоб и щечки ребенка, заметил княгиню Максимову до того, как на нее обратил внимание Кэндзи, и бросился на перехват.
— Какая приятная встреча! Как вы поживаете? Я слышал о безнравственном поступке Ольги Вологды, сбежавшей с этим англичанином, Алистером Пейлтоком. А что же месье Розель? Он оправился от такого удара?
Эдокси яростно взмахнула кружевным веером:
— Дорогуша, умоляю вас, давайте не будем о грустном. Амедэ обвинил меня в том, что я оказала дурное влияние на его дульсинею. Потом повестка в суд на слушание по делу Ламбера Паже его так взбесила, что он выставил меня на улицу. А ведь до этого все было так хорошо, у нас установилось полное взаимопонимание… Я уже собиралась вернуться к своему обожаемому князю в Санкт-Петербург, но мне предложили потрясающую роль в кабаре «Диван Жапонэ» на Монмартре. Премьера назначена на сентябрь. Представляете, я там даже буду петь:
Милый Арман, что вы прячете там?
Серьги, кулоны, браслет?
Ах, поверьте, нужды в них нет:
Злата блеск, самоцветов сиянье —
Всё на свете затмит мое обаянье!
В этом тесном корсаже томятся
Два сокровища, что стремятся…
Виктор захлопал в ладоши:
— Очаровательно! Уверен, вы покорите столицу в этой роли!
— Я уже хотела снять комнату в гостинице, — продолжила рассказ о своих злоключениях Эдокси, — но месье де Камбрези, чья супруга погибла при трагических обстоятельствах, так умолял меня поселиться у него на улице Боэти, что я не нашла в себе сил отказать. Он чувствовал себя таким одиноким, а я не могу спокойно смотреть на страдания ближнего, особенно если этот ближний — человек состоятельный… Постойте-ка, кто это там? Уж не Кэндзи ли Мори?
— Браво, у вас прекрасное зрение. Однако же давайте сделаем вид, что оно вам изменило и мой приемный отец в компании моей тещи — всего лишь мираж.
— О, понимаю — блюдете честь семьи и все такое прочее. Коварную соблазнительницу только что попросили удалиться. Что ж, я выполню вашу просьбу — вы всегда были мне симпатичны, Легри, и я хотела бы сохранить наши добрые отношения. Передайте Кэндзи, что я желаю ему всего хорошего. Больше я его не побеспокою.
Виктор некоторое время смотрел вслед Эдокси — она устремилась к скамейке, на которой ждал ее сомлевший от солнца Станислав де Камбрези, — а затем вернулся к своему плетеному стулу. К нему тотчас подошел Кэндзи, выразил благодарность незаметным для других представителей клана жестом и протянул небольшую серебряную коробочку:
— Виктор, у меня для вас подарок. Я заказал это через одного моего американского клиента.
— Спасибо, но… А что это?
— Изобретение мистера Гранта У. Смита, заслужившее особую благодарность Общества противников злоупотребления табаком. Смотрите, внутри портсигара два отделения: первое для сигарет, а во втором спрятан часовой механизм, позволяющий открывать первое только через определенные промежутки времени, не раньше.
— Кэндзи, очень мило с вашей стороны, но…
— Никаких «но»! Табачный дым вреден для ваших легких, для детей и для всех окружающих.
Неподалеку Жозеф жаловался Айрис на отсутствие вдохновения:
— Милая, я горжусь этим ребенком и страшно рад, что ты в добром здравии после родов. Но я чувствую себя бесполезным, никчемным, опустошенным, меня покинула муза. Я начал новый роман-фельетон, суливший мне успех и славу, а теперь — всё, застрял, ни единой мысли в голове. Меня постиг самый страшный кошмар писателей — творческий кризис!
Айрис могла бы похвастаться, что не только закончила сказку под названием «Полетта и часы» — ее, как и предыдущие, обещала проиллюстрировать Таша, — но и уже написала первую часть истории про гнома Мельхиседека, который живет в Парижских катакомбах и мечтает танцевать на сцене Опера. Могла бы, но гуманно промолчала.
Кэндзи счел уместным подбодрить зятя на свой манер:
— Возрадуйтесь, молодой человек, у вас вся жизнь впереди. Ничуть не сомневаюсь, что, если вы приложите определенные усилия, непременно станете настоящим писателем, способным родить нечто достойное называться литературным произведением. И сразу же вас увенчают лаврами признания и оросят золотым дождем, а ваши родные будут вам страшно благодарны за это. За золотой дождь, я имею в виду. Однако пока что удовольствуйтесь служением книгам за прилавком «Эльзевира». Вы подумали над моим предложением съездить в Японию на пару недель, дабы приобщиться к искусству подарочной упаковки, каковое достигает там невероятных высот? Таким образом вы сможете обрести совершенство хоть в одной области. Ибо, как гласит пословица моего сочинения — да-да, я тоже не чужд сочинительству, — прежде чем взойти на вершину, надобно преодолеть равнину.
Весь клан дружно засмеялся, только Жозеф надулся и побрел к фонтану. Виктор догнал его.
— Всё из-за этого Ламбера Паже! — в сердцах воскликнул молодой человек. — Если бы он не задурил нам голову своими пряничными свинками, я бы уже давным-давно дописал «Демоническую утку». Вы читали газеты? Паже дали четыре года. Он убил шестерых, мы точно знаем, что убил, — и всего четыре года, подумать только! Тупица Вальми позволил обвести себя вокруг пальца. Теперь ему долго придется ждать просторного кабинета с туалетной комнатой, оснащенной всеми достижениями научной мысли! Да чтоб он в раковине утонул, чертов чистюля! Ему бы не в полиции работать, а в Сальпетриер
[853] доктору Шарко лабораторной крысой служить!
— Не злитесь так на инспектора, Жозеф, — покачал головой Виктор. — У него же не было ни одной улики. Человека нельзя осудить на основании одних подозрений без весомых доказательств вины. А потом, кто знает — может быть, мы ошиблись?..
— Вот! И я думаю — куда подевался Шалюмо, а? Исчез, ускользнул, сбежал в неизвестном направлении!.. Нет-нет, Паже хитер, он хотел нас облапошить, и ему это удалось… Если только Шалюмо не… — Жозеф горестно замолчал.
Виктор похлопал его по плечу:
— Жозеф, не знаю, как вы, а я все расследования предпринимал не ради праведного суда над преступником, а только для того, чтобы скрасить унылые будни.
— То есть до невинных жертв вам дела нет? — возмутился молодой человек.
— А вы что же, полагаете, что смертный приговор, вынесенный Паже, воскресил бы всех, кого он убил?
— И все-таки он слишком легко отделался!.. И еще мне хотелось бы знать его мотивы. Нужно ведь иметь какие-то основания для того, чтобы угробить столько людей.
— Вы же писатель — придумайте. Может, это вдохновит вас на новую фантастическую историю?
— Я подумываю сменить жанр. Буду писать романы плаща и шпаги, например. У таких книг много поклонников.
— Хотите забросить свою «Демоническую утку»?
— Увы, это невозможно — я подписал контракт на нее с Клюзелем, какая досада. — Вдруг Жозеф заметил на аллее знакомый силуэт. Валентина де Пон-Жубер в сопровождении мужа и сыновей-близнецов прогуливалась по Люксембургскому саду. Жозеф возблагодарил Господа за то, что уберег его бывшую возлюбленную от гибели в огне на Благотворительном базаре — ведь ее могла постичь та же печальная участь, что и Бланш де Камбрези.
— Ну же, Жозеф, не впадайте в отчаяние, — подбодрил его Виктор. — Мы с вами все-таки разгадали такую загадку, которая, по вашему излюбленному выражению, стоит не одного выеденного яйца. Используйте реальные факты и ходы в своем повествовании, и ваша «Утка», расправив крылья, воспарит к небосводу фантастических историй!
— Именем блаженной Глокеншпиль, вы чертовски правы! Что, если изменить сюжет? Главным героем будет человечек, продающий сладости на ярмарочных праздниках. Я назову его именем другого волхва, например пусть он будет Гаспаром. Человечек этот обладает злокозненным даром превращать тех, кто съест его пряник, в разных животных и птиц. Потом он сам по ошибке слопает свою колдовскую пряничную зверушку и превратится…
— В демоническую утку! — подхватил Виктор.
Таша подошла к Джине и Айрис, и они втроем принялись наблюдать за двумя мужчинами — те что-то увлеченно обсуждали, размахивая руками и перебивая друг друга.
— Мальчишки, — констатировала Таша. — Спорим, они сейчас вспоминают свои подвиги, которые могли им дорого обойтись?
— И нам тоже, — заметила Джина.
— В глубине души каждый из них мечтает о новой авантюре, потому что это позволит им увильнуть от обязанностей в книжной лавке, сбежать от жен и детей, — вздохнула Таша и решительно воскликнула: — Прекрасные дамы! Мы должны вступить в бой с теми химерами, что уводят наших мужей с пути праведного, и вернуть благородных рыцарей на верную дорогу!
— Ох и страшным будет бой, — пропыхтела Эфросинья, совсем выбившаяся из сил в погоне за неугомонной внучкой. Плюхнувшись на скамейку, она грозно добавила: — Ох уж и страшным, святые угодники, помяните мое слово!
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Год 1897-й отмечен во Франции тремя важными событиями: пожаром на Благотворительном базаре, новым поворотом в деле Дрейфуса и премьерой «Сирано де Бержерака».
14 февраля закончено строительство улицы Реомюр между улицей Тампль и Биржевой площадью. Длина ее составила 1400 м, ширина проезжей части — 12 м, тротуары с обеих сторон — по 4 м. Улица оснащена электрическим освещением, а под ней предусмотрено пространство для прокладки подземной железной дороги. Проект метрополитена будет подкреплен декретом об общественной пользе, за который парламент проголосует в 1898 г. Настало время перебираться под
землю: движение в столице парализовано заторами, пешие парижане рискуют жизнью всякий раз, пересекая авеню или бульвар, поскольку не существует ни правил, ни специально оборудованных переходов. Ежедневно по Парижу разъезжают 570 омнибусов на конной тяге, функционируют 32 трамвайные линии и линия окружной железной дороги, пассажиров перевозят 100 речных трамваев и 10 000 фиакров. И это не считая участия в трафике ландо, тильбюри, прочих экипажей, а также мебельных фургонов, ручных тачек, груженых повозок и всадников. В суете и хаосе на улицах постоянно подвергают себя риску велосипедисты; довольными своим видом транспорта они бывают лишь на тихих пустынных улочках. Двое министров — внутренних дел и общественных работ — в октябре направляют префектам циркуляр с предложением ввести запрет на появление лошадей, иных животных и телег на обустроенных в последнее время для велосипедистов обочинах некоторых улиц.
21-го числа Сена выходит из берегов между Пюто и мостом Нейи. Затоплены острова на участке от Пюто до Курбевуа.
В начале апреля двое эксцентричных предпринимателей, господа Бертран и Гайар, устраивают концерт в Парижских катакомбах. Камиль Сен-Санс хоть и известен тонким художественным вкусом, однако же соглашается исполнить свою «Пляску смерти» перед толпой скелетов и с оркестром под управлением дирижера, одетого в костюм служащего похоронного бюро. Это очень «современно». Впрочем, идея понравилась бы и лорду Байрону — он наверняка не отказался бы выпить верескового меда, использовав в качестве кубка череп. «Записные парижские снобы, не приглашенные послушать „Похоронный марш“ Шопена в оссуарии, рвут на себе волосы», — комментирует «Иллюстрасьон».
В воскресенье 18 апреля французы получают возможность полюбоваться новой монетой в пять франков по эскизу медальера Оскара Роти: на аверсе изображена Сеятельница
[854] (символ простой и знакомый каждому), на реверсе — факел, обвитый лавровой ветвью, символом мира. И неудивительно: Франция — едва ли не единственное место в мире, где уже несколько лет не было ни войн, ни массовых убийств.
Двумя месяцами раньше, в феврале 1897 г., Греция и Османская империя вступили в конфликт по поводу острова Крит, населенного турецким меньшинством и греческим христианским большинством. Островные греки требовали воссоединения с исторической родиной; турки, вопреки Константинопольскому соглашению 1806 г., ответили резней в Ханье. Греция выслала к острову флот, османцы объявили мобилизацию. В марте вспыхивает война, и за месяц греки разгромлены. За них вступаются европейские державы — за исключением Австро-Венгрии и Германии — и принуждают Османскую империю к подписанию мира. В июне Крит провозглашен автономией под протекторатом Европы, но с Грецией он так и не воссоединился — остался под верховной властью османского султана, а возглавил автономное государство второй сын греческого короля принц Георгий.
В апреле Феликс Мезгиш, кинооператор братьев Люмьер, задержан в Чикаго под предлогом, что он не имеет разрешения на съемку, — вступила в силу протекционистская политика, на которой настаивал Эдисон. Компания Люмьеров вынуждена прекратить деятельность на территории Соединенных Штатов.
Месяцем позже кинематограф во Франции окажется на скамье подсудимых. Обвиняемый — целлулоид.
На пустыре возле улицы Жана Гужона, неподалеку от Елисейских полей, возвели огромную деревянную конструкцию, рабочие завершили внешнюю отделку — штукатурка под мрамор, папье-маше, расписные ткани, — и взорам публики явлена была средневековая улица 80 м в длину и 10 м в ширину. Здесь должен был вскоре открыться ежегодный Благотворительный базар — продажа всевозможных товаров в пользу обездоленных. Ожидалось, что на базаре, как всегда, соберется вся женская половина парижской аристократии. Барон де Мако, один из организаторов, для полноты ощущения праздника придумал отвести небольшое помещение под киносалон, где дети и юные барышни смогут посмотреть фильмы. Глава дома «Норманден и Ко», на которого было возложено проведение киносеанса, категорически возражал против этой затеи, поскольку помещение оказалось слишком тесным и без единого окна: «Где, скажите на милость, я поставлю осветительные приборы и бидоны с эфиром для лампы? — вопрошал он. — И потом, здесь нет перегородки между киномехаником и публикой — свет ослепит зрителей!» Барон де Мако предложил ему повесить просмоленную ткань вокруг проекционного аппарата и заявил, что бидоны с эфиром вполне можно поставить вне помещения, на пустыре.
На следующий день, во вторник 4 мая, установили проектор. Электричество тогда было не слишком широко распространено, поэтому в качестве источника света для проекционных аппаратов использовали эфирные лампы. Месье Беллак, киномеханик, нанятый месье Норманденом, приступил к наладке оборудования.
А за стеной, на тротуаре улицы Жана Гужона, уже толпились зеваки, пришедшие поглазеть на прибытие знаменитостей. В ворота средневекового Парижа в тот день вошли более тысячи человек.
Импровизированный киносалон заполнялся несколько раз. За 50 сантимов почтенной публике показывали семь коротких фильмов, каждый на 20 м пленки. В помощь месье Беллаку был отряжен месье Баграшов, возглавлявший кинолабораторию в «Норманден и Ко». В четыре часа пополудни начался новый сеанс. Месье Беллак уже взялся за рукоятку проектора, когда лампа начала гаснуть. Он окликнул месье Баграшова, сидевшего среди зрителей, и пожаловался, что ему не хватает света. Тот заглянул в отделенную занавесом «аппаратную».
— Света, говорю, не хватает, — развел руками месье Беллак.
— Так, где коробок? — пробормотал месье Багрошов.
«Я не сразу понял, что он имел в виду спички», — сокрушался потом киномеханик.
Слишком поздно! Месье Баграшов чиркнул спичкой — пары эфира воспламенились, и целлулоидная кинопленка мгновенно вспыхнула.
На средневековой парижской улице пока никто еще не подозревал об опасности. В тесных проходах между прилавками было не протолкнуться.
Месье Беллак, размахивая обожженными руками, выскочил в зал:
— Я не могу потушить пожар! Людей нужно срочно выводить!
Удалось вывести из помещения три десятка зрителей. «Аппаратная» была охвачена огнем, от просмоленной ткани валил черный дым. Вдруг из-под занавеса вырвался язык пламени, взлетел до потолка — полыхнул весь павильон, и огненная лавина покатилась дальше по базару, пожирая деревянные конструкции, обивочный материал, ленты, кружева…
Толпу охватила паника. Первые добежавшие к закрытым воротам люди, обезумев от страха, начали дергать створки, вместо того чтобы толкать их от себя, не удержались на ногах и повалились на землю, перегородив выход. Благотворительный базар превратился в огненную ловушку.
Внутри рабочие, конюхи, повара из «Отель дю Палэ» самоотверженно бросались в огонь — им удалось спасти несколько женщин и детей.
В половине пятого все было кончено. Погибли сто двадцать пять человек, более сотни получили травмы и ожоги. Среди погибших лишь пятеро принадлежали к мужскому полу: трое стариков, в том числе один генерал, а также врач — доктор Фулар, и двенадцатилетний мальчик из прислуги. Между тем, на Благотворительном базаре в тот день присутствовали сто с лишним молодых и зрелых мужчин, и почти у всех были дворянские частицы при фамилиях.
Северин
[855] писала в «Журналы»:
В числе этих господ можно назвать двоих, проявивших себя героически, и около десятка таких, кто честно выполнил свой долг. Остальные позорно бежали, не только не попытавшись никого спасти, но еще и расталкивая по пути женщин, пробивая себе дорогу ногами и кулаками.
Марсель Пруст возмущался:
Бойтесь того, что ждет вас в день, когда вы услышите крик «Пожар!» не в деревянном павильоне, где собралась светская публика, но в ветхом, трухлявом, готовом рухнуть здании под названием «государство». Среди всеобщего бегства под лозунгом «Спасайся кто может!» не рассчитывайте на господ, сведущих в современных теориях.
Год 1897-й — год «современный».
Комик Жан Коклен из «Комеди-Франсез» претендовал на звание глашатая этой «непреходящей современности», когда с каменным лицом читал иронические монологи, принадлежавшие перу Жана Мезена:
Дабы прослыть современным в политике, надобно обещать народу реформы… те, которых народ ждет. Голосовать за них не надобно — народ ведь ждет, и еще подождет, потому о них надлежит часто говорить и неустанно думать… или по крайней мере делать вид, что думаешь. Кроме того, необходимо громко возмущаться теми, кто о них не думает, клеймить таковых продажными… или объединяться с ними. Это называется «правильный курс». Это очень современно.
Год 1897-й — «современнее» некуда. Между социальными классами — пропасть. Между полами — тоже. В среднем за выполнение одной и той же работы в промышленном секторе жалованье мужчин составляет 6,15 франков, женщин — 3 франка. Телефонистки получают 800 франков в год, просиживая с утра до ночи в наглухо закрытых помещениях, где летом температура воздуха превышает отметку в 30 °C. Продавщицы обязаны стоять за прилавком с 8 утра до 10 вечера, лишь в 1901 г. они добьются права выполнять свои обязанности сидя.
Ничто не препятствует прогрессу. В сентябре в журнале «Натюр» опубликована рекламная статья о новых утюгах. Старые утюги слишком сильно нагреваются, их невозможно держать за рукоятку, потому, дескать, некий месье Рено во избежание сего неудобства придумал делать рукоятки из асбеста и снабжать утюги подставками из того же материала. Отныне гладильщицы могут работать без опаски. Асбестовые рукоятки и подставки предлагалось заказывать у изобретателя по адресу: Париж, Страсбургский бульвар, д. 43.
В британской Индии — голод и мор, несколько недель земли опустошает чума. В январе зафиксировано 3394 случая заболевания, 2356 смертей, но эта статистика обманчива: многие случаи скрыты или зарегистрированы как другие болезни. Домашние животные, свиньи, птицы, крысы тоже погибают.
В Бомбее есть обычай класть тела умерших на решетки, венчающие высокие башни, — хищные птицы склевывают мясо, а кости падают вниз, в оссуарий. К январским трупам не притронулся ни один гриф. Местные власти начали опасаться еще и эпидемии холеры. Доктор Йерсен из Института Пастера, год назад проводивший успешные опыты по вакцинации, прибыл в Аннам, где бубонная чума свирепствовала с особой лютостью. Вести об этой заразной болезни всполошили и французское правительство — чума могла попасть в Европу вместе с грузами из Индии. И правда, в Лондоне взяли в карантин двоих зараженных чумой членов экипажа с корабля, прибывшего из колонии. Тотчас были приняты строжайшие профилактические меры, и больше никто не заболел — по крайней мере, об этом не сообщалось.
В области медицины совершает открытие британский врач сэр Роналд Росс: он установил, что комары определенного вида передают малярию птицам. Спустя некоторое время итальянский ученый Джованни Баттиста Грасси доказал, что переносчиком возбудителя малярии у человека являются комары рода анофелес.
Американский врач Джон Келлогг впервые включает в рацион питания своих пациентов в санатории Бэттл-Крик (Мичиган) кукурузные хлопья. Вскоре Kellogg’s corn-flakes суждено завоевать всю планету.
Во Франции количество велосипедов к 1 января достигает 329 816, владельцы 62 892 из них — жители департамента Сена. Налог на велосипеды, введенный министром финансов в 1893 г., принес государству за 1896 г. 2 720 339 франков.
13 июля в Париже состоялось открытие моста Мирабо, соединившего XV и XVI округа.
Таможенное управление вводит применение рентгеновских лучей для проверки багажа и пассажиров. Преимущество нового метода — в скорости и в том, что нет необходимости открывать саквояжи и обыскивать их владельцев. Однако просветить рентгеновскими лучами можно лишь небольшие чемоданчики, а на снимке различимы только силуэты, по которым не всегда удается установить, о каком предмете идет речь. К тому же, если виден силуэт бутылки, нельзя определить, что в ней — флердоранжевая вода или коньяк.
В Соединенных Штатах построен новый вокзал в Монтгомери для Луисвиллской и Нэшвиллской железной дороги. Наряду с главным залом ожидания там есть отдельное изолированное помещение для цветных — выйти оттуда можно только на улицу и на перрон.
В августе Теодор Герцль организовал в Базеле первый сионистский конгресс и на базе собственных теорий, изложенных в труде «Еврейское государство», основал Всемирную сионистскую организацию, имевшую целью вернуть евреев на родину — в Палестину. Герцль, свидетель всплеска антисемитских настроений после разжалования капитана Дрейфуса, предвидел драматические последствия в форме того, что писатель Жюль Ренар определил как «общественное мнение, эта липкая косматая масса». Неожиданный поворот в деле Дрейфуса подтвердил его предчувствия.
Капитан Альфред Дрейфус, осужденный в 1894 г. за шпионаж в пользу Германии и приговоренный к пожизненной ссылке военным трибуналом, отбывает наказание на Чертовом острове во Французской Гвиане. К 1897 г. о нем позабыли все, кроме родственников, в том числе брата Матьё, который продолжает сражаться, пытаясь доказать, что Альфред стал жертвой судебной ошибки.
Дело было возобновлено стараниями одного военного, подполковника Жоржа Пикара — он участвовал в процессе 1894 г. и в ту пору был убежден в виновности Дрейфуса. С 1 июля 1895 г. Пикар возглавил службу разведки, а в 1896 г. в его руки попало письмо, предназначенное для пересылки пневматической почтой, но так и не отправленное, — скомканное послание нашел в здании немецкого посольства, в корзине для мусора, агент французской контрразведки. Оно было написано германским военным атташе фон Шварцкоппеном и адресовано майору Эстерхази, проживающему в доме 27 по улице Бьенфезанс в Париже. Германский атташе просил майора предоставить сведения «по вопросу, который нас тревожит». Заинтригованный полковник Пикар решил выяснить, кто такой Эстерхази.
В настоящий момент Фердинанд Вальсен-Эстерхази, называвший себя графом Эстерхази, числился в полку инфантерии, расквартированном в Руане. До этого он был офицером австрийской армии, затем служил во французских колониальных войсках и в Иностранном легионе. Расследование, проведенное Пикаром, показало, что человек этот пользуется дурной репутацией, водит сомнительные знакомства, известен как дебошир, живет игрой и мошенничеством.
Пикар сравнил почерк Эстерхази с тем, которым был написан сопроводительный документ — бордеро, — ставший главной уликой против капитана Дрейфуса. Почерк совпал. То есть истинным автором бордеро, поставленного в вину Дрейфусу, был не кто иной как Эстерхази, корреспондент германского атташе фон Шварцкоппена.
3 сентября 1896 г. Пикар проинформировал об этом своего начальника, генерала Гонза. И услышал в ответ:
— Какое вам дело до того, где обретается этот еврей Дрейфус? Пусть сидит на Чертовом острове.
— Но он же невиновен! — воскликнул Пикар.
— Вот и незачем об этом знать никому, кроме вас.
— Господин генерал, это гнусно! Не знаю, что я сделаю, но я точно не намерен унести тайну невиновности Дрейфуса с собой в могилу! — возмутился подполковник.
От него быстро отделались. Подполковник Пикар был переведен на южную границу Туниса — командование надеялось, что он оттуда не вернется.
Дело было улажено, в Генеральном штабе вздохнули с облегчением.
Пикар же оказался перед сложным выбором. Убежденный патриот, верно отслуживший отечеству двадцать пять лет, он не мог обнародовать доказательства невиновности Дрейфуса, не скомпрометировав тем самым французскую армию. Он испросил разрешения связаться со своим адвокатом, мэтром Леблуа, и передал ему письмо, в котором излагал все раздобытые сведения по делу капитана Дрейфуса. В случае смерти Пикара мэтр Леблуа должен был передать этот документ президенту Республики.
Однако адвокат рассудил, что не имеет права хранить молчание, и решил обо всем рассказать порядочному и влиятельному человеку, который сумеет открыть истину обществу. Речь шла об Огюсте Шерер-Кестнере — заместителе председателя Сената, эльзасце, протестанте, родном дяде Жюля Ферри. Помимо прочего, он всегда был республиканцем и дружил с Гамбетта.
[856] К несчастью, мэтр Леблуа взял с него слово не выдавать источник информации, поскольку это означало бы смертный приговор для Пикара.
В начале октября Шерер-Кестнера принял Феликс Фор, президент Французской Республики. Их беседа окончилась безрезультатно, поскольку связанный словом заместитель председателя Сената не смог предоставить никаких доказательств и вынужден был удалиться ни с чем.
После этого сенатор пытался одного за другим убедить в невиновности Дрейфуса военного министра Бийо, министра иностранных дел Аното и председателя Совета министров Мелина. Тщетно. Генеральный штаб тоже вступил в игру и всеми силами противостоял любым попыткам обвинить майора Эстерхази. На кону стояла честь французской армии — и речи быть не могло о пересмотре дела. Аното, министр иностранных дел, лично заверил Шерер-Кестнера, что Дрейфус виновен.
Одна из бывших любовниц Эстерхази, мадам де Буланси, обманутая им и брошенная, решила отомстить. Она передала своему адвокату, мэтру Жюлемье, письма тринадцатилетней давности, компрометирующие Эстерхази. Мэтр Жюлемье в свою очередь при личной встрече вручил их Шерер-Кестнеру. Эстерхази писал:
Немцы поставят всех этих людей [французов] на их истинное место, и очень скоро <…> На эту страну [Францию] и патроны тратить жалко <…> Сам я и мухи не обижу, но с удовольствием пошлю на смерть сотню тысяч французов <…> Париж, взятый штурмом и отданный на растерзание сотне тысяч пьяных солдат, — вот о чем я мечтаю. Да будет так.
9 ноября Феликс Фор заявил на Совете министров: «Дрейфус был обвинен справедливо и в полном соответствии с законом».
Матьё Дрейфус, брат разжалованного капитана, и не подозревал об этих маневрах, пока счастливый случай не помог выйти всей истории на свет. Произошло это благодаря неофициальному биржевому маклеру месье де Кастро. Однажды осенним днем 1897 г. он ждал фиакр на Больших бульварах, вокруг выкрикивали заголовки разносчики газет, и он, чтобы занять время, купил выпуск, в котором как раз было опубликовано факсимиле бордеро. Месье де Кастро узнал почерк одного из своих клиентов — Эстерхази — и сообщил об этом Матьё Дрейфусу. Отныне мэтр Леблуа, Шерер-Кестнер и Пикар, считавшие себя не вправе обнародовать доказательства, получили свободу действий.
15 ноября Матьё Дрейфус написал военному министру:
Господин министр, единственная улика, послужившая в 1894 году поводом для вынесения обвинительного приговора моему несчастному брату, — это сопроводительное послание без подписи и даты, в коем говорится, что некие конфиденциальные военные документы переданы агенту иностранной державы. Имею честь сообщить Вам, что автором данного бордеро является г-н граф Вальсен-Эстерхази, майор от инфантерии, временно выведенный за штат по состоянию здоровья прошлой весной.
Дело, которое очень скоро расколет Францию надвое и станет причиной нового всплеска ненависти и насилия, только начинается. Призыв к битве «до первой крови», брошенный охотниками за сенсациями, лишь подстегнет низменные инстинкты читательской аудитории их газет.
31 октября газетчики отвели душу, известив общественность о чудовищных злодеяниях некоего Жозефа Вашэ, бродяги-потрошителя. Попался он на попытке изнасилования, был арестован и препровожден в участок города Турнона (департамент Ардеш). Там месье Гарсен, следователь, добился от него признания в многочисленных преступлениях. Гражданин Вашэ 1869 года рождения оказался мономаном, два раза попадавшим в больницы для умалишенных. Во второй раз вышел он оттуда в 1894-м. По обвинению в одиннадцати доказанных убийствах юношей, девушек и женщин Вашэ был приговорен к гильотинированию.
В армии на вооружение вскоре должен был поступить пулемет «Гочкисс». Его скорострельность составляла до 500 патронов в минуту. Пулемет был снабжен треногой и сиденьем для стрелка. Позднее его оснастили также регулятором темпа стрельбы, и скорость составила от 100 до 600 выстрелов в минуту.
«Надо быть современным, — декламировал Жан Коклен очередной монолог. — Если вы не современны, не идете в ногу со временем, стало быть, вы плететесь в хвосте, и это всем заметно. А если кто отстает от жизни, тот, считайте, умер, не родившись».
Это однако же не помешало одному из репортеров «Журналь иллюстрэ» заявить, что «современные научные открытия угрожают личной свободе человека». Взять хотя бы телефон — телефонные линии сетью опутали, связали, скрутили чиновников и служащих! А что уж говорить о другом дьявольском изобретении — фонографе, из-за которого многие готовы наложить на себя руки? Это же невыносимая мука — вы собираетесь мирно отойти ко сну, а у соседей за стеной вдруг начинает громыхать ужасающая фортепианная соната, увековеченная на цилиндре фонографа в исполнении какой-нибудь учительницы музыки! Или романс в интерпретации тещи. Или звуки флейты, гобоя, гитары, арфы. Добавьте к тому трели телефонных звонков и грохот трехколесных велосипедов, на которых раскатывают детишки в квартире над вами. Решительно, это превосходит границы разумного. Может, пора ставить памятники тишине?..
А во Дворце правосудия много шума наделала мадемуазель Жанна Шовен, бакалавриатка по гуманитарным и естественным наукам. Будучи также докторессой юриспруденции, она потребовала принять ее в коллегию адвокатов и права выступать в суде. В судейском сословии притязания барышни, покусившейся на мужские прерогативы, вызвали волну негодования, и господа юристы решили во что бы то ни стало воспрепятствовать женскому вторжению в их ряды. Репортер «Иллюстрасьон» писал:
Либо мадемуазель Шовен, изучавшая правоведение, обнаружит, выступая истицей, полнейшую недееспособность, присущую ее полу и общеизвестную, либо она окажется на высоте и проявит себя достойной звания, на кое претендует.
И Жан Коклен к тому добавил:
Дабы прослыть современным в отношениях с женщинами, надобно забыть, что перед вами женщины. В конце концов, женщины — такие же люди, как мы… просто это люди женского пола.
Год 1897-й подходит к концу. На суд книгочеев за эти двенадцать месяцев были представлены: «Ивовый манекен» и «Под городскими вязами» Анатоля Франса, «Яства земные» Андре Жида, «Рамунчо» Пьера Лоти, «Лишенные почвы» Мориса Барреса, «Собор» Жориса Карла Гюисманса. Французские полиглоты открыли для себя «Дракулу» ирландца Брэма Стокера, «Увенчанного снами» немца Райнера Марии Рильке, «Отважных капитанов» англичанина Редьярда Киплинга и «Человека-невидимку» еще одного англичанина — Герберта Дж. Уэллса.
Театралы побывали на премьерах «Серьезного клиента» Жоржа Куртелина и «Сирано де Бержерака» Эдмона Ростана.
Куда вы, сударь? Без проказ!
Так будет шишка на затылке.
Ведь я предупреждал же вас,
Что попаду в конце посылки!
[857]
Вечером 27 декабря в театре «Порт-Сен-Мартен» состоялась генеральная репетиция новой пьесы в пяти актах, вышедшей из-под пера молодого драматурга, уже известного публике комедией «Романтики» и драмами «Самаритянка» и «Принцесса Грёза». Его звали Эдмон Ростан, и ему было двадцать девять лет.
Последние репетиции «Сирано де Бержерака» не обошлись без досадных инцидентов. Перед началом одной из них у Марии Лего, исполнявшей роль Роксаны, пропал голос. Об отмене репетиции не могло быть и речи — в зале в тот день присутствовал сам Вальдек-Руссо
[858] с супругой. Актрису в спешном порядке заменила поэтесса Роземонда Жерар, жена Ростана.
На репетиции в костюмах, предшествовавшей генеральной, оставляло желать лучшего поведение массовки в первом акте. На следующий день Эдмон Ростан сам оделся в театральный костюм, втайне от актеров и зрителей в зале присоединился к толпе статистов и лично направлял их действия.
Многие пьесы в стихах потерпели фиаско на сцене «Порт-Сен-Мартен», и убедить дирекцию театра согласиться на постановку «Сирано де Бержерака» было непросто. Пять актов в стихах! Дата премьеры постоянно откладывалась. Театр экономил на костюмах и декорациях. Да, у «Сирано де Бержерака» почти не было шансов завоевать публику, но все же сколько усилий, сколько времени и труда вложил в него автор, сочинявший эту пьесу у себя за столом в доме на улице Фортюни целых десять месяцев! Фортюни — Фортуна… Он не мог не уповать на богиню судьбы.
В вечер премьеры за кулисами царила напряженная атмосфера, все были настроены пессимистично. Мандраж перед выходом на сцену, сомнения, неуверенность… Один из друзей сказал Ростану еще на репетиции: «Эта тирада про носы никуда не годится, слишком длинная — сократи ее». В конце концов драматург не выдерживает и, бледный, со слезами на глазах, бросается к Констану Коклену — актеру, известному как Коклен-старший, исполнителю главной роли в его пьесе, — с криком: «Простите! Ах простите, друг мой, что я втянул вас в эту печальную авантюру!»
В зрительном зале, в бельэтаже и в партере, присутствовали в тот вечер все, от кого зависел провал или успех спектакля. Распорядитель три раза ударил колотушкой. Занавес поднялся. Начался первый акт.
Публика пока еще рассеянно переговаривается, листает программки, забавляясь нововведением — фотографиями артистов на страницах буклета. Многие снисходительно посмеиваются над подписью к фотографии драматурга: «Зрелость таланта не зависит от возраста человека».
«Провал, провал, это будет провал», — бормочет молодой человек со зрелым талантом, стоя в кулисе.
И вдруг раздаются рукоплескания — публика встречает выход Сирано. Провожают его уже громом аплодисментов. После первого акта артистов вызывают на поклон девять раз, лишь тогда удается опустить занавес. После третьего акта зал неистовствует от восторга. «Автора! Автора!» — скандируют театралы.
В антракте за кулисами не протолкнуться. Катулл-Мендес, плодовитый автор фривольных романов, поэт-лирик из группы парнасцев и драматург, пробился к Ростану: «Позвольте мне, человеку преклонных лет (ему было пятьдесят девять), смиренно назвать вас отцом, как назвал Корнеля Ротру
[859] в вечер премьеры „Сида“!»
Спектакль продолжился. Когда Коклен в конце пятого акта произнес последние слова: «В субботу убит поэт де Бержерак!»
[860] — зал ответил оглушительным ревом и овацией. Исполнителей вызывали на поклон больше сорока раз, уже было два часа ночи, а зрители отказывались покидать зал. Драматургу наконец-то удалось улизнуть. Констан Коклен, осыпанный похвалами, принимая чествования, сказал: «Это была моя самая длинная роль. Тысяча четыреста строф! У Рюи Блаза
[861] всего тысяча двести!»
Пройдет меньше века, и Максим Лефорестье споет:
Утром чудесным рождается жизнь,
А миру пока невдомек…
В 1897 г. родились кинематографисты Жан Эпштейн, Дуглас Серк и Франк Капра, актеры Фернан Леду, Пьер Фресней, Ноэль-Ноэль, Фредрик Марш, писатели Жорж Батай, Уильям Фолкнер, Луи Арагон и всем известная Энид Блайтон (кто из французов не читал под одеялом при свете карманного фонарика «Клуб пятерых» или «Клан семерых»?), увидели свет художник Поль Дельво и Джованни Баттиста Монтини — будущий папа Павел VI. А для иных свет этого мира померк — умерли композитор Иоганн Брамс, святая Тереза из Лизьё, София-Шарлотта де Бавьер, герцогиня Алансонская (она погибла в пожаре на Благотворительном базаре) и Альфонс Доде.
По сути же год 1897-й мало чем отличается от прочих прошедших и грядущих лет, ибо, как утверждал Жан Мезен устами Коклена-младшего:
Деньги — вот самая что ни на есть современная штука! Получать деньги, зарабатывать их по мере сил, но главное — владеть ими, распоряжаться целой кучей денег! И еще важно не терять их. Когда у тебя нет денег — ты не существуешь. Когда теряешь их — считай, что никогда и не существовал…
Клод Изнер
Коричневые башмаки с набережной Вольтера
В память о Йорисе Ивенсе
Посвящается Октаву Узанну, Шарлю Додеману, Морису Корбу, Луи Лануазле, Морису Пернетту, Ги Сильве, историографам набережных Сены и букинистам, чьи заметки помогли создать атмосферу этой книги
Нашим любимым
Измочены ливнем, истрепаны ветром
Книги-бедняги. Над парапетом
Страницы развеет дыхание Сены,
Мелькнет на заглавном листе посвященье…
Жорж Фуре Из сборника «Негритянка-блондиночка»
...
Les souliers bruns du quai Voltaire
© Éditions 10 / 18, Département d\'Univers Poche, 2011
© Павловская О., перевод, 2013
© ООО «Издательство АСТ», издание на русском языке, 2013
Глава первая
Пятница, 31 декабря 1897 года
От ворот Сен-Дени до площади Мадлен протянулись рождественские ярмарочные ряды, меж ними плескалось море цилиндров, котелков, шубеек и рединготов, люди толклись у прилавков, заваленных безделушками, поздравительными открытками, нотами модных песенок, игрушками; были там явлены широкой публике и хитроумные изобретения, которым предстояло в скором времени пойти в народ. У входа в бистро владельцы выставляли целые корзины устриц, и те опустошались в мгновение ока; отцы семейств с чадами и домочадцами штурмовали мясные лавки, украшенные гирляндами из кровяной колбасы; пивные гостеприимно распахнули двери, и внутри уже набирали обороты веселые пирушки.
Возле афиши Стейнлена
[862] какой-то оборванец сгорбился над жаровней, раздувая огонь под сковородкой, полной каштанов. Отсветы пламени упали на пару коричневых башмаков, чьи подошвы проскрипели мимо битумной крошкой, устремляясь дальше по тротуару.
В паре шагов от музея Гревен
[863] уличный фотограф зазывал клиентов:
– Портретик на ходу! Не скупердяйствуйте, любезный! Всего десять су! Ну-ка, улыбочку!
По коричневым башмакам захлопали полы плаща, башмаки потоптались на месте и, свернув с дороги, спешно направились к пассажу Жуфруа.
На улице Гранж-Бательер шум праздничной толпы, затопившей бульвар, превратился в отдаленный глухой ропот. Справа от входа в подъезд доходного дома красовалась позолоченная табличка:
Мэтр Ж. Франсуа
нотариус
5-й этаж, налево
Каблуки коричневых башмаков простучали по плитам вестибюля до каморки консьержа, и раздался голос:
– Я к мэтру Франсуа. Откройте, будьте добры.
Застекленная створка, отделявшая вестибюль от монументальной лестницы, скрипнула и отворилась, а в последнюю секунду перед тем, как она захлопнулась, чья-то рука проворно подсунула кусочек картона под язычок замка. И не подумав воспользоваться лифтом, некто в коричневых башмаках, закутанный в плащ с капюшоном, взбежал по ступенькам. На пятой лестничной площадке некто разулся, тихо поднялся на антресольный этаж и нажал на кнопку звонка.
Обитатель квартирки открыл гостю дверь – и отшатнулся, попятился в глубь прихожей, увидев нацеленный на него нож.
Понедельник, 3 января 1898 года
УБИЙСТВО КНИГОТОРГОВЦА
Вчера утром книготорговец г-н Состен Ларше, проживавший на антресольном этаже доходного дома на улице Гранж-Бательер и там же осуществлявший коммерческие сделки, найден мертвым. Смерть наступила в результате многочисленных ударов ножом. Г-н Ларше, прозванный Живодером, продавал поштучно гравюры и миниатюры, вырванные из книг. То бишь можно сказать, что его постигла та же участь, каковую он уготовил многим библиофильским сокровищам. Книготорговец был привязан к стулу в собственном жилище, кисти и лодыжки стянуты бечевкой, лицо покрыто синяками. Распотрошенные книги, сброшенные с полок, валялись грудами на полу. По мнению судмедэксперта, убийство было совершено в канун Нового года, и, вероятно, именно поэтому соседи ничего не слышали. Тридцать первого декабря около пяти часов вечера консьерж впустил в дом кого-то из нотариальной конторы мэтра Франсуа, проживающего в пятом этаже. Исчезло ли что-то из собрания книг, неизвестно.
Человек дочитал заметку и отшвырнул газету, процедив сквозь зубы:
– Ну надо же до такого дойти! Глупость несусветная…
Впрочем, еще оставалась надежда, что развитие событий пока не достигло точки невозврата.
Он коснулся клавиш клавесина, и из-под пальцев полилась мелодия, тотчас снявшая нервное напряжение. Виртуозное владение инструментом, красота его музыкальных сочинений снискали человеку в свое время прозвище Амадей. В устах друзей это имя было классической шуткой и манерой показать собственную эрудицию – мало кто из них действительно слышал произведения Моцарта.
Амадей взял последний аккорд и опустил крышку клавесина. Мысли его устремились в прошлое, к тому злополучному дню 1792 года, когда был утрачен драгоценный манускрипт.
Во все времена книги становились объектом уничтожения. Миссионеры Нового Света истребили тысячи рукописей, заподозренных в пропаганде идолопоклонничества, лишив тем самым человечество уникальных документов, хранивших сведения по истории и языкам коренных народов обеих Америк.
Музыкант прошелся по комнате. На протяжении веков повсюду на земле библиотеки горели и подвергались разграблению, но в глубине души он лелеял надежду, что вожделенный манускрипт избежал злых превратностей судьбы. И два года назад Амадей получил тому подтверждение из беседы с нотариусом сыновей герцога Кастьельского. Бесценное книжное собрание герцога, рассеянное по библиотекам наследников, было выставлено на аукцион.
Амадей остановился перед зеркалом. Высокий гладкий лоб, нос с небольшой горбинкой, матовая кожа, четко очерченный рот придавали его лицу аристократическую утонченность, в которой не было, однако, и тени спеси. В своем квартале он слыл чудаком, и многие строили самые фантастические предположения о его происхождении. Он прогуливался по округе, зимой и летом облаченный в долгополый сюртук и синий шерстяной каррик
[864] с бархатным подбоем. Белый галстук и панталоны в красную полоску дополняли наряд. Неизменно носил он также лайковые перчатки и темные кожаные башмаки с квадратными мысками, на плоском каблуке. Длинные волосы, перехваченные на затылке лентой, спускались из-под треуголки с загнутыми вверх кончиками полей. Возраст его определить на глазок было невозможно: тридцать пять, сорок?..
Амадей снимал третий этаж в особнячке на улице Жюстис. Если он выглядывал из окна и смотрел налево, перед ним открывался вид на резервуары в форме гигантской подковы, куда поступали воды из акведука Дюира и из Марны; увиденное больше походило на огромную прерию, нежели на гидравлическое сооружение. Справа же днем можно было различить вдали заставу Менильмонтана, линию городских укреплений и косогоры Баньоле и Монтрёя.
В пристроенном к особнячку хлеву замычала корова. Когда после долгих скитаний по Европе Амадей два года назад очутился в этом районе Парижа, его привлек как раз унылый сельский пейзаж с водохранилищем. Здесь он почувствовал себя в безопасности. Но главное – здесь ничто не угрожало его бесценным документам.
Амадей, примостившись у краешка стола, пообедал омлетом с салом и кусочком окорока, затем попытался отвлечься от серьезных мыслей французским пасьянсом, да так и не разложил его до конца. Порывшись в чреве пузатого комода работы Шарля Крессана
[865], он выгреб на пол несколько ветхих манускриптов и перенес их на канапе, где дремал упитанный серый кот. Амадей уже не рассчитывал собрать «Воспоминания дипломата», написанные кардиналом Гранвелем, поскольку большая часть оригиналов на пергаменте была утрачена. Зато он напал на след драгоценного манускрипта, находившегося в собственности наследников герцога Кастьельского. Манускрипт фигурировал в каталоге аукционного дома Друо, датированном 18 апреля 1897 года, в группе лотов, имеющих отношение к истории Парижа. Его приобрел некий Состен Ларше.
Подобраться к этому человеку было непросто. Пришлось долго выпытывать его род занятий и адрес у оценщика, затем разведывать все о склонностях и пристрастиях надомного книготорговца. Но в конце концов Амадей нащупал его слабое место, нашел способ завоевать доверие. Состен Ларше оказался заядлым шахматистом. Достаточно было бросить ему вызов и пару раз проиграть, чтобы наладить приятельские отношения. Поначалу они устраивали шахматные турниры в бистро на бульваре Монмартр, потом Состен Ларше пригласил Амадея к себе на улицу Гранж-Бательер. Летом они сыграли множество партий вничью, и в перерывах Амадею удалось втихаря составить опись жалких останков книг, уже лишенных переплетов, но пока не раздраконенных – как выяснилось, Ларше собирался сбыть их своим партнерам-книготорговцам или библиофилам. Амадей сразу испросил дозволения изучить повнимательнее несколько редких экземпляров, вытащил дюжину покалеченных томиков из стопки с табличкой «Недавние приобретения», и сердце его дало сбой, как только взгляд упал на тонкую книжицу с заглавием «Мемуары Луи Пелетье».
– Что это? – спросил он.
– Да ерунда какая-то в духе «Тайн природной магии Великого Альберта и Малого Альберта», – пожал плечами книготорговец. – Я приберег ее для одного постоянного клиента.
Амадей, воспользовавшись тем, что Ларше на минуту отлучился из комнаты, вырвал из книжицы один лист, скомкал его и сунул в карман. Можно было бы стащить и весь манускрипт, но книготорговец вернулся, убрал книжицу в ящик и запер его на ключ.
– Ваш ход, месье Амадей.
– Ах да, прошу прощения.
Амадей сосредоточился на шахматной доске, поразмыслил немного и пошел пешкой. Ларше пожертвовал слона, Амадей последовал его примеру. Решение было принято.
– А все-таки я везунчик, всегда так было, – сообщил Амадей своему отражению в зеркале с амарантовой рамой, висевшем на стене напротив канапе. И насмешливо подмигнул. – Никому не узнать, кто ты на самом деле такой, приятель. Разве что котик про тебя кому шепнет, но коты на то и коты, чтобы только мяукать. Верно, Грипмино? Польщенный вниманием к своей персоне, серый кот потянулся и плавно переместился на колени хозяина. Амадей достал украденный листок, расправил его и прочитал вполголоса:
Я, Луи Пелетье, пишу сие 10 августа 1830 года. Вчера палата депутатов провозгласила Луи-Филиппа королем Франции. Такова цена трех дней восстания и двух с лишним тысяч смертей. Что ж, клин клином вышибают, человек привыкает ко всему, и это новое правление не заставит свернуть с пути страстного обожателя старинных манускриптов, не помешает его изысканиям. Это ли не счастливая возможность завладеть за горбушку хлеба не каким-то там столовым серебром, а книгами, кои будут продавать на каждом углу в нынешнюю революционную пору? Такое уже бывало – после 9 термидора Париж уподобился огромному аукционному залу, где все шло с молотка: мебель, произведения искусства, ковры, белье, книги. Люди торговали всем подряд, лишь бы добыть себе пропитание. Набережная Вольтера превратилась в галерею гравюр, в музей переплетов, в библиотеку дворянских семей, подвергавшихся гонениям. Я напал на след. Надобно найти Средину Мира .
Глава вторая
Суббота, 8 января 1898 года
Виктор склонился над колыбелью и провел пальцем по шелковистой щечке дочери. У Алисы резался зуб, она устала плакать, наконец заснула, и на ее личико, теперь безмятежное, легли отсветы таинственных снов, увлекших малышку прочь от этого мира. Крошечный кулачок она прижала ко рту, на губах бродила смутная улыбка – то вымученная, то радостная.
– Муки и радости, – прошептал Виктор, – два полюса человеческого бытия.
Он рассеянно приласкал кошку Кошку – та крутилась у ног, выпрашивая лакомство, – подхватил ее под брюхо и вынес в коридор. Кошка разразилась возмущенным мяуканьем, едва у нее перед носом закрылась дверь.
Кроватью между тем завладела Таша. Она хоть и спала как убитая, но шестым чувством, вероятно, ощутила, что обе подушки теперь принадлежат ей, и торжествующе растянулась на спине, раскинув руки на все супружеское ложе. Виктор нежно поцеловал ее в мочку уха, и Таша сонно пробормотала:
– В котором часу придет жена столяра?
– Спи, рано еще.
Осенью, когда Эфросинья Пиньо заявила, что не может больше работать на два дома, Луиза Бодуэн, жена столяра и мать двух девочек, живущая по соседству, предложила чете Легри свои услуги. Это была славная женщина покладистого нрава и к тому же отличная стряпуха. Так что все устроилось ко всеобщему облегчению.
Виктор умылся, бесшумно оделся и побрел на кухню, где, превозмогая отвращение, нарезал для Кошки тонкими ломтиками говяжье легкое с кровью, а затем, прихватив с собой все, что нужно для плотного завтрака, направил свои стопы в Ташину мастерскую на другой стороне двора. Сереющий рассвет еще не растопил на брусчатке тонкий слой льда, и Виктор продвигался осторожно, как по стеклу. В мастерской он выпил кофе и поел, стоя перед мольбертом с последним творением жены – это был портрет ее матери в полный рост. Джина, помолодевшая и постройневшая, красовалась на нем в платье декольте из миндально-зеленого бархата и в бежевых перчатках. Она опиралась на руку мужчины, оставшегося «за кадром», другой рукой прижимала к бедру веер. Художнице особенно удался загадочный взгляд Джины, направленный на зрителя, – взгляд, в котором удивительным образом смешались беспокойство и внутренняя сдержанность, томность и бесстрастность, и невозможно было сказать, какое
из этих состояний берет верх в ее душе. Так или иначе, всякий взглянувший в темные глаза женщины на портрете непременно попал бы под чары их обладательницы и возомнил бы, что она смотрит только и именно на него.
Завороженный этим произведением искусства, Виктор почувствовал потребность поднять самооценку, удостовериться в силе собственного таланта и отправился в сарай, который в прошлом году сдал ему месье Бодуэн. Теперь это было приватное владение Виктора – его фотолаборатория. Он долго провозился с обледеневшим висячим замком, истратив дюжину спичек, и наконец вошел. Внутри было холодно. Виктор торопливо разжег просмоленные щепки в каминной жаровне, подбросил туда лопаткой угли и с трудом дождался, когда воздух прогреется.
Над столиком возле раковины висели несколько пробных отпечатков – он вчера достал их из ванночки с закрепителем. Вот Алиса сидит на высоком детском стульчике, личико перепачкано кашей; Таша в нижней юбке, зажав в зубах кисточку, величественным жестом указывает на портрет Джины; снова Алиса – хохочет, глядя вслед удирающей от нее со всех лап Кошке.
Виктор уменьшил тягу в камине над жаровней, подождал, пока огонь погаснет, облачился в редингот, надел шляпу и кашне и снова сразился с замком – на сей раз тот отказался запираться. Во дворе Виктор помедлил, размышляя, взять ли велосипед. «На такой гололедице и навернуться недолго. Лучше поеду на омнибусе. Нет! На фиакре».
Неспешно, стараясь не оскользнуться, он зашагал к бульвару Клиши. Виктор терпеть не мог зиму, но чувствовать, как легкие наполняются студеным воздухом столицы, было приятно. Париж и зимой принадлежал ему безраздельно. Его преследовало навязчивое желание убежать из дома, хотя девочек своих он обожал. Однако бегство из лона семьи сулило радость возвращения, а пока, в предвкушении этой радости, можно было побыть наедине с собой, с Виктором Легри, не обремененным почетными званиями мужа и отца. Подышать полной грудью. Подумать.
– Ну и холодрыга! – проворчал Жозеф, борясь с панталонами, которые никак не хотели налезать на ноги. – Я весь в гусиной коже!
Где гуси, там и утки – его мысли снова обратились к роману-фельетону «Демоническая утка». Этот шедевр стоил ему нескольких месяцев упорного труда и вот наконец недавно был сдан в редакцию «Пасс-парту». По мнению главного редактора Антонена Клюзеля, озабоченного исключительно увеличением тиража родной газеты, «Демоническая утка» являлась лучшим творением Жозефа. «Много он в этом понимает! – удовлетворенно хихикнул автор. – Я еще превзойду себя, клянусь блаженной Глокеншпиль!»
Он осторожно приоткрыл дверь детской. Дафнэ спала, засунув в рот большой палец, малыш Артур посапывал в колыбели. «Только бы сынулька не проснулся! Если опять раскричится – пиши пропало, разбудит Дафнэ, и эта пигалица повиснет у меня на фалдах, ни на шаг не отойдет, защитница». Навязчивая идея о том, что она должна защищать отца от всего на свете, появилась у девочки с тех пор, как Эфросинья поведала ей об опасностях, подстерегающих человека на улицах столицы. В перечень входили фиакры, трамваи, груженые телеги, лошади, молочные фургоны, развивающие немыслимую скорость, велосипедисты и омнибусы, которым дела нет до пешеходов, а также грабители, мошенники и прочий сброд. И в этом кошмаре ее дорогой папочка проводил каждый божий день.
«Надо же было додуматься рассказывать такие байки малявке, которая возомнила себя поборницей справедливости, потому что кое-кому пришла в голову блестящая идея прочитать ей „Дело вдовы Леруж“
[866]. Малявке трех с половиной лет! И самое ужасное, что она все поняла. Да уж, матушка тот еще педагог!»
Но как можно злиться на Эфросинью? Она хоть и смотрит порой на сына букой, в глубине души страшно гордится своим долговязым отпрыском, достойным конкурентом месье Лекока
[867]. Душой и телом предана потомству, обожает Артура – младшенького внука, семимесячного карапуза весьма строптивого нрава. «Ну точная копия Габена, его дедушки, только усов не хватает», – любит повторять счастливая бабушка. А с какой самоотверженностью она потакает всем кулинарным капризам снохи, вегетарианки Айрис!
«Бедная моя матушка! Воистину тяжек твой крест, но я всегда готов подставить плечо!» – мысленно вздохнул Жозеф и пошел на кухню поискать что-нибудь на завтрак. В недрах буфета обнаружился кусок сыра бри каменной твердости, а багетом, хранившимся там же, при желании можно было бы воспользоваться в целях самообороны или даже нападения. Зато на серванте выстроились в несколько рядов красные яблоки, и Жозеф, слопав два за раз, выбросил огрызки во двор через форточку. Заметив его, не слишком пугливый дрозд сперва проскакал по ветке липы, а потом до того осмелел, что запрыгнул на подоконник.
– Точно, почему бы и тебе не перекусить? В такой мороз не то что птичка, а и человек клювом защелкает. Вот и этот сухарь сейчас пригодится.
Два воробушка тоже решились воспользоваться счастливой возможностью подкрепиться, но всю троицу обратил в бегство какой-то бродячий кот.
Жозеф заглянул в супружескую спальню. Айрис свернулась калачиком на краю кровати – такая хорошенькая, уютная, что ему захотелось примоститься рядышком. Жозеф до сих пор не мог взять в толк, как ему, парню с пусть и не очень заметным, но все-таки горбом, удалось обольстить эту нимфу. «Я запрещаю тебе произносить слово „горб“, – однажды заявила ему Айрис. – Таша права: ты настоящий
мужик , и я обожаю тебя таким, какой ты есть».
Он на цыпочках вышел из квартиры, мысленно взывая к малышам, чтобы поспали подольше и дали отдохнуть своей матери. Впрочем, Эфросинья придет ровно в девять, а когда эта капитанша дальнего плавания берется за штурвал, можно не сомневаться, что корабль благополучно причалит в тихой гавани.
Жозеф спустился по лестнице, стараясь не споткнуться на ступеньках, выложенных терракотовой плиткой. Потолок в подъезде зарос паутиной, на полу валялся салатный лист – видимо, выпал из корзинки вдовы Гайо, живущей во втором этаже и взявшей на себя обязанность прибирать общественную площадь в доме за вознаграждение.
– И за что мы платим этой бездельнице? – проворчал Жозеф.
Он вышел со двора старого доходного дома на улице Сены через арку с воротами между упаковочной лавкой и мастерской по реставрации фарфоровых изделий. Холод сразу пробрал до костей, Жозеф поднял воротник пальто и натянул поглубже котелок. Город, принарядившийся серебристым инеем, не затронул поэтических струн его души, и молодой человек, не глядя по сторонам, торопливо зашагал к набережной Конти.
– Черт, забыл перчатки! Теперь замерзну до смерти, и все ради того, чтобы помочь одному полицейскому совершить самую ужасную ошибку в его жизни! – пробормотал он.
Рауль Перо всю ночь не смыкал глаз. Принятое им решение вовсе не было следствием внезапной прихоти – оно стало итогом долгих раздумий, которыми комиссар терзал себя всю осень напролет. Однако сейчас, когда первые лучи зари светлого будущего робко проникли в его новое скромное жилище, страх усилился. Быть может, не стоило менять синицу в руках на журавля в небе?.. Комиссар полиции – это вам не абы что, это приличное жалованье, блестящие перспективы, престижная карьера… Всё так, но он, поэт, влюбленный в литературу, не может больше терпеть подле себя убийц и мошенников, пусть ему порой и кажется, что он уже свыкся с этим сбродом и даже черпает вдохновение в общении с ним. Одним прекрасным утром месье Перо вдруг осознал, что питает отвращение к своей работе и, коли ему нужна свобода, созвучная его творческим порывам, единственное, чем он может заняться, – это торговлей книгами. Обзавестись собственным книжным магазином? Даже не обсуждается. Снять закуток? Все равно слишком затратно. Зато получить концессию на десятиметровый участок набережной Сены и выплачивать пятьдесят франков арендной платы в год – совсем другое дело, а надо для этого всего лишь написать прошение префекту. И лучшим своим пером господин комиссар, перечислив в начале собственные звания и регалии, начертал:
Честь имею просить высочайшего дозволения на получение места букиниста. Все свои чаяния возлагаю на…
Письмо он передал одному знакомому парламентарию, и шесть недель спустя пришел ответ префекта:
Имею удовольствие сообщить, что в соответствии с постановлением муниципального совета Вам предоставляется место на набережной Вольтера, участок № 11, освобожденный мадам…
Рауль Перо чуть в обморок не упал от счастья. Оставалось только закончить опись домашней библиотеки – книгами из своего собрания он рассчитывал заполнить шесть ящиков, доставшихся ему от одной бывшей зеленщицы, впоследствии ставшей лоточницей и недавно скончавшейся в возрасте восьмидесяти девяти лет. Ее рабочее имущество, купленное комиссаром за гроши у родственников, сейчас ждало нового хозяина на набережной Конти. Для себя месье Перо собирался приберечь только дорогие сердцу сочинения Жюля Лафорга
[868], прочее будет выставлено на продажу, и таким образом удастся сводить концы с концами. Он достаточно часто бывал на набережных букинистов, чтобы понимать: богатым ему никогда не сделаться, но при правильном подходе к торговле скромное, однако же без угрозы нищеты существование считай обеспечено.
Шаваньяк и Жербекур, верные помощники комиссара, очень расстроились, узнав, что патрон бросает их ради сомнительного и нестабильного заработка. В качестве прощального подарка они преподнесли месье Перо черепаху – точную копию покойной Нанетты, в которой он когда-то души не чаял. Пресмыкающееся, чей пол установить не предвиделось возможности, торжественно нарекли в честь ученого Фламмариона именем Камиль, потому что его носят как мужчины, так и женщины.
«И все-таки, патрон, что за дурацкое ремесло вы себе придумали! – не выдержал Шаваньяк. – Часами ждать, что какой-нибудь книгочей подгребет к вашей стойке и расстанется с парой франков…»
«А я слыхал про одного чудика, который даже на еду деньги не тратил – жевал герань и копил на философские трактаты», – вздохнул Жербекур.
Рауль Перо покинул свою уютную квартиру на улице Флерю и перебрался в каморку под самой крышей домишки на улице Невер неподалеку от Нового моста. В каморке было темно и зябко, зато все книги туда уместились, и то ладно. Из прежнего жилища он взял сюда только кровать, стол, два стула и два дорожных сундука, которые еще его прапрадед привез из Индий. Печурка тут едва теплилась, освещение оставляло желать лучшего, ванная и уборная находились в одном крошечном помещении в конце коридора, но что до этих житейских мелочей будущему прославленному поэту-библиофилу?
Нынешним утром 8 января житейские мелочи, однако, изрядно выросли в масштабах. Сначала дрожащий от холода Рауль Перо не смог разбить лед в растрескавшемся кувшине возле умывальника, и от водных процедур пришлось отказаться; затем выяснилось, что уборная прочно и надолго оккупирована соседкой – матроной внушительных пропорций, страдающей хроническими запорами. По счастью, в коридоре обнаружился ночной горшок без крышки.
Покончив с утренним туалетом, Рауль Перо расчесал пышные усы, облачился в помятый костюм, нахлобучил шляпу а-ля Виктор Гюго и в таком виде сгрыз черствую булочку. Посмотрел на часы и убедился, что выходить из дому еще рано. Тогда он сел на кровать, положил на колени записную книжку и в сотый раз принялся подсчитывать будущую прибыль, чтобы успокоить нервы.
«Учитывая, что стойка букиниста из нескольких ящиков вмещает в среднем тысячу двести томов, достаточно продавать каждый день сорок книг по пятьдесят сантимов, чтобы выручить сумму в двадцать франков. Добавим сюда одну-две антикварные диковинки стоимостью от пяти до пятнадцати франков и залежавшийся товар, который можно сбывать стопками по цене от пяти до двадцати су, – и вот пожалуйста, прибыток должен превзойти мои скромные чаяния!»
Ему вспомнился один старик букинист с набережной Монтебелло. Хмурым осенним днем этот человек в обносках и чиненых-перечиненых сапогах стоял у воды и смотрел на то место, откуда только что выловили труп самоубийцы. При виде комиссара старик сказал: «Ну хоть какое-то развлечение забесплатно. За деньги-то – оно только для буржуев. Туристы от наших прилавков нос воротят, им горгулью с собора Парижской Богоматери подавай. А мои песенки за два су не нужны никому».
По счастью, Рауль Перо встречал и других букинистов – настоящих эрудитов, торговавших хорошими книгами и даже редкими манускриптами. Один из них, с которым комиссар подружился и который теперь станет его соседом по участку на набережной Вольтера, читал Платона, Гете и Шекспира в оригинале. Карьерой, обеспеченной блестящим образованием, он пожертвовал ради двух высочайших ценностей – социальной независимости и душевной свободы. Звали его Фюльбер Ботье.
В любое время года Фюльбер Ботье выходил из своей двухкомнатной квартирки на улице Гарансьер с первыми лучами зари, чтобы в полном одиночестве прогуляться по пустынным набережным. Ему нравилось чувствовать себя властелином в этом царстве воды и камня. На правом берегу терялись в рассветной дымке башня Святого Иакова – палец, воздетый к небу, – павильон Флоры
[869] и фасад Лувра. На участке берега, где стояли его ящики с книгами, росли платаны, под ними трясогузки вечно затевали сражения с воробьями; рядом находился причал для кораблей из Сюресна. А прямо напротив букинистической стойки Фюльбера, на углу улицы Бон, располагался дом, на втором этаже которого, над нынешним кафе-рестораном, прожил свои последние годы месье де Вольтер и здесь же умер больше века назад. Букинист закрывал глаза, и перед его мысленным взором вставал призрак щуплого господина в пурпурном бархатном колпаке, отороченном мехом, и с длинной тростью в руке. Фюльбер Ботье охотно отдал бы половину редких книг из личного собрания за возможность повернуть время вспять и встретиться с гостями фернейского философа. Кого же из них выбрать? Мадам де Некер, Глюка, Гольдони, Бенджамина Франклина? Энциклопедистов или актеров «Комеди-Франсез»?..
В свои шестьдесят Фюльбер Ботье неизменно носил шапокляк, скрывая лысеющую макушку, и круглые очки с затемненными стеклами. Над его тонкими губами красовались короткие, но густые усы.
Сегодня утром, когда Фюльбер остановился на набережной Конти, карманные часы показали ему ровно половину девятого. Сквер Вер-Галан тонул в рыжеватом тумане, чайки парили над вереницей барж, создавших затор в шлюзе Моннэ; там шла перепалка – мужчины и женщины, моряки и владельцы товара пытались как-то разрешить дело. Драги, скрепленные между собой цепями, вяло покачивались на воде у Нового моста. Белая пелена, укрывшая реку, скрадывала звуки. Эхом, будто издалека, долетал железный скрежет омнибуса, катившего по маршруту Клиши – Одеон.
Ящики букинистических стоек под столетними деревьями были еще заперты, только папаша Мопертюи уже примостился на ветхой табуретке, кое-как починенной с помощью проволоки. Он специализировался на «Ревю де дё монд» Бюлоза
[870] и собрал уже пять тысяч экземпляров. Еще он чрезвычайно ценил английских романистов XVIII века и похвалялся на каждом углу, что в двадцать четвертый раз перечитал «Жизнь и суждения Тристрама Шенди»
[871].
Фюльбер Ботье поздоровался с коллегой, отметив про себя, что тот наверняка и не уходил отсюда никуда – провел ночь на тротуаре, читая при свече. Папаша Мопертюи, надежно защищенный от стужи длинным плащом с каракулевой подкладкой и набитыми соломой башмаками, пробормотал в ответ приветствие, не поднимая головы, и, послюнив палец, перевернул очередную страницу. «Если Старуха с косой и впредь упорно будет делать вид, что навсегда позабыла о нем, папаша Мопертюи так и останется здесь, – подумал Фюльбер, – на набережной, будет уменьшаться день ото дня, мелеть, усыхать, и в конце концов ветер унесет прочь песчинку, в которую он превратится, как уносит и развеивает по свету овсяные зернышки из мешков, что приторочены на шее лошадей, запряженных в фиакры».
Вторым на набережную Конти прибыл Виктор Легри; почти сразу вслед за ним подоспел Рауль Перо. Все трое придирчиво осмотрели стойку, пребывавшую не в лучшем виде.
– Надо будет заделать швы кое-где и покрасить. Шатается она к тому же. Вообще халтурная работа, просто удивительно, как в реку не опрокинулась, – проворчал Фюльбер Ботье. – Хорошо хоть нам в девяносто втором году дали разрешение крепить ящики к парапету, а до того совсем туго приходилось: надо было каждый день перетаскивать их туда-обратно. Утром устанавливаешь, вечером волочешь на хранение, и не просто так, а за двадцать су.
– Не нравятся мне эти съемные верхние крышки, – покачал головой Рауль Перо. – Боюсь, придется каждый раз, как соберется дождь, проделывать уйму лишних движений. А ведь осадки у нас тут, в Париже, дело нередкое.
– У меня есть знакомый мастер, он посадит вам крышки на шарниры – это очень удобно: стойка будет раскрываться и схлопываться, как устрица. А на выложенные книги при малейшей угрозе ливня накинете провощенную ткань – она прекрасно удерживает воду.
– А куда же деваться букинисту? – спросил Виктор.
– А букинист будет преспокойно сидеть в ближайшем бистро, надежно укрытый от непогоды.
– Я, к сожалению, немного стеснен в средствах… – признался Рауль Перо.
– Не переживайте, мастер все сделает в кредит, расплатитесь с ним весной, – успокоил его Фюльбер Ботье. – О, а вот и наша карета!
Погромыхивая обитыми железом колесами, у водостока остановилась телега для перевозки бочек, запряженная двумя першеронами. С облучка радостно скалился веселый красномордый парень.
– Здорово, Шкварка-Биби!
[872] – поприветствовал его Фюльбер. – Сам-то как?
– Сам-то выпить не дурак, да на работе ж! – еще шире разулыбался красномордый.
Тут наконец появился Жозеф: пальто и панталоны в грязи, вид разъяренный, ногу подволакивает.
– Что это с вами приключилось? – уставился на него Виктор.
– Шлепнулся, что! Чертов гололед. Шел себе – и раз! – всеми четырьмя копытцами в небо! Еще повезло, что не сломал ничего.
– Я знаю одно чудодейственное средство: абсент с ромом и лимонным соком, – поделился опытом Шкварка-Биби, раскуривая носогрейку.
– Ага, чудо не заставит себя ждать: все мое семейство соберется на похороны, – буркнул Жозеф, не переносивший алкоголь.
Впятером, кряхтя и отдуваясь, они водрузили ящики один за другим на телегу. Жозеф, лишенный перчаток, при этом ругался почем зря, всех извещая о том, что у него началось необратимое окоченение пальцев. Наконец груз был готов к отправке, и першероны без особой охоты поплелись к набережной Вольтера.
Разгрузка прошла быстрее благодаря участию коллег и соседей Фюльбера – за дело взялись Жорж Муазан, тщедушный человечек лет сорока с воинственно выпяченным подбородком и в шляпе с фазаньими перьями, эксперт по книгам про охоту, и Люка Лефлоик, чудаковатый тип с пышной рыжей бородой и усами, за которыми не видно было даже носа. Не остались в стороне и два завсегдатая набережной букинистов: Гаэтан Ларю, обрубщик сучьев, служащий при муниципалитете, и сапожник Фердинан Питель. Виктор обратил внимание на обувь обрубщика сучьев – таким впечатляющим размером ноги среди его знакомых мог похвастаться разве что Рауль Перо.
И все было бы прекрасно, если б Жозеф в довершение своих бед не поранил средний палец, когда помогал крестному Фюльберу привинчивать к стойке металлическую скобу. Со всех сторон тотчас посыпались советы: «Надо продезинфицировать! Перевязать! Позвать врача! Хряпнуть абсенту с ромом!» Пока все говорили хором, столпившись вокруг невинной жертвы, Фердинан Питель медленно осел на тротуар.
– Ого, отрубился, что ли? – первым заметил это Шкварка-Биби.
– Просто день падений какой-то, – покачал головой Фюльбер Ботье.
Сапожник, щуплый молодой человек с мальчишеским лицом и копной белокурых нечесаных кудрей, уже пришел в себя и с трудом поднялся.
– Прошу прощения, не выношу вида крови, – пробормотал он, жестом показав, что все в порядке и ему нет нужды присаживаться на любезно предложенную табуретку.
– Ох и глубокая же рана! – напомнил о себе Жозеф. – Теперь работать не смогу.
Виктор перевязал ему палец собственным платком. Рауль Перо всех поблагодарил за помощь и предложил отметить новоселье в бистро напротив. Вся компания радостно согласилась, но тут заявился еще один обитатель набережной букинистов – о его приближении стало известно метров за десять по крепкой чесночно-сивушной вони. Здесь его все так и звали – Вонючка, а настоящего имени уже никто и не помнил.
– В бистро собираетесь? И вы угощаете, месье? – осведомился Вонючка. – Стало быть, вы новенький, номер одиннадцатый? Вот и славно, а я пятнадцатый, будет с кем поболтать. Между нами только мадам Бомон, но она больше по вязанию, книги ее не увлекают. А уж я-то знаю толк и в «альдах», и в «эльзевирах»!
[873] Справа от вас свободное место – будем надеяться, его вскоре займет истинный библиофил и букинист. Что замечательно, по этой набережной толпами ходят знаменитости. Вот взять хоть месье Анатоля Франса. Не правда ли, он чертовски шикарно выглядит в этой своей черной визитке и в галстуке а-ля князь Саганский
[874]? А вот что прискорбно, так это то, что зимой соседние здания заслоняют солнце.
– Солнце? Где солнце? – оживился Люка Лефлоик.
Знакомство с Вонючкой существенно охладило пыл новоявленного букиниста Рауля Перо. Да и остальные в течение всего монолога медленно, шаг за шагом пятились в тщетной надежде спастись от источаемых номером пятнадцатым ароматов. Мимо, поджав хвост и таращась на Вонючку безумными глазами, протрусила собака.
– Так сбрызнем переезд или нет? – не выдержал Шкварка-Биби.
Рауль Перо незаметно для других сунул ему в кулак монету и шепнул, что просит выпить за его, Рауля, здоровье, но сам никак не может поучаствовать в пирушке – срочные дела зовут.
– Ну, тогда привет честной компании, – осклабился не слишком разочарованный Шкварка-Биби. – Мне тут еще одну дамочку со всеми пожитками и мебелями в Безон перевезти надо, а это не ближний свет. Н-но, красотки мои! Плюшка, Редиска, отчаливаем!
Першероны опять угрюмо и неспешно двинулись в путь.
– Какой съедобный транспорт! – прыснул Вонючка. – Что клячи, что возница! Так что же, никто не хочет пропустить по стаканчику? Ну, стало быть, я один пойду.
Когда он удалился, Жорж Муазан, с наслаждением вдохнув свежий воздух, обозрел горизонт:
– Как по-вашему, господа, будет снегопад?
Люка Лефлоик, заслуживший прозвище Бюро Прогнозов – за то, что бдительно подстерегал любое облачко, дерзнувшее обогнуть мыс острова Сите, – пристально изучил небо над правым берегом в том месте, которое он называл «Медоновой дырой»
[875] и «лучшим небесным барометром».
– Едва ли, – вынес он вердикт. – Небо проясняется. И судя по тому, что на макадаме
[876] уже заметны отпечатки следов – вот, глядите, – началось потепление. Уж доверьтесь моему чутью, друзья, придется нам всем вкалывать до вечера. А жаль, я бы горло промочил с удовольствием.
– У вас появились новинки? – оживился обрубщик сучьев и указал пальцем на укрытые зеленой тканью книги.
– О да, дорогой друг, и какие! – откликнулся вместо Лефлоика Жорж Муазан.
– Ну, вообще-то охота меня не слишком увлекает, – отвел глаза Гаэтан Ларю.
– И меня, – поддержал его Фердинан Питель.
– Погодите, милейшие, я вас такими диковинками побалую! И Фюльбер тоже вчера утром набил ящики книгами!
– Да и у меня найдется, чем вас порадовать. – Наконец-то и Люка Лефлоику удалось вставить словечко. Говоря это, он мимоходом задвинул подальше две бутылки бордо – так, чтобы они скрылись за приобретенными по случаю несколькими «шарпантье»
[877].
Виктор и Жозеф распрощались со старыми и новыми знакомыми. Они уже сворачивали на улицу Сен-Пер, когда Виктор вдруг вспомнил, что у них в лавке закончилась оберточная бумага.
– Я быстро – закуплюсь на улице Мазарини и сразу вернусь!
– Ну да, – проворчал Жозеф, – бросьте смертельно раненного родственника погибать, наденьте ему ярмо на шею, заставьте его в одиночку открывать лавку! Отличный способ избежать ответственности и позволить себе сигаретку перед работой! Ну как, скажите на милость, я замки отопру покалеченной рукой? Это ж невозможно!
– Отважные сердцем не знают слова «невозможно»! – заявил Виктор и умчался прочь.
Коричневые башмаки спрыгнули с подножки омнибуса на Королевском мосту, пересекли проезжую часть и остановились у витрины книжной лавки Оноре Шампьона в доме номер 9 по набережной Вольтера. Это был удобный наблюдательный пункт – владельцу башмаков предстояло удостовериться, что объект на месте. И тот оказался на месте – рассыпался в любезностях перед очередным покупателем. Этот книготорговец жил как по нотам: приходил на работу рано, возвращался домой на закате и ни разу не отклонился от привычного маршрута и расписания. Некоторые стадные животные с тем же постоянством в один и тот же час идут на водопой и рано или поздно таким образом попадают в пасть хищнику. Руки в перчатках запахнули поплотнее полы плаща, и коричневые башмаки направились к выстроившимся у обочины фиакрам. На облучках кучеры в навощенных цилиндрах поджидали пассажиров…
На двери книжной лавки «Эльзевир» зазвенел колокольчик, и Жозеф, незамедлительно приняв скорбный вид, поплелся от этажерки к прилавку. Вошедший Виктор выложил перед коллегой здоровенный рулон оберточной бумаги и поинтересовался:
– Уже что-нибудь продали?
– Нет. Я очень страдаю, – сообщил Жозеф.
– Настоящее горе безмолвно
[878].
– Ага, смейтесь, это ж не вам отрежут палец по случаю гангрены!
– Так загляните к Мелии – она вас подлатает. А потом отправляйтесь домой зализывать раны.
– Премного благодарен. К Мелии загляну непременно, домой отправиться и не подумаю.
– У нас тут маленькая неурядица. Поговорим, когда вернетесь от Мелии.
– Ну что там еще случилось? – сердито пробормотал Жозеф себе под нос, поднимаясь по винтовой лестнице на жилой этаж.
На кухне женщина средних лет с увядшим лицом и сединой в волосах готовила говяжье рагу под белым соусом.
– Elle me pigougne, cette baluche, es bеstia a paiar patenta
[879], – ворчала она. Речь, конечно, шла о ее заклятой врагине Эфросинье Пиньо, которая, после того как Кэндзи Мори и Джина Херсон уехали отдыхать в Лондон, заставила Мелию каждый день готовить обед для Виктора и Жозефа.
Молодой человек без лишних слов сунул лимузенке под нос замотанный платком палец. Та фыркнула, размотала повязку и бесстрастно изучила царапину.
– Наложу вам мазь собственного изготовления: вазелин, мед и листья подорожника. Через три дня и следа не останется.
– Ай-яй! Щипет ваше зелье! Вы уверены, что оно поможет? Ай!
– Ну потерпите чуть-чуть. Qui chanta, son mal espanta!
– И что это значит?
– «Песенку спой – боль снимет как рукой!» Спойте что-нибудь, месье Пиньо.
– И что же мне спеть?
– Первое, что придет в голову. Вот увидите: запоете, и болеть перестанет.
Жозеф откашлялся и затянул:
Проснитесь, пикардийцы!
Вставайте, бургиньонцы!
Глядите – светит солнце.
Весна – пора войны!
Врагу задайте жару,
Покройте себя славой.
Бургундцы, пикардийцы,
Вас ждем с победой мы!
[880]
– Ишь ты… – восхитилась Мелия. – А почему вы выбрали такую воинственную балладу?
– Потому что тот, кто захочет еще раз сделать мне больно, получит в глаз! – выпалил Жозеф, уже убегая на первый этаж. – Ну, Виктор, что у нас за неурядица?
– Я заметил пропажу. Вот тут, на полке, видите, пустое место? Между «Большим кулинарным словарем» Александра Дюма и «Физиологией вкуса» Брийа-Саварена не хватает одной книги.
– Какой? – спросил Жозеф, чувствуя, как сердце уходит в пятки.
– «Трактат о конфитюрах» тысяча семьсот пятьдесят пятого года. Первое издание, автор неизвестен. Тоненькая книжица, всего-то страниц пятнадцать, но стоит целого состояния. Вы ее никому не показывали?
– Нет-нет. У нас же как? Люди бродят по всей лавке, часами тут ошиваются, садятся, читают, в итоге не покупают ничего и, довольные, убираются восвояси. Чья это была блестящая идея поставить в торговом зале стол и стулья, а? Да еще телефон без умолку трезвонит, я уже упарился туда-сюда носиться, мечусь как проклятый, невозможно же за всеми уследить…
Жозеф замолчал и отвел взгляд. У него не хватило духу признаться, что на прошлой неделе он одолжил «Трактат» родной матушке. Эфросинья неожиданно увлеклась конфитюрами, и сын не смог отказать ей в просьбе. «Заберу книжку, тихонько верну на место, а Виктору скажу, что просто переставил ее случайно и забыл куда», – решил он.
– Не переживайте, Жозеф. Если «Трактат» украли, вор поспешит от него избавиться. Подежурите тут без меня до полудня? Я предупрежу нашего коллегу с улицы Понтуаз.
– Специалиста по кулинарным книгам? Нет необходимости. Найду я вам этот «Трактат» – наверняка же кто-нибудь взял его полистать, а потом засунул не на ту полку. Или его стащил какой-нибудь коллекционер. Тогда пиши пропало, можете хоть всех специалистов обежать – и следов не найдете…
– Жозеф, что бы вы ни думали, я не ищу предлога увильнуть от работы. Книгу нужно найти во что бы то ни стало, иначе Кэндзи из нас обоих сделает конфитюр. Так как вы себя чувствуете? Продержитесь тут без меня совсем чуть-чуть? Я быстро!
Глава третья
Воскресенье, 9 января
– День добрый, месье Легри.
– Приветствую вас, Альфонс. Переезжаете?
Высокий худой мужчина с пышными усами и бритым подбородком, облаченный в полосатый саржевый костюм, наблюдал за погрузкой вещей на телегу. Не успели соседи обменяться приветствиями, как на Виктора, проворно перебежав двор, набросилась мадам Баллю, вцепилась в рукав. Нынче консьержка дома 18-бис щеголяла в длинной холщовой блузе и галошах.
– О да, месье Легри, представьте себе: кузен Альфонс нас покидает, и не могу сказать, что скорблю по этому поводу! Уж понятное дело, что не этот дамский угодник тут стиркой, глажкой да готовкой для себя занимается. До сорока лет дожил, ума не нажил! Ну теперь-то у меня хоть свободное время появится. Этот дылда наконец-то возвращается бить баклуши в семейный пансион вдовы Симонэ на улице Виоле. Один из ее постояльцев, месье Фендорж, подыскал ему непыльную работенку. А я и довольна: займу снова мансарду на шестом этаже, которую вы так любезно мне уступили. Эй ты, бездельник, хватит уже там прохлаждаться, пока другие работают, вынеси-ка мусор мне, да поживее!
Альфонс Баллю повиновался, пробурчав Виктору:
– Видали? Это ж не баба, а генерал-полковник целый!
Виктор обогнул Школу изящных искусств и улыбнулся статуе Вольтера, закутанного на испанский манер в плащ (впрочем, с таким же успехом это мог быть домашний халат или римская тога).
– Какая встреча, мсье Легри! – грянул трубный глас.
На другой стороне площади Института Виктор увидел знакомую женскую фигуру впечатляющих габаритов: бесчисленные юбки и фуфайки делали ее еще внушительнее, соломенные волосы были собраны на макушке в замысловатую прическу. Ангела Фруэн зарабатывала на жизнь починкой тюфяков и матрасов неподалеку от моста Карузель и воспитывала троих детей – все семейство ютилось в крошечной квартирке на цокольном этаже дома по улице Ирландэ. Угрожающая внешность борчихи возмещалась в ней извечной приветливостью и услужливостью. Виктор помахал ей в ответ рукой и понаблюдал, как Ангела ловко катит перед собой раму на двух колесах, которая служила чесальщице для перевозки тюфяков, требующих набивки и штопки. Она остановилась поболтать с торговцем древними монетами, и Виктора вдруг осенило: нужно запечатлеть на снимках обитателей набережных – вот тема, не менее достойная, чем уходящий мир ярмарочных артистов, которому он посвятил весь прошлый год. В городе полторы с лишним сотни букинистов, большинство из них оккупировали левый берег Сены, от набережной Сен-Бернар до набережной Орсэ, а сколько еще мелких ремесленников можно встретить у реки…
Виктор никогда не признался бы самому себе в том, что этот фотографический проект сулит ему возможность достичь двух творческих целей, очень близких Таша: воплотить в образах собственные мечты и вдохновить чужие.
Набережная Вольтера постепенно оживала. Откуда ни возьмись, как черт из табакерки, появилась мадам Северина Бомон, закутанная в три вязаные шали, резвая дамочка лет шестидесяти, тощая и нескладная, как коза. На руках она носила митенки – чтобы удобнее было вязать нескончаемый шарф. Устроившись на складном стуле, обложившись клубками шерсти и приступив к любимому занятию, мадам Бомон то и дело оценивающе поглядывала на прохожих в надежде, что их соблазнят ее многочисленные сонники, «Язык цветов», «Наперсники любви», «Дамский и девичий оракул» или «Кулинарная книга горожанки».
Долговязый седеющий гражданин перегнулся через парапет, предварительно накинув на него платок, чтобы не запачкать черный бархатный костюм. Гражданина интересовали влюбленные парочки, которым холод ничуть не мешал любезничать и обжиматься у кромки воды в полной уверенности, что их никто не видит. Фюльбер Ботье, отвлекшись от своих нумерованных изданий, пергаменов, гримуаров и автографов – он нежно поглаживал переплеты и перекладывал листы у себя на стойке, – брезгливо поморщился при виде вуайера и принялся разглядывать его ботинки, зависшие в пятидесяти сантиметрах над тротуаром. Жорж Муазан в отличие от него с гражданином не церемонился – подошел, похлопал по плечу и указал на полицейского, замерзавшего на противоположном тротуаре. Гражданин поспешно слез с парапета, засунул платок в карман и обратился в бегство, освистанный Вонючкой, Фердинаном Пителем, Гаэтаном Ларю и Ангелой Фруэн.
– Какая гадость! – подвела итог Ангела.
– Ничего, теперь эта свинья не скоро вернется, у меня все записано, – заявил Жорж Муазан, помахав перед носом коллег зеленым блокнотом.
– Кстати, а что это вы днями напролет строчите в своей книжице? – полюбопытствовала Ангела.
– Не строчу, а веду подробнейшую хронику событий, милочка. Здесь зафиксировано все: погода, мои продажи, часы прибытия и ухода коллег и покупателей. Вот вы, к примеру, бродите тут уже уйму времени. Вам, что ли, работать нынче не надо? А вам, господин обрезчик сучьев? Да и вы, уважаемый сапожник, совсем позабыли о своих клиентах.
– Мои клиенты подождут, – пожал плечами Фердинан Питель.
– Ах, понятно, месье Муазан! Вы собираете материал для мемуаров! – воскликнул Люка Лефлоик. – А я-то думал, что вы составляете железнодорожный справочник.
– Да он же зловреднее фликов! – возмутился Гаэтан Ларю. – Вы подумайте: работаю я на сносе Счетной палаты – на ее месте, кстати, будут строить вокзал, – обрезаю сучьев сколько надо, дневную норму выполняю – и свободен, и никому не обязан отчитываться о своих перемещениях! А вы, стало быть, шпионите!
– Как вы полагаете, что у нас под ногами? – осведомился Жорж Муазан, пропустив упрек мимо ушей.
– Земля, что ж еще?
– Видите трещину сантиметров двух шириной посередине этой плиты? Так вот, перед вами вход в убежище крысы. А знаете, сколько у нее там детенышей? Семь! И я намерен разобраться с этими паразитами. Пара капель стрихнина – и прощай, любовь, прощай, жизнь!
– Что за гнусность! – выпалила Ангела Фруэн. – Вы отвратительны! Не трогайте бедных зверюшек, они никому вреда не причиняют!
– А чума? Вы об этом подумали?
– Сами вы чума! – вмешался Гаэтан Ларю. – Вот уж я тоже вам не позволю травить ядом несчастных животных, убийца! Только попробуйте – уши отчикаю садовыми ножницами, благо навык есть! Когда Счетную палату рушили, уж я насмотрелся, как оттуда изгоняют сотни невинных божьих тварей – кошек, куниц, кроликов, ужей. Я даже лису там видел!
Тем временем Люка Лефлоик на зависть соседям продал две гравюры благочестивого содержания. Гаэтан Ларю покосился на Фюльбера Ботье, снова взявшегося наводить порядок на своей стойке (там и так все было идеально, но Фюльберу, раздосадованному тем, что торговля совсем не идет, требовалось какое-нибудь успокаивающее занятие), и возвел очи горе:
– А вы всё книжки переставляете! У вас невроз, что ли?
– Я сортирую заказы, – буркнул отчаявшийся букинист. Нарастающее раздражение мог унять только стакан грога. Но прежде чем отправиться в кафе, он подергал за рукав Жоржа Муазана, который увлеченно вертел в пальцах перо – предмет не менее дорогой его сердцу, чем зеленый блокнот. – Когда вы уже наконец найдете то, о чем я просил? Когда рак на горе свистнет? Дело, знаете ли, срочное, а вы меня уже давно кормите обещаниями.
– Я ищу, дружище, ищу. И найду непременно. Оставлю у Лефлоика по дороге на вокзал, а с вами потом рассчитаемся. Один нотариус из Кана связался со мной и сказал, что мне отписана целая библиотека по завещанию. Жуткое везение! Я уезжаю завтра утром. Вернусь, наверное, на следующей неделе.
– Что ж, вам стоит поторопиться, потому что терпение мое не безгранично… Да перестаньте вы шамкать и причмокивать – это отвратительно!
– Я себе клык сломал. Дантист выдернул корень и поставил искусственный зуб на штифте, а он шатается – ужасно неприятно.
– Что за дантист? У меня кариес.
– Доктор Извергс. Принимает на улице Ренн, дом пятнадцать. Только сомневаюсь, что он станет возиться с вашими зубами. На вашем месте я бы сразу обзавелся вставной челюстью!
Они говорили слишком громко, как всегда, – Вонючка, Гаэтан Ларю, Фердинан Питель и Ангела Фруэн не упустили ни единого слова из этой перепалки.
– Я отлучусь ненадолго – извольте присмотреть одним глазком за моей стойкой, – бросил разъяренный Фюльбер Ботье Жоржу Муазану.
– Куда это вы намылились?
– Куда короли пешком ходят!
– Так уж и быть – одним присмотрю, но чтобы в оба глядеть – ни-ни! – рявкнул Жорж Муазан в спину Фюльберу – тот уже пробирался между фиакрами к кафе «Фрегат».
– Ну, дождя можно ожидать не раньше чем через два дня, зуб даю, – сообщил Люка Лефлоик, приложив руку козырьком ко лбу и вглядываясь в горизонт.
– С вами, конечно, хорошо, но у меня два матраса требуют починки, а все мои товарки уже за работой, – вздохнула Ангела Фруэн. – Что за жизнь – встаю ни свет ни заря, из-за того что детишкам нужно завтрак готовить, да и от улицы Ирландэ сюда путь неблизкий.
Под мостом чесальщицы уже вовсю набивали тюфяки водорослями и кресла конским волосом, но основная их работа заключалась в том, чтобы приводить в порядок старые матрасы. Сейчас одна из них откопала в слежавшейся шерсти набивки мужскую рубашку, и женщины, хохоча и побросав орудия труда, развлекались, обряжая в нее воображаемого щеголя.
Ангела схватилась за рукоятки своей импровизированной тележки.
– Салют честной компании. Кто со мной?
Жорж Муазан демонстративно отвернулся и принялся, покачивая драгоценным пером, обозревать ряды книг на своих полках. Ангела недобро на него покосилась:
– Этот паршивец считает себя важнючим барином! Понадергал себе перьев из петушиных хвостов и таким же петухом разгуливает!.. Ну вот, вспомнила некстати своего муженька-мерзавца. Знаете, как он с крысами расправлялся? Головы им отрубал сапожным резаком!
– Он у вас, что ли, сабо мастрячил? – уточнил Фердинан Питель.
– Точно. Вы же в этом понимаете, да? Негодяй бросил нас полгода назад, этот резак – все, что нам с малышами от него осталось. Далеко мы пойдем с таким-то богатым наследством.
Ангела направилась к лестнице, ведущей на берег, и Гаэтан помог ей спустить тележку по ступенькам. Он хорохорился и делал вид, что никуда не торопится, но на самом деле опасался взбучки от начальства за опоздание на строительную площадку, разбитую на месте снесенной Счетной палаты.
– А известно ли вам, что в начале улицы Бак некогда стояла казарма серых мушкетеров? Наш «Фрегат» увековечил память о самом что ни на есть настоящем фрегате, который был в давние времена пришвартован у Королевского моста и служил водолечебницей. Потом он сгорел, остов отогнали к набережной Жавель, а после и вовсе распилили. Да-да, любезный месье, тут кругом сплошь исторические достопримечательности! – просвещал владелец заведения какого-то англичанина в клетчатом костюме.
Фюльбер, пристроившись у витрины, откуда удобно было наблюдать за происходящим на набережной, поморщился: только что в кафе «Фрегат» заявился Фердинан Питель и нарушил его уединение.
– А это тоже историческая достопримечательность? – Сапожник насмешливо кивнул в сторону невероятно толстой женщины в красном фартуке. Она протискивалась между столиками с подносом.
– Что закажете, месье Ботье? – осведомился хозяин кафе, подошедший к ним.
– Горячий чай с ломтиком лимона. И добавьте туда много-много рома.
– А вы чего изволите, месье Вольтер? Да-да, вы на него ужасно похожи – его всегда изображают древним старикашкой, но у вас в точности такая же шустрая любопытная мордаха. Я ненароком услышал, как вы отозвались о моей жене, и должен заметить: не стоит смеяться над чужой внешностью. На вашем месте я бы побеспокоился о своей собственной. При таком хилом телосложении примете эдак ненароком на пустой желудок капельку красного винца – и пиши пропало. Видал я, как вы нынче утром на набережной в обморок грохнулись. Может, вам крепкого кофе подать?
– Подайте, – буркнул Фердинан Питель. – И извиняюсь за шутку – глупо, конечно, было с моей стороны.
Вскоре перед Фюльбером Ботье уже стоял исходящий паром стакан. Фюльбер с наслаждением понюхал грог.
– У меня невралгия, а это отличное лекарство, – объяснил он сапожнику.
Потягивая напиток, букинист не спускал глаз с коллег на набережной. Лефлоик ухитрился продать еще одну гравюру и сейчас с
важной миной заворачивал ее в полосу литературного журнала «Жиль Блаз». Несколько прохожих столпились у стойки Муазана.
– А она тут что делает?! – вдруг воскликнул Фердинан Питель.
– Кто? – Фюльбер Ботье отодвинул подальше занавеску. На противоположном тротуаре с Жоржем Муазаном беседовала светловолосая женщина. – Хороша! – оценил он. – Одалиска, сбежавшая с полотен Энгра и Делакруа.
– Э, полегче! – возмутился Фердинан. – Это ж моя тетушка!
– А что я такого сказал? Энгр и Делакруа – великие художники. Ваша тетушка увлекается охотой?
– Вот это вряд ли. Задерните занавеску, не хочу, чтобы тетушка меня заметила. Имейте в виду, месье Фюльбер: мужчины ее не слишком интересуют. Впрочем, все женщины такие – им дела до нас нет.
– Странное у вас мнение о слабом поле, – хмыкнул букинист. – Я-то думал, вам достаточно свистнуть – и любая красотка упадет в ваши объятия… Ну полно, полно, не хмурьтесь, я просто вас подначиваю. Однако согласитесь: без женщин нам, мужчинам, в этом мире и делать было бы нечего… О, ваша тетушка уходит, вы спасены… Черт! Вот и у Муазана первая прибыль, если так пойдет и дальше, мне останется только чмокнуть старушку в зад!
– О, месье Ботье, как вам не стыдно! – возмутилась проходившая мимо толстуха, жена хозяина.
– Ничуть не стыдно, мадам Аглая, это всего лишь профессиональный жаргон: на языке букинистов «чмокнуть старушку в зад» означает, что не удастся выручить за день ни гроша… Нет, вы только посмотрите! Этот гнусный Муазан еще хвастается всем своей удачей! Вон, записывает в дурацкий блокнот, что сбыл с рук какую-то ерунду, и всем в нос этим блокнотом тыкает. Можно подумать, он огреб целое состояние!.. Ха, беда не ходит одна – глядите, еще и эта буланжистка
[881] заявилась!
– И верно, Филомена, в затянувшемся девичестве Лакарель! – прищурилась толстуха, всматриваясь через витрину. – Не то занятие себе в жизни выбрала. Ей бы в «Ла Скала» или в «Батаклане»
[882] петь!
– Что верно, то верно. Ужасная зануда! Все уши нам прожужжала этим своим «Возвращением с парада»
[883], – поддакнул Фюльбер. – Совсем помешалась на генерале Буланже, мир его праху. Впрочем, мне грех жаловаться – эта клиентка меня порой спасает от безденежья, – признал он. – Черт побери, ущипните меня – я сплю и вижу кошмарный сон: она покупает книгу у Муазана! Глядите, глядите, этот негодяй аж приплясывает от радости! А она-то, она – даже не остановилась у моих ящиков!.. Всё, ушла… Ой, караул, Муазан идет сюда!
Жорж Муазан вошел в кафе, одарил мадам Аглаю довольной улыбкой и направился прямиком к соседу по набережной.
– Ваше отсутствие пошло мне на руку – я продал кучу «кирпичей» по двадцать су. Так что теперь при деньгах, но ужасно продрог, и еще мне нужно удовлетворить естественные потребности. Вас не затруднит вернуться на рабочее место и присмотреть за хозяйством?
С этими словами Муазан устремился в глубь кафе, к уборной.
– Я его когда-нибудь удавлю! – процедил сквозь зубы Фюльбер, поднимаясь из-за столика.
– Уходите? Я с вами! Еще не надышался воздухом свободы! – вскочил вслед за ним Фердинан Питель.
– Увы, дышите без меня – я сворачиваюсь на сегодня. Похоже, клиентура решила меня разорить.
– Но ведь всего-то два часа…
– Тем более нечего мне тут делать. Нужно еще рассортировать издания на складе.
Едва за букинистом закрылась дверь кафе, из уборной появился еще более довольный Жорж Муазан:
– Что-то Фюльбер нынче не в духе. Уж не завидует ли он моей сегодняшней удаче?
Сапожник пожал плечами, расплатился с хозяином заведения и ушел, не попрощавшись.
Мглистый вечер воцарился на набережных, выгнал из-под мостов чесальщиц с их тюфяками-матрасами. Вдоль кромки воды в полном молчании пробиралась ватага клошаров, выискивая местечко поуютнее для ночлега. Несколько влюбленных парочек еще миловались на берегу, таясь от любопытных взоров, да собачий парикмахер пока не закончил стрижку последнего клиента-пуделя. Букинисты сворачивали торговлю. Люка Лефлоик раскланялся с Гаэтаном Ларю, который отправлялся домой, на площадь Каира, и сам уже собрался вернуться в скромную квартирку на Монмартре рядом с парком омнибусов.
– Вот вы всегда в курсе новостей. Не слыхали, что там с нашим переселением на правый берег? По-прежнему идут разговоры? – остановил Гаэтана Жорж Муазан.
– Я с тутошними подрядчиками не то чтобы накоротке. А вот про своих знаю: деревья, спиленные вокруг Счетной палаты, выставлены на продажу. Их, между прочим, сто сорок девять – это три десятка кубических метров древесины! Неплохо кто-то наживется, а? Сейчас все работы пойдут со свистом – вокзал на этих руинах нужно достроить ко Всемирной выставке тысяча девятисотого года. – И, оставив двух букинистов в неизвестности, обрезчик сучьев растворился в тумане.
Жорж Муазан и Люка Лефлоик обреченно вздохнули, закрыли и заперли стойки, на том и распрощались.
Специалист по охоте свернул на извилистую улицу Бак. Он любил пройтись тут в поздние часы, когда торговцы зажигают огни и витрины лавочек приветливо светятся в темноте. Один антикварный магазинчик всегда привлекал его особое внимание – если сегодняшнее везение не закончится и сладится еще одно дельце, вскоре он определенно сможет позволить себе прикупить восхитительный палисандровый шкаф, о котором давно мечтает. Постояв у витрины, Жорж Муазан отправился дальше, не заметив, что следом за ним устремилась тень в коричневых башмаках.
А все-таки ловко он заморочил голову этому олуху Фюльберу Ботье! Если олух думает, что его просьба будет выполнена, он сильно ошибается. Неделя в отлучке по делу о библиотеке – а по возвращении можно будет сделать вид, что запамятовал о своем обещании.
С такими мыслями Жорж Муазан равнодушно, как всегда, миновал церковь Святого Фомы Аквинского, свернул налево и направился к бульвару Сен-Жермен, по которому, увязнув в гомонящей суетливой толпе парижан, медленно ползли омнибусы, брички и прочие транспортные средства. Высокие здания сияли витринами дорогих магазинов, перед ними выстроились киоски, обклеенные рекламными афишами. Террасы кафе холодным вечером мало кого соблазнили – лишь кое-где за бокалом вермута под тентами сидели люди в шубах и пальто с меховыми воротниками.
Ливень – снег вперемешку с дождем – располосовал ореолы фонарного света. Бульвар переливался огнями. Горящие свечи, керосинки, газовые и редкие электрические лампы сияли в окнах. Трамвай заскрежетал по мокрым рельсам, на мгновение нацелив красный глаз на букиниста. Жорж Муазан подкрутил ус, покосившись на красотку, которая спешила домой, поскорее укрыться от непогоды, и зашагал к улице Ренн. Рядом с домом на углу бульвара Сен-Жермен высился монументальный портал, оседланный огромным бронзовым драконом, – все, что осталось от особняка, некогда стоявшего напротив улицы Святой Маргариты, переименованной позднее в улицу Гозлен. По легенде, святая в свое время укротила крылатое чудовище, навострившееся ею пообедать. Через портал можно было попасть в тесный проход между бакалеей и винной лавкой; он выводил на двор, который окружали ветхие домишки, украшенные средневековыми скульптурами; на скульптурах гирляндами разлегся снег, и не думавший таять. Прямого пути с улицы Ренн сюда не было, и хотя этот заброшенный уголок принадлежал ей, он разительно дисгармонировал с массивными зданиями, оборудованными всеми удобствами современной цивилизации.
Здесь, на отшибе, было царство жестянщиков, слесарей и лудильщиков. На замшелой брусчатке стояли их лавочки; темные лестницы вели в жилые помещения; на ступеньках притулились горшки с цветами, побитыми морозом. Под нишей с образом Святой Девы несколько старух в вязаных фуфайках штопали носки. Одна из них попыталась всучить Муазану пучок сельдерея – он оттолкнул ее руку ладонью. Дождь усилился, женщины разбрелись по домам. Оставшись в одиночестве, Жорж Муазан направился к кривой лачуге, на двери которой висело объявление:
Сдаем комнаты
горничным и поденщицам
в квартире № 3
Первый этаж занимала скобяная лавка, чей владелец был потомком тех, у кого в 1830 году восставшие закупались кирками и железными прутьями, чтобы вступить в бой с монархией
[884]. Вокруг не было ни души, колыхалась пелена дождя, скрадывая городской шум и сгущая подступающую ночную тьму.
Муазану оставалось пройти дюжину метров, когда он услышал за спиной поскрипывание. Букинист замер, прислушиваясь, двинулся дальше и уже собирался переступить порог подъезда, когда поскрипывание возобновилось. Он резко обернулся, различил краем глаза скользнувшую по двору тень и оцепенел от страха.
– Кто здесь?
Прошелестели шаги.
– Ах, это вы! – с облегчением выдохнул Муазан. – Как вы меня напугали!
– Это я. Он отдал ее тебе?
– Кто? Что? Простите?..
– Ты прекрасно понял, о чем я, дружище. Он тебе ее отдал, твой поставщик, тот самый, который недавно сыграл в ящик?
– Ничего не понимаю… Что за ящик? Какой поставщик?
– Состен Ларше. Живодер с улицы Гранж-Бательер – это прозвище тебе о чем-нибудь говорит? Так вот, он дуба врезал. Сдох.
– Ларше умер? Вы шутите?
– Ты что, газет не читаешь? Подумать только, ведь она была почти что у меня в руках, еще немного, и… Уж я-то знаю, как ею воспользоваться…
– Да о чем вы толкуете, в конце концов? Кто – она?
– Стало быть, хочешь услышать, как я назову вещи своими именами? Не кто, а что. Тоненькая рукописная книжица – велень и тряпичная бумага, красно-голубой марморированный переплет. Я знаю, что она у тебя: Ларше перед смертью кое-что выболтал.
– Что выболтал?
– Твое имя, дурень! Память-то напряги. За неделю до дня святого Сильвестра ты явился к Ларше и захапал то, что должно принадлежать мне.
– Ничего я не захапал! Я купил у него стопку гравюр с охотничьими сюжетами и старые документы, завернул все это не глядя…
– Ну конечно! Я давно за тобой слежу. Мне даже удалось перетряхнуть всю твою макулатуру на набережной – там нет того, что мне нужно. Ты, часом, не продал ее той жирной корове?
– Макулатуру? Какой корове?
– Как мило! Может, хватит валять дурака? Ты продал книгу сумасшедшей корове с улицы Пьера Леско. Не делай вид, что не знаешь ее – она вечно пасется у твоей стойки.
– Уверяю, вы ошибаетесь…
– Лжец! Довольно отпираться – ведь продал? Тебя же ничего, кроме прибыли, не волнует, верно?
Старая торговка овощами, обитательница квартиры на первом этаже, не упустила ни слова из этого разговора. И ровным счетом ничего не поняла. Ей очень хотелось послушать и дальше, чтобы разобраться в деле, но тут как раз кот потребовал ужин, и старухе пришлось покинуть сторожевой пост за полосатой занавеской.
Именно в этот момент заостренный металлический прут вонзился в грудь Жоржа Муазана и прошел насквозь. На лице букиниста отразилось изумление, он пошатнулся, упал и больше не двигался.
Прут резким движением выдернули из трупа, вытерли платком и бросили на груду металлолома – туда, откуда его и позаимствовали чуть раньше. Две руки проворно ощупали одежду убитого, вытащили из его карманов связку ключей, бумажник и блокнот, затем ухватили труп под мышки и поволокли к подъезду. С нескольких попыток был подобран нужный ключ, замок щелкнул, тело Жоржа Муазана исчезло в глубине квартиры, и дверь захлопнулась.
Когда старуха вернулась к наблюдательному пункту у окна, двор был пуст. Кот невозмутимо дожевывал ужин.
Глава четвёртая
Ночь с 9-го на 10 января
Покинуть квартиру Муазана сразу не получилось – пришлось дожидаться, пока старуха наговорится с котом и закроет ставни. Обыск в жилище букиниста ничего не дал: книги, в основном посвященные охоте, гравюры, несколько нотариальных документов времен Первой империи…
Отблески пламени свечей плясали на зеленом блокноте, связке ключей и бумажнике, разложенных на каминном колпаке. В бумажнике нашлись разрешение на букинистическую торговлю на набережной Вольтера, счет за квартиру, фотография – трое мужчин и две женщины за столиком на террасе кафе «Фрегат», – железнодорожный билет до Кана в вагон третьего класса.
Зеленый блокнот оказался новеньким – исписаны были только первые три страницы:
26 декабря 1897 г. Был у этого пройдохи Ларше. Выгодная сделка: за девяносто франков приобрел миленький манускрипт (велень и тряпичная бумага, четыре листа можно датировать XVI веком) – для моей постоянной клиентки, а также – редкостная удача – две раскрашенные вручную гравюры из «Естественной истории обезьян и лемуров» Жан-Батиста Одебера. Определенно Живодер в этом ни черта не смыслит. Остальное – дешевка, можно сбыть Вонючке.
6 января 1898 г. Мадам Лакарель явилась на встречу вовремя. Никаких затруднений с продажей манускрипта – рассчиталась на месте и сполна. Еще продал г-ну Лебо гравюры из Обера. В итоге не просто вернул свое за все купленное у Ларше, но и получил прибыток сорок пять франков. Холод страшный. Ночью и вовсе мороз трещал. Сегодня с трудом отпер обледеневшие замки.
8 января . На набережной суматоха – у нас появился новичок. Нужно удвоить бдительность: он бывший флик. Завтра уезжаю в Кан, пробуду там четыре-пять дней. Ботье и Лефлоик обзавидовались. Фюльбер донимает меня требованием достать ему ту диковинку – ничего, пусть помучается, так ему и надо. А Ангела Фруэн пусть лучше свои матрасы штопает. Несколько дней без коллег-соседей и прочих бездельников – это счастье! По возвращении займусь истреблением крыс.
Нужны были неопровержимые доказательства – и вот пожалуйста, на серебряном блюдце с золотой каемкой! Как просто все оказалось… Если намеки, разбросанные в этом дневнике, не обманут, драгоценный манускрипт скоро выдаст свою тайну.
«За дело. Спрятать труп Муазана… Раньше чем через неделю его никто не хватится… Надобно хорошо продумать тактику… Они у меня все еще попляшут!»
Понедельник, 10 января
Филомена Лакарель без устали благодарила Провидение за ниспосланный два года назад ее кузену Антуану удар. У бездетного вдовца не было других наследников – все досталось ей. Заслуженное вознаграждение за десятилетия скорбного труда, когда Филомена зарабатывала на жизнь, прибираясь в квартирах нечистоплотных, но состоятельных горожан. Продажа недвижимости кузена обеспечила ей возможность обзавестись скромным особнячком в центре Парижа и потворствовать своим увлечениям, в числе которых были карточные игры, конфитюры и генерал Буланже. После уплаты долгов покойного кузена у Филомены из его имущества осталась целая груда букинистического мусора: распотрошенные книги, гравюры, побитые молью тряпичные переплеты. Все это ей удалось сбыть книготорговцам и библиофилам. В итоге бывшая домработница в свои пятьдесят семь лет наконец-то зажила так, как ей всегда мечталось: теперь она могла беспечно проводить дни, сплетничая за рюмочкой настойки с подружками на Центральном рынке, слоняясь по набережным Сены в поисках новых рецептов конфитюров у букинистов или редких документов и статей, касающихся ее кумира, генерала Буланже. А два раза в месяц она сражалась в карты с неким торговцем канцелярией вразнос по прозвищу Амадей.
Когда погода благоприятствовала, Филомена часами болтала с Севериной Бомон, букинисткой, на набережной Вольтера. Сидя на складных стульчиках, две товарки, разделявшие одни и те же увлечения, дружно высмеивали Бони де Кастеллана
[885], нынешнего любимчика всей дамской половины общества, и оплакивали кончину генерала Буланже, совершившего самоубийство на могиле своей любовницы в Икселе в 1891 году. Как можно было не позволить этому герою спасти Францию?!
Филомена вставала в пять утра – это было ее незыблемое правило еще с трудовых времен. Быстренько умывшись и пройдясь расческой по седеющим волосам, сегодня она облачилась в любимое драповое платье цвета лаванды. От корсета Филомена давно отказалась – в нем невозможно было дышать. Но она же не виновата, что с возрастом ее пышные формы сделались только пышнее… Надев лакированные кожаные галоши с побитыми задниками и мысками, толстуха внимательно изучила свое отражение в зеркале. Забавное сочетание: элегантный наряд и видавшие виды галоши. Но тут уж ничего не поделаешь – отекшие ноги Филомены предпочитали удобную, разношенную обувь.
«Я похожа на бочку. Ба! Что за печаль? Главное – это бодрость духа, воля к жизни и стойкость перед лицом превратностей судьбы!»
Филомена засыпала в кормушки попугаев зерно, купленное в прошлое воскресенье на птичьем рынке, и устремилась на кухню. В доме было холодно, приходилось постоянно топить печку, и сейчас, накормленная несколькими лопатками угля, она весело затрещала огнем. Дальше надо было помолоть кофе и поставить на плиту кастрюльку с водой. Пока вода закипала, Филомена принесла из спальни «Малый оракул, дамский наперсник» – издание расширенное и дополненное, раздобытое накануне у Северины Бомон, – и открыла его на странице с вопросами:
Скоро ли я выйду замуж?
Будет ли мой муженек красавцем?
Должна ли я дать ему… то, что он хочет?
Кто из нас умрет первым?
Кончиком ножа она наугад ткнула в одну из букв, представленных в таблице.
«Так-так, вопрос 1, ответ S… „Ты встретишь
его нынче вечером!“ Ах! Это же слишком скоро, я еще не готова расстаться с девичеством! Ой, вода, вода вскипела и собирается впасть в океан!»
Филомена поспешно перелила содержимое кастрюли в кофейник с молотым кофе, стоявший на лоскутной прихватке. Через несколько минут черная ароматная жидкость уже была в чашке.
«Что-то я в последние месяцы совсем забросила уборку, особенно в комнатах на этом этаже. Ужасный кавардак! Впрочем, ко мне никто не заходит, да и этот таинственный незнакомец, которого мне сулит оракул нынче вечером, вряд ли сюда заглянет. Не очень-то ты мне и сдался, красавчик, Филомена вдоволь горя нахлебалась с вашим отродьем, уж повидала таких, как ты, мужиков, хватит с меня! А на днях, ежели не передумаю, найму надомницу, благо средства позволяют. Что-то у меня поясница разламывается все время… Да уж, можно сказать, домработница разучилась делать домработу!»
Филомена фыркнула и принялась за кофе, попутно жуя тартинку и глядя на гравюру в рамке. На гравюре был изображен генерал Буланже верхом на боевом коне.
– Привет, Жорж. Ты один для меня свет в окошке, шалунишка! – бодро повторила толстуха ритуальную фразу.
Надев шерстяное пальто, шапку и шарф, Филомена Лакарель, готовая к сражению с северным ветром и ледяным дождем вперемешку со снегом, покинула домик на улице Пьера Леско.
Мнимый слепой, прозванный коллегами-попрошайками с паперти церкви Святого Евстахия «папаша Гляди-в-Оба», уже занял рабочее место на ступеньках, пристроив на коленях деревянную плошку для подаяния. Единственной защитой от ледяного ветра ему служили литр красного и большой деревянный щит с прикнопленными объявлениями. Эти исписанные от руки бумажки он читал в который раз, чтобы скоротать время.
– Басонщик наймет подмастерье, разносчика заказов, подручную швею-жилетницу, обшивщиков шнуром… Требуются официант, умеющий открывать устрицы… кучер… девицы от тринадцати до пятнадцати лет помощницами в плиссировочную мастерскую, жалованье один франк за… Рабы, вот кто вам требуется, ага, бессловесные твари, которых, ежели что, можно на улицу вышвырнуть. Да здравствует вольный труд!.. Черт, бочка в галошах катится, сейчас опять начнет полоскать мне мозги своим Буланже! – Папаша Гляди-в-Оба торопливо подвинулся поближе к своим.
Филомена Лакарель тоже заинтересовалась объявлениями.
– Устрицы – фу, какая гадость, желе, только соленое. И проку от них никакого: сколько ни съешь – не наешься. Эй, папаша Гляди-в-Оба, как нынче денёк, задался с утра? – крикнула она нищему.
Тот поежился и вздохнул:
– Ох, и не спрашивайте, как мыкал горе, так и мыкаю. Все святоши – сквалыги редкостные, а благословениями я уже сыт по горло. Только ими и сыт, ага. Эх, беда-огорчение… Жалкий я, несчастный, жертва злой судьбы!
– Ничего, народ пойдет с вечерни, и воздастся вам. А пока вот кладу вам два су, припрячьте их поскорее. И не теряйте веры! Господь всем нам посылает испытания, вы только вспомните бедного генерала Буланже – он, между прочим, умер, а вы-то живехоньки.
– Да уж, повезло мне сказочно, – пробормотал папаша Гляди-в-Оба.
– Когда почувствуете, что вера вас покидает, напойте «Возвращение с парада» – это придаст вам бодрости!
Филомена вошла в церковь, под величественным сводом которой всегда чувствовала себя карлицей. Ее восхищал настенный декор этого храма, но еще больше захватывала воображение гробница Кольбера
[886]. Напротив нее Филомена и преклонила колени, напевая под нос любимую песню:
Мы идем дружно, в ряд,
В Лоншан на парад,
Каждый весел и рад,
И ликуе-е-ет…
Она от всего сердца возблагодарила Кольбера и Буланже за то, что ей предоставилась возможность списать восхитительные рецепты из «Трактата о конфитюрах», одолженного Эфросиньей Пиньо, поднялась, осенила себя крестным знамением и направилась к клиросу поставить свечи за упокой кузена и генерала Буланже. После этого Филомена распростерлась у подножия статуи Богородицы.
– Радуйся, Мария, благодати полная
[887]…
Дальнейший текст молитвы перемешался у нее с наставлениями, почерпнутыми в рецепте по приготовлению конфитюра из кураги:
– Вымачивать несколько часов два килограмма кураги в четырех литрах воды,
благословенна Ты между женами , перелить воду и пересыпать фрукты в котел с тремя килограммами сахара,
благословен плод чрева Твоего , когда сироп закипит,
да приидет царствие ваше , дать остыть и переложить в горшочки,
аминь . Прости, Пресвятая Дева, конфитюры – мой маленький грех, на ближайшей мессе непременно прочитаю «Аве» десять раз,
молись за нас, грешных …
Коричневые башмаки обошли вокруг кропильницы. Двое прихожан в полуобморочном состоянии замерли у клироса, а на входе вокруг церковной кружки для пожертвований бродил нищий старик, притворявшийся слепым. И буланжистка тоже была здесь, в глубине храма…
Наконец Филомена выбралась на свежий воздух и вскоре окунулась в шумную суету Центрального рынка. Повозки деловито разгружались у павильонов Бальтара
[888], внутри которых шла бесконечная пляска святого Витта: метались разносчики, катились в разных направлениях повозки, чьи владельцы торопились выстроить на них пирамиды из лука-порея и пастернака. Морковная гора перекрыла один из проходов, послужив причиной яростной ссоры двух торговок, и те в свою очередь создали неслабый затор, побросав пустые ящики из-под овощей. Цветная капуста захрустела под копытами проходившей мимо лошади, торговки осатанело швырялись оскорблениями, и дело уже близилось к рукоприкладству. Ссорой воспользовался шустрый парнишка, чтобы стянуть цикорий, но одна из скандаливших кумушек поймала воришку на месте преступления и задала ему трепку, после чего скандалистки неожиданно для всех помирились и отправились скрепить дружбу стаканчиком вина в местном кабачке.
Филомена с трудом пробиралась среди скалистых отрогов из репы, тыквы и картошки. Она в жизни не видела моря, но ей казалось, что ее подхватила гигинтская разноцветная волна и качает на спине, одурманивая жаркими ароматными испарениями. Откуда-то потянуло потажем
[889].
«Ну и сборище! – подумала Филомена. – Сдается мне, что по сравнению с этой толпой в отрепьях Двор Чудес был прямо-таки благородным собранием!»
Бездомные и прочие горемыки толкались вокруг разносчиц горячего бульона – те порой проявляли милосердие и давали кому-нибудь зачерпнуть из котелков бесплатно.
Коричневые башмаки поскользнулись на промасленной бумаге, но тотчас продолжили путь по стопам упитанной дамочки. Та, покачивая пустой плетеной корзинкой, как раз протискивалась между крепостным валом лука и тыквенной стеной.
– Зелень зеленющая! Нежнейшая зелень! – надрывался огородник.
– Кресс-салат, шесть су за пучок!
– А вот кому португальских апельсинов?!
– Сыры из Бри! Они тают во рту – вы таете от удовольствия! – попытался влезть на чужую территорию бродячий молочник, но был тотчас изгнан королями фруктов и овощей.
– Ишь, глянь, Матюренша, кто пожаловал! Гостья прямиком к тебе – вон она, мадам Кро-Маньон собственной персоной! – заверещала девица в фуляровом платке с васильками, подравнивая горки черной редьки и лука-шалота.
Ее соседка, здоровенная матрона с хитрецой в глазах и носом-кнопкой, торговка сушеными фруктами, фигами, финиками, орехами и семечками, сердито пожевала губами.
– Вот уж принесла нелегкая. Опять будет рассказывать, как она нос к носу столкнулась с кроманьонским покойником в доисторической хижине, построенной для Всемирной выставки восемьдесят девятого года
[890]! Ежели она думает, что я поверю в эту байку ни за понюшку табаку…
– Не за понюшку табаку, а за твои орехи грецкие да лесные – накупит же опять целую гору! – рассудительно заметил мальчишка в вязаной фуфайке и тотчас получил от матери подзатыльник.
– Ой, мадам Матюрен, за что вы так малыша-то? Он у вас всегда такой вежливый! – вступилась за ребенка Филомена Лакарель, как раз подошедшая к прилавку.
– Вежливый, скажете тоже! Бесенок в ангельском обличье! Чертов постреленок загонит меня в могилу раньше срока. Гастон, паршивец, не трогай кошку, блох наберешь! – набросилась было матрона опять на сына, но тотчас разулыбалась: – Чего изволите, мадам Лакарель?
– Два кило кураги… Ах да, и еще каштанов.
– Ха, уж тут полно любителей таскать каштаны из огня, каждый барыга обжулить норовит, – бросил сутенерского вида хлыщ в модном галстуке, проходя мимо под ручку с проституткой, у которой было бледное лицо морфинистки.
Мадам Матюрен показала ему в спину неприличный жест:
– И всякой швали тут тоже хватает! Не ворье, так кукисты одолевают, спасу от них нет!
– Кукисты? – удивилась Филомена незнакомому слову.
– Ну да, заморские богатеи, у которых денег куры не клюют, а заняться нечем, вот они и шляются по всему миру стараниями агентства Кука. Англичашки в основном валом валят. В ушах звенит от этих их «гарден-патис», «файв-о-клоков» и «коктейлей», и кажется, что ты тут не на хлеб зарабатываешь в поте лица, а так, для местного колорита поставлена.
Когда корзина наполнилась курагой, каштанами, яблоками и тыковками, Филомена почувствовала в полной мере не только вес покупок, но и бремя прожитых лет. Идти стало тяжело, она пыхтела и задыхалась. Пришлось остановиться отдохнуть у фонтана Уоллеса, на котором поблескивал иней. Неподалеку местный комиссионер делился опытом с двумя фермерами, еще не получившими место на рынке; уличные девки заманивали мужчин, имевших неосторожность свернуть с Больших бульваров. Филомена поежилась от холода и немного погрелась у жаровни, стоявшей рядом с мешками, откуда шустрые воробьи таскали чечевицу. Потом понаблюдала за маневрами инспектора в штатском, обхаживавшего одну из проституток – фитюльку с овечьими глазками и ротиком-сердечком. «Должно быть, эта крошка сбежала от докучливых родственников – каких-нибудь старьевщиков или торговцев искусственными цветами, которые вынуждали ее заняться семейным делом. Нарвалась на сутенера, и вот…» – подумала Филомена.
У металлической колонны подручный мясника беседовал с лудильщиком, заблудившимся на огромном рынке.
– …Да наплевать мне на всю эту социальную справедливость и борьбу за правое дело, – делился соображениями лудильщик. – Хочу – работаю, хочу – не работаю, такой вот жизненный выбор.
– И у меня вроде того, – кивал подручный. – Ну ее, эту мясную лавку. Продам со склада партию шнурков, которая мне в наследство от дядюшки осталась, а потом подумываю…
Филомена Лакарель с корзинкой поплелась дальше привычным маршрутом, свернула на улицу Бальтара – в проход между павильонами Центрального рынка. Переулки вокруг церкви Святого Евстахия потихоньку оживали.
– Прохладно что-то сегодня, да? – бросила она овернцу, которого и не видно было за выставленными на продажу бутылями красного вина.
– Так ведь и к лучшему, – отозвался овернец. – После теплой-то зимы весна бывает холодная.
– Что верно, то верно, – пробормотала Филомена, отпирая дверь своего дома. – Все ж таки до чего мне повезло – отхватила себе эти хоромы! Благодарность моя покойному кузену не иссякнет. Спасибо тебе, кузен Антуан, что преставился! Уф, добралась наконец, спина разламывается…
Она водрузила корзинку на кухонный стол и налила себе стаканчик хереса – роскошь, о которой в прежние времена могла только мечтать.
«Ну вот и отогрелась, дома-то теплынь. Ох, я совсем без сил, но отдыхать не время – за дело, за дело!»
Филомена уселась на табурет возле печки и открыла одну из своих драгоценных поваренных книг.
«Нуте-с, с чего начнем? Конфитюр из каштанов? Так-так… Снять первую шкурку. Выварить в кипящей воде, в эмалированной кастрюле с крышкой. Снять вторую шкурку. Взвесить одинаковое количество сахара и каштанов. Добавить стручок ванили… Вот незадача, ванили-то у меня нет… Так, а что с тыквой? На три килограмма хорошо очищенной тыквы добавить два с половиной килограмма сахара и стручок ванили… Определенно ваниль – главный ингредиент. Ну вот, ни дня без огорчения, придется заняться курагой».
Коричневые башмаки обошли вокруг особнячка, отделенного узким проходом от соседних зданий побольше. Единственный способ попасть внутрь, не привлекая внимания, – воспользоваться стеклорезом, чтобы открыть окно спальни, выходящее на задний двор.
Свинцово-серые тучи в небе так тесно прижались друг к другу, что в окрестностях воцарился сумрак.
Два попугая всполошенно запрыгали с жердочки на жердочку в золоченой клетке, когда мимо них по ковру неслышно прошагали коричневые башмаки.
Довольная собой Филомена без устали помешивала деревянной лопаточкой варево из кураги, воды и сахара в медном котле на кухонной плите. Затем она сняла пенку и, пока густой сироп остывал, пошла за пустой тарой, для которой у нее был отведен отдельный шкаф. Филомене хотелось, чтобы ее конфитюры были произведением искусства, обладали не только вкусовыми, но и эстетическими достоинствами. А следовательно, стеклянным баночкам, накупленным у старьевщиков, надлежало быть без изъянов. Отобрав два десятка, Филомена выстроила их рядком на столе и приготовила столько же кругляшков из белой бумаги, смазанной глицерином, который она всегда предпочитала подслащенному коньяку, дабы закупорить баночки. Моток бечевки и этикетки с каллиграфически выписанным сиреневыми чернилами названием лакомства были также приготовлены заранее.
«Ложечку за Кольбера, ложечку за Жоржа, ложечку за Деву Пресвятую…»
Вскоре все двадцать баночек наполнились ароматной полупрозрачной оранжевой массой, были закупорены и выставлены на сервировочном столике.
«М-м, как вкусно пахнет! Можешь соскрести с котелка остатки и полакомиться, Филоменочка, – ты заслужила! Но сперва надо накормить Тинтину и Фифи».
Филомена тяжело поднялась со стула и пошла в спальню, находившуюся в другом конце коридора.
Коричневые башмаки шагнули в пустой коридор из уборной, спешно устремились в кухню, и их владелец внимательно осмотрел помещение. Искомой книги не было на этажерке с кулинарными руководствами. Возможно, она заперта в буфете, ключ от которого у Филомены надежно припрятан? Нет времени – грузные шаги хозяйки уже звучат в коридоре.
На кухне Филомена уселась, склонилась над котлом и провела пальцем по его стенке, собирая остатки абрикосового конфитюра. В этот момент за ее спиной что-то прошелестело, раздался слабый стук…
Первый удар пришелся ей на затылок. Филомене почудилось, что она падает в колодец, наполненный волшебным ароматом.
После второго удара перед ее глазами в ореоле света возник воин верхом на коне в парадной сбруе.
– Мой генерал!..
Третий удар заставил ее умолкнуть навсегда.
Минуты бежали. Где искать? Стол уставлен пустыми банками, горшочками, тарелками, чугунками. В открытом сундуке – ворох бумаги… Вот же, на табуретке – книга в красно-голубом марморированном переплете!
Нет, не то. Какой-то анонимный трактат о приготовлении конфитюров 1755 года издания, но выглядит в точности как тот драгоценный манускрипт – тот же формат, тот же переплет под мрамор… Коричневый башмак яростно пнул табуретку – она перевернулась, трактат, завертевшись в воздухе, отлетел под стол. Горшочек с каперсами и этикеткой, на которой значилось «Январь 1898», грохнулся на пол и разбился вдребезги.
На втором этаже застоялся сладковатый запах плесени. В двух комнатах обнаружились сваленные в кучу стулья, гора разодранных книжек, канапе и геридон
[891], уставленный безделушками. На стенах висели цветные гравюры, на каждой был изображен белокурый бородатый офицер в парадной униформе, гарцующий на боевом коне. На полу лежал слой пыли, кое-где сбившейся в хлопья; в пыли тонули мушиные трупики. Обыск спальни на первом этаже также ничего не дал.
На кухне коричневые башмаки остановились возле раковины. Руки в перчатках извлекли из-под нее две корзинки, наполнили их баночками с еще теплым конфитюром, расставленными хозяйкой на сервировочном столике, и другими, стоявшими повсюду; к ним добавились вертикальный держатель для книг и черный блокнот, найденный в корзинке с клубками шерсти.
– Сжальтесь над слепеньким! Киньте монетку! Наплевать всем на слепенького, ага. Сплошь безбожники и нечестивцы вокруг, веры ни на грош, а ежели праведник какой в храм Божий заглянет, так непременно скупердяем окажется.
Сидя за мусорными корзинами на улице Пьера Леско, папаша Гляди-в-Оба подсчитывал дневную выручку при свете фонаря. Надежды на щедрость паствы, отстоявшей вечерню, не оправдались, зато нехилую добычу удалось стянуть из кружки для пожертвований.
– Ну, Гляди-в-Оба, видишь теперь, что надобно верить на слово умным людям: «Вы постарайтесь, тогда и Господь постарается»
[892]. Спасибо Жанне д’Арк. Хоть одна душа за мной сверху приглядывает.
Он рассовал монетки по карманам, покосился на фигуру в плаще с капюшоном и двумя корзинами в руках и побрел своей дорогой, надрываясь во всю глотку:
– Подайте слепенькому! Благотворящий нищему одалживает Богу!
[893]
«Не стоило убивать ту тетку. Не стоило. Ха! „Не сокрушайся о непоправимом. Что сделано, то сделано…“ Кто это написал?.. Ах да, Шекспир».
Раз-два-три-четыре… Коричневые башмаки мерили комнату из угла в угол, как будто в них был встроен метроном. Паркет стонал под подошвами.
Раз-два-три-четыре… Ритмичные шаги помогали унять разбушевавшуюся ярость. Дело не ладилось. В столь поздний час мнимый слепой не должен был слоняться по улице Пьера Леско. Черный блокнот, найденный в корзинке с клубками шерсти у Филомены Лакарель, был надлежащим образом изучен – и ничего! Список покупок! Откровения старой девы! Пшик!
31 декабря. Вечеринка в «Морай» на Центральном рынке. Миленько посидели. Луковый суп.
Вторник, 4 января. Эфросинья Пиньо одолжила мне «Трактат о конфитюрах», написанный во времена моей прабабки. Надобно вернуть его поскорее, она выпросила книжицу у сына.
Среда, 5 января. Месье Муазан раздобыл то, что я искала. Цены он взвинтил немилосердно, но я могу себе позволить такие покупки, удачные находки – редкая редкость! Выиграла один франк в экарте[894] у Амадея. Будь я лет на двадцать помоложе, уж не упустила бы его. Чудаковат, конечно, зато какая стать! Такой же красавчик, как мой покойный генерал.
Четверг, 6 января. Вернула Эфросинье Пиньо «Трактат о конфитюрах». Опять посидели за рюмочкой в «Морай». Нынче вечером собрание «Фруктоежек» у меня в доме. Будут Шанталь Д., Анни Ш., Ангела Ф. Поделимся рецептами. Я им приготовлю вкуснючие подарки – они оценят. Ням-ням, у самой слюнки текут заранее.
Суббота, 8-е. Набережная Вольтера. Встретила Ангелу Ф., которая вчера так и не явилась. Уж я ей все высказала! Купила у Муазана сущий пустячок.
Воскресенье, 9-е. Проспала. Приснилось, что меня, полуголую, генерал Буланже увозит вдаль на боевом коне. Наскоро позавтракала в «Морай» жареными сосисками. Устроила себе сиесту.
Фиаско? О нет! Только без паники! Череда неудач стала следствием неверных поступков – излишняя спешка, плохо продуманный план. В записях Филомены Лакарель упоминаются имена… Нужно просто собраться с силами и начать действовать. Битва будет до победного!
Глава пятая
Вторник, 11 января
Жозеф, сидя на кухне во владениях Кэндзи на втором этаже книжной лавки «Эльзевир», отодвинул подальше тарелку с огромным куском камбалы под нормандским соусом с репой и погрузился в чтение старых газет. Одна заметка в «Пасс-парту» привлекла его особое внимание.
– Ого, Мелия, глядите-ка, кто-то взялся истреблять книготорговцев! Этого еще не хватало… Когда это произошло?.. Вот те на! В канун святого Сильвестра! Одиннадцать дней назад… Так-так, это надо вырезать и вклеить в мою тетрадку со всякой всячиной…
Творческая мысль Жозефа немедленно устремилась в полет.
– «Новогодний фарш»… Нет, звучит как кулинарный рецепт… «Убийство в канун святого Сильвестра» – уже лучше… «Смертельный Новый год»… Да! Отличное название для будущего романа-фельетона
[895]. А начать можно так, слушайте, Мелия: «Человек-сандвич ухмыльнулся и чуть помедлил на пороге темной квартиры…»
– О, месье Жозеф, какая сила воображения! У меня аж волосы дыбом встали!
– То-то ж! Теперь осталось всего ничего – дальше досочинить…
Дверь распахнулась, и на кухню ввалилась Эфросинья Пиньо.
– Матушка! – подскочил Жозеф. – Ты принесла «Трактат о конфитюрах»?
– Кушай, котеночек, кушай, не отвлекайся, тебе надобно хорошо питаться, только посмотри на себя, какой бледненький!
– Я ненавижу рыбу – она костлявая. И репу ненавижу! Репа – гадость, меня от нее с души воротит. Матушка, так где же трактат?
– Завтра принесу, котеночек, честное слово. И хватит тебе уже о книжках думать, нельзя столько работать, ты совсем семью забросил!
– Господа изволят составлять опись для весеннего каталога месье Мори, – бесстрастно сообщила Мелия, притворяясь, что всецело поглощена чисткой кастрюли.
Эфросинья уставилась на нее в монокль:
– А вас, душечка, кто спрашивал? Вы тут прислуга или кто? И перестаньте напевать себе под нос! Я, между прочим, из сил выбивалась, учила вас готовить мясные блюда, а мой котеночек должен рыбой давиться?!
На этот раз невозмутимая Мелия сделала вид, что больше всего на свете ее интересуют дырочки в шумовке.
Жозеф в надежде разрядить обстановку отправил в рот здоровенный кусок рыбы, героически прожевал и продолжил атаку:
– Матушка, елки-метелки, ты понимаешь, что ставишь меня в ужасное положение? Мне нужен трактат!
– Да что ж творится-то? Все на меня орут как заведенные! Не смей на мать голос повышать! Меня от вас всех уже в жар бросает!
– У тебя температура? – испугался Жозеф.
– У меня предсмертная агония, а ты… ты!.. Иисус-Мария-Иосиф, тяжек мой крест, вот помру – будешь знать!
Мелия мечтательно возвела очи горе.
– Ах если б, если б… – прошептала она и громко сказала: – Чего расшумелись-то? В лавке внизу полным-полно народа.
Из торгового зала невнятно донеслись женский голос и еще какие-то звуки.
– Вот чудно, – пробормотала Мелия, – у вас клиентка то говорит, то тявкает… Месье Жозеф, я не вправе вам приказывать, но не помешало бы вам проводить болезную матушку до дому. Можете пройти через апартаменты месье Мори и спуститься в подъезд – я никому не скажу.
– Херувимчик! Белинда! Не надо грызть брюки месье Легри! Фу! – прикрикнула Рафаэлла де Гувелин на шиппера и мальтийскую болонку, взявших в осаду стремянку, на которую забрался Виктор. – Ах, друг мой, какое облегчение очутиться у вас тут, в тишине и спокойствии. Как замечательно, что здесь больше никого нет – мне так нужно отдохнуть от суеты! – Она сняла пальто с накладными плечиками и подхватила собак на руки.
– Вам повезло, что лавка оказалась незаперта – мы вообще-то проводим опись, – сказал Виктор, осторожно слезая со стремянки. – Ваши крысоловки уже утихомирились? Не растерзают меня, если я спущусь?
– Крысоловки?.. Ах, месье Легри! Простите их, они у меня сегодня немного разнервничались – я водила их на кладбище Пер-Лашез, мы каждый месяц туда ходим погрустить у могилы бедняжки Бланш де Камбрези. Какая ужасная смерть – сгореть заживо на Благотворительном базаре
[896]! А ее овдовевший супруг теперь якшается с той бесстыдной дамочкой, которая выступала в кабаре и снималась в синематографе полуголая!
– Вы о княгине Максимовой?
– О княгине? Она потеряла титул! Ее мужу, полковнику конной гвардии императора Николая Второго, надоело быть всеобщей мишенью для насмешек из-за поведения этой… этой…
– Потаскушки? – подсказал Виктор.
– О, месье Легри, я бы никогда не решилась использовать подобное определение! Я бы сказала «дамы полусвета». Но позвольте-ка, я же пришла по делу… – Рафаэлла де Гувелин достала из сумочки выпуск «Иллюстрасьон», что было весьма опрометчиво с ее стороны: собаки немедленно завертелись, пытаясь обрести свободу. Хозяйка, не обратив внимания на их маневры, продолжила: – Я уже несколько месяцев разыскиваю роман-фельетон, печатавшийся здесь. Он называется «Необоримое обаяние».
– Не слыхал о таком. – Виктор демонстративно зевнул.
Но Рафаэллу де Гувелин это не обескуражило. Она помахала газетой у него перед носом:
– Это история одного офицера пеших егерей по имени Жан Вальжан
[897]…
– Вы уверены? – поднял
бровь Виктор.
Дама поправила очки.
– Да… Нет… Собственно, не суть важно. Так вот, этот Жан собирается жениться на Одетте де Рибейран и вдруг узнаёт, что отец невесты, маркиз де Рибейран, является также и его отцом!
– Какая… интрига! И кто же не поленился это издать?
– Лемер. А дальше еще увлекательнее! Офицер отказался поверить в столь чудовищное совпадение, и тогда открылась еще более ужасная, леденящая душу правда: он оказался плодом любви одной из маркизовых любовниц и прусского офицера!
– Ух ты ж! Надеюсь, это не стало причиной дипломатического конфликта? К моему величайшему сожалению, у нас в ассортименте нет сего шедевра.
– Но вы же можете протелефонировать издателю! Уж месье Мори на вашем месте знал бы, что делать. Я его подожду.
– Месье Мори сейчас в Англии с моей тещей.
Рафаэлла де Гувелин покраснела, поставила – почти швырнула – собачек на пол, распутала их поводки, схватила пальто, подобрала юбки и устремилась к выходу. У двери она чуть не упала в объятия высокого мужчины в костюме черного бархата и вандейковской шляпе – он вовремя отшатнулся, тем самым избежав пощечины.
– Что за муха укусила сию перезрелую, но все еще аппетитную нимфу, Легри?
– Ломье?! Вы что, пьяны?
– Ну, принял бутылочку белого сансерского – подумаешь, – пожал плечами художник Морис Ломье. – Мне надо было утешиться. Представьте себе, мы с Мими втайне от всех сегодня на рассвете уехали из Бюта – на счету ни гроша, Дюфайель нас обобрал! Сбежали от кредиторов, если сказать прямо. Бросили всё – мебель, барахло… Мими в отчаянии, ревмя ревела всю дорогу. Запрыгнули в двуколку, которую наш сосед с улицы Лепик, Шарль Леандр, ну, тот, что шаржи рисует, нанял в складчину с Эмилем Гудо и Фернаном Пеле из «Кабаре Четырех Муз», – и поминай как звали. Катились не останавливаясь до набережной Орсэ…
– А я-то думал, у вас отбоя нет от заказов на портреты новорожденных…
– Буржуа предпочитают фотографировать своих отпрысков голенькими, разложенными на пузе на какой-нибудь звериной шкуре.
– Так вы, стало быть, теперь без крыши над головой? Если нужна моя помощь, я постараюсь что-нибудь… – без особого энтузиазма начал Виктор.
– Это было бы шикарно, но пока мы кое-как устроились, – махнул рукой Морис Ломье. – Один знакомый военный из окружения Фора
[898] дал нам временное пристанище в правительственной конюшне – клетушка без удобств, провоняем, конечно, кожей, воском и потом, но он обещает вскоре переселить нас в настоящую жилую комнату в ремонтных мастерских по соседству с шорным цехом. И кто знает, может, не сегодня завтра освободятся офицерские апартаменты. В общем, обживемся за государственный счет, нищенствовать не придется – звезды по-прежнему мне благоприятствуют. Разумеется, я не откажусь от скромной финансовой поддержки… Пардон, надеюсь, от меня не воняет лошадиным навозом?
Виктор невозмутимо вложил синенькую банкноту в увядший экземпляр «Цветов зла» и засунул томик в карман редингота Ломье.
– Бодлер! – восхитился художник. – Мой любимый поэт! Премного благодарен, Легри, за столь редкое издание с такой изумительной иллюстрацией в синих тонах. За нее выражаю вам признательность отдельно. До скорого!
– Ваш покорный слуга, – процедил сквозь зубы Виктор. – Жозеф! – крикнул он, когда за художником закрылась дверь лавки. – Где вы прячетесь?
– Тут я, наверху. Уже можно спуститься? Шакалы разбежались?
– Спускайтесь скорей, я умираю от одиночества!.. Что у вас стряслось? Вид неважнецкий…
– Матушка расхворалась, я проводил ее домой, на улицу Сены.
– Надо было остаться с ней.
– Да ничего страшного – просто переутомилась. Айрис за ней присмотрит. Слыхали новость? В ночь на Новый год убит надомный книготорговец. Его примотали бечевкой к стулу и истыкали ножом. Вы с ним, случайно, не были знакомы? Некий Состен Ларше.
– Нет. Жозеф, я подозреваю, что вы тоже переутомились и попросту удрали подальше от домашнего очага, оставив жену и матушку на растерзание Пиньо-младшему. При таких обстоятельствах вам будет позволительно отдохнуть в апартаментах Кэндзи, я за вас поработаю.
– Я ж не сахарный, от трудового пота не растаю!
Сахар?.. Безумная идея то появлялась, то исчезала, маячила на краю сознания, играла в прятки со здравым смыслом.
Труп Жоржа Муазана лежал на стопках книг. Риск велик, тело начнет разлагаться, к тому же оно не уместится там, куда его предполагается поместить. Нужно принять какие-то меры…
И тут идея оформилась окончательно, вырвалась на простор, воссияла: сахар! Отличное средство замаскировать трупный запах!
Из корзины была извлечена первая банка и перевернута над трупом. Ее содержимое медленно потекло на грудь мертвеца. Алая густая масса – клубничное варенье.
Вторая банка, третья…
Желтое – лимонное. Оранжевое – абрикосовое.
На все про все ушло минут десять. Три десятка банок опустели. Жорж Муазан под слоем конфитюра стал похож на мраморную, блестящую, отполированную скульптуру с надгробной плиты. Часы под стеклянным колпаком на каминной полке пробили половину четвертого вечера. Во дворе, охраняемом драконом, визгливо завопила женщина:
– Мурзик! Мурзик! Иди к мамочке, скотина! Жрать пора!
Глава шестая
Среда, 12 января
День обещал выдаться не по-зимнему теплым. Амадей лениво развалился на лавочке; над ним возвышалась статуя Вольтера, окруженная свитой из голубей. Отличное местечко, чтобы побездельничать, греясь на солнышке и посматривая на зевак, которые то и дело собираются у стоек букинистов и расходятся восвояси. Амадей предался своему любимому занятию: он мысленно составлял каталог женских типов. Некоторые дамочки, проходившие мимо, смахивали на богато украшенные новогодние елки. Амадей усмехнулся – они напомнили ему о тех экстравагантных созданиях, что во времена Людовика XV носили платья с юбками, приподнятыми с помощью тростниковых обручей, скрепленных лентами, – некоторые модели подобных «корзинок» достигали трех с половиной метров в диаметре, и при каждом шаге модницы раздавался ужасный скрип, из-за чего их прозвали «крикуньями». Амадей потер яблоко о рукав, с хрустом откусил и принялся наблюдать за усатым букинистом лет шестидесяти, в очках и помятом цилиндре, открывавшим четвертый ящик с книгами.
Ангела Фруэн добралась до набережной Вольтера и позволила себе немного передохнуть – тем более что там уже прохаживался обрезчик сучьев, к которому она питала симпатию. Ангела ничего не имела против мужчин, не слишком заботящихся о своем внешнем виде, – главное, чтобы они были при галльских усах и могучей мускулатуре. Гаэтан Ларю соответствовал.
– День добрый, месье Ларю, мне срочно нужно утешиться – я в ужасном настроении. Представьте себе, меня ограбили!
Она рассчитывала, что Гаэтан пригласит ее в бистро, но тот лишь изобразил пылкое сочувствие:
– Не может быть! Когда же?
– Вчера вечером. Ах, что за люди, что за люди! По счастью, дети еще были в школе, иначе вообразите себе сцену… Меня до сих пор трясет!
– Что у вас украли?
– Резак и горшочки с конфитюрами! Бог с ними, с конфитюрами, не жалко, но резак дорог моему сердцу – он принадлежал покойному негодяю Гратьену. Муженек бросил меня одну с детьми, но все же когда-то мы с ним любили друг друга – до того как ему бес в ребро ударил и он начал ухлестывать за молоденькими. Все же некоторые чувства к нему у меня остались… В общем, после кражи пошла я в комиссариат полиции, а фликам на все наплевать, они даже не знают, что такое резак!
– Я тоже не знаю. Что же это? – прозвучал мужской голос, и Гаэтан Ларю обернулся к подошедшему незаметно человеку:
– Неужто сам монсеньор Амадей? Как вам удается неслышно подкрадываться? А что это вы так разоделись? Вроде не сезон для карнавала.
– Зато ему тепло! – вмешалась Ангела. Глядя на новоприбывшего, она вдруг почувствовала холодок между лопатками. А ведь месье Амадей – ужасно привлекательный мужчина. Как это она раньше не замечала? Они уже месяц каждый четверг играют по вечерам в пикет
[899] у нее на кухне, пока дети учатся в церковной школе…
Амадей лишь улыбнулся. Уязвленный поведением Ангелы обрезчик сучьев продолжил метать стрелы в жертву:
– А вы для человека столь скромного положения – настоящий щеголь. Портному небось платите тем, что в карты выигрываете? Что-то он у вас от моды отстал…
– Ишь ты – мода! – воскликнул недавно явившийся Фердинан Питель. – Важно не то, что на человеке, а то, что у него внутри! И только попробуйте назвать меня монсеньором!
– Господа, господа, довольно, сложите оружие! Я скромный разночинец, зарабатываю на жизнь продажей альманахов и канцелярских принадлежностей. – Лицо Амадея по-прежнему хранило приветливое, добродушное выражение. – В равной степени мне доставляет удовольствие нести утешение тем, кого болезнь, одиночество или скука отдаляют от их современников. Всего лишь несколько партий за столом – и уныние отступает, бремя бытия не давит им на плечи. Я играю в шахматы, в шашки, в триктрак, в домино и тем самым получаю прекрасную возможность изучать нравы себе подобных. Порой я проигрываю. Случается, что побеждаю, и тогда мне платят – это правило я блюду неукоснительно. Ведь иначе мои партнеры по игре решат, что я провожу с ними время из жалости, и приятность общения будет нарушена.
– Стало быть, вы бродячий торговец, взявший на себя труд утешать всех скорбящих и страждущих? – ехидно уточнил Гаэтан Ларю.
– О нет, я бы надорвался! В настоящее время моей поддержкой пользуются пожилая любительница экарте и паралитик, увлеченный батаем
[900]. Кроме того, я составляю компанию трем игрокам в покер, у которых четвертый приятель попал в больницу, и гадаю на картах Таро для одной бабули каждый вечер – она очень надеется в скором времени унаследовать приличное состояние, и я подпитываю ее иллюзии. Так что за вещица этот ваш «резак», мадам Фруэн? Неужто нечто вроде бриллиантового колье?
– Шутить изволите! – фыркнул Фердинан Питель. – Это такой здоровенный нож – его одним концом крепят к верстаку и с его помощью тачают сабо.
– Ах да, вы же сапожник. Мне как раз нужно подбить новые подметки на башмаки. Я ими дорожу как зеницей ока – мы вместе повидали немало стран.
– До того как переехали в Париж, мы жили в Камамбере, в деревеньке под Байё, – влезла Ангела Фруэн, уязвленная недостатком внимания к своей персоне. – Мой муж сабо тачал. Лучше б так и сидели в глуши, право слово! Воры мне вчера ко всему прочему еще и окно разбили, пришлось заткнуть дыру газетами. Только холода нынче такие стоят, сами видите, что надо как можно скорее стекло заменить, а это какой удар по семейному бюджету!
– Ячмень – ужасно неприятная штука, глаз болит, – невнятно пожаловался Вонючка, вернувшийся из кафе. Перегаром от него несло сильнее, чем обычно. Он по привычке притворялся глухим – вкупе с винным выхлопом ему это, как правило, помогало остаться при своих, если клиент пытался торговаться.
– По крайней мере ни дождя, ни шквального ветра можно не опасаться, – выдал предсказание Люка Лефлоик.
– Если хотите, Анге… мадам Фруэн, я поставлю вам новое стекло на следующей неделе. Бесплатно, – шепнул Ангеле обрезчик сучьев.
– Ах, это будет очень любезно с вашей стороны, месье Ларю. Я непременно сумею вас отблагодарить, – жеманно проворковала чесальщица.
Именно этот момент выбрал для своего появления инспектор VI округа:
– Здравствуйте, месье Перо, мой долг – засвидетельствовать де-визу ваше официальное разрешение на букинистическую торговлю. Рад убедиться, что обошлось без квипрокво и лицензия на одну и ту же торговую точку не выдана случайным образом сразу двум гражданам. Позвольте зачитать вам несколько выдержек из устава: «Торговец обязан иметь при себе учетный лист, в коем должно указать имя и адрес означенного торговца, а также перечень приобретенных книг. Расчетные суммы, поступающие к торговцу…»
– Это требование будет весьма затруднительно исполнить, месье! – перебил Амадей. Он был выше чиновника на голову, и тот, оценив диспозицию, предпочел ретироваться.
– Браво! Вы спасли нас от слепого Правосудия! – возликовал Вонючка.
Рауль Перо уже не страдал ни от холода, ни от страха перед будущим. Он чувствовал себя так, словно был букинистом долгие годы и все это время провел среди своих, среди людей, настолько преданных делу, что каждый из них готов вступиться за коллегу перед властями, бросить им вызов.
– Вы далеко живете, месье? – обратился он к Амадею, к которому уже проникся симпатией.
– В Менильмонтане, рядом с водохранилищем. Но когда есть охота и свободное время, люблю прогуляться по Парижу пешком. И здесь, на Сене, я чувствую себя как дома.
– Я тоже, – подал голос Фюльбер Ботье, – только мне тут, у себя дома, приходится на хлеб зарабатывать. Выставляю цену – честную, без обмана, набегают зеваки с чадами и домочадцами, тотчас устраивают семейный совет и давай препираться, торговаться, клянчить, а зимой я, как правило, более уступчив… Скажите-ка, месье Ларю, вы все-таки муниципальный служащий, может, слыхали, что там затевается? Говорят, железную дорогу к будущему Орлеанскому вокзалу протянут под землей параллельно Сене до набережной Орсэ, и еще собираются построить не только здоровенную конечную станцию в двух шагах, но и еще одну на набережной Сен-Мишель. Я это слышал от одного инженера, который иногда у меня закупается.
– В октябре палатой депутатов был подан парламентский запрос, – вмешался Лефлоик. – Мы все с облегчением вздохнули, когда узнали, что депутат Вивиани за нас вступился. Сами ж понимаете, если нас отсюда вытурят к Лувру, мы разоримся. А изгнание может продлиться года два!
– Ну, я-то здесь ни при чем, обрезаю ветки где велят, а все прочее… – рассеянно отмахнулся Гаэтан Ларю. – Вам помочь с тележкой, мадам Фруэн?
– Не откажусь! – просияла Ангела. – До завтра, месье Амадей, нам нужно закончить партию. Берегитесь – я намерена разгромить вас в пух и прах! И не расстраивайтесь заранее: не везет в картах, повезет в… – кокетливо шепнула она напоследок.
– Ты уверен, что она не слишком горячая? – Таша придирчиво следила за каждым движением Виктора.
– Я сунул локоть в кастрюлю, не беспокойся, все под контролем.
– Эфросинья права, надо было побольше кашки ей приготовить.
– Доктор Рейно – врач старой выучки, он рекомендует в качестве детского питания стерилизованное молоко и крупы, но категорически воспрещает закармливать ребенка до смерти.
– Тем не менее он посоветовал нам купить весы для взвешивания грудных детей.
Виктор мысленно пожелал, чтобы в этот утренний час никому не пришло в голову нанести ему визит – иначе главу семейства Легри застали бы в фартуке и с детским рожком в руках. Алиса жадно сосала жидкую молочную кашку, а он радовался, что у дочки такой хороший аппетит. Таша еще лежала в постели – рыжие волосы в беспорядке падают на бледные щеки, под глазами темные круги. Она внимательно наблюдала за мужем.
– Если бы тебя видели сейчас твои клиенты!
– Они превознесли бы до небес мою отцовскую самоотверженность! Я же один такой – кто еще из мужчин согласится на роль няньки?
– Признайся, что ты сам счастлив до беспамятства поучаствовать в кормлении наследницы!
Виктор и не думал спорить. Когда доктор Рейно сообщил им, что вторая беременность мадам Легри крайне нежелательна, поскольку может сопровождаться осложнениями, опасными и для нее самой, и для ребенка, Виктор с еще большей нежностью стал относиться к первому плоду их с Таша любви. Он испытывал острую потребность опекать дочку, оградить ее от малейших неудобств, отвести все беды. Он знал всё о каучуковых сосках и сыворотке против дифтерийного ларингита. И часто вспоминал собственные детские годы – время, когда чувствовал себя несчастным из-за холодности и равнодушия родного отца. Но в последние месяцы растущий груз ответственности часто гнал его прочь от домашнего очага – Виктор искал предлог отлучиться из дома, будто таким образом он мог избавиться от гнетущей растерянности перед будущим.
Сейчас он ходил по комнате из угла в угол с наевшейся Алисой на руках и гладил ее по спинке – ждал, когда ребенок срыгнет.
– К нам заходил Морис, – сообщила Таша, покусывая ноготь на большом пальце.
– Ломье? – Настроение у Виктора сразу испортилось.
– Ну да. Я чуть не разрыдалась, когда он начал жаловаться на жизнь – они с Мими нашли временное пристанище на набережной Орсэ, неподалеку от Дома инвалидов. Это же глушь какая – только жилые дома, сады и административные здания.
– Я в курсе, Ломье и ко мне в лавку заглядывал. Сказал, что обустроился в армейских конюшнях за государственный счет, и выразил опасение, что уже пропах навозом.
– Почему же ты мне об этом сразу не рассказал? Неужели до сих пор ревнуешь?
– Ревную? Я? Ничуть не бывало, моя прелесть.
Таша уставилась на мужа с подозрением и продолжила игривым тоном:
– За конюшнями, где они поселились, находятся мраморные мастерские. Морис встретил в тех краях Анри Мартена, Жан-Поля Лорана
[901] и Родена. За Роденом он увязался хвостом, но так и не решился с ним заговорить, зато выяснил, что скульптор каждый день завтракает в одном и том же ресторане неподалеку от площади Альма. Представляешь, у владельца заведения есть художественные наклонности – он мечтает открыть картинную галерею.
– Ломье своего не упустит. Могу поспорить, он уже сговорился с этим ресторатором и скоро они составят конкуренцию Амбруазу Воллару
[902].
– У тебя пророческий дар, милый! Именно это Морис и замышляет. Я была шокирована, узнав, что он отрекся от творческих планов и карьеры художника, чтобы посвятить себя торговле!
– Ну, может, это его истинное призвание и… – Виктор не договорил – событие, которого семейство ожидало, наконец свершилось, и теперь по его плечу растекалось пятно молочной каши. Виктор попытался стереть его полотенцем.
– Бесполезно, милый, – хмыкнула Таша. – Это даже не отстирывается.
Виктор поморщился и осторожно уложил дочку в колыбельку.
– Так что тебе ничего не остается, как просто снять свою элегантную пижамку в синюю полоску, – добавила Таша.
Он немедленно последовал совету и с голым торсом остановился у кровати, глядя на жену с видом гурмана, перед которым поставили самое лакомое блюдо. Таша откинула одеяло.
– Тебе кто-нибудь говорил раньше, что ты чертовски привлекательный мужчина? И такое впечатление, что с каждым днем набираешь мышечную массу – неужели потому, что повсюду таскаешь с собой тяжеленный фотоаппарат? Тебе не холодно? Простудишься, иди сюда, я тебя погрею.
– Я опоздаю в лавку, Жозеф опять разворчится. Он и так уже записал меня в лодыри.
– И он прав. Но если ты сейчас уйдешь, месть моя будет ужасна!
Виктор немедленно сбросил домашние туфли, стащил пижамные штаны и нырнул под одеяло.
– Удивительно, ты ведь уже не кормишь Алису, а грудь у тебя ничуть не уменьшилась… – пробормотал он. – И бедра такие упругие, и кожа на животе такая гладкая, нежная…
– Всё для тебя, милый…
Виктор обнял жену, чувствуя, как плечо щекочет локон рыжих волос.
Амадей попыхивал трубкой, прислонившись спиной к парапету набережной Сен-Мишель и наблюдая за толпой прохожих – в парижских конторах заканчивался обеденный час, и служащие, молодые и старые, спешили, сбивая подметки, вернуться на рабочие места. Голодранцы наскоро перекусывали на ходу, закупившись у владельцев ларьков на площади Мобер. Особое внимание Амадея привлекали прелести проходивших мимо гризеток с кулечками жареной картошки в руках.
«По сути, все эти люди топчутся на месте всю жизнь, от рождения до смерти. Едят, пьют, надрываются на работе, спят, занимаются любовью, делают детей… – думал он. – Я столько лет не общался с прекрасным полом, и вот вдруг пригодилось мое шутовское ремесло – нашел себе партнершу, которая, как и я, не любит болтать, а сразу переходит к делу…»
Ей было за тридцать, и звали ее Аделина Питель. Блондинка пышных, рубенсовских форм в очень скромной одежде, ничуть не лишавшей ее сексуальности. Они познакомились на набережной Вольтера. Эрудиция Аделины и ее внешнее сходство с одной из его прежних любовниц сразу покорили Амадея.
Неподалеку аккордеонист, примостившись на пустых ящиках, наигрывал песенку на стихи Беранже, и высокие, звонкие ноты мелодии напомнили Амадею о концерте струнного оркестра в Вене, где он присутствовал в компании одной юной особы, в которую был влюблен без памяти.
Он облокотился на парапет и, устремив невидящий взгляд на Сену, прошептал:
– Мэри, я по тебе скучаю… Как же не прав я был тогда…
Его мысли вернулись к Аделине Питель. Близкие отношения у них завязались по окончании партии в шашки. Аделина нарочно проиграла ему, не скрывая, что поддалась, и в глазах ее при этом было что-то такое, от чего он загорелся желанием. Мимолетное соприкосновение пальцев, когда она протянула ему рюмку бенедиктина, перешло в поцелуй, за ним последовали робкие ласки, потом объятия, а когда ее платье и нижние юбки упали к ногам, Амадей увидел сиреневую шелковую подвязку с пышным бантом – она пахла ванилью, и последний барьер благопристойности рухнул…
Их связь длилась уже полгода. После интимной близости Аделина одевалась и снова превращалась в скромняжку. Амадей знал, что это эротическое приключение будет скоротечным, но ему даже нравилась манера любовницы между делом заговаривать о «тяжелом социальном положении холостяков, вынужденных в одиночку нести тяготы существования». Она читала древних греков и прочих классиков, а талантом каллиграфа и миниатюриста могла сравниться с лучшими средневековыми переписчиками. С ней – впервые за долгое время – Амадею было хорошо и покойно, он не боялся последствий чужого любопытства: Аделина принадлежала к категории женщин, озабоченных соблюдением внешних приличий.
Он затушил трубку и направился к собору.
Если бы Аделине Питель сказали, что этимология французского слова parvis («паперть») восходит к церковному латинскому paradisus («рай»), она бы просто пожала плечами, закутанными черной уныло-траурной шалью. Рай Аделины находился в другом месте – на улице Арколь, в писчебумажном магазине, чей владелец когда-то был ее любовником, а затем стал деловым компаньоном. Он продавал почтовые открытки и книжные закладки, которые его бывшая дульсинея украшала благочестивыми надписями, каллиграфически выведенными тушью, и обилием миниатюрных колокольчиков, розочек и щекастых ангелочков.
Большая карета, запряженная четырьмя лошадьми, пересекла мост Двойной платы, из нее высыпала толпа иностранных туристов, и каждый мгновенно устремил лорнет на горгулий в снежных шапках; уличные торговцы тем временем не замедлили взять в осаду зевак мужского пола, показывая им из-под полы книжки-раскладушки с фотографиями на галантные сюжеты.
Аделина Питель свернула на улицу Клуатр-Нотр-Дам. Башенки собора возвышались над окрестными каминными трубами и коньками жестяных кровель; с портиков осыпалась штукатурка в такт биению промышленного сердца столицы; на скользкой мостовой девчонки прыгали через скакалку; скрипели шаткие лестницы под нагруженными припасами домохозяйками, которые спешили с покупками домой, готовить семейный обед. Вбок уходила между особняками XVII века извилистая улочка Шануанес, чудом уцелевшая на закате Второй империи. Здесь, среди мелких лавочек, находилась сапожная мастерская Аделининого племянника-шалопая Фердинана.
– Ну ясное дело – закрыто. И этот бездельник еще смеет рассуждать о неустанных поисках совершенства формы, – проворчала Аделина, покосившись на грязно-белый фасад домишки и криво намалеванное на оконном стекле объявление: «Шьем и починяем обувь».
«Все уши мне прожужжал своими пошлыми теориями: „Можно быть художником, выпиливая лобзиком по дереву или возводя стену, можно быть художником, занимаясь чем угодно, при условии, что вкладываешь в свое дело душу, чтобы преумножить в мире красоту и гармонию“. Нет, ну надо же! Вот я – художник, а он – сапожник, к которому если кто и заглянет, так лишь когда последняя подметка отвалится!»
Она вошла в подъезд дома номер 10, едва не столкнувшись на пороге с жильцом по имени Пьер Тримуйа
[903]. Аделина терпеть не могла этого лохматого господина с выдающимся носом, хотя он всегда был крайне любезен.
«Мнит себя поэтом, а на самом деле мелкий чинуша у государства на довольствии. А на голове что? Это разве волосы? Это ж щетка – паутину собирать по углам. Жалковато он выглядит рядом с Фердинаном. Однако, хороши соседи: рифмоплет и башмачник. Что тот размазня, что этот! Да и Жоашен дю Белле
[904], который давным-давно вот на этой самой улице копыта отбросил, наверняка был той же породы. Ах, мужчины! Мой нынешний воздыхатель, конечно, тот еще чудак, ведет себя словно какой-нибудь заговорщик, но по большому счету мне не на что жаловаться: он никогда не занудствует и доставляет мне удовольствие. Итак, пора приготовить любовное гнездышко для нашей сегодняшней встречи…»
Глава седьмая
Четверг, 13 января
Эфросинья Пиньо поплотнее запахнула полы плаща-ротонды, который сшила сама за несколько вечеров по выкройке из «Журнала для девиц». Не зря же отец ее снохи, месье Мори, утверждает, что с возрастом надобно бороться, что «отрицать возраст – значит оставаться вечно молодым». На душе у Эфросиньи было неспокойно. С тех пор как у нее вышла размолвка с сыном, она думала только о том, как бы поскорее загладить свою вину и вернуть ему «Трактат о конфитюрах». Хотя по правде виновата была Филомена – это она перепутала драгоценное издание с какой-то ерундой. Что за блажь все подряд обклеивать этой дурацкой бумагой под мрамор! Эфросинья собиралась обменять книжки – вопрос будет закрыт, сынок перестанет ей докучать.
Она прошла мимо «Ангела-хранителя» – сомнительного заведения, нагло щеголявшего вывеской на углу улицы Пируэт
[905] рядом с церковью Святого Евстахия. В «Ангеле» собирался всякий сброд, бандиты и мошенники, и Эфросинья осенила себя крестным знамением, три раза пробормотав «Иисус-Мария-Иосиф», чтобы оградиться от всяких неприятностей. Она ускорила шаг, проходя мимо кондитерской, притулившейся между прачечной и ремонтной мастерской. В кондитерскую ей ужасно хотелось заглянуть, но она себе не позволила, иначе непременно поддалась бы искушению и купила Дафнэ пралинки, а детям сладкое вредно. Однако равнодушно пройти мимо царства огородников, уже разложивших дары природы или разгружавших свои повозки, она не могла – так засмотрелась на прилавки бывших коллег-зеленщиков, что очнулась, лишь когда в глазах запестрело от лангустов и дичи. Тут Эфросинья поняла, что заблудилась. «Улица Монторгёй, мне же не сюда, а это Мондетур, надо же, куда забрела, что-то не узнаю окрестностей… Гостиница „Золотой компас“… Вот растяпа!» Она очутилась на просторном дворе – в здании на первом этаже находились конюшни, повсюду лежали кучи навоза, вокруг них расхаживали куры, косясь на лошадей. Эфросинья шарахнулась от путавшейся под ногами цесарки и замахала руками на козу, вздумавшую полакомиться бахромой ее плаща-ротонды. В ярости выскочила на какую-то провонявшую кровью улицу, где на каждом шагу попадались мясные лавки и лотки с требухой. Свернула направо, затем налево – здесь витали запахи лекарств и подгоревшей картошки.
Неподалеку от жилища Филомены она столкнулась с чудаком, которого уже встречала раньше на улице Сен-Пер в компании кузена Мишлин Баллю. Сейчас чудак был одет точно так же – этакий аристократ времен Революции – и разговаривал со слепым нищим, стоя посреди дороги. Недуг, похоже, не причинял нищему никаких неудобств – тот старательно протирал очки платком размером с наволочку для подушки, время от времени бросая ироничные взгляды на собеседника.
– Э, дамочка, глаза разуйте! – завопил мнимый слепец, успевший в отличие от мнимого аристократа отпрянуть. – Сами-то не ушиблись?
Слегка оглушенная столкновением Эфросинья сделала несколько нетвердых шагов и, бранясь себе под нос, решительно устремилась дальше.
– Дык я о чем толкую? – продолжил нищий прерванный разговор, мгновенно позабыв о «дамочке». – Дело стало таким прибыльным, что он уже продает пробки для графинов, ракушки, вещицы из бронзы и даже ключи! А еще сбывает карточные колоды. Да уж, чудной народец – букинисты, среди них есть такие, у кого на прилавке ни одной книжки!
– Им бы заняться продажей червей – в сезон на набережных толпы рыбаков, – отозвался аристократ, пристально глядя вслед Эфросинье. – У меня сосед червей разводит в протухшем мясе на мансарде… Ну что ж, позвольте откланяться, меня уже заждались на улице Шануанес – назначена партия в марьяж
[906]. – Зашагав своей дорогой, он думал о том, что где-то видел раньше эту дородную женщину с корзинкой, но никак не мог вспомнить где.
Измотанная вконец Эфросинья уже стучала в дверь своей товарки, мысленно заклиная: «Только бы она оказалась дома!» Створка двери приоткрылась.
– Ау! Филомена!
Никто не ответил.
«Странно, она всегда запирается на два оборота… Батюшки, какая вонь! Разит тухлыми яйцами, Филомена совсем забросила уборку…»
Эфросинья ступила в темный коридор. А вдруг в дом забрался вор и сейчас как выпрыгнет? Бледный прямоугольник света на полу означал, что на кухне открыты ставни. Эфросинья на ощупь двинулась туда. Что-то хрустнуло у нее под ногой, женщина в испуге замерла и увидела темный силуэт – на кухне кто-то сидел, наклонившись вперед.
– Филомена? Что с тобой?
Эфросинья, приблизившись, коснулась пальцев, вцепившихся в ручку котла, – они были ледяные. Вдруг пальцы разжались, рука соскользнула, и тело повалилось на каменный пол. Эфросинья подскочила, шарахнулась назад, влетев спиной в этажерку.
– Иисус-Мария-Иосиф! Караул! – Ее лицо сделалось белым как мел. – Надо бежать, надо бе… – в ужасе забормотала она, но слова застряли в горле.
Толстуха уже ничего не видела – ни котла, ни трупа. Если бы кухонный пол провалился у нее под ногами и стены обрушились, она испугалась бы меньше. Осознание произошедшего парализовало ее, страх сковал все тело, где-то в желудке начал расти тугой ледяной ком. Вытолкнув наконец из груди сдавленный вопль, Эфросинья бросилась вон из дома с такой прытью, которой сама от себя не ожидала, и бежала до тех пор, пока изуродованные варикозом ноги не отказались ее нести.
Аристократа около церкви Святого Евстахия уже не было, зато свидетелем олимпийского забега стал папаша Гляди-в-Оба, успевший протереть очки до идеальной прозрачности и водрузить их на нос.
– Пожар, что ли?! – крикнул он вдогонку.
Жозефу в очередной раз пришлось встать ни свет ни заря. Накануне вечером торговец игрушками с улицы Ренн прислал ему извещение о том, что в продаже наконец-то снова появились две оловянные фигурки – Клео де Мерод и Чулалонгкорна
[907]. Балерина и владыка Сиама имели такой успех на Больших бульварах, что на Новый год Дафнэ осталась без вожделенного подарка. А Виктору пришлось обойтись без «синематографической» перьевой ручки, внутри которой обнимались два лилипута – Николай Второй и Феликс Фор; Жозеф так и не смог ее купить вовремя. «Все распродано, – сокрушался лавочник. – Но я не теряю надежды пополнить запасы – один клиент обещал, что обдумает предложение обменять такую ручку на почти новую афишу „Сирано де Бержерака“».
Сейчас Жозефа переполняла радость, хотя пораненный палец еще болел. Молодой человек бодро шагал по улице, сжимая в кармане две оловянные статуэтки, и вдруг услышал вопли газетчиков:
– Покупайте «Аврору»! Ответ Клемансо и Золя на оправдательный приговор Эстерхази
[908]! Такого вы еще не читали!
Торговля шла бойко – мальчишки не успевали раздавать свежие выпуски, выдергивая их из сумок на плече. Народ толпился у газетных киосков на всем пути от церкви Святого Жермена до здания Геологического общества. Жозефу удалось наконец пробиться к прилавку и завладеть экземпляром «Авроры».
– Пять сантимов, пжалста, – проворчала продавщица. – Свезло вам, у меня всего-то три штуки этой газетенки осталось. Некоторые ее скупают только для того, чтобы сжечь. А и немудрено – этот полуитальяшка и на четверть грек
[909] совсем зарвался! Печатные станки небось всю ночь шарашили без остановки, чтоб завалить город его гнусностями!
Жозеф, взяв курс на улицу Сен-Пер, принялся читать газету на ходу. На первой полосе ему в глаза сразу бросился заголовок, набранный жирным шрифтом:
Я ОБВИНЯЮ!..
Письмо президенту Республики
от Эмиля Золя
– Вот это лихо! – восхищенно присвистнул молодой человек. – С ума сойти!
Лавку он открывал, уже пребывая в таком неистовом восторге, что зазевался, споткнулся, не устояв под весом железного ставня, и чуть не наступил на ногу фрейлейн Беккер, постоянной клиентке «Эльзевира», которая пришла похвастаться новым приобретением.
– Осторожно, месье Пиньо, вы помнёте мой рекламный плакат! – возопила она, устремившись в лавку мимо смущенно уступившего ей дорогу Жозефа. – Вы не представляете, чего мне стоило отодрать его от забора! Вот, глядите, какое чудо: «Велосипеды Плассона», подписано Роббом
[910]!
– Черт… Клянусь блаженной Глокеншпиль, они его в клочья растерзают, порвут просто! Надеюсь, хоть в дом им вломиться не удастся…
– Растерзают мой плакат? – ужаснулась фрейлейн. – Месье Пиньо…
– Да нет же!..
– О чем вы тут болтаете, молодой человек? – вдруг раздался пронзительный голос. На Жозефа в лорнет строго уставилась Олимпия де Салиньяк, не ожидавшая такого приема в книжной лавке. – Я заказала у вас «Тайну Гертруды» Андре Терье почти две недели назад. Вы ее получили? Отвечайте немедленно, мне еще нужно раздать приглашения на званый вечер пяти подругам, я и так опаздываю и не намерена…
– Вы только послушайте! – перебил Жозеф и принялся вдохновенно читать вслух: – «Я обвиняю подполковника дю Пати де Клама в том, что судебная ошибка стала следствием его дьявольских козней… Я обвиняю генерала Бийо в том, что он, располагая неопровержимыми доказательствами невиновности Дрейфуса, утаил их от общественности… Я обвиняю генерала де Буадеффра и генерала Гонза в соучастии в этом преступлении… Я обвиняю генерала де Пельё и майора Равари в злодейской подтасовке фактов во время следствия…» О, какой слог! Потрясающе! Изумительно! Прямо Габорио!
– Габорио? При чем тут Габорио? Насколько я понимаю, речь идет о том еврейском предателе? Кто автор гнусных инсинуаций, которые вы нам зачитали? – Графиня де Салиньяк попыталась выхватить газету из рук Жозефа. – Это оскорбительно! Нужно немедленно запретить подобные гнусности!
– Я догадываюсь, что вас так возмутило, дорогая, и всецело разделяю ваше негодование, – заявила незаметно вошедшая в торговый зал Матильда де Флавиньоль. – Я тоже совершенно ошеломлена этой новой модой – надо же додуматься до такого! Дамы высшего света обзаводятся живыми тварями, украшают их драгоценными камнями, на ночь кладут в стакан с водой, а днем прикрепляют на воротник! Да по этому великому ювелиру, месье Тамплье с улицы Руаяль, тюрьма плачет!
– Ну все с ума посходили, – простонал Жозеф. – О чем вы, мадам?
– О брошках-черепашках, конечно же, о чем еще? Ведь вы сами об этом завели разговор, разве нет?
– Mein Gott
[911]! Немецкий механик Дизель – запомните это имя! Ах, я вся трепещу! Он изобрел мотор, который работает на бензине и сжатом воздухе! Это революция! – Хельга Беккер закружилась по тесному помещению, как пьяная бабочка.
Жозеф забрался на стол и, потрясая газетой перед бюстом Мольера, завопил:
– А в заключение! Что он пишет в заключение! Просто ошеломительно! «И выдвигая сии обвинения, я вполне осознаю, что подвергаюсь риску быть привлеченным к суду по статьям тридцатой и тридцать первой закона о прессе от двадцать девятого июля тысяча восемьсот восемьдесят первого года, каковые карают за распространение клеветы. И тем не менее иду на это по доброй воле… во имя света и исстрадавшегося человечества!..»
– Что за сумасшедший дом? Дамы и господа, извольте угомониться! – Виктор вкатил в лавку велосипед, аккуратно отодвинул с дороги трех женщин и заставил Жозефа слезть с трибуны. – Вы что тут устроили, любезный зять? Хорошо, что Кэндзи в Лондоне.
– Но, патро… то есть Виктор, вы хоть понимаете, в какое судьбоносное время мы с вами живем?! Этот день войдет в историю! Эмиль Золя обвиняет правительство в том, что оно осудило невиновного человека на основании сфальсифицированных доказательств! – Жозеф сунул шурину под нос газету.
– Не пугайте меня, месье Легри, – вмешалась мадам де Салиньяк, – уж вы-то ни капельки не сочувствуете этому еврею Дрейфусу, я надеюсь. Что до итальяшки Золя, опубликовавшего свои мерзкие измышления, – гореть ему в аду, негодяю!
– Как бы вам самой туда не угодить! – выпалил Жозеф, багровея от ярости.
– Что?! Грубиян! Как вы смеете! Если вы поддержите лжеца Золя, можете вычеркнуть меня из списка постоянных клиентов!
Виктор дочитал статью, его руки дрожали. Он медленно отложил газету, выпрямился и посмотрел в лицо графине:
– Помнится, вы уже объявляли нам бойкот по какому-то ничтожному поводу. Теперь же у вас есть веские основания держаться от нас подальше. Мы прекрасно обойдемся без вас.
– Хам! Невежа! – задохнулась от негодования мадам де Салиньяк. – Ни малейшего уважения к моим сединам и социальному статусу! Впрочем, меня не удивляет, что так ведет себя человек, женившийся на единоверке предателя Дрейфуса!
Виктор застыл, пораженный этим всплеском ненависти. Он женился на Таша по любви, не думая о ее происхождении, они оба не отличались религиозностью и не посягали на убеждения друг друга. До сих пор они делились опытом духовных исканий и вместе пытались найти ответ на вопрос о смысле жизни. Когда состоялся суд над капитаном Дрейфусом, Виктор еще острее почувствовал солидарность с женой. К сожалению, поначалу его вера в невиновность Дрейфуса была не так крепка, но Эмиль Золя всем преподал прекрасный урок отваги. А мадам де Салиньяк окончательно рассеяла пелену перед глазами Виктора. И он бы потерял остатки хладнокровия, но тут, по счастью, вмешался Жозеф.
– Убирайтесь отсюда, – процедил сквозь зубы молодой человек. – И чтобы ноги вашей тут больше не было.
Казалось, мадам де Салиньяк сейчас удар хватит. Она вцепилась в рукав Матильды де Флавиньоль:
– Идемте скорее, дорогая, этот человек общественно опасен!
– Весьма сожалею, но я не…
– Что?! Вы отказываете мне в поддержке? Вы, стало быть, на стороне евреев и франкмасонов?
– Месье Легри – уважаемый человек, я питаю к нему симпатию и…
– Признайтесь лучше, что вы к нему неравнодушны! Известное дело – некоторые дамы в определенном возрасте начинают испытывать порочную склонность к… А вы, фрейлейн Беккер, вы тоже небось навоображали себе всякого?
– Право, мадам де Салиньяк! Как вы могли подумать!.. – вспыхнула немка.
Графиня презрительно фыркнула:
– Да у вас на лбу написано, что вы никогда не были замужем, но полны надежд!
Скандализированная Хельга Беккер отчаянно замотала головой, на щеках ее проступили два предательских алых пятна.
– Я солидарна с теми, кто считает, что Франция совершила непростительную ошибку, изгнав капитана Дрейфуса на Чертов остров, – с достоинством проговорила она. – Если бы Виктор Гюго был среди нас, он непременно восстал бы против этой несправедливости!
– Ах, Франция вам не нравится? Так убирайтесь в свою Германию! – отрезала Олимпия де Салиньяк. – Тевтонка! – Устремившись к выходу, она столкнулась с Эфросиньей, которая на последнем дыхании ворвалась в лавку. – Мадам Пиньо, надеюсь, вы придерживаетесь мнения большинства и не позволите родному сыну угодить в политическую западню!
– Какую-такую западню? – прохрипела Эфросинья и, подскочив к Виктору, зашептала ему на ухо: – Месье Легри, мне надо поговорить с вами наедине, это ужасно важно!
– Это касается публичного заявления Эмиля Золя? – осведомился он.
– Да о чем вы тут все толкуете? У меня очень личное дело, давайте отойдем подальше, я не хочу, чтобы мой сынок услышал.
– Поднимемся к Кэндзи, – вздохнул Виктор и обратился к зятю, кивнув на графиню: – Жозеф, проследите, чтобы мадам покинула помещение.
– Не затрудняйтесь, – процедила та. – Я уже спешу к Реовилям – уж они-то сумеют ответить на ваши оскорбления!
– Ой, как страшно! Давай, котеночек, вышвырни ее вон! – пропыхтела Эфросинья, ковыляя за Виктором к винтовой лестнице.
Они заперлись в гостиной Кэндзи.
– Слушаю вас, – сказал Виктор, присев на край дубового стола и скрестив руки на груди. – Вы так выглядите, будто встретили призрака.
– Почти так оно и было! До сих пор мороз по коже! Я нашла труп своей приятельницы. Пришла к ней домой за книжкой, которую ей одолжила, и вот… Я так перепугалась, что даже забыла эту книжку поискать, а мне ее надо сыночку вернуть, он ее у вас на полке позаимствовал. Вроде как дорогая она ужасно, но не настолько ужасно, чтобы вы без нее разорились в пух и прах, если ее прямо сейчас на место не поставить. Вообще-то Филомена, приятельница моя, книжку мне как бы отдала, но я два дня назад заметила, что не ту – обложка точно такая же, да только это совсем не «Трактат о конфитюрах», Филомена перепутала…
– Так, стало быть, «Трактат» был у вас? А приятельница умерла? От чего?
– Ох, по-моему, ее убили!
– Убили? Вы уверены?
– Нынче утром я решила все исправить и пошла в район Центрального рынка, где моя приятельница живет… жила… чтобы книжки обменять. Стучусь к ней – а дверь незаперта, я вхожу, темно хоть глаз коли, я на кухню, а там что же? А там Филомена сидит над котлом для варки варенья. Убитая! Я ее руку потрогала – как деревянная. Ну, я давай бежать оттуда без памяти, сердце в пятках…
– А в полицию
вы уже обратились?
Эфросинья тяжело дышала, хватая воздух ртом, как рыба на берегу, и наконец не выдержала – разрыдалась. Слезы покатились, теряясь в морщинах на щеках.
– К фликам? О нет! Они же меня сразу заарестуют – труп-то кто нашел? А я честная женщина, не хочу в это впутываться! И потом, мой котеночек меня проклянет, если узнает, что я отдала «Трактат о конфитюрах» Филомене, но она так просила, так просила… Характер у меня, конечно, не сахарный, но ежели меня кто-то умоляет подсобить или одолжить чего – не могу устоять… А Филомена была такой мастерицей – королева конфитюров, ни дать ни взять, и на Новый год мне вкуснятины надарила, я так хотела ее отблагодарить, ну и не удержалась, дала книжку почитать… Если б я знала! Ох, боюсь туда возвращаться, месье Виктор, а вы-то привычный ко всякой мертвечине, умоляю, пойдемте со мной! То бишь вы вперед, а я за вами. И пожалуйста, ни слова моему котеночку, у него и без того столько хлопот с малышом…
Виктор досадливо поморщился:
– У меня, что же, нет хлопот? А Алиса?
– Ох, ну вы же всем сыщикам сыщик, сколько раз фликов за нос водили, дураками выставляли, ведь и сейчас сумеете все уладить, правда?
Виктор задумался. Искушение затеять новое расследование было велико. Но что, если Таша об этом узнает? А Жозеф? Можно ли рассчитывать на его поддержку?
– Неудачный день вы выбрали для похода в гости, мадам Пиньо, – покачал он головой.
– Да уж, в гости! Не терпелось мне поболтать с покойницей за чашечкой чая! – всхлипнула Эфросинья.
– Может, она только ранена?
– Вряд ли, она совсем холодная была и не шевелилась.
– Ну ладно, ладно, я думаю, мы…
Не дослушав, Эфросинья бросилась ему на шею. Виктор отшатнулся, нечаянно смахнув со стола стопку фривольных гравюр.
– Я пока еще ничего не пообещал!
– Ах, я знала, знала, что вы мне поможете!
В торговом зале тем временем кипели страсти – Жозеф жарко спорил с клиентами, которые, потрясая экземплярами «Авроры», выясняли мнение хозяев лавки «Эльзевир» по поводу открытого письма Эмиля Золя.
– Жозеф, в квартире вашей матушки утечка газа, я помогу ей все уладить, вернусь после полудня.
– Дом взорвется! Я с вами!
– Нет-нет, мой котеночек, это совсем небольшая утечка, чуть-чуть газа утекло, и всё, месье Виктор один справится.
– Ах, сегодняшний день – тринадцатое января – навсегда останется в моей памяти! – мечтательно заявила Матильда де Флавиньоль.
– Тринадцатое! Как бы это число не принесло несчастья месье Золя, – проворчал месье Мандоль, бывший преподаватель Коллеж де Франс.
– А по-моему, это очень удачное число, оно должно принести счастье. Как вы полагаете, месье Легри? – проворковала Матильда.
Но Виктор уже выскочил из лавки и стремительно зашагал по направлению к Сене. Эфросинья бегом бежала за ним, не заботясь о том, что ее многочисленные юбки полощутся на ветру, являя миру хлопчатобумажные чулки.
– Это куда ж ты так мчишься, старушка-попрыгушка? – восхитилась при виде ее мадам Баллю, консьержка дома 18-бис, чуть не выронив метлу. – Вознамерилась побить рекорд поезда железной дороги Нью-Йорк – Филадельфия? Говорят, он выдает двести семьдесят четыре километра в час!
Она некоторое время смотрела вслед Эфросинье (та изо всех сил ковыляла, переваливаясь, как утка, будто и правда шла на рекорд), затем по привычке собралась было крикнуть «Альфонс!», но вспомнила, что кузен перебрался на новое место жительства.
– Какое облегчение! Одной-то как хорошо! Не надобно ни кальсоны стирать, ни носки штопать…
– Детка, только посмотри, какая красота! – Таша наконец-то решилась прогуляться с дочкой за пределы улицы Фонтен. Для Алисы это была первая вылазка на Монмартр. Завернутая в одеяльце, связанное крючком, девочка увлеченно сосала большой палец, прерываясь только для того, чтобы поагукать.
Не обращая внимания на громадину Сакре-Кёр в строительных лесах, Таша поднималась по лестницам – ей хотелось полюбоваться панорамой города. Как же она в детстве мечтала побывать в этой волшебной стране, когда Джина, ее матушка, читала вслух сказки Шарля Перро и письма мадам де Севинье!
Огромный человеческий муравейник, замурованный в камень, стекло и черепицу домов, питаемый надеждами, терзаемый вопросами, застыл под сводом из серых облаков, тесно прижавшихся друг к другу, будто для того чтобы не проронить вниз ни лучика, ни капли небесной синевы. Фабрики и магазины боролись за жизненное пространство с памятниками и коллежами, лошади брели по макадаму центральных авеню и по утоптанной глине бедняцких кварталов. Сена хмурилась и мелкими морщинами волн гнала шаланды к причалам. Марна пестрела вывесками ресторанчиков на радость рабочим и служащим. А она, Таша Херсон, шла все выше и выше, глядя сверху на это гигантское пестрое полотно, как королевы обозревают свои владения, и ее дочке надо было лишь чуть-чуть подрасти, чтобы стать принцессой.
Их обогнал щуплый мальчишка-газетчик, выкрикивая во всю глотку:
– Читайте «Аврору»! Эмиль Золя восстает против несправедливости! Новый эпизод в деле Дрейфуса!
Рауль Перо задумчиво созерцал собственные ступни. В соотношении с его ростом они были просто огромные, и возможно, именно поэтому он до сих пор оставался холостяком – женщины избегали общения с мужчиной, наделенным природой такими выдающимися конечностями, ибо расценивали их не как свидетельство мужественности, а скорее как признак некоторой душевной неуравновешенности, попросту агрессивности. Сам же Рауль Перо считал себя премилым собеседником и компаньоном, а утешения искал в верлибрах, ставших предметом его горячей страсти.
Он погладил черепаху Камиль и положил ее на подушку. Бывший комиссар полиции все еще пребывал в растерянности от резкого поворота судьбы. Уход с государственной службы принес ему облегчение, но одновременно стал источником смутного страха перед будущим. Накануне, перекладывая в ящики букинистической стойки содержимое личной библиотеки, он, к своей досаде, обнаружил, что заполнились только три. «В каждом ящике должно быть не меньше трехсот пятидесяти книг, – сказал ему коллега-букинист. – Да вы не расстраивайтесь, за пару недель наберете с миру по нитке – макулатуры какой-нибудь и приличных вещей. Опять же продать иногда можно как минимум вдвое дороже, чем купили, ну и пойдет дело помаленьку…»
Раулю Перо так хотелось поскорее покинуть выстуженную каморку, что он даже не стал тратить время на приготовление кофе, наспех оделся и дошел по набережным до Малого моста, возле которого Гедеон, младший брат полицейского Шаваньяка, держал винный погребок, затерянный среди облезлых домишек с рваными тряпками вместо занавесок на окнах. В погребке несколько непрезентабельно одетых посетителей за стаканчиком дешевого вина бурно обсуждали новости, звучали имена Золя и Дрейфуса.
– Будь жив Демосфен, он не смог бы высказаться достойнее! «Я обвиняю!..» – величайшая речь века! – твердил тощий господин в замызганном рединготе.
– Ну да, ага, патриоты так дело не оставят – вот возьмут и разнесут в пыль его халупу на улице Брюселя, а этот писака иного и не заслуживает, – отрезал нищий в рваных башмаках и продавленном цилиндре.
Рауля Перо ничуть не смутила обстановка и не заинтересовала благородная дискуссия – он пришел выторговать у Гедеона Шаваньяка стопку книжиц в картонных переплетах с иллюстрациями Тони Жоанно
[912], которые кабатчик грозился выкинуть, чтобы освободить за стойкой место для винных бочонков.
Дело сладилось – на набережную Вольтера Рауль Перо возвращался с кипой запыленных книжек под мышкой, не обращая ни малейшего внимания на нервную суету, охватившую парижские улицы после выхода «Авроры» с открытым письмом Эмиля Золя. Но своего друга Виктора Легри он все же заметил издалека – тот несся ему навстречу, а следом изо всех сил, пыхтя и отдуваясь, бежала какая-то толстуха.
– О! Перо, я уж и не надеялся вас найти! Мне срочно нужно с вами поговорить, это очень важно!
– Что стряслось, месье Легри? У вас такой вид, будто вы не меня, а Мессию встретили! Дайте хоть отдышаться…
Виктор оттащил его в сторону от букинистических стоек – подальше от любопытных глаз и ушей Люка Лефлоика и Северины Бомон. Эфросинье он велел занять букинистку беседой, и та нехотя послушалась.
– Месье Перо, мне необходима ваша помощь. – Виктор вкратце пересказал все, что узнал от Эфросиньи.
– Вы уверены, что эта женщина ничего не выдумала? – нахмурился бывший комиссар.
– Мадам Пиньо известная паникерша и могла навоображать себе всякие ужасы – она боится, что ее заподозрят в убийстве. Но в том, что ее подруга мертва или без сознания, я не сомневаюсь. Возможно, сердечный приступ.
– В любом случае необходимо обратиться в комиссариат округа.
– Прежде чем поднять тревогу, я бы предпочел вместе с вами выяснить, что же все-таки произошло.
– Ну хорошо, хорошо, я как-никак перед вами в долгу. – Перо посмотрел на карманные часы. – Мне нужно разобрать книги и заскочить к себе ненадолго. Встретимся через час на улице Пьера Леско, у дома той женщины, договорились?
– Отлично! Хотя меня не слишком вдохновляет мысль ввязаться в очередную запутанную историю, – вздохнул Виктор, в чьей душе боролись два чувства: предвкушение нового расследования и тревога.
Он отвел в сторонку Эфросинью и назвал ей место и время встречи.
– Надеюсь, вы проявите пунктуальность, мадам Пиньо. Ох, если бы вы не были мне родственницей… – Виктор покачал головой и, резко развернувшись, зашагал прочь.
– Пора кормить воробьев, – сообщила Северина Бомон. – Зимой пташки голодают, некоторые прямо из рук у меня крошки выхватывают. Ах, до чего же природа щедра на чудеса! Вот этот, с черной грудкой и хромой лапкой, ко мне уже три года наведывается, ничего не боится. А вон тот, с белым ожерельицем, такой пугливый, я для него крошки кладу у фонарного столба, ближе он не подлетает. Ну-ка, детвора, обед готов!
Проходивший мимо бедняк наклонился, подобрал с земли горсть крошек и сунул в карман. Букинистка сделала вид, что не заметила, но для Эфросиньи пояснила:
– Этот бедолага вечно голодный ходит. Он морит тараканов в закусочных Дюваля, а платят ему за это в каждой всего десять франков в год. По счастью, их в Париже полно – и закусочных, и тараканов. – Тут она вцепилась Эфросинье в рукав и, указав на красивого мужчину с миндалевидными глазами, шепнула: – Глядите, глядите! – И крикнула: – День добрый, месье Ла Гандара! Это знаменитый художник, – снова зашептала мадам Бомон, – его зовут Антонио, он написал портреты Лианы де Пуже
[913] и Сары Бернар. По-моему, он ко мне неровно дышит…
Эфросинья высвободила свой рукав из пальцев букинистки.
– Извиняюсь, но мне пора, внуки ждут…
При одной мысли о том, что придется снова войти в дом Филомены, ее трясло от страха. «Иисус-Мария-Иосиф, только бы мне ее найти, книжку моего сыночка», – мысленно твердила она, прошмыгнув мимо Рауля Перо, который замер в экстазе над экземпляром «Сказок» Лафонтена издания 1685 года с иллюстрациями Ромейна де Хооге
[914], выставленным Люка Лефлоиком.
– Потрясающе, правда? Но в продажу, знаете ли, нужно пускать все, даже неходовой товар по три с половиной франка, если есть возможность, сбывать по десять су. Бывают дни, когда спасибо скажешь за то, что у тебя какой-нибудь мусор по дешевке купят. Вонючка опять баклуши бьет, пьянчуга. У него каждый день нос багровеет час от часу. И горячительные напитки – не единственная его слабость. Стоит какой-нибудь уличной девке замаячить на горизонте, он бросает свои ящики на мое попечение и пропадает часа на два, потом возвращается и как ни в чем не бывало допекает меня расспросами о погоде на неделю!
Рауль Перо, рассеянно слушавший коллегу, внезапно положил конец беседе – начал деловито закрывать стойку и запирать висячие замки под озадаченным взглядом Люка.
– Что это вы, месье Перо, уходите, не начав торговлю?
– У меня срочная встреча, а перед этим еще домой надо наведаться. До завтра!
– Мне будет совсем одиноко. Фюльбер закупается макулатурой на блошином рынке в Сент-Уане, он сегодня тут не появится. Вонючка уже небось в кабаке заседает, а…
Но Рауль Перо уже семимильными шагами удалялся по набережной Вольтера.
Люка почесал в затылке и взял из ящика моток красной бечевки, купленный у Амадея, который снабжал букинистов канцелярской мелочевкой.
– Ну вот, теперь великий специалист по охоте наконец-то перестанет мусолить мои книжки, – проворчал он, поглаживая бороду.
Жорж Муазан действительно был печально знаменит своей страстью листать издания, выставленные на прилавках коллег, при этом никому не позволял открывать собственные – каждый том он перевязывал красной бечевкой с этикеткой, на которой указывал название, год выпуска и цену.
Амадей, возвращаясь с очередной партии в покер, разыгранной на улице Тиктонн, свернул на улицу Пьера Леско и замедлил шаг, приметив знакомую фигуру: возле кондитерской лавки стоял стройный мужчина и будто поджидал кого-то. Амадей уже видел его где-то, и не раз… Память поартачилась, но в конце концов выдала сведения – ну конечно, книготорговец, владелец книжной лавки на улице Сен-Пер. Внезапно вспомнилась толстуха, толкнувшая его на улице сегодня утром. Он видел ее с консьержкой из богатенького дома 18-бис, примыкающего к «Эльзевиру». Консьержку зовут мадам Баллю, ее кузен Альфонс любит перекинуться в крапетт
[915], пока родственница надраивает лестницы. Амадей досадливо засопел – затянувшиеся на три часа любовные утехи на улице Шануанес в гнездышке Аделины Питель, дамы вулканического темперамента, и последовавшая затем партия в покер на улице Тиктонн нарушили его распорядок дня. Да он еще, вместо того чтобы помчаться со всех ног за омнибусом, который должен был доставить его на улицу Ирландэ к Ангеле Фруэн, замешкался тут, неподалеку от дома буланжистки.
По тротуару в ряд шагали патриотически настроенные подмастерья булочников, фальшиво распевая куплеты, наспех сочиненные в ответ на открытое письмо Эмиля Золя в «Авроре»:
Папаша Золя день прожил не зря:
Накропал президенту послание.
Но вместо денег получит бездельник
Пару пинков в назидание!
Виктор сжал кулаки: «Спокойствие. Нужно подумать о чем-нибудь приятном». Неожиданно перед его мысленным взором возник Кэндзи – безупречно одетый, в руке трость с нефритовым набалдашником, под локоть его держит Джина в выходном платье. Кэндзи, довольный переговорами о покупке части библиотеки Джорджа Скью – редких изданий в переплетах XVII и XVIII веков, выставленных на продажу в доме номер 13 по Веллингтон-стрит в Лондоне. Интересно, где они с Джиной сегодня ужинают? В «Критерионе» на Пиккадилли? Или в «Хорсшу» возле Британского музея? А может быть, заказали столик в «Адельфи» на Стренде? И что скажут, когда завтра на Северном вокзале увидят первые полосы французских газет?..
Размышления Виктора были прерваны чьим-то прикосновением – он даже подпрыгнул от неожиданности.
– Не пугайтесь, мсье Легри, это всего лишь я, Эфросинья. Уф, поспела вовремя, а вот и мсье Перо. Ох, хоть бы поскорее этот кошмар закончился! Надеюсь, все обойдется.
– Это будет зависеть от вас, – сухо сказал Виктор.
Небо стремительно серело, тучи повисли на нем, будто застиранные мешки; собирался снегопад.
У входа в особнячок Филомены Лакарель Рауль Перо зажег три свечи, две из них отдал своим спутникам и осторожно толкнул дверную створку. Погребальная процессия ступила во мрак, огоньки покачивались, тускло освещая коридор, ведущий к кухне. Там Рауль зажег керосинку, и стало заметно светлее.
– Наденьте эти войлочные тапочки, чтобы не оставлять следов, – попросил он. – Мадам Пиньо, откройте шторы.
Эфросинья вдруг поскользнулась и чуть не упала. Наклонившись, она потрогала пол, поднесла к лицу палец, испачканный в чем-то маслянистом, понюхала его и констатировала:
– Каперсы. Осторожно, тут повсюду битое стекло!
Рауль Перо присел на корточки возле распростертого на полу тела.
– Это она?
– Да-да, бедняжка Филомена. Видите, месье Легри, мертвая она, мертвая. Кто ж мог учинить такое злодейство? Ох, ужас преужасный…
У Виктора взмокли ладони. Остекленевшие глаза женщины, лежавшей у его ног, смотрели прямо ему в лицо.
– Тело холодное и окоченевшее, она уже давно мертва, – сказал Рауль Перо.
Виктор молчал – вид трупа его ошеломил; эмоции накрыли ледяной волной, отчего перехватило дыхание.
– Терпеть этого не могу, – пробормотал он со странным, отутствующим выражением, какое бывает у только что разбуженного человека. – Мадам Пиньо, советую вам немедленно приступить к поискам «Трактата о конфитюрах».
– Уже ищу! Чем быстрее я смогу убраться отсюда, тем лучше… Ох, пресвятые святые, вот же он, под столом! Спасибо, Боженька, подсобил! – Толстуха на четвереньках полезла под стол и вынырнула оттуда с книжкой в переплете, оклеенном марморированной бумагой. – Ай-яй, радикулит! – простонала она, одной рукой хватаясь за поясницу, другой протягивая добычу Виктору. Тот взял томик, внимательно осмотрел его и показал Раулю Перо:
– Видите, вот тут остался след, как будто ее обвязывали бечевкой. Мадам Пиньо, это вы сделали? – Теперь Виктор говорил нормальным голосом – он наконец-то совладал с эмоциями.
– Нет, что вы!
– Мадам Пиньо, не могли бы вы теперь оставить нас вдвоем? – проговорил Рауль Перо.
– Погодите-ка, в спальне какой-то шум… Если это то, о чем я подумала… Пойду-ка гляну. – Эфросинья вернулась через пару минут с клеткой, в которой с жердочки на жердочку прыгали два попугая. – Это Титина и Фифи, я их заберу с собой. Не скажу, чтобы мне это доставило удовольствие – шуму от них, от этих пташек, немерено, но что поделаешь, если их оставить, умрут от голода.
– Поставьте клетку туда, где взяли, мадам Пиньо, – строго сказал Рауль Перо. – На месте преступления ничего нельзя трогать. А о попугаях позаботится полиция, когда здесь все осмотрят и увезут тело в морг.
Эфросинья повиновалась с явной неохотой. Затем она осторожно выглянула из особнячка, удостоверилась, что во дворе ее не поджидает убийца, сделала несколько неуверенных шагов – и вернулась на кухню.
– Сейчас, сейчас уйду, только оставлю ваши тапочки, а то в них ужасно скользко. И еще вот возьмите вашу свечку.
Наконец она распрощалась и исчезла под хмурым небом, с которого уже сыпались пушистые хлопья снега. Положить на место книжицу в красно-голубом переплете под мрамор, ту самую, что Филомена перепутала с «Трактатом о конфитюрах», она забыла.
– Пахнет мастикой и карамелью, – заметил Рауль Перо. – Почти как в доме моей бабушки, только вони кошачьей мочи недостает.
Проводив Эфросинью, они с Виктором вернулись на кухню, где керосиновая лампа отбрасывала причудливые дьявольские тени на стены, украшенные гравированными портретами генерала Буланже. На буфете, покрытом скатеркой с вышитыми цветами, выстроились ряды безделушек. Рауль Перо принялся их разглядывать.
– Похоже, ничего не тронули, – констатировал Виктор. – Эйфелева башня, Парфенон, египетская пирамида из целлулоида, венецианская гондола и Колизей из гипса, Вестминстерский собор… нет, очевидно, что эти сокровища не соблазнили преступника. И толпа сих достойных граждан тоже. Занятная коллекция! Наполеон, Беранже, Гюго, Тьер
[916]… Фигурки стоят очень плотно, ничего отсюда не взяли.
– Женщину убили несколькими ударами по голове – на затылке рваные раны.
– Перо, смотрите, тома на этажерке стоят под наклоном – вероятно, потому, что не хватает держателя для книг, их обычно делают парными, а здесь только один.
Внимание Виктора привлекла бронзовая статуэтка. Конь и всадник в опереточном костюме: сапоги со шпорами, лосины, мундир, подпоясанный широким шарфом, и треуголка с пером. Вместе с конем и подставкой высота статуэтки составляла сантиметров тридцать, и она была довольно увесистой.
– Затылочная кость проломлена, края ран составляют прямой угол, то есть удары нанесены тяжелым прямоугольным предметом, – пробормотал Рауль Перо, вернувшийся к осмотру трупа.
– А это не может быть орудием преступления? – спросил Виктор, показывая ему конную статуэтку. – Или убийца воспользовался чем-то похожим…
– Генерал Буланже? Что ж, весьма вероятно… Забавное увлечение – собирать фигурки и портреты исторических личностей. Убиенная гражданка Лакарель, судя по всему, следовала велению моды – в ее коллекции представлены пять из шести персон, которым отдают предпочтение нынешние игрушечных дел мастера, изготовители чернильниц, шкатулок, табакерок, портсигаров и статуэток.
– А кто шестой?
– Орленок
[917]… Да, голову ей вполне могли проломить чем-то похожим – на этом Буланже следов крови не видно… Поставьте его на место, прошу вас. И имейте в виду, что это чистой воды предположение, поскольку ничто не доказывает наличия у покойницы двух таких статуэток.
– Погодите, а что это там валяется рядом с перевернутой табуреткой?
– Обрывок красной бечевки. Не прикасайтесь, это улика. – Рауль Перо понюхал медный котел. – Сладкий запах, она варила фруктовый конфитюр, но так и не успела его попробовать… Странно, что не видно ни одного наполненного горшочка или банки. Где же содержимое котла? Не для того же эту женщину убили, в конце концов, чтобы украсть свежее варенье? А чего еще может не хватать на этой кухне?
– Одной книги на этажерке или одного держателя для книг. В сундуке груда бумаги, в основном гравюры и страницы, вырванные из старых изданий.
– Полиции придется потрудиться. Давайте заглянем на второй этаж.
Комнаты на втором этаже можно было уподобить пещере Али-Бабы: там громоздились горы книг, картин и шкатулок с безделушками.
– Не будем входить, с порога все видно. Старость, посвятившая себя старью, – констатировал Рауль Перо. – Наш убийца всего лишь прошелся по коридору, вот следы. Башмаки или галоши. Вероятно, его больше заинтересовал первый этаж.
Виктор мысленно измерил длину ступни, отпечатавшейся в пыли, и сравнил с собственной. Размер почти тот же – сороковой или сорок первый.
– Может, это следы Лакарель?
– Не исключено. Идемте.
Они быстро осмотрели туалетную комнату, уборную и кладовку, где хранились причиндалы для уборки. Спальне на первом этаже было уделено больше внимания. Одно стекло в окне, выходящем во двор, оказалось разбитым.
– Теперь мы знаем, каким образом убийца открыл раму – просунул руку в дыру и поднял шпингалет. Что ж, пора уходить, пока соседи нас не заметили. – Перо погасил керосинку. – Свечу больше не зажигайте, месье Легри, – капли воска собьют следователей с толку.
В прихожей оба сбросили войлочные тапочки; Виктор при этом ухитрился незаметно для бывшего комиссара снять с подошвы прилипший на кухне обрывок красной бечевки и сунуть его в карман.
– Что вы собираетесь делать дальше, месье Перо?
– Сообщу об убийстве в полицейский участок на улице Прувер. Скажу, что шел на Центральный рынок за салатом для черепахи и случайно увидел бродягу, ошивавшегося возле частного особняка, прогнал его и решил проверить – дверь была незаперта.
– А «Трактат о конфитюрах»?
– Слышать о таком не слышал. Однако учтите: я играю с огнем. Если расследование поручат Вальми, он рано или поздно разнюхает, что мы с вами знакомы. Боюсь, участие в этом сомнительном предприятии может выйти мне боком – не дай бог отберут лицензию на букинистическую торговлю…
– Не беспокойтесь. Если Вальми что-то заподозрит, скажите ему, что это я просил вас не упоминать о моем присутствии на месте преступления. Вальми, конечно, меня не жалует, но в убийстве едва ли заподозрит. И к тому же у него передо мной должок – я здорово помог ему в двух расследованиях. – Говоря это, Виктор напустил на себя лихой, самоуверенный вид, однако при мысли о том, что придется снова встретиться с инспектором Огюстеном Вальми, у него по спине пробежал холодок.
– Грядут морозы, – вздохнул Рауль Перо на прощание.
Амадей снял сапоги и каррик. Ангела Фруэн вконец его вымотала, а ее угощение – рагу из обрезков и пикет
[918] – камнем застряло в желудке. Он налил Грипмино молока, облачился в домашний халат и надел тапочки. Затем устроился поудобнее на канапе, обложившись подушками, и быстро перечитал страницу дневника Луи Пелетье, вырванную из манускрипта в квартире букиниста Ларше.
Набережная Вольтера превратилась в галерею гравюр, в музей переплетов, в библиотеку дворянских семей, подвергавшихся гонениям. Я напал на след. Надобно найти Средину Мира…
«Амадей, возьми себя в руки, ты же всегда отличался острым умом и здравомыслием. Тебя уподобляли Кассандре, предрекающей разрушение Трои, тебе не верили, но всегда все оказывалось по-твоему – происходило худшее. А нынче изменилась ли человеческая природа? Пройдет еще пара лет в относительном спокойствии, потом же кто-нибудь, жаждущий власти и денег, снова сметет все на своем пути к цели, будут убийства, массовые бойни, грабежи, толпы беженцев и изгнанников… Если тайну раскроет злодей… Ну-ка, сосредоточься…
Средина Мира …
Средина Мира …»
И вдруг во тьме мелькнула искорка – слабая, едва уловимая, будто вдали пропорхнул светлячок. В голове – нет, в сердце – Амадея заиграла музыка, выученная наизусть, музыка, ни одной ноты которой не смогли стереть из его памяти даже два года заточения в каменном мешке без книг, без писем, без пера и бумаги. Тогда, в тюрьме, он декламировал – тоже наизусть – поэмы Ронсара, отрывки из «Опытов» Монтеня и прозу, жившую в его воспоминаниях. Все, что он знал
наизусть – лишь то, что он знал
наизусть , – связывало его с миром и свободой.
Сейчас в памяти всплыли строки:
Поиски Средины Мира
Завершатся где-то рядом.
Там под сводом галереи
Муж стоял вооруженный,
Некогда стоял на страже…
Амадей понял, что ухватил наконец путеводную нить. Теперь надо было основательно все обдумать.
– Сможет ли расшифровать текст тот, кто им завладеет? Даже если кому-то это удастся, толку ему от того не будет, он лишь навлечет на себя превеликие беды, милый мой Грипмино. Уж я-то знаю, о чем говорю, и, черт возьми, готов на все и даже на большее, чтобы источник исчез навеки. Двух жертв достаточно. Одиночество невыносимо – ни друзей, ни семьи… Ах, семья, дружище Грипмино, семья – это самое восхитительное изобретение человечества. Какая удача, что потомки Луи Пелетье не разорили и не уничтожили сокровища, накопленные их предком, прежде всего этот дневник, который на меня с неба свалился! Несомненно, под именем Провидение во благо тех, кто посвящает себя поискам драгоценных документов, действует сообщество смертных, по доброй или злой случайности привязанных к одному генеалогическому древу. Семья, Грипмино! Да здравствует семья!
В небольшом эльзасском городке Гебвиллере проживало некогда семейство Шварцев. Это было весьма добродетельное семейство, которое усердно увеличивало число эльзасцев и распространяло их по белу свету <…> рассылая малышей и в Париж, и в провинцию, и за границу. <…> И держу пари, что в Европе не найдется ни одного городишка с двумя тысячами душ населения, где бы не было по меньшей мере одного Шварца[919]!
Пока Амадей размышлял над записками Луи Пелетье, Виктор Легри рассеянно читал «Черные мантии». Когда он вернулся домой, все спали: Алиса на спине, закинув два сжатых кулачка на подушку в расшитой наволочке; Кошка – свернувшись клубком и прижавшись к ножке девочки; Таша – беспокойно, ворочаясь и постанывая во сне. Виктор заметил на тумбочке выпуск «Авроры». Стало быть, жена в курсе событий. Он почувствовал себя виноватым, ведь сегодня снова сбежал из дома под выдуманным предлогом, бросив ее одну. «Нет, это всё из-за Эфросиньи!»
Виктор отложил книгу и посмотрел на своих любимых девочек. Какое счастье чувствовать себя живым от того, что жизнь наполнена смыслом! Он взял книгу и тихо вышел из спальни, прикрыв за собой дверь. В фотолаборатории было тепло – Таша позаботилась растопить печку. Виктор устроился в кресле с потертой обивкой, снял обувь, водрузил ноги на стул и продолжил чтение
…не найдется ни одного городишка с двумя тысячами душ населения, где бы не было по меньшей мере одного Шварца!
В 1825 году в Кане жили два представителя этой славной фамилии: некий комиссар полиции, добропорядочный ловкач…
Он захлопнул книгу – никак не удавалось сосредоточиться. Два события сегодняшнего дня не давали ему покоя. Вспышка ненависти мадам де Салиньяк потрясла Виктора до глубины души. Может, стоило ответить ей тем же? Он вдруг подумал о дочери. Таша еврейка – значит, и Алиса тоже… «Нельзя сдаваться! Пусть графиня плетет интриги – у нас демократия, я буду защищаться, и Кэндзи меня поддержит!»
Но еще больше взволновал его визит в дом покойной Филомены Лакарель. Женщину убили, когда она чистила котел для варки варенья… Хорошо хоть чудом удалось спасти «Трактат о конфитюрах»… «Надо бы попросить Эфросинью показать мне вторую книжку в таком же переплете, которую она получила по ошибке».
Виктор вскочил и принялся мерить шагами помещение.
– Разбитое окно… – бормотал он себе под нос. – Пропавшие горшочки с конфитюром и один держатель для книг. Обрывок красной бечевки… – Он замер. – Бечевка! Кто-то совсем недавно говорил мне о бечевке в связи с каким-то убийством… Жозеф!
Конечно, Жозеф с его манией собирать газетные заметки на всякие леденящие душу темы. «Убит надомный книготорговец, – сказал он. – Его примотали бечевкой к стулу и истыкали ножом. Вы с ним, случайно, не были знакомы?»
Разрозненные факты подозрительно напоминали фрагменты единой мозаики, детали одного ребуса – так бывало в начале всех его прошлых расследований.
Во дворе загремели мусорные баки, вернув Виктора к реальности.
– Вздор!
Ему неожиданно вспомнилась Северина Бомон. Хорошая получится фотография! Пожилая букинистка вяжет синий шарф, и на нем уже вырисовывается какой-то узор – вроде бы морской якорь. Она стоит рядом со складным брезентовым стулом, на ней длинное пальто шоколадного цвета, темные боты. Ей лет шестьдесят. Изможденное, худое, словно вырубленное топором лицо, морщинки по уголкам светлых глаз, седые волосы выбиваются из-под шляпки с пожелтевшими кружевами. И еще у нее совсем детская улыбка. Вот что труднее всего будет передать на фотопортретах, которые он задумал сделать на набережных Сены, –
особое выражение .
Всплывший в сознании образ мертвой Филомены Лакарель, лежащей на кафельном полу собственной кухни, нарушил мысли Виктора о работе.
Задача оказалась сложнее, чем представлялось поначалу. Чтобы отделить голову от окоченевшего тела, пришлось потрудиться, и тут очень пригодился один инструмент, который чудом удалось раздобыть, – еще одна удача!
Коричневые башмаки от усердия привстали на цыпочки. Последнее усилие – и дело сделано.
Так, с этим покончено. Осталось только доставить голову и туловище куда задумано. Три дня вынужденной отсрочки, три дня в ожидании случая, три дня труп провалялся в конфитюре. Только бы удача не отвернулась и сегодняшней ночной доставке никто не помешал…
Занималась заря. На полу виднелись кровавые пятна – нужно все вычистить. Упаковать в два тюка засахаренное мясо с костями. Бесшумно покинуть с ними квартиру. Запереть дверь.
Только мышка, угрызавшая корочку швейцарского сыра на драконьем дворе, видела, как мимо прошмыгнули коричневые башмаки следом за тележкой. На тележке темнели два мешка неопределенной формы, большой и маленький.
Глава восьмая
Пятница, 14 января
Забывчивость Виктора была прискорбна, но не удивительна. Такое же небрежение со стороны Айрис, обожаемой супруги, Жозеф принял безропотно – бедняжка совсем закрутилась в заботах о детях, Артур плохо спал ночью, и глава семейства сам был слишком обеспокоен тем, как бы у малыша не начался жар, чтобы расстраиваться из-за равнодушия домашних к собственной персоне. Но с тем, что именно в этот день приступ амнезии случился у родной матушки, он смириться не мог. А крестный, человек, заменивший ему отца? У крестного тоже провал в памяти! Почти все воспоминания раннего детства у Жозефа были связаны с Фюльбером Ботье. Этот эрудит и умница привил ему любовь к книгам, объяснил, что такое тираж и выходные сведения, научил обращать внимание на издателя, год выхода из печати, качество бумаги и переплета. Затемненные очки, пышные усы и уютный круглый животик Фюльбера внушали Жозефу доверие, он знал, что это надежный друг, на которого всегда можно рассчитывать. Кто первым поддержал безутешную Эфросинью, когда умер Габен Пиньо, кто взял на себя все хлопоты о похоронах, кто оплатил погребение по третьему разряду и устроил поминки, созвав соседей-букинистов с набережной Вольтера? Фюльбер, конечно же Фюльбер. Жозеф даже подозревал, что он пытался робко ухаживать за Эфросиньей, а отказ принял с достоинством, не затаив обиды в сердце.
«И вот пожалуйста, глядите на него – совершенно меня игнорирует! – кипятился Жозеф, слоняясь по набережной Вольтера. – А Виктор занят своим распрекрасным Перо! Не в обиду обоим будет сказано, но стопка журналов, любезно и безвозмездно предоставленных лавкой „Эльзевир“, не сделает из комиссара букиниста – его ящики как были наполовину пусты, такими и остались. Минуточку, а о чем это они там шепчутся, заговорщики доморощенные?»
Виктор отвел Рауля Перо в сторонку.
– Сегодня утром я не решился вас побеспокоить – знал, что вы заняты…
– Да уж, занятие, надо сказать, было не очень приятное, и если бы не наша с вами дружба…
– Мне искренне жаль, что пришлось втянуть вас в эту историю, месье Перо. Так как прошло объяснение с полицией?
– Был допрошен с пристрастием. Хорошо еще, я сам бывший полицейский – хоть не арестовали. Флики перевернули весь дом Филомены Лакарель в поисках улик, сейчас составляют рапорт в префектуру. Пока склоняются к версии обычного грабежа, закончившегося случайным убийством, но им очень, очень не нравится факт моего вторжения в дом невинноубиенной жертвы. Я им десять раз повторил, что вошел туда только потому, что меня насторожило поведение бродяги, якобы крутившегося около особняка, – они мне не верят. А когда я упомянул, что направлялся на рынок за салатом для черепахи, меня чуть на смех не подняли.
– Месье Перо, если возникнут осложнения, можете на меня положиться – сделаю все, что смогу. Расходимся – Жозеф за нами шпионит.
Люка Лефлоик тем временем считал на небе снеговые тучи и попутно рассказывал Вонючке, какую эпохальную встречу тот вчера пропустил, не решившись явиться на рабочее место по причине непогоды.
– Сесиль Сорель
[920] собственной персоной здесь, на набережной, чтоб мне провалиться! В горностаевой накидке, в белоснежной шляпке, хороша до невозможности!
– Сесиль Сганарель? Большое дело! А не явился я вчера из-за вас, это вы мне наболтали, что если зимой дождь зарядит в восемь утра, так до вечера лить и будет, вот я вашим предсказаниям поверил и не стал вылезать из-под одеяла. А дождь возьми, да и кончись в полдень. Только в полдень у меня уже другие дела нарисовались весьма неожиданно.
– Вы решили принять ванну? – невинно осведомилась Северина Бомон.
– Мадам, что за бестактность! – возмутился Вонючка. – Поминать всуе интимные подробности мужского туалета! Фи!
– Тоже мне ханжа! – пожала плечами Северина. – Мне до ваших интимных подробностей дела нет – во время осады Парижа я и не такие ужасы видала!.. О нет, месье, это барахло меня не интересует, разве что пару франков могу вам за них дать, и то от щедрот.
– Да я их тогда лучше в Сену выброшу! – сердито фыркнул буржуа, пытавшийся продать ей два огромных мешка макулатуры.
– Сам туда выбросись, – проворчала Северина, поворачиваясь спиной к Вонючке и хватаясь за вязанье. – Ах, как же мне все надоело, скоро тут сама в водоросль речную превращусь без движения!
– Истинная правда, месье Легри, она самая – «История государства и республики друидов» Ноэля Тайпье, опубликованная в тысяча пятьсот восемьдесят пятом году. Экземпляр оставляет желать лучшего, но на нем экслибрис Оноре д’Юрфе
[921]! Обойдется в кругленькую сумму. И представьте себе, мне предложили его купить вчера, когда тут днем с огнем живой души не найти было, не набережная, а тундра! – Фюльбер Ботье в радостном возбуждении переминался с ноги на ногу возле своих еще не открытых ящиков.
– Будь здесь Тиролец, увел бы он у тебя из-под носа твоих друидов, – хмыкнул Люка Лефлоик.
– Тиролец? – не понял Виктор.
– Жорж Муазан, мы его так зовем из-за тирольской шляпы с перьями, – пояснил Фюльбер.
– Тревога! – гаркнула Северина Бомон.
Но было поздно – стойку зазевавшегося Люка Лефлоика уже атаковал низенький чиновник в поношенном рединготе. По книжкам будто ураган пронесся: человечек хватал то одну, то другую с ловкостью жонглера и швырял обратно с небрежностью старьевщика, который роется в куче хлама. Дружно захлопали крышки ящиков – Вонючка, Северина Бомон и Рауль Перо спасали свои сокровища. Открылись они, только когда человечек в рединготе исчез за входной дверью депозитной кассы у Королевского моста.
– Расслабьтесь, Жозеф, книгоубийца сегодня уже не вернется, – шепнул Виктор.
– Какое сегодня число? – сухо спросил молодой человек, и не думая расслабляться.
– Четырнадцатое января…
– Это мой день рождения! И никто меня не поздравил! Вот! – трагически возопил Жозеф. – И палец у меня еще болит!
– Черт! – схватился за голову Виктор. – Совсем забыл! Ужасно сожалею!
– Меня в этом семействе ни во что не ставят!
– Мы загладим вину, даю слово!
– Ага, поздно! Петарды намокли, серпантин порвался, праздник отменяется!
Рауль Перо, с трудом сдерживая смех, заговорщицки подмигнул Фюльберу Ботье.
«Ну здорово – они еще надо мной потешаются! – задохнулся от ярости Жозеф. – Побью обоих, если сейчас же не прекратят!» Он сжал кулаки, к горлу подкатил ком. Молодой человек сделал вид, что не заметил подошедшего к букинистам Гаэтана Ларю, облокотился на парапет и решил, что будет дуться на весь свет, пока не надоест.
– Направляетесь к будущему вокзалу Орсэ? – осведомился у обрезчика сучьев Люка Лефлоик.
– Нет, там с деревьями покончено, я иду на авеню Фридланда – надо привести в порядок каштаны, – ответил Гаэтан.
– Каштаны на авеню высокие, – заметил Виктор. – Для такой работы нужен хороший вестибулярный аппарат.
– О, тут, как в искусстве канатоходцев и воздушных гимнастов, все дело в хорошей подготовке и правильной экипировке. У меня есть пояс с кольцами, к которым крепятся страховочные тросы. С их помощью я забираюсь на дерево шустро, как мартышка, а дальше уже требуется ловкость рук в обращении с садовыми ножницами.
– Если вы ищете мадам Фруэн, она что-то запаздывает, – вмешалась Северина Бомон с озадаченным видом. – Должно быть, решила навестить своих товарок на площади Каира. Да вы вроде бы там и проживаете?
Обрезчик сучьев покраснел и поглубже нахлобучил картуз.
– Верно. Мы там и встретились, она заходила к приятельницам чесальщицам, которые работают на первом этаже моего дома.
– Избавьте меня от деталей, месье Ларю, я вовсе не любопытна, пусть некоторые и обвиняют меня в обратном. Да-да, некоторые из тех, кто печется о сохранении в тайне своих интимных подробностей, – хмыкнула мадам Бомон, покосившись на Вонючку.
Гаэтан Ларю помог Виктору разобрать вторую коробку с журналами. В процессе он наступил на развязавшийся шнурок, покачнулся и упал бы, если бы Виктор не подхватил его в последний момент.
– О черт! Они по десять раз на дню развязываются!
– Вам бы поосторожней быть со шнурками, при вашем-то ремесле, – сказала Северина Бомон.
– Не беспокойтесь, когда я пристегиваю пояс со страховочными тросами, чувствую себя надежнее, чем всадник в седле со стременами. К тому же, чтобы забраться на дерево и обкорнать верхушку, я надеваю сапоги.
– Ваша униформа похожа на одежду почтальона, месье Ларю. Не откажите мне в любезности передать это письмо вон тому угрюмому молодому человеку. Скажите ему, что… – Виктор прошептал несколько слов на ухо обрезчику сучьев, и тот, кивнув, отправился выполнять поручение.
– Месье Пиньо, это послание было доставлено для вас в книжную лавку, но ваш партнер засунул его в карман, где оно на некоторое время стало пленником носового платка, и запамятовал, а теперь, когда у него появилась необходимость воспользоваться означенным носовым платком, вспомнил и просил меня вручить вам конверт.
– Память у него как решето, – буркнул Жозеф. – Давайте.
Он разорвал конверт и прочел записку:
Уважаемый месье Пиньо,
сообщество увлеченных читателей приглашает вас на торжественный ужин 14 января в 20 часов у Леонарда Липпманна в доме № 151 на бульваре Сен-Жермен по случаю вашего дня рождения.
Весьма рассчитываем на ваше присутствие.
Позвольте выразить восхищение вашим выдающимся талантом романиста-фельетониста.
Фантастическая академия
– Когда вы это получили? – выпалил Жозеф, подскочив к шурину.
Виктор с умным видом изучил письмо и притворился, что пытается вспомнить.
– Вчера утром, если не ошибаюсь, среди прочей корреспонденции, перед тем как пошел к вашей матушке разобраться с утечкой газа.
– Фантастическая академия! Откуда эти чудаки узнали о моем дне рождения? Если это розыгрыш…
– Вероятно, они навели справки. Думаю, глава сего достойного учреждения не замедлит вам это подтвердить.
– Но я не могу сегодня! Айрис, дети, матушка… И потом, кто он вообще такой, этот Леонард Липпманн?
– Владелец пивного ресторана «На берегах Рейна», в двух шагах от улицы Ренн. Полно вам, Жозеф, вы свободный человек или нет? Уверен, никто не посмеет упрекнуть вас в том, что собственный день
рождения вы проведете по своему усмотрению.
Букинисты с примкнувшим к ним обрезчиком сучьев бросились наперебой поздравлять счастливого избранника и пожимать ему руку.
– Ну и дела! – восхитилась Северина Бомон. – Глядишь, вас так скоро и во Французскую академию примут. С днем рождения, месье Пиньо!
– Наилучшие пожелания! – хором подхватили остальные.
Фюльбер Ботье так рьяно тряс Жозефу руку от избытка чувств, что чуть не оторвал ее.
– Милый мой мальчик, мне так не хотелось, чтобы ты повзрослел на год раньше времени, поэтому я все откладывал поздравление, поджидая подходящего момента! Ах, годы тают, как мороженое! Когда ты родился, твой отец был горд и счастлив, хвастался тобой напропалую! Это он упросил меня стать твоим крестным. А какой из меня крестный? Я и сам-то нехристь, но согласился в конце концов, ведь от меня только и требовалось, что распить вместе с ним пинту кислого винца и от всей души порадоваться, что у моего друга появился сынишка. Ох, что-то совсем я разволновался, пойду книжки раскладывать.
– А я в лавку, – проворчал Жозеф. – Моему шурину, похоже, до нее дела нет.
Он помахал у Виктора перед носом письмом и зашагал прочь по набережной.
– Ну а я выпью стаканчик сока во «Фрегате», – сказала Северина Бомон. – Месье Лефлоик, будьте любезны присмотреть за моей стойкой.
Фюльбер Ботье сделал глубокий вдох и поднял крышку первого ящика с книгами. Уже больше года его беспокоила боль в суставах, все время ныла спина – предвестие неумолимо подступающей старости. Он снова вздохнул – тоже недобрый знак, эти постоянные вздохи. Смахнул с книг пыль, отложил тряпку и помассировал поясницу, поглядывая на прохожих. Мимо соседних прилавков шла Ангела Фруэн, толкая перед собой раму на колесиках с предметами и орудиями своего ремесла. В кулаке у нее были зажаты три хвостика красной бечевки, а над головой качались надутые гелием три воздушных шара, на каждом красовались красные буквы «Дюфайель».
– Неужто вы участвуете в рекламе мебельных магазинов? – удивился Фюльбер.
– Я эту прелесть раздобыла у одной приятельницы для своих ребятишек – они ужасно обрадуются такому подарку. Простите, что не могу помочь вам с книжками, месье Ботье, но если выпущу бечевки – шарики улетят, и не поймаешь… О, вы здесь, месье Ларю? А я-то уж думала, вы от меня прячетесь. Я всё за вами бегаю, хочу вручить задаток за стекло, которое вы обещали мне поставить. Вы ведь даже не сказали, во что мне это обойдется!
Пунцовый от смущения Гаэтан Ларю медленно отступал к парапету с целью затаиться за гранитным выступом. Женщины всегда привлекали и одновременно пугали его, он сам себе не мог объяснить почему. Ангела Фруэн вызывала в нем нежнейшие чувства – он восхищался ее пышными формами и легким нравом, – однако стоило ей приблизиться ближе чем на метр, им овладевала паника, хотелось сбежать подальше, и чаще всего он так и делал.
– Что вы, я ни гроша не возьму, это же просто дружеская услуга. Позвольте откланяться – меня работа ждет.
– Вот так – «дружеская услуга», – покачала головой Ангела, глядя вслед улепетывающему обрезчику сучьев. – Я бы предпочла превратить дружеские отношения в нечто большее, но порой чувствую себя каким-то страшилищем: не успею и слова сказать, он уже удирает от меня сломя голову! То сам мне глазки строит, то шарахается, как от зачумленной. Это ж не поклонник, а горе луковое!
– Просто он очень застенчивый. Вы не переживайте – как только наберется смелости, непременно сделает вам предложение, – успокоил чесальщицу Фюльбер Ботье.
– Да уж, поскорей бы он этой смелости набрался, а то у меня в ожидании волосы поседеют, зубы выпадут и усы отрастут. Я спущусь на берег. Если он вернется, скажите, что я на рабочем месте.
Фюльбер Ботье почесал в затылке. Он шестнадцать лет был женат на диктаторше, которая регулярно опустошала его бумажник и настрого запрещала встречаться с друзьями за стаканчиком вина. На месте обрезчика сучьев Фюльбер бы возвращаться не стал.
Виктор между тем закончил раскладывать журналы на прилавке Рауля Перо.
– Надеюсь, вашему зятю не придет в голову наведаться в ресторан раньше времени, а то плакал наш сюрприз, – сказал бывший комиссар.
– Ничего, никто из персонала нас не выдаст – я всем оставил щедрые чаевые.
И в этот момент раздался крик.
Фюльбер Ботье стоял столбом и вытаращенными глазами смотрел на свой четвертый ящик. За минуту до этого он обнаружил, что на ящике нет замка, и здорово удивился – за все время торговли на набережной его еще ни разу не грабили. Он осторожно поднял крышку, опасаясь худшего. Но увиденное превзошло все мыслимые опасения. Книг в ящике не было. Зато там был полуголый труп мужчины без головы.
Фюльбер попятился. От ужаса сдавило горло. Наконец он сумел выдавить:
– Та… там… т-т-т… Караул!
Сбежались соседи-букинисты. Люка Лефлоик издал булькающий звук. Вонючка прижал ладонь ко рту. Рауль Перо гулко сглотнул. Завороженный рубиново-красной раной на голой груди безголового трупа, Виктор выпал из реальности: ему почудилось, что он тонет в озере с багровыми водами. Понадобилось какое-то время, чтобы осознать то, что он увидел. В ушах шумело, мозг отстраненно фиксировал картину происходящего, рассудок отказывался воспринимать то, что хватал взгляд.
В голове остолбеневшего Люка Лефлоика монотонно бились слова: «О боже мой, боже мой, боже, боже…»
Тишину нарушил Рауль Перо:
– Весьма любопытно. Труп в одних кальсонах, босой. Убийство совершено как минимум двое суток назад – он выглядит так, как будто потерял всю кровь… От него странно пахнет, вы не находите?
Этого Вонючка уже не вынес – его вырвало.
– Почему он здесь… в моем ящике? – пролепетал Фюльбер Ботье. – И еще у меня… у меня украли книги! Здесь было полное собрание сочинений Боссюэ
[922], детские книжки в красных и синих картонных переплетах с золотым тиснением, псалтыри и требники, античная литература, немецкая классика и даже несколько томов Жоржа Онэ
[923] – издания на все вкусы… Почему, ну почему?!..
– Вы не знаете, кто… кто это может быть? – проговорил Виктор.
– Нет, с первого взгляда не могу сказать… и со второго… он в таком состоянии… Если б у него хотя бы голова была! Пропал мой ящик, можно выбрасывать – тут… грязь такая, мерзость… и вы правы – от него пахнет вареньем… Ох беда, тридцать лет на набережной, и надо же – именно мне подбросили этот подарочек!
– Не выбрасывайте ничего пока и не трогайте труп, – посоветовал Рауль Перо.
– И кто мне за это заплатит? – убивался Фюльбер Ботье.
– Закройте крышку и оставайтесь в пределах досягаемости, в кафе, например. Это касается всех – полиция захочет вас опросить.
– И меня? – шепнул Виктор.
– Нет, вам лучше держаться отсюда подальше, – так же тихо ответил Рауль Перо. – Желательно, чтобы полицейские добрались до вас как можно позже. Я, конечно, предупрежу букинистов, но приготовьтесь к тому, что кто-нибудь из них непременно проболтается в ближайшие дни о вашем присутствии на набережной. Однако сегодня надо соблюсти конспирацию – если Вальми вас тут застанет, он будет вне себя от ярости, и тогда пропал наш сегодняшний праздничный вечер. Я пока шепну на эту тему пару слов крестному Жозефа, но имейте в виду: с завтрашнего дня я ни за что не отвечаю, – раздосадованно закончил бывший комиссар. – Фюльбер, будьте любезны, заприте мою стойку, мне надо наведаться в префектуру полиции. Какое-то проклятие – старое ремесло не желает меня отпускать, – проворчал он, направляясь к набережной Орфевр.
Промаявшись все утро в одиночестве в лавке «Эльзевир», Жозеф решил пообедать дома, на улице Сены. Артур, к счастью, не разболелся – сейчас он бодро ползал по ковру и пускал пузыри, мусоля лапу плюшевого зайца. Дафнэ гоняла по квартире мячик. Айрис в стареньком розовом пеньюаре бросилась мужу на шею, расцеловала его и нахлобучила ему на голову новый котелок, торжественно поздравив с днем рождения.
– Ты вспомнила!.. – выдохнул Жозеф, зардевшись от радости и стыда.
– Я и не забывала! Просто утром я ужасно переживала из-за Артура, а твоя матушка умоляла меня подождать с поздравлением до вечера, потому что она как раз сейчас побежала покупать тебе подарки. Я не думала, что ты вернешься в полдень, увидела тебя – и не удержалась!
– Любимая, если бы ты знала, как я счастлив!
Жозеф полюбовался на себя в зеркало и нашел, что в новом котелке выглядит неотразимо.
– Милая, ты очень обидишься, если сегодня вечером я приду попозже? Часам к десяти? У меня встреча с другом детства.
– Я его знаю?
– Нет, его зовут Марсель Бишонье, он держит фабрику конфетти на улице Шалиньи, между больницей Святого Антония и казармами Рейи. Мальчишками мы вместе продавали газеты… Где мой выходной костюм?
– Собираешься явиться на фабрику конфетти при полном параде? – усмехнулась Айрис.
– Э-э… просто я… я хочу произвести на друга хорошее впечатление – он считает меня преуспевающим писателем и… Но если ты против, я могу отправить ему записку и перенести встречу.
– Шерлок Пиньо, имей в виду: я ничуть не обижусь, если сегодня ты явишься домой поздно, но ни за что не прощу, если ты будешь водить меня за нос, – пообещала Айрис, пряча улыбку. – Надевай свой костюм. После обеда ты обратно в лавку? Постарайся там не испачкаться.
Они поели без особого аппетита – рагу из морковки и пикша под белым соусом, наскоро приготовленные Эфросиньей, никого не вдохновили. Потом Жозеф надел подаренный головной убор и, страшно гордый своим внешним обликом, ускакал по лестнице.
Для детей настал тихий час. Дафнэ попыталась выразить возмущение – говорила она уже как взрослая, но звук «р» ей еще не давался:
– Я не хочу спать! Это несп’аведливо! Папа будет ловить ’азбойников, а мне что же – в к’оватку? Я пожалуюсь бабе Фосинье и дяде Тото!
Но через две минуты девочка уже мирно спала, посапывая на пару с братом. Айрис села за обеденный стол, починила карандаш и принялась сочинять начало новой сказки:
В день, когда статуи решили слезть с постаментов, Париж дрожал от холода – стояла ранняя, но уже суровая зима. Статуи, не сговариваясь, потянулись, потерли глаза кулаками, хорошенько огляделись – и то, что они увидели, им не очень-то понравилось. Вокруг качались и плясали темные тени, вдаль уходили бесконечные дороги, и на каждой их поджидали неведомые опасности…
Жозеф широко шагал по бульвару Сен-Жермен, погруженный в раздумья. Что происходит с Виктором? Примчался сегодня в полдень – бледный, притихший. Воспользовался появлением клиента, желавшего приобрести «Дон Кихота» с гравюрами Койпеля и Мольера с иллюстрациями Буше, сделал вид, что чрезвычайно занят, и ловко избежал расспросов. Может, он казнит себя за забывчивость и ему стыдно глядеть в глаза зятю, чей день рождения он прошляпил? Или до сих пор переживает из-за скандала с мадам де Салиньяк?..
«Он даже не отреагировал, когда я сказал, что ухожу из лавки и сегодня уже не вернусь… И в конце концов, мог бы обратить внимание, какой я красавчик в обновке! А, да и наплевать…»
Жозефу предстояло сегодня вечером стать почетным гостем на ужине, организованном членами Фантастической академии в его честь, и радостное предвкушение этого события развеяло горькие мысли. Гарсон из пивного ресторана «На берегах Рейна» подтвердил ему: столик заказан на весь вечер учеными дамами и господами.
«Им нравятся мои романы-фельетоны – это чертовски приятно!.. Н-да, а чем же мне занять себя до восьми вечера? Может, и правда наведаться к Бишонье? Мы же сто лет не виделись… Точно, отличная идея, и не так стыдно будет от того, что соврал Айрис!»
Ориентироваться в городе становилось все сложнее, приходилось создавать для себя новые приметы. Топография Парижа так изменилась! Исчез голубой круг фонтана Самаританка. Закрылось заведение «Игры добродетелей», где завсегдатаи сражались в шашки, в карты и праздновали победы, поднимая бокалы с худой выпивкой и декламируя отрывки из «Дона Жуана»: «Ничто в мире не сравнится с табаком: табак – это страсть всех порядочных людей, а кто живет без табака, тот, право, жить не достоин»
[924]. Лишь река была ему привычна – старая подруга, которую всегда приятно встретить. Проходя мимо статуи Генриха IV, Амадей засмотрелся на Новый мост, и на мгновение ему почудилось, что в золотистой дымке памяти на парапетах проступают стопки разложенных для продажи книг. В голове зазвучала старая песенка:
Во власти дождя и града,
Покорный порывам ветра,
Стою над водой у ограды,
На месте зимой и летом.
Продаю картинки и книжки —
Про любовь, и прочие сказки.
На мосту дни проходят быстро
[925]…
Видение испарилось под грохот и скрежет омнибуса, запряженного тройкой лошадей. Амадей миновал улицу Дофины, прошел мимо Института Франции, Школы изящных искусств и свернул на улицу Сен-Пер. Ему нравилась здешняя атмосфера – уютная, почти деревенская. Справа и слева тянулись фасады, отмеченные патиной времени. Наконец на глаза попалась вывеска: «Эльзевир»
КНИЖНАЯ ЛАВКА «ЭЛЬЗЕВИР»
основана в 1835 г.
ЛЕГРИ – МОРИ – ПИНЬО
совладельцы
Книги антикварные и современные
Приложив ладонь козырьком ко лбу, Амадей заглянул в витрину и сразу узнал мужчину, которого видел накануне на улице Пьера Леско. Мужчина нервно курил сигарету, созерцая бюстик Мольера на каминном колпаке.
Амадей, толкнув входную дверь, вошел и осмотрелся.
От звона колокольчика на двери Виктор подскочил, засуетился, как школьник, пойманный на безделье. Клиент показался ему знакомым – и правда, они пересекались на набережной букинистов, Виктор вспомнил этого чудака в наряде неизвестной эпохи.
– Здравствуйте, месье. Ищете книги какого-то определенного автора?
– Я бы хотел взглянуть на сокровища, которые вы храните в святая святых. – Посетитель указал на комнатку, набитую книгами.
– Извольте.
В комнатке Амадей остановился у застекленного шкафа, запертого на ключ, и наклонился к нижней полке. Там действительно томились взаперти истинные сокровища. Он тихо прочел вслух:
– Фонтенель «Рассуждения о множественности миров», издано в Париже вдовой Реньяр в тысяча семьсот шестьдесят девятом году. Клод Адриан Гельвеций «Об уме», издано в Париже Дюраном в тысяча семьсот пятьдесят восьмом. Джонатан Свифт «Сказка о бочке», издано в Гааге Генрихом Шерлеером в тысяча семьсот тридцать втором… – И вдруг он замер.
В стекле отразился силуэт упитанной женщины – едва заметив это, Амадей стремительно отступил в глубь комнатушки, чтобы его не было видно из торгового зала, куда только что вошла толстуха, тоже встречавшаяся ему на улице Пьера Леско… Приятельница консьержки дома 18-бис. Подозрения подтвердились: она и книготорговец наверняка знакомы друг с другом.
У Эфросиньи ужасно болели ноги – полдня она бегала по Большим магазинам Лувра, зато после долгих поисков выбрала шикарный галстук от Шарвэ и щетку для шелковых рубашек от Кента – подарки сыну на день рождения. Эти покупки нанесли ощутимый удар по ее бюджету, но порадовать своего котеночка было для доброй женщины важнее собственного материального благополучия. В конце концов, какая польза от денег, если их не тратить? На душе у нее, однако, было неспокойно – она не видела Виктора со вчерашнего дня, все гадала, чем закончился их с месье Перо визит в дом Филомены, и, не выдержав, пошла, несмотря на усталость, в лавку. Жозефа не было – вот повезло! – тем не менее, когда Эфросинья уже собралась задать Виктору вопрос, у нее сдали нервы и с губ сорвалось только робкое «Добрый день…»
– День действительно добрый, мадам Пиньо, не станем его портить, забудем о трагедиях, нынче именины вашего сына, давайте веселиться, а вам еще принарядиться надо и сделать прическу, – скороговоркой выпалил Виктор, увлекая ее обратно к выходу. – О, раз уж вы заглянули… я буду очень благодарен, если сегодня вечером вы принесете мне ту книжицу, с которой мадам Лакарель перепутала «Трактат о конфитюрах». Надеюсь, вы не оставили ее вчера в особняке?
– День-то нынче добрый, месье Легри, чего ж его портить? Сами так сказали, вот и забудьте обо всяких трагических книжицах, – надменно проговорила Эфросинья и покинула лавку, изо всех сил хлопнув за собой дверью.
Амадей улыбнулся: «Воистину эти милые люди близко знакомы!» Он глубоко вздохнул и вышел в торговый зал.
– Позвольте-ка, вы ведь месье Легри? Наслышан о вашей эрудиции. Я бы хотел приобрести того Гельвеция, запертого в шкафу.
– Это редкое и весьма дорогое издание.
– Нисколько в этом не сомневаюсь. Я бы даже сказал, что книга эта драгоценна. Ее появление в свое время вызвало шумный скандал, а грамотеи из Сорбонны высказались так: «Мы пришли к выводу, что трактат „Об уме“ вобрал в себя яды всех сортов и разновидностей, коими пропитаны многочисленные нынешние сочинения».
– Вы весьма образованный человек… Цена…
– Не беспокойтесь, я располагаю средствами на покупку. Видите ли, месье, я умею разграничивать собственные желания и потребности, и если не могу завладеть предметом своих вожделений, легко отказываюсь от него. Помимо Гельвеция, меня интересуют сочинения Этьена Доле
[926], оригиналы, датирующиеся шестнадцатым веком, а также более ранние авторы.
– Увы, месье, манускриптов Доле я и не видел никогда. Мы редко торгуем такими старыми книгами. Возможно, вам повезет найти их в Национальной библиотеке, – сказал Виктор, тщетно оглядываясь в поисках пепельницы.
– Возможно. Сколько я вам должен?
В конце концов Виктор незаметно затушил окурок под прилавком, назвал цену и пересчитал купюры. Доставая из шкафа и упаковывая трактат Гельвеция, он счел своим долгом развлечь покупателя беседой:
– Вы одеты весьма изысканно. Какой эпохе принадлежит ваш наряд?
– О, весьма беспокойной, – улыбнулся Амадей.
– И о каких же временах речь?
– О давних.
– Ну все-таки?
– Сложно установить рамки – я говорю о дне сегодняшнем, вчерашнем, о былом… Внешность обманчива.
– Внешность? Что вы имеете в виду? – спросил совсем сбитый с толку Виктор.
– Мода – фикция, внешний блеск, красивая обертка. Ее развитие, влекущее за собой появление множества технических ухищрений, ни на йоту не изменило человеческое сознание, не уравновесило зыбкость людской природы. Каждое новое поколение несет свое знание о мире с такой гордостью, будто до него ничего не существовало. Однако, месье, если мы хотим избавиться от тревог и повседневных докук, нам всего-то и нужно перестать копаться в прошлом и без конца пытаться заглянуть в будущее. Наслаждайтесь течением времени, цените каждую минуту, и тогда вы проникнете в сердце тайны.
– Э-э… Однако…
Амадей приложил два пальца к треуголке и, развернувшись на каблуках, покинул лавку.
– Еще один чокнутый, – проворчал Виктор.
Нервное напряжение сменилось апатией. Он почувствовал слабость и легкое головокружение; почудилось, что пол качнулся под ногами. Виктор уставился на купюры, зажатые в кулаке, и тяжело оперся о прилавок. Выдвижной ящичек для денег вылетел из кассы с таким звоном, что в ушах долго звучало эхо. Виктор сжал челюсти. Перед глазами снова возникла недавно виденная кошмарная картина: обезглавленный труп.
Переступив порог своего жилища на улице Висконти, Эфросинья заперлась на два оборота и подергала дверную ручку с целью удостовериться, что створка сумеет противостоять любому вторжению. «Боже-боже, какая ужасная смерть – наварить конфитюра и испустить последний вздох прямо в котел! Даже дома нельзя чувствовать себя в безопасности! Лишь бы сегодняшний праздничный ужин удался, это меня хоть чуть-чуть утешит. Надо бы принарядиться. Привести в порядок то, что разрушило время, – дело непростое».
Она посмотрела на себя в зеркало и уныло вздохнула:
– Неужто эта старая развалина – я?
На миг ей померещилось, что в зеркале за руку толстой старухи держится маленькая хрупкая девочка. Видение расплылось, изменилось, в зеркале проступили забытые черты – лицо девятнадцатилетней Эфросиньи, исчезли морщины и седина, в лучистых глазах засияла вера в будущее, в то, что судьба переменится, появится прекрасный юный воздыхатель и увезет ее в дальние края, где исполнятся все мечты… Появился Габен. Он не был ни прекрасен, ни юн – пухленький букинист, встреченный ею на набережной Вольтера по пути к причалу. Эфросинья шагала, весело размахивая корзинкой с бельем, которое собиралась постирать, а он приподнял картуз и заговорил с ней о книгах. Эфросинья блеснула литературными познаниями, назвав имя Александра Дюма – ей довелось прочесть несколько глав из какого-то его романа. Габен похвалил платье, которое она сшила сама.
– Молодость увядает, как цветы, бедный мой Габен. Почему ты умер так скоро? Оставил нас с сыночком в нищете…
Видение – девятнадцатилетняя Эфросинья и ее книжный принц – истаяло. Она велела себе унять тревоги: сегодня же именины Жозефа, вечером пирушка в его честь, – и полезла в шкаф подыскать соответствующий случаю наряд. В шкафу одна на другой громоздились пропахшие нафталином картонные коробки, набитые ворохом старой одежды, слишком тесной для располневшей хозяйки, фронтовыми письмами Габена, побрякушками, детскими вещами. Целая жизнь, представшая в виде кучи барахла, дорогого как память, но не имеющего ровно никакой материальной ценности. Барахла? Вот сломанная игрушка. Жозефу было девять лет, они вместе бродили по Большим бульварам между рождественских торговых рядов, мальчик остановился у прилавка с жестяными фигурками, завороженно глядя на миниатюрного грузчика с тележкой. Игрушка стоила шесть су. У Эфросиньи в кармане было только четыре. «Малышу понравилась эта безделица? А мне – твои прекрасные глазки, красотка, бери даром!» – подмигнул ей торговец и вручил Жозефу грузчика…
Эфросинья смахнула слезу и открыла следующую коробку: лото, бильбоке, плюшевый медведь с оторванными ушами.
– Сплошное огорчение тут, и ничего подходящего для выхода в свет. Поищу наряд в другом месте.
Она вошла в комнату, раньше принадлежавшую сыну. Здесь почти ничего не изменилось с 1893 года, с тех пор как Жозеф переехал, женившись на Айрис. В первое время молодожены жили над книжной лавкой, в левой половине апартаментов, доставшейся им от Виктора Легри. Всякий раз, когда Эфросинья открывала дверь в комнату сына, у нее щемило сердце. А заглядывать сюда ей приходилось частенько – теперь тут хранился ее нехитрый гардероб. Она перебрала одежду в платяном шкафу, достала зеленый костюм из овечьей шерсти – подарок Джины по случаю рождения Артура. Черная шаль и шляпка со страусовыми перьями дополнили наряд.
«Одна пара ботинок, и те стоптанные… Ба! Что за беда – юбка у меня длинная, ботинки никто и не заметит. Однако все ж таки не помешает их начистить. Где тут у меня коричневая вакса?» Она побрела в бывший каретный сарай, примыкающий к жилым помещениям и тоже опустевший с переездом Жозефа. «Если я умру прямо сейчас, обо мне поплачут, а потом забудут. Как Филомену. Одна я в этом мире, одна-одинешенька, нет у меня любимого, нет и не было уж четверть века. От всего я отказывалась, все отдала ради сына, и сил-то больше не осталось… А эту сараюшку мне хотелось в детскую превратить, чтобы внуки играли…» Эфросинья посмотрела на фотографию Габена, прикнопленную к стене.
– Помнишь, как ты мне все твердил: «Железобетонная ты женщина, Фосинья. Кремень!»? Ох, не прав ты был, милый…
В прошлом году, когда Жозеф распродал имущество, унаследованное вместе с каретным сараем от одной старьевщицы, Эфросинья умоляла его вернуть сюда собрание старых газет, перевезенное в подвал книжной лавки, потому что слишком уж тяжело было ей заходить в пустой, разоренный сарай. И еще она надеялась, что сын почаще будет сюда наведываться, перебирать свои сокровища. Жозеф согласился, но навещал мать по-прежнему редко.
«Надо бы припрятать понадежнее ту книжицу, которую мне бедняжка Филомена вместо „Трактата о конфитюрах“ подсунула. И чего я ее в Филоменином доме не оставила? Ох, это покойница во всем виновата – надо ж было додуматься оклеить книжку такой ужасной бумагой! Да и я дура, вот уж дура, ну что теперь делать?» Покончив с самобичеванием, Эфросинья пришла к выводу, что наилучший способ избавиться от книги в красно-голубом переплете – сжечь ее, но вспомнила слова Габена: «Книги – это святое! Они наши лучшие друзья, хранители знаний, накопленных человечеством, наследие наших предков. Нельзя уничтожать книги. Тот, кто покушается на жизнь книги, убьет и человека».
«Ах, Габен, мой Габен, если бы ты не умер так рано и успел бы на мне жениться, я была бы настоящей мадам Пиньо, а не мадемуазель Курлак! Но ты хотя бы признал нашего сыночка, и на том спасибо».
Она осмотрела томик в переплете, оклеенном марморированной бумагой, на которой остался след – вероятно, от веревки, – открыла сундучок с гильзами и положила книжку туда, под перевязь, побитую молью. Опустив крышку, провела пальцем по осколкам минометных снарядов и по трем немецким артиллерийским каскам – реликвиям войны 1870 года, благоговейно хранимым в семействе Пиньо уже столько лет. «Пыли не так уж много, займусь этим после праздника».
Взгляд Эфросиньи упал на горшочки с конфитюром. На каждом красовалась этикетка с надписью фиолетовыми чернилами, выполненной каллиграфическим почерком: «Мирабель, 1897». На глаза навернулись слезы. «Ведь не смогу проглотить ни ложечки этой вкуснятины! А выбросить-то нельзя. Отдам их Мишлин Баллю… Ну вот, посмотрела на варенье – и есть захотелось. Интересно, что будет в праздничном меню нынче в ресторане? Месье Мори у нас человек щедрый, уж он устроит настоящий пир. И ресторан, должно быть, шикарный… Но я же еще не готова!» Она высморкалась, нашла ваксу, щетку, тряпочку для обуви и принялась начищать старенькие ботинки.
Путешествие морем из Ньюхейвена в Дьеп плохо сказалось на желудке Джины, однако она нашла в себе силы позавтракать в вагоне-ресторане поезда при свете лампы под розовым абажуром и теперь дремала в купе, примостив голову на плече Кэндзи. Сквозь дрему до нее смутно долетали обрывки разговора соседей-пассажиров, в котором Кэндзи участвовал только междометиями.
Молодая англичанка, пребывавшая в радостном возбуждении по причине своей первой поездки в Париж, пила чай, подогретый на походной спиртовке, и рассуждала об опасностях, таящихся в поездах: ковры в вагонах, дескать, кишат микробами.
– Я читала статью о линолеуме, – сообщила она обществу, – очень полезный материал, его легко вымыть дочиста с помощью обычной половой тряпки.
– При условии, что тряпку вы предварительно прополоскаете в антисептике, – заметила дама с лорнетом, читавшая рубрику всякой всячины во французской газете.
– В первую очередь нужно уделять внимание гигиенической уборке в вагонах третьего класса. Наиболее опасны в плане заразы те поезда, что перевозят на юг чахоточных больных, – добавил свое слово виноторговец, чем вызвал одобрительное мычание Кэндзи, который притворялся спящим.
– А плевательницы? – воскликнула англичанка. – Как же плевательницы?
– Да их по пальцам можно пересчитать. Было бы разумно провести просветительские мероприятия, чтобы люди наконец начали ими пользоваться, как в омнибусах.
– Еще одну старушку рантье убили в собственном доме, – поделилась новостью из газеты дама с лорнетом. – Труп лежал головой в котле с вареньем.
Кэндзи погладил руку Джины и погрузился в воспоминания о страстных ночах, проведенных с ней в Лондоне. В Англии было холодно, поэтому от долгих прогулок по паркам, к сожалению японца, пришлось отказаться, зато они побывали во многих музеях. Оба любили Национальную галерею – с удовольствием бродили по залу фламандских примитивистов и восхищались «Мадонной с Младенцем в саду» Ганса Мемлинга – прозрачностью и простотой этой картины, живостью красок; надолго останавливались у полотен итальянских мастеров. Кэндзи немало забавлял садово-огородный декор композиций Кривелли.
Приоткрыв глаза, он удостоверился, что сверток, перевязанный лентой, на месте – лежит напротив на пустой банкетке. Японец был чрезвычайно доволен покупкой книг, сделанной в начале этого путешествия, и настолько погрузился в свои мысли, что даже не заметил, как состав замедлил ход на подступах к монументальной конструкции Западного вокзала. Пронзительно прозвучал свисток, оповещая о том, что поезд входит в Батиньольский туннель.
Англичанка от неожиданности пролила чай.
– My God, Paris
[927]!
Джина расправила юбку. Она была рада вернуться во Францию, но все же чуть-чуть грустила от того, что снова потянутся монотонные бесцветные будни, а Кэндзи она будет видеть лишь по вечерам.
– Это, мадемуазель, улица Рима, а вот и вокзал Сен-Лазар. Имею честь проводить вас до отеля, где вы… – начал было виноторговец, но англичанка уже схватила свой чемодан, вскочила и устремилась к выходу, бросив через плечо:
– Good by, sir
[928], меня ждет жених.
Виноторговец разочарованно посмотрел ей вслед.
Кэндзи под руку с Джиной сделал несколько шагов по перрону. Вокруг бурлила толпа, все так и норовили наступить на ногу ближнему. Топали и деликатно прокладывали себе дорогу лакированные туфли с круглыми и квадратными мысками, замшевые ботинки, сапоги смотрителей, грубые башмаки носильщиков… Каблуки и подошвы всех размеров и мастей кружились в хаотичном балете, замирали, топтались на месте и снова устремлялись каждый к своей цели.
Коричневые башмаки спустились по лестнице, ведущей в подвальное помещение. Открылась массивная дверь. Руки в перчатках поставили свечу на верстак, подняли крышку чемодана, достали оттуда большой круглый предмет, завернутый в тряпки, и переложили его в корзину. Как все запуталось! Хочешь сделать нечто простое и совершенно необходимое – и тут же возникает еще десяток мелких дел, тоже необходимых и вроде бы простых, но ввиду своего количества ужасно осложняющих ситуацию… Надо расставить приоритеты, время не ждет. Первейшая задача – избавиться от этой головы нынешней ночью. В остальном план выверен и отшлифован, отныне мистификация будет набирать обороты.
У чесальщицы, работавшей со своими товарками под мостом Карузель, некто похитил три желтых воздушных шарика, наполненных гелием. Это вызвало маленький миленький скандальчик – владелица шариков набросилась с обвинениями в краже на глупую болтушку Аспазию Бутефас, старую деву, страшно завидующую тем, у кого есть детки.
Под сводом Королевского моста метровый участок стены с отвалившейся облицовкой был оборудован строительными мостками. Под ними, скрытый от взглядов, сидел на корточках некто в плаще с капюшоном и производил некие действия с круглым предметом, засунутым в авоську. В итоге авоська была привязана к трем красным бечевкам, на которых покачивались надутые гелием воздушные шары. Некто вылез из-под мостков, запрятал авоську с драгоценным грузом под кучу пустых мешков, закидал ее сверху строительным мусором, натянул по мешку на каждый шарик и поспешно удалился.
Когда сумерки изгнали с набережной банду чесальщиц, разделившуюся на два враждующих лагеря – приспешниц Аспазии Бутефас и сторонниц Ангелы Фруэн (в точности как французское общество, расколовшееся на тех, кто ратовал за капитана Дрейфуса, и тех, кто поддерживал армию и правительство), воздушные шарики получили свободу. Минутку они поколебались, не зная, что с ней делать, потом их подхватил порыв ветра, и, увлекая за собой груз в авоське, они стали подниматься все выше и выше в небо. Желтая гроздь покружила над Сеной, прошла наискосок над Лувром и взяла курс на сад Тюильри. Что произойдет дальше – не так уж важно. Может, они зацепятся за макушки деревьев или за каминную трубу на крыше какого-нибудь здания с улицы Риволи. Главное, рано или поздно их найдут.
Коричневые башмаки вернулись на набережную Вольтера, прошагали по Новому мосту и сбежали по ступенькам на мыс острова Сите.
А воздушные шарики продолжали полет. Под ними, раскачиваясь на ветру, вытаращенными остекленевшими глазами взирала на ничего не подозревающий Париж мертвая голова. От площади Согласия вдаль устремлялась каменная стрела-дорога, переходящая в бесконечную авеню; по обеим сторонам ее стояли деревья, среди которых прятались особняки. Пульсировала цепочка фонарей, ведущих к Триумфальной арке. Внизу словно рассыпали сундучок с игрушками – крытые серым шифером домики, миниатюрные экипажи, запряженные крохотными лошадками, казались кукольными. Огромный детский конструктор: Терн, Батиньоль, Монмартр.
Холодное дыхание ветра отнесло погребальный аэростат к бескрайнему массиву деревьев, медленно тонувшему в сумерках. Пройдет еще двенадцать часов, прежде чем парочка сорок, обитательниц Булонского леса, отыщет в зарослях желтую сдувающуюся гроздь, которой предстоит провести в плену чащобы еще четыре долгие ночи и три долгих дня.
Глава девятая
Вечер того же дня
Таша никогда не питала пристрастия к элегантным нарядам, а после рождения дочери и вовсе стала носить только просторные, бесформенные, зато удобные платья. Виктору это отчаянно не нравилось, он упрекал жену и постоянно напоминал, что от ее внешнего вида зависит успех в работе – ведь ей приходится писать портреты дам и господ из высшего света, людей, чертовски озабоченных условностями и внешними приличиями. «Виктор, бедняжка, по-моему, ты стареешь – начал обуржуазиваться! – смеялась Таша. – Неотъемлемое право и привилегия художника – одеваться так, как он хочет!»
В этот вечер, однако, по случаю дня рождения Жозефа она надела модную бирюзовую блузку и светло-желтую кашемировую юбку с плиссированным поясом. Побрызгалась духами «Росный ладан», убрала длинную косу под шиньон, однако осталась верна своей любви к шляпке с маргаритками.
– Я иду в квартиру, одевайся быстрее, – бросила она, выходя из мастерской.
Виктор накинул белую сорочку, отложил помятый костюм и надел свежеотглаженный. Замечание Таша о том, что он стареет, не давало ему покоя. Он осмотрел себя в большом зеркале и подровнял ножницами усы. Смочил расческу водой и обнаружил несколько седых волос на висках. Осторожно вырвав их, еще раз внимательно изучил свое отражение, повертелся, принял пару картинных поз… Скоро ему исполнится тридцать восемь. Несколько мимических морщинок на лице, зато брюшко еще не появилось. Неужели он и правда обуржуазивается? Неужто с годами станет конформистом?.. Часами в голове Виктора вертелись навязчивые мысли, он пытался придумать для самого себя слова утешения, которые могли бы вывести его из угнетенного состояния, но мысли возвращались. Тогда ему казалось, что он теряет контроль над сознанием и жизнью, становится безвольным свидетелем собственных поступков. Что это – усталость, страх перед будущим, боязнь перемен? Взять себя в руки и действовать – вот ответ на все метафизические вопросы. Раствориться в настоящем.
Он принялся завязывать галстук-«бабочку», и мало-помалу окружающий мир опять исчез, перед глазами возникли прежние видения: труп Филомены Лакарель с проломленной головой, лежащий на кафельном полу кухни, превратился в безголовый труп мужчины в ящике из-под книг Фюльбера Ботье. Казалось, вечность минула, прежде чем Виктор снова обрел контакт с действительностью. В желудке возникла неприятная пустота. Он поправил галстук-«бабочку», побрызгал в лицо холодной водой и пошел в жилые комнаты.
При виде Таша, склонившейся над колыбелькой, на душе сделалось легче. Потом он увидел детскую коляску, в которой махал ручками сын Жозефа, а в следующий миг его колени обхватили маленькие, но крепкие лапки Дафнэ. Айрис привела детей на улицу Фонтэн, чтобы Мелия присмотрела нынешним вечером за всем выводком семейства Легри – Пиньо, пока взрослые веселятся. Теперь оставалось только дождаться Мелию, которая почему-то запаздывала.
Таша спасла мужа из плена племянницы и протянула ему перчатки. Ей достаточно было одного взгляда, чтобы понять: Виктор чем-то обеспокоен.
– Милый, ты не на похороны собрался? Праздничный ужин тебя не вдохновляет? Ты очень бледный. Что-то случилось?
– Нет-нет, я… Послушай, я не хотел говорить, но боюсь, что в ближайшее время кто-нибудь и без меня проболтается… Сегодня утром, когда я принес Раулю Перо старые журналы на набережную Вольтера, крестный Жозефа нашел труп неизвестного мужчины в собственном ящике для книг.
– О боже!
– Теперь никак не могу про это забыть. Омерзительное зрелище. У трупа не было головы.
Таша похолодела. Ее словно парализовало.
– Тихо, Дафнэ услышит, – прошептала она упавшим голосом. – Пообещай мне, что ты не впутаешься в эту историю.
– Но я же свидетель – мне никак не удастся остаться в стороне. Дам показания полиции – и все, на этом дело кончится, обещаю. Со мной был Рауль Перо, я ему доверяю, он все уладит. Давай больше не будем об этом, и пожалуйста, ничего не говори Жозефу.
– Можешь на меня рассчитывать. Но могу ли
я верить твоему обещанию? Ты уже не раз давал слово покончить с расследованиями… Мелия, ну наконец-то! Что-то вы не торопитесь!
Только что вошедшая Мелия, злая на хозяев за то, что ее не пригласили на семейное торжество, надменно пожала плечами:
– Am be totjorn lo temps de ‘ribar tard.
– Это что, на шведском? – попытался пошутить Виктор и сам натянуто улыбнулся.
– Ну придумали, на шведском! – фыркнула Мелия. – У нас в Лимузене так говорят. Это значит: «Прийти вовремя никогда не поздно».
Пока Таша давала ей последние наставления, Виктор вернулся в мастерскую за тростью. Перед тем как выйти оттуда, он достал из кармана рабочего пиджака обрывок красной бечевки, подобранный в особнячке Филомены Лакарель, и переложил его в портфель.
Аделина Питель сидела дома, в своей двухкомнатной квартирке, занимавшей половину второго этажа. Электричество было редким и дорогим удовольствием, поэтому в ее обиталище в любое время года и суток горели свечи, позаимствованные в окрестных церквях. Ничего, служители Господа не разорятся. И потом, должны же они как-то поощрять ее религиозное рвение – все ж таки она тратит свое свободное время на посещение храмов!
Аделина подбросила полено в камин и решила подкрепиться. Ужинала она всегда рано, чтобы потом весь вечер посвятить работе или чтению. Вот и сейчас, не дожидаясь сумерек, съела, примостившись за столом, говяжий эскалоп с артишоками в панировке, приготовленные утром и разогретые на водяной бане. Отодвинула пустую тарелку и пересчитала мелкие монеты, лежавшие в вазочке для варенья. Порадовавшись, что так мало потратила за неделю, она с сожалением подумала о пятидесяти сантимах, которые приходилось еженедельно кидать в церковную кружку для пожертвований после мессы. Не расточительство ли это?.. Аделина тряхнула головой. Уж лучше тратить деньги на святое дело, чем на журналы мод и книжки про обувь, как ее племянничек Фердинан. А ведь она пыталась вдолбить парню в голову, что экономия – первый закон существования в этом мире. Надо же было сделать такую глупость – пожалела много лет назад бедного сиротку, сына покойной сестры Элизы, забрала к себе! Растила мальчишку, воспитывала, прививала ему честолюбие и правильные взгляды на жизнь, а он в пятнадцать лет взял да и пошел в подмастерья к сапожнику! Потом арендовал мастерскую у вдовы своего наставника и с тех пор днями напролет приколачивает каблуки да подметки и тащит почем зря в свою комнату, соседнюю с тетушкиной, всякие пособия по сапожному ремеслу и прочую печатную дребедень!
У Аделины тоже была неплохая библиотека, унаследованная от родителей и пополненная дарами владельца писчебумажного магазина с улицы Арколь, которому по роду занятий порой попадали в руки старые книжки, нотариальные акты на велени или макулатура из тряпичной бумаги. Во-первых, Аделине этот мусор доставался бесплатно, а во-вторых, порой среди него попадались стоящие вещи. С целью пополнения коллекции она прочесывала набережные букинистов, но никогда не тратила на увлечение больше того, что могла себе позволить.
Этим вечером она не ждала своего ухажера: «Вот и славно, у меня и без него дел хватает». Аделина положила тарелку и чашку в миску с мыльной водой, затем расставила на скатерти баночки с чернилами, стаканы с кистями и гусиными перьями, разложила чистые картонки и в центре водрузила старинный часослов с изысканными цветными миниатюрами, которыми она собиралась воспользоваться в работе. Аделина неустанно благодарила Провидение за знакомство со старой клушей с улицы Пьера Леско. Побочное неудобство состояло в том, что клуша всё норовила заманить ее в свой дурацкий клуб любительниц конфитюров. «Фруктоежки» – надо же было придумать такое название! Ноги моей там не будет, чокнутая клуша напрасно старается! – Аделина тихо рассмеялась. – Клуша, конечно, первостатейная, да, однако у нее можно поживиться редкими изданиями. К примеру, этот часослов – истинное сокровище. Нынче вечером прогуляюсь кое-куда, вернусь и создам шедевр – это будет открытка с цитатой из Евангелия от Матфея: «И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?»
– Уж точно не конфитюр, – пробормотала Аделина в ответ на этот вопрос.
Удовлетворенно окинув взглядом рабочие инструменты, она надела пальто, накинула на плечи шаль и спустилась по лестнице.
Наряд от Руф, подаренный мадам Джиной, пришлось надежно защитить кухонным фартуком, потому что предстоящую задачу Эфросинья расценила как сложную и даже опасную. Она расставила перед собой горшочки с конфитюром, и ей казалось, что каждый из них смотрит на нее маленькими злыми глазками, упрекая в малодушии.
– Ну что я за кулёма, это ж всего лишь сливы! Так, приступим, и чтобы ни пятнышка на костюм не посадить, и за почерком следим, не расслабляемся.
Эфросинья со всем усердием и осторожностью дописала фиолетовыми чернилами на уже приклеенных этикетках «Дорогой Мишлин Баллю» и на каждой превратила семерку в восьмерку, чтобы из 1897 года получился 1898-й. Довольная от того, что не сделала ни единой помарки, она завернула горшочки в
оберточную бумагу с цветочками и положила их в корзинку. В другую пристроила два подарка для сына, купленные в Больших магазинах Лувра, добавила туда же лупу, принадлежавшую покойному Габену, и две посеребренные рамки с фотографиями Артура и Дафнэ, сделанными Виктором. На тыльной стороне рамок она написала: «С днем рождения, котеночек! От любящей тебя мамочки». Всхлипнув от умиления, еще раз перебрала свертки, устраивая их поудобнее. А когда уже пора было выходить, в дверь постучали.
– Кто там? – подпрыгнула от неожиданности Эфросинья.
– Обожаемые родственники, – прозвучал ироничный голос, и она бросилась открывать.
С чемоданами и связками книг вошли улыбающиеся Кэндзи и Джина.
– Какой оригинальный наряд, – восхитился японец, поставив поклажу в углу. – Горничная в праздничных оборках!
Смущенная хозяйка дома поспешно развязала тесемки фартука.
– А так? Как я выгляжу? – Она покрутилась перед гостями, гордая собой.
– Волшебно! – похвалила Джина. – По-моему, вы ужасно похудели.
Эфросинья конечно же не стала говорить о том, что ей пришлось потратить уйму времени, чтобы надставить костюм, в который не удалось влезть с первого раза.
Кэндзи нетерпеливо потоптался на месте:
– Ну-с, дамы уже готовы отправиться на бал?
– О, месье Мори, позвольте попросить вас об услуге: не могли бы вы прихватить эту корзинку для мадам Баллю? Она тоже приглашена.
Кэндзи со вздохом поднял корзинку. Он всю дорогу тащил их с Джиной багаж, и у него уже разламывалась поясница, а тут еще лишний груз.
– Что у вас там? Килограмм пуха или килограмм свинца?
– Ах, я бы сама донесла, но с моим варикозом… – замялась Эфросинья, – да еще радикулит разыгрался…
– Воистину, кто сам себя жалеет, того все холят и лелеют, а на терпеливых воду возят, – хмыкнул японец, любивший изъясняться пословицами собственного сочинения.
– Воду? – удивилась Эфросинья. – Нет-нет, месье Мори, в корзинке нет ни пуха, ни свинца, ни воды – там конфитюр!
– Да уж, теперь она гораздо легче, – пробурчал Кэндзи, морщась от боли в спине.
Во второй половине дня свирепствовали мокрый снег и ледяной ветер. К вечеру переулки, соседствующие с улицей Сен-Дени, заволокло противным туманом. Папаша Гляди-в-Оба в обнимку с литром дешевого красного вина брел мимо бездомных, выстроившихся в очередь у освещенной витрины в доме номер 35. На грязном стекле заведения красовались разноцветные буквы: «ФРАДЭН». Бездомные стояли тихо – никакой толкотни и ругани. На пороге каждый вполголоса обменивался парой слов с хозяином заведения, предоставлявшим страждущим ночлег и горячий суп за четыре су. Те, у кого нужной суммы не набиралось, уходили восвояси и спали с пустым желудком под мостами, на руинах городских укреплений, на внешних бульварах.
Папаша Гляди-в-Оба поздоровался с молодым оборванцем, державшимся в сторонке.
– Что, Жужу, натырил четыре монеты? В тепле ночь проведешь?
– Нет… – вздохнул парень. – Весь день разгружал ящики с фруктами на Центральном рынке, но заработал всего три пятьдесят. Придется проделать еще одну дырку в поясе.
– Не кисни, приятель, вот тебе два су, на лишние выпей за мое здоровье.
– Ну, Гляди-в-Оба, ты мой спаситель! Я верну!
Распрощавшись с оборванцем, старый нищий направил стопы к улице Бризмиш. Там, в подвале здания, предназначенного на слом, он обустроил себе жилище. Укрывшись от ветра под навесом подъезда, зажег огарок свечи, переступил порог и услышал какой-то шорох.
– Неужто гости у меня? Этого еще не хватало! Кого там принесла нелегкая?
Папаша Гляди-в-Оба сделал несколько нерешительных шагов по полу, заваленному мусором и объедками… и замер: кто-то сзади схватил его за воротник куртки, а между лопатками он почувствовал давление чего-то острого и твердого.
– Вечер добрый, Гляди-в-Оба, я в точности за тобой. Не вертись, дружище. Ты ведь уже слепой, будет обидно, наверное, сделаться еще и немым.
– Не по адресу вы вломились. Я ж гол как сокол, что с меня взять?
– Сейчас разрыдаюсь от жалости. – Голос неопределенного тембра, лишенный интонаций, звучал прямо над ухом нищего. – Берегись, Гляди-в-Оба, ты меня не знаешь, но мне-то о тебе много чего известно. Я за тобой наблюдаю, глаз с тебя не спускаю. Помнишь, что было десятого января? В тот день ты обчистил кружку для подаяний в церкви Святого Евстахия. И скажу тебе, небогоугодное это дело зариться на поповские денежки, очень это некрасиво, постыдился бы! Впрочем, отпускаю тебе грехи, сын мой, ибо Господь велел прощать. Так вот, вечером того же дня ты ошивался на улице Пьера Леско. Мне нужно знать, не заметил ли ты кого-нибудь, выходившего из дома Филомены Лакарель.
– Нет, – выдохнул старик.
– Обманывать нехорошо, Гляди-в-Оба. Ложью сыт не будешь. А если я чуть надавлю на клинок, так и вовсе навсегда голодным останешься.
– Э-э… ну там много всякого народу ходило-выходило. В тот самый вечер, о котором вы толкуете, к примеру, видал я какого-то типчика, по уши закутанного в плащ, да еще в капюшоне, так что физиономии не разглядеть было. Так этот типчик как раз из дома Филомены вышел с двумя корзинками. А потом, через пару дней, одна толстуха от нее выскочила да так дунула – только пятки сверкали.
– Толстуха? Как ее зовут?
– Без понятия. Она приятельница Филомены.
– Знаешь, где она живет?
– Не-а. Но они иногда вместе ходят перекусить да пропустить стаканчик в кабачок «Морай» на улице Тюрбиго.
– Очень мило с твоей стороны, папаша Гляди-в-Оба, поделиться со мной такими важными сведениями. А теперь слушай меня внимательно. Вероятно, тебя захотят допросить флики, и вот что ты им скажешь – запомни хорошенько, это в твоих интересах, если хочешь и дальше дышать прекрасным воздухом столицы…
Ему на ухо прошептали инструкции, потом неожиданно давление острого между лопатками исчезло. Папаша Гляди-в-Оба скосил глаза, не решаясь пошевелиться, и увидел в дверном проеме пару коричневых башмаков, которые вышли из здания и быстро зашагали к улице Ломбардцев. Старик перевел дыхание – до этого ему казалось, будто в горле застрял огромный ледяной камень. Кровь гулко пульсировала в висках. Вокруг было пусто и тихо. Он еще раз заставил себя глубоко вдохнуть и выдохнуть. Зажег потухший свечной огарок, тщательно осмотрел коридор – не затаился ли кто еще? – спустился по винтовой лестнице в подвал и так же тщательно обследовал все помещение. Лишь после этого он тяжело опустился на ворох тряпок в углу, служивший ему постелью. Теперь можно подумать о простом и понятном: чем он утром будет завтракать, к примеру. Но сперва надо опустошить литровую бутыль винца…
Леонард и Петронилла Липпманн покинули родные Эльзас и Лотарингию после войны 1870 года, потому что в отличие от многих своих земляков не считали возможным покориться власти кайзера. В Париже на бульваре Сен-Жермен они открыли пивной ресторан «На берегах Рейна»
[929], его завсегдатаями стали бывшие члены различных литературных кружков – «Гидропаты», «Шершавые», «Декаденты» – и среди них Жан Мореас, Лоран Тайяд, Муне-Сюлли
[930]. Вскоре ресторан стал излюбленным местом встреч литераторов, в том числе весьма известных – например, сюда часто захаживал Верлен. Художники, критики, журналисты тоже не обходили стороной симпатичное заведение с отделанным красным деревом фасадом, перед которым стояла бронзовая статуя Дидро, и с удовольствием усаживались в комфортабельные кресла за столиками в уютном зале. Что до случайных посетителей, опрометчиво ступивших «На берега Рейна» выпить кружку пива, долго они тут не задерживались – их обращали в бегство остроты и подколки со стороны современной культурной и интеллектуальной элиты.
Жозеф вошел в зал, уставленный банкетками, обтянутыми молескином, и остановился в рстерянности. Если делегация Фантастической академии уже здесь, как ее распознать? Но ломать голову имениннику не пришлось – к нему тотчас с поклоном приблизился половой в черной рубашке и длинном белом фартуке:
– Месье Пиньо? Ваши друзья уже ждут.
Жозеф перевел дух и двинулся за проводником в глубь обеденного зала.
– С днем рождения! – грянули хором Виктор, Таша, Кэндзи, Джина, Эфросинья, Айрис, Мишлин Баллю, Рауль Перо и Фюльбер Ботье, поднимая бокалы.
Ошеломленный Жозеф на мгновение потерял дар речи.
– Так это вы! – выдавил он, не в силах скрыть волнение. – Разыграли меня!
– Подарки получишь на десерт, котеночек. Да будет тебе известно, весь этот праздник придумала Айрис, а счет оплачивает месье Мори, – сообщила Эфросинья. – Давай скорее усаживайся на почетное место!
Хозяева ресторана, которым родная традиционная кухня, судя по дородным фигурам, была на пользу, тоже вышли поздравить именинника. За ними следовали половые с наполненными пивными кружками, брецелями
[931] и прочей снедью. Один из них торжественно объявил:
– Свинина с картофелем и кислой капустой, эльзасское вино и ромовая баба!
– Ох-ох, ну и задачки, числом две: съесть да выпить всю эту вкуснотищу, а потом до утра дожить, – пригорюнилась Эфросинья.
– Не волнуйтесь, мадам, гевурцтраминер
[932] обладает мягким фруктовым вкусом, пьется легко, и свинина под него проскочит как на салазках! – радостно заверил половой.
– А кто это там идет к выходу? Не Альфред Жарри
[933]? – спросил его Виктор.
– Верно, месье, он самый. У нас для него открыт кредит. Заведение поощряет развитие изящной словесности и прочих художеств.
В честь Жозефа снова были подняты бокалы и кружки. Кэндзи рассказал об их с Джиной путешествии в Лондон, Джина поделилась впечатлениями. Мишлина Баллю, одаренная конфитюрами, превозносила щедрость Эфросиньи. Пиво и здравицы присутствующих, собравшихся здесь только ради него, заставили Жозефа воспрянуть духом. Немного придя в себя, он заметил, что Фюльбер Ботье определенно чем-то обеспокоен.
– Дела не ладятся, крестный? Какой-то вы хмурый.
– Нет-нет, должно быть, насморк подхватил, – отмахнулся букинист.
Но Жозеф слишком хорошо его изучил и понимал: если Фюльбер вот так нервно теребит очки на носу, значит, с ним случилось что-то посерьезнее насморка. Однако молодой человек не стал приставать с расспросами. Краем глаза он заметил, что Виктор и Рауль Перо обмениваются странными знаками. А эти-то что замышляют? В разговорах за столом в этот момент возникла пауза – тихий ангел пролетел под сияющими люстрами, – и донеслись обрывки беседы двух репортеров, расположившихся по соседству:
– Ну теперь точно начнется травля этого Золя-золотаря. Не в ту выгребную яму он полез. Так что навострим перья – надо непременно в этом поучаствовать. Его поддержали всего-то полдюжины депутатов-социалистов. Сегодня в Бурбонском дворце
[934] вдребезги разнесли открытое письмо в «Авроре», все депутаты по этому случаю сплотились и пошли единым фронтом – клерикалы, умеренные, левые республиканцы, радикалы и большинство социалистов. Альбер де Мен
[935] с трибуны требовал принятия мер против автора «Я обвиняю!..», орал как резаный! Центристы так и вовсе выступили ансамблем – хор перепуганных старых дев.
– И все из-за какого-то жида, я вас умоляю!
Ошеломленные новостью сотрапезники за праздничным столом отложили вилки. Джина и Таша сидели красные, у Виктора дрожали от гнева руки. Задетая за живое и разъяренная оскорблением, которое имело отношение и к ее семье, Эфросинья отодвинула стул, намереваясь встать.
– Я сейчас покажу этим писакам, где раки зимуют! – процедила она сквозь зубы.
Мишлин Баллю ухватила ее за руку:
– А вы знаете, что в «Амбигю» опять дают «Пропойцу»? Обожаю драмы Жюля Мари
[936], они всегда хорошо кончаются, в них торжествует справедливость!
– Браво, мадам Баллю! – похвалил Кэндзи. – Давайте поднимем кружки за справедливость, свободу мысли и равные права для всех временных обитателей Земли, нашего общего отечества, жалкой, кружащейся в бездне пылинки, чье назначение нам неведомо.
– Я уважаю ваши философские воззрения, – мрачно проговорил Виктор, – однако сомневаюсь, что на этой жалкой пылинке найдется плотина, способная удержать волну ненависти, которая вот-вот обрушится на Францию.
– Дорогой мой Виктор, если ваша кружка наполовину пуста, постарайтесь убедить себя в том, что она наполовину полная. Кстати, гарсон, еще пива для всех!
Жозеф тем временем, притворяясь, что внимательно слушает, наблюдал за Фюльбером Ботье, который с заговорщицким видом склонился к Раулю Перо и что-то с ним обсуждал. Жозефу непременно нужно было выяснить что, но он сидел на другом конце стола, и подслушать не предвиделось возможности. Тогда молодой человек поднялся и сделал пару шагов якобы для того, чтобы взять графин с водой. Вид он при этом имел самый невинный, но изо всех сил напрягал слух, и сквозь женскую болтовню ему удалось разобрать обрывки шепота двух букинистов:
– …Чудовищно!.. видение меня преследует… ну почему, почему именно в моем ящике?.. где голова?
– …бросили в Сену или… Вальми вызовет меня на допрос…
– …А буланжистка?..
Жозеф покосился на шурина. «Случилось что-то серьезное, если месье Перо упомянул инспектора Вальми. И руку даю на отсечение, Виктор в курсе дела!»
Когда ромовая баба была съедена, а кюммель
[937], поднесенный хозяевами заведения, выпит, Жозефа забросали подарками, но его мысли были заняты другим. Случайно обретенные фрагменты мозаики, которая непременно должна была сложиться в большую страшную тайну, не давали ему покоя, и он лишь рассеянно поблагодарил матушку, почти не обратив внимания на то, что она подарила. Развернул желто-синий галстук, провел пальцем по щетинкам одежной щетки, направил лупу на лицо мадам Баллю, у которой глаза тотчас превратились в автомобильные фары. Бросив взгляд на фотографии детей, пробормотал: «Миленько», – а подпись на обороте даже не прочитал. Подавленной Эфросинье осталось лишь мысленно помянуть свой тяжкий крест, чей груз становится все невыносимее.
Наконец Жозеф вышел из задумчивости, и в этот момент Фюльбер Ботье протянул ему офицерский кремневый пистолет:
– С днем рождения, мой мальчик! Это коллекционный экземпляр, сделан в тысяча восемьсот пятом году. Я купил его у Тирольца.
– У тирольца? А он спел вам йодль?
– Ты с ним знаком, это мой сосед по набережной Жорж Муазан, тот, что носит тирольскую шляпу с перьями. Нет-нет, дамы, не беспокойтесь, этим оружием никого нельзя убить, оно декоративное.
Произнеся слово «убить», Фюльбер сделался белым как полотно. Эфросинья, перед глазами которой возник труп подруги, сжала зубы, покачнулась и схватила Виктора за руку. Рауль Перо немедленно налил обоим по второй рюмке кюммеля.
– Не налегайте на горячительные напитки, или упомянутая драма Жюля Мари разыграется прямо здесь, – предупредил Кэндзи. – Жозеф, мы с Джиной хотим преподнести вам эти две книги, чтобы вы совершенствовали свой английский.
Жозеф посмотрел на переплеты: «The Big Bow Mystery» Израэла Зангвилла и «Murder Considered as One of the Fine Arts»
[938] Томаса де Квинси. Слова «mystery» и «murder» снова всколыхнули в нем подозрения относительно троицы заговорщиков. «Вот дела! Эти конспираторы меня за дурака держат, что ли? Тут явно что-то кроется… Ну ничего, я их выведу на чистую воду!»
Когда вся компания во главе с именинником покинула пивной ресторан и пришло время расставаться у церкви Сен-Жермен-де-Пре, Эфросинья упросила сына заночевать у нее в доме.
– Тревожно мне как-то, – пожаловалась она. – Я словно будильник проглотила, и он у меня внутри тикает.
– Ну, мы столько всего слопали и выпили, что это может оказаться не просто будильник, а часовая бомба! – хмыкнул Жозеф.
– Нет, котеночек, дело не в пирушке. Неспокойно мне что-то, боюсь оставаться одна сегодня ночью.
Жозеф сдался, и Виктор с Таша проводили семейство Пиньо до улицы Висконти, а потом отвели Айрис на улицу Сены. С Мелией было заранее условлено, что детей она приведет домой следующим утром.
– А ты не боишься оставаться одна? – спросил Виктор сестру на прощание.
– О нет! – засмеялась Айрис. – Впервые за долгое время у меня есть шанс насладиться тишиной, и я им воспользуюсь!
Виктор обнял ее и внезапно понял, что за последние месяцы они отдалились друг от друга. И пожалел об этом отчуждении.
Жозеф, едва войдя в дом, собрался уединиться в своей бывшей комнате, но, заметив растерянность и уныние на лице Эфросиньи, подошел к ней и неловко пробормотал:
– Знаешь, матушка, я тебя очень люблю.
Эфросинья открыла рот, но не смогла произнести ни слова – у нее перехватило дыхание. А в следующий миг она разрыдалась и упала на грудь сына. Он отвел ее на кухню, усадил на стул и, как в прежние времена, поставил завариваться чай.
– А здесь ничего не изменилось… Ну полно, матушка, хватит реветь, я от этого совсем перестаю соображать. И вообще рядом с тобой я всегда чувствую себя не умнее ребенка.
– Не говори глупости, котеночек… Спасибо, что остался… просто я… мне… Нет, никак не соберусь с духом, это выше моих сил! – Она высморкалась, повздыхала и все-таки решилась: – Я должна тебе все рассказать, иначе у меня сердце лопнет, мне это дело покоя не дает, прям места себе не нахожу, в общем, подруга моя Филомена взяла и сыграла в ящик, то бишь не в ящик, а прямо в котел с конфитюром она сыграла, бедолага, и если бы не перепутанные книжки, никогда бы я того ужаса не увидела, а я увидела и теперь, если книжка та, которая не та, найдется, не ровен час за решеткой окажусь! – выпалила Эфросинья и, обессиленная, схватилась за голову.
– Матушка, погоди, я ничего не понял, – нахмурился Жозеф. – Ну-ка сделай глубокий вдох, выдох, а теперь давай все с самого начала, по порядку и с подробностями.
Эфросинье с охами и вздохами удалось наконец связно изложить историю Филомены Лакарель, и после этого настало время Жозефа хвататься за голову. На него нахлынули чувства смятения и гнева. Смятения – от того, что его мать оказалась замешанной в деле об убийстве. Гнева – от того, что ему соизволили сообщить об этом только сейчас.
– Я для нее частенько рецепты переписывала, для Филомены, – продолжала Эфросинья, – и собирала ей пустые банки и горшочки под варенье. Ты не волнуйся, котеночек, из-за «Трактата о конфитюрах» – месье Виктор уже поставил его на место у вас в лавке. И что бы я без него, без месье Виктора, делала?
– Он должен был мне сразу все рассказать! – сердито воскликнул Жозеф.
– Ну, он ведь вообще не слишком разговорчивый…
– Неразговорчивый?! Темнила он, вот кто! Слушай, матушка, иди спать, уже поздно… А та, вторая книжка, которую тебе Филомена по ошибке отдала, она где?
– Уф… дай-ка припомнить…
– А как она хоть выглядит?
– Ну, точно так же, как ваш «Трактат о конфитюрах», – в таком же переплете, под мрамор, знаешь, красно-голубом, иначе я сразу поняла бы, что мне не то подсунули…
– Ладно-ладно, успокойся и постарайся заснуть, я буду в соседней комнате.
У себя в спальне Жозеф свалил подарки в кучу на кровать и присел на краешек. Чувствовал он себя неуютно. Взгляд упал на две английские книги. «Mystery, murder… А меня, значит, отстранили от дела. Я, значит, Человек-невидимка… Ну уж я им подложу жирную свинью, этим трем мушкетерам! Проще всего будет облапошить Перо – он не устоит перед моей неслыханной щедростью и быстро капитулирует. Я знаю, чем его задобрить: у меня есть кое-что для его букинистического прилавка, вроде бы эти „кирпичи“ должны быть в каретном сарае…»
Жозеф на цыпочках, чтобы не потревожить мать, пробрался в свое хранилище. Обозрел огромные стопки журналов и газет, копившихся десятилетиями. На верхней полке этажерки нашлось то, что он искал: четыре тома в бежевых картонных переплетах с названием «Хроники Жана Фруассара»
[939].
«Переплет под мрамор, красно-голубой, матушка сказала… Эх, если бы у меня среди этого хлама нашлась марморированная бумага, я бы обернул в нее „Хроники“… Главное – сбить Перо с толку и повести разговор так, чтобы заставить его проболтаться».
Жозеф перебрал гравюры на дереве, литографии, географические карты, лубочные картинки. Из марморированной бумаги нашел только коричневую и зеленую и уже собирался отказаться от дальнейших поисков ввиду неподъемности задачи, когда ему в голову пришла мысль заглянуть в сундучок с военными реликвиями.
– Ух ты черт!
Там, под перевязью, побитой молью, лежала тоненькая книжица в переплете, оклеенном марморированной красно-голубой бумагой. Из книжицы выпал обрывок красной бечевки. Пролистав страницы, Жозеф сделал вывод, что это две рукописи, принадлежащие перу двух разных людей. Первая часть была написана на велени, текст – на латыни и французском. Во второй, на тряпичной бумаге, не хватало листка – его вырвали. Дневники? Слово за словом Жозеф принялся разбирать замысловатый почерк:
…Марго Фишон раскрыла волшебную тайну, под покров коей давно пытаюсь проникнуть и я. На случай ежели мне это не удастся, оставляю в распоряжение посвященных, что придут мне на смену, разрозненные знаки, каковые, льщу себя надеждой, позволят завершить поиски, которым посвятил я всю свою жизнь…
Жозеф озадаченно закрыл манускрипт.
– Ну и тарабарщина! Что почерк, что слог… Ребус, что ли, какой-то? Разберусь с этим завтра, потому что сейчас…
Сейчас Жозефу, всегда плохо переносившему алкоголь, чинила препятствия смесь пива, белого вина и кюммеля. Он растянулся на скрипучем канапе и мгновенно погрузился в сон, населенный смутными образами. Сюжет будущего романа-фельетона смутно проступал в болоте из конфитюра, где увязла толстая пожилая женщина, и в каждой руке у нее было по книжке…
Глава десятая
Суббота, 15 января
Райская улица, славившаяся магазинами фаянса, фарфора и хрусталя, приютила и другие заведения. Среди них – шляпный бутик Анни Шеванс, завлекавший публику двумя витринами с гроздьями причудливых головных уборов всех цветов радуги. «Шикарная шляпка» – гласила вывеска, на которой ярко-желтые буквы разместились полукругом над, конечно же, шляпкой – розовой и украшенной вишенками.
Бутик был в почете у людей искусства, инженю и шансонеток, совершавших на него набеги в конце недели после разорительных походов по салонам готового платья.
В тесном торговом зальчике клиенток принимали две дамы в летах, они же вели бухгалтерский учет. В конце коридорчика между двумя примерочными, такого маленького, что его можно было бы и не заметить, находился кабинет хозяйки, весьма скромно обставленный: стол, заваленный книгами и журналами, стул и шкаф. Так или иначе, мечта Анни Шеванс, взлелеянная в отрочестве, проведенном в шляпных мастерских, воплотилась: ей хотелось создавать оригинальные и экстравагантные головные уборы, призванные задавать тон, не слишком уступая вульгарному вкусу почтенной публики. Анни годами каждую свободную минутку искала вдохновения, разглядывая старинные гравюры, которые скромный бюджет позволял ей покупать на набережных букинистов. Она восхищалась головными уборами времен Генриха III, Генриха IV, Людовика XIII. Изучала костюмы на полотнах великих мастеров – от Рубенса до мадам Виже-Лебрен
[940], – знала все картины Лоуренса и Гейнсборо. Современные художники ее мало интересовали, и в самых удачных и смелых творениях завоевавшей некоторую славу модистки прослеживался некий налет старины.
Анни была единственной дочерью надомной вышивальщицы, овдовевшей в двадцать два года и воспитавшей дочь в одиночку. «Ты станешь настоящей леди, клянусь тебе!» – повторяла мать, мечтая о том, чтобы девочка получила все то, чего не добилась она сама. С ее точки зрения, самой завидной была судьба модистки. Эти труженицы иглы, принадлежащие к мелкобуржуазным кругам, считались аристократией среди швей и портних, отличались светскими манерами и более высоким уровнем образования. И Анни Шеванс соответствовала. Она росла старательной, послушной девочкой, помогала матери и в юности тоже проявляла удивительное благоразумие – никаких танцулек по субботам, никаких мужчин. Никогда не выходила на улицу простоволосой, не разгуливала под ручку с окрестными шалопаями, а на ее безупречно чистой юбке нельзя было найти ни единой приставшей ниточки.
Благовоспитанная, добродетельная, прилежная и уверенная в себе Анни постигла все премудрости выбранной профессии: сначала она была простой работницей шляпной мастерской и делала каркасы для головных уборов, затем стала аппретурщицей и обтягивала каркасы тканью, дальше – гарнитурщицей, и наконец, старшей модисткой. Она быстро поняла, что нынешние женщины скорее купят три шляпки по двадцать франков, чем одну за шестьдесят, и разрабатывала элегантные, но недорогие модели. И вот итогом долгих лет упорного труда стал салон на Райской улице – Анни очень нравилось название. Сейчас она подумывала подыскать себе в мужья какого-нибудь министерского чиновника и твердым шагом продолжала идти в светлое будущее.
Не менее твердым шагом в это студеное безоблачное утро к бутику «Шикарная шляпка» приближались коричневые башмаки. Их каблуки гулко стучали по пустынному тротуару.
Фонарщик в синем картузе, рабочей блузе из суровой ткани и в армейских усах один за другим гасил газовые фонари на улице Висконти.
Эфросинья встала в отвратительном настроении, скорбная ревматическими болями в шее, разыгравшимся люмбаго и колотьем в правой ноге. Заключив, что ей не вынести эту тройную муку без чего-нибудь бодряще-укрепляющего, и убедившись, что ее обожаемый отпрыск храпит без задних ног в своей комнате, толстуха угостилась кусочком сахара, смоченным в шартрезе. Обнаружила, что сахар, смоченный в шартрезе, – это волшебно, и позволила себе второй кусочек. Воспрянув духом, она умылась, оделась и приготовила завтрак для сына: огромная чашка кофе со сливками, пять бутербродов с маслом и миска чернослива.
Когда сонный Жозеф с опухшими после вчерашних возлияний глазами и вихром, торчащим на затылке, уселся за стол перед этой горой съестного, он лишь поморщился и ограничился двумя глотками кофе, совсем белого от сливок, с половинкой бутерброда.
– Который час?
– Восемь, котеночек.
– Почему ты не разбудила меня пораньше? Мне еще надо забежать к Айрис, а потом в лавку.
– Я тоже собираюсь на улицу Сены – надеюсь, эта бестолочь Мелия уже приведет к тому времени детей. Ну-ка кушай чернослив скорее, он очень полезен для кишечника.
– Спасибо, у меня кишечник и так в порядке, – проворчал Жозеф, отодвигая миску подальше. – Скажи-ка, матушка, а та книга в переплете под мрамор, которую ты по ошибке забрала у своей подруги…
– Нет-нет, это она по ошибке мне ее отдала, бедняжка.
– Ну да… Так что это за книга?
– Э-э… Да я толком и не поглядела, засунула ее куда-то, теперь и не вспомню. Что ты пристал со своей дурацкой книжкой?
Жозеф молча помахал у нее перед носом томиком в марморированной бумаге, найденным накануне.
– Ах, ну надо же, тебе страшно повезло, что ты откопал ее в таком бардаке!
– Расскажи мне о Филомене Лакарель. Ты знаешь ее подруг?
Эфросинья недовольно запыхтела и, воспользовавшись тем, что сын подошел к раковине вымыть чашку, закинула в рот еще пару кусочков сахара с шартрезом.
– Уа… бе… не… уа… бе… да… – гордо проговорила она с набитым ртом.
– Что? У тебя беда? – забеспокоился Жозеф.
– Я тебе не ябеда! – повторила Эфросинья, проглотив лакомство. – И про Филомену я мало знаю, кроме того, что она души не чаяла в генерале Буланже и в конфитюрах… А, вот сейчас вспомнила, Филомена придумала что-то вроде клуба, ну, знаешь, как у богатеев заведено – они там всякие сигары раскуривают и сплетничают почем зря. То есть Филомена сигары не раскуривала, понятно, у нее клуб, как у тех расфуфыренных фиф, которых ты называешь «тетеньками», – фифы тоже сплетничают в своих аристократических клубах напропалую, только не сигары курят, а веерами машут, бездельницы…
– Матушка, давай по существу. Что за клуб организовала Филомена?
– Клуб, где они с приятельницами обсуждали конфитюры, делились рецептами и всякими хитростями приготовления. Меня она тоже хотела туда заманить, но я наотрез отказалась: конфитюр – оно, конечно, вкусная штука, полакомиться я всегда готова, но чтобы сварить, тут я не дока, хотя есть у меня одна поваренная книга…
– Матушка, про клуб, пожалуйста.
– Название у него какое-то дурацкое… «Чего-то-там-ежки». – Эфросинья опять потянулась к бутылке шартреза.
– «Сладкоежки»? «Белоснежки»? – раздраженно подсказал Жозеф.
– «Фруктоежки»! – вспомнила Эфросинья. – Точно! Конфитюры свои они не продают – соберутся у кого-нибудь из клубниц и давай пробовать, что сами наготовили, и обсуждают, и дарят подругам горшочки с вареньем. Меня вот Филомена тоже угощала, а я Айрис отнесла, Дафнэ ужас как довольна была…
– А «клубниц» этих ты знаешь?
Эфросинья поскребла в затылке.
– Память у меня никудышная, котеночек, старая и сморщенная, как вот этот чернослив. Напрасно ты не ешь, я его в соке вымачивала сутки, нежненький он… Да, двух «фруктоежек» я встречала у Филомены за чашечкой кофе. Одна в булочной-кондитерской работает, вроде Шанталь ее зовут, а второй имя запамятовала, она модистка, держит шляпный бутик на улице с таким прелестным названием… угадай-ка сам это название, я туда попаду после смерти наверняка, с моей-то беспросветной жизнью!
– Адский пассаж? – предположил Жозеф.
– Смейся над матерью! Райская улица. Рай-ска-я!
Молодой человек поднялся, накинул куртку, нахлобучил на голову подаренный женой котелок и сунул книжицу в марморированном переплете в карман. Эфросинья вцепилась ему в рукав:
– Уже уходишь? Бросаешь родную мать на краю погибели? Я же сказала, что проведаю Айрис сама, скоро пойду на улицу Сены, посиди еще немножко, котеночек!
– Извини, матушка, мне пора. Если вспомнишь имена подруг Филомены, запиши их, пожалуйста.
– Иисус-Мария-Иосиф! – вздохнула Эфросинья, подставляя сыну щеку для поцелуя.
Фюльбер Ботье неприкаянно брел по коридору префектуры полиции. Мало ему было безголового трупа в ящике вместо книг, тут еще подоспела новость об убийстве Филомены Лакарель, и это окончательно его обескуражило. Он заметил примостившегося на банкетке Виктора Легри и устремился было к нему, чтобы выведать подробности, но так и не успел ничего спросить – мимо двое стражей порядка проконвоировали мрачного типа в наручниках к отделу антропометрии, а в следующий миг открылась дверь кабинета, оттуда вышел не менее мрачный Рауль Перо, и дверь закрылась. Виктор лишь обменялся с Фюльбером приветствиями.
– Скоро он вызовет вас, – сказал Рауль Перо. – Пока оценивает ситуацию и высокомерен более обычного. Отчитал меня как школьника, но единственное предъявленное обвинение состоит в том, что я отбился от стада под названием «полиция» и осмелился заняться тем, что месье Вальми изволил обозначить как «подработка клошара». К концу беседы он, правда, немного смягчился – вероятно, потому, что у него теперь просторный кабинет.
– Господина инспектора повысили? – поднял бровь Виктор.
– О да, вознаградили за то, что он раскрыл дело об убийстве на Тронной ярмарке в прошлом году
[941]. Месье Вальми теперь старший комиссар.
– Дело раскрыли мы с Жозефом, – с горечью заметил Виктор. – Да ладно, бог с ним. Что вам удалось разузнать?
– Вальми получил рапорт об убийстве гражданки Лакарель. Судебный врач вынес заключение, что она была мертва уже три дня к тому времени, как полицейские обнаружили тело тринадцатого числа вечером, то есть убийство произошло десятого. Соседи рассказали, что гражданка Лакарель была завсегдатаем набережной букинистов и якобы затоваривалась там историческими документами на велени за сумасшедшие деньги, пойди пойми зачем – названия и содержание ее не интересовали. Вальми уверен, что раз уж Филомена Лакарель постоянно бывала на набережной Вольтера и знала всех букинистов, без сомнения существует связь между ее убийством и вашей находкой в виде трупа без головы.
Фюльбер сорвал с носа темные очки и начал нервно протирать стекла.
– Вот уж совершенно в его духе! – воскликнул Виктор. – Установить связь между двумя преступлениями без единого доказательства! У него есть для этого какие-нибудь основания?
– Понятия не имею, – пожал плечами Рауль Перо. – Что касается гражданки Лакарель, я и словом не обмолвился о вашем визите в дом покойной. Но уж ваше присутствие рядом с безголовым трупом скрыть не удалось. Вальми возликовал! Разве что не облизнулся в предвкушении, как кот при виде мыши. Я попытался его убедить, что вы оказались на набережной случайно, но он заявил, что дыма без огня не бывает. По-моему, он вас сильно недолюбливает, месье Легри.
– Вообще-то он должен быть сильно благодарен мне за повышение в должности и улучшение рабочих условий, – кивнул Виктор на дверь кабинета.
Рауль Перо усмехнулся:
– Позвольте дать вам совет: не болтайте при нем лишнего, ибо господин старший комиссар начисто лишен чувства юмора. Держите рот на замке – пусть полиция сама распутывает это дело. А сейчас должен вас покинуть – надо воспользоваться периодом затишья, чтобы окончательно разобраться с книжками.
– А как же я? – осмелился напомнить о себе Фюльбер Ботье.
– О, не волнуйтесь – ваш черед настанет!
Старший комиссар Огюстен Вальми достал из футляра коротенькую металлическую пилку и принялся осторожно обрабатывать ноготь на большом пальце левой руки. Через три минуты он прервался и окинул взором кабинет, пребывавший в его распоряжении уже две недели. Самые восхитительные залы Лувра, на вкус Вальми, не шли ни в какое сравнение с этой комнатой идеальных пропорций. Теперь можно было забыть навсегда про обои с кошмарными коричневыми прямоугольниками, изводившими его каждый день в прежнем кабинете! Здесь по приказу Вальми стены выкрасили в белый цвет. На одной висела огромная карта Парижа, на другой – два посредственных гуашевых портрета: Фуше и Видока. Стоял письменный стол со множеством ящиков, конторская мебель скрывала перегородку, за которой находилась туалетная комната с умывальником и зеркалом. Сам комиссар восседал на высоком кресле, возносившем его над посетителями, для которых был отведен шаткий стул по другую сторону стола.
Решив, что книготорговец достаточно умаялся ждать и созрел для беседы, Огюстен Вальми поднялся, потянулся и выглянул в коридор:
– Месье Легри, не будете ли любезны уделить мне пару минут?
Виктор вошел в кабинет с такой неохотой, словно его там ждал зубной врач. Огюстен Вальми ничуть не изменился: серо-голубые глаза поблескивали на узком флегматичном лице, черные набриолиненные волосы, разделенные прямым пробором, плотно прилегали к черепу, костюм сидел безупречно. На вешалке висело пальто из вигоневой шерсти, из его кармана торчали замшевые перчатки.
Виктор опустился на неудобный стул.
– Мне нужно в лавку…
– Я не отниму у вас много времени, месье Легри. Как вам мой новый кабинет?
– Немного аскетичный, напоминает больничный приемный покой.
– Скорее лабораторию. В каком-то смысле я занимаюсь здесь научными исследованиями человеческой природы – людских пороков, плутней, лжи. Вас, кстати, я тоже изучаю. Вы весьма любопытный экземпляр. Странным и пока необъяснимым для меня образом вечно оказываетесь поблизости от трупов. Поговорим, к примеру, о том, который без головы.
– Я действительно был рядом, когда его нашли, но очутился там по чистой случайности.
Комиссар Вальми едва заметно улыбнулся и снова взялся за пилочку.
– А запах вас не заинтриговал?
– Запах? Вы намекаете на человека по прозвищу Вонючка, букиниста с набережной Вольтера?
– У этого букиниста, насколько мне известно, есть имя – Франсуа Вержю. Перестаньте паясничать, месье Легри. Глумление над полицейским при исполнении – тяжкое правонарушение.
– Я предельно серьезен.
– Я тоже. – Комиссар направил на Виктора пилочку. – Я говорю о характерном запахе засахаренных фруктов. Тело жертвы было обмазано фруктовым конфитюром.
– Очень странно… Нет, я запаха не почувствовал – мне было очень не по себе, знаете ли, и я не подходил близко. – Виктор изо всех сил старался сохранить непроницаемое выражение лица, но внутри уже сгорал от нервного возбуждения. То, что он услышал от Огюстена Вальми, нельзя было не соотнести с тем фактом, что Филомена Лакарель увлекалась конфитюрами. Неужели Вальми оказался прав – два убийства связаны?
– Вы меня не проведете, Легри, – прищурился комиссар. – Я видел в ваших глазах проблеск интереса. Предупреждаю: не лезьте на мою делянку, умерьте ваше любопытство.
– Не понимаю, о чем вы.
– Ваш приятель Перо наверняка рассказал вам о смерти одной любительницы прогулок по набережной букинистов. – Вальми открыл папку с бумагами и ткнул пилочкой в имя на первой странице. – Филомена Лакарель, рантье, бывшая уборщица. Я не потерплю вмешательства в свою работу и, если вы будете путаться у меня под ногами, приму все меры, чтобы засадить вас под арест на неопределенное время. Поверьте, предлог найдется. Ваша очаровательная супруга страшно расстроится, зато я смогу спокойно делать свое дело. Вам ясно?
– Кристально ясно, господин старший комиссар.
– С другой стороны, избыток сведений – тяжкое бремя, сведениями надобно делиться… – Огюстен Вальми окатил Виктора ледяным взглядом. – Ну-с, есть желание поделиться, облегчить душу? Нет? Можете быть свободны.
– Всего хорошего, господин старший комиссар, благодарю за приятную беседу.
– Передайте Фюльберу Ботье, что я его жду, – процедил Вальми сквозь зубы, когда Виктор направился к двери.
В бледном солнечном луче, пробившемся в лавку «Эльзевир», плясали пылинки. С трудом балансируя на стремянке, Жозеф выравнивал на полке восемь томов восхитительной Библии издания 1667 года в сафьяновых переплетах Буайе, краем глаза приглядывая за клиентами, увлеченно вносившими беспорядок в ряды книг. От незнакомых посетителей всего можно ожидать – не ровен час стащат какой-нибудь ценный экземпляр. Он с облегчением вздохнул, услышав легкие шаги спускавшегося по винтовой лестнице Кэндзи и его приглушенный голос – японец осведомился о здоровье месье Мандоля, месье Фрике и мадемуазель Миранды.
Жозеф воспользовался появлением совладельца, чтобы улизнуть из лавки. Но сразу же насладиться свободой ему не удалось – на улице дорогу заступила мадам Баллю.
– Нуте-с, месье Пиньо, какой историей вы порадуете нас, читателей, в нынешнем году? – вопросила она, стоя посреди тротуара с метлой наперевес и в шиньоне набекрень. Консьержка благодушно жмурилась и напоминала спаниеля, разнежившегося на робком зимнем солнышке.
– Я ж не курица, а роман-фельетон – не яйцо. Сюжет должен хорошенько созреть, и вдохновения опять же дождаться нужно. Ну и спокойная обстановка необходима, чтобы воплотить прожект.
– Да уж, спокойствие вам, надо думать, только снится, с двумя-то ребятишками… Но с ними же ваша матушка сколько нянчится, а в лавке вам совладельцы подсобят.
– За кого это вы меня принимаете? За бездельника, только на чужую помощь и рассчитывающего? Да я работаю как проклятый, мадам! – С этими словами Жозеф решительно устремился в сторону бульвара Сен-Жермен.
Мадам Баллю чуть метлу не выронила.
– Ах эти мужчины, никогда не знаешь, что у них в голове, обижаются по пустякам…
Жозеф перешел на прогулочный шаг и немного отдышался только на подступах к газетным киоскам. Он купил «Пасс-парту» и рухнул на скамейку, до того обессиленный, что даже читать не мог. Съеденная накануне кислая капуста, ночь, проведенная в доме у матери, таинственный манускрипт, написанный двумя почерками, мадам Баллю – слишком много неприятных моментов… Вздохнув, молодой человек развернул газету и прочитал заметку:
ОБЕЗГЛАВЛЕННЫЙ ТРУП
в ящике букиниста
14 января г-н Фюльбер Ботье, букинист с набережной Вольтера, обнаружил в одном из своих ящиков для книг полуодетый труп мужчины без головы. Личность убитого установить не удалось. Полиция в поисках хоть каких-то сведений о нем допрашивает книготорговцев, чьи букинистические стойки располагаются поблизости от кошмарной находки…
Жозеф вскочил и помчался обратно на улицу Сен-Пер, на ходу перечитывая заметку. По пути у Школы мостов и дорог он толкнул двух студентов, немедленно осыпавших его бранью, а у входа в «Эльзевир» чуть не сбил с ног Виктора, в этот самый момент пытавшегося закатить велосипед в лавку.
– Что-то вы рано сегодня. Не спится? – съехидничал Жозеф.
– Нет, педали не крутятся. Что за мрачный вид? Плохие новости в прессе? Золя?
– Не пытайтесь увести разговор в сторону. Хотелось бы мне знать, где вы пропадали все утро, – проворчал молодой человек, следуя за шурином в подсобку, где тот собирался оставить велосипед.
Клиенты уже разошлись, а Кэндзи поднялся к себе.
– Я только что прочитал заметку, которая весьма меня впечатлила, – начал издалека Жозеф. – Прегнуснейшее убийство. Ни за что не догадаетесь, где обнаружен труп и в каком виде.
– Полагаю, речь идет о незнакомце без головы на набережной букинистов или о Филомене Лака… – Виктор осекся.
Слишком поздно – Жозеф, красный от возмущения, надвинулся на него:
– Ага, проговорились! В газете нет ни слова о Филомене Лакарель! Но и вы, и матушка, и Рауль Перо были в курсе, а мне ничего не сказали!
– Не кричите, Жозеф, Кэндзи услышит. Мы не хотели впутывать вас в эту историю, но вы и без нас впутались – с вас, собственно, все и началось, за что я должен вас сурово отчитать. Вы позаимствовали из нашего фонда очень дорогое издание – «Трактат о конфитюрах». Эфросинья одолжила его своей подруге Филомене Лакарель, та по ошибке вернула ей другую книгу в таком же переплете, ваша матушка, заметив ошибку, отправилась к Филомене обменять книги и обнаружила ее мертвой с разбитой головой. Запаниковала и бросилась ко мне за помощью. Это было в тот самый день, когда вы устроили здесь публичные
чтения открытого письма Золя.
– Утечка газа! Это было вранье!
– Можно и так сказать, – холодно кивнул Виктор и продолжил: – Я в свою очередь обратился за помощью к Раулю Перо, и мы вместе пошли в дом покойной Лакарель за «Трактатом», до того как известили об убийстве полицию. Разумеется, этот визит нужно было сохранить в строжайшей тайне.
Сконфуженный Жозеф умолчал о том, что с некоторых пор та самая книга, которую по ошибке Филомена отдала Эфросинье, находится в его распоряжении и надежно спрятана в каретном сарае. Он сгорал от нетерпения поскорее прочитать таинственный дневник. А уж потом можно будет показать его Виктору.
– А этот безголовый покойник с набережной Вольтера? – Жозеф сунул шурину под нос газету. – Вы, похоже, всё об этом знаете. Надеюсь, моего крестного еще не арестовали?
Виктор закашлялся при воспоминании об отвратительном зрелище.
– Нет. Но ему крупно не повезло – кто-то засунул обезглавленный труп в его ящик для книг. Это было… впечатляюще.
– И вы молчали! Крестный показался мне в ресторане каким-то странным, но я и подумать не мог…
– Мы не хотели портить вам день рождения. Фюльбер держал рот на замке, и вашей матушке мы тоже ничего не сказали – ей и так досталось. И потом, она известная сплетница…
– Не смейте говорить дурно о моей матушке! – возмутился Жозеф.
«И правда, что это я?» – рассеянно подумал Виктор. Он подошел к большому столу в центре торгового зала, машинально взял метелку из перьев и смахнул пыль с разложенных на зеленом сукне книг.
– Вы тоже помалкивайте о том, что услышали, Жозеф. Сейчас не те времена, когда нужно привлекать к себе лишнее внимание. Особенно нам с вами. Подумайте о наших семьях – общество настроено против чужеземцев.
– Как по-вашему, эти два преступления связаны?
– Не знаю и знать не желаю. Вальми не дремлет и не питает ко мне симпатии. Не стоит рисковать… – Виктор поколебался немного и все же сообщил Жозефу, что безголовый труп был вымазан конфитюром.
– Ну дела! Если вы будете и дальше утаивать подробности такой важности, мы ни на шаг не продвинемся! – разбушевался молодой человек, решивший, что лучшая защита – это нападение, и не обративший внимания на слова Виктора о чужеземцах и риске. – Конфитюром… У меня появилась идея для нового романа-фельетона под названием «Смертельный Новый год»: в нем будет персонаж-диабетик, у которого стремительно падает уровень сахара…
– Захватывающе! Послушайте, Жозеф, не вы ли говорили мне что-то об убийстве надомного книготорговца?
– Я-то говорил, но вы сделали вид, что вас это ничуть не заинтересовало. Книготорговца звали Состен Ларше.
– Его связали бечевкой, если я не ошибаюсь?
– Именно бечевкой. А что?
– У вас сохранилась та заметка?
– Конечно, в тетрадке со всякой всячиной. Погодите, вы думаете…
– Ничего я не думаю, просто проверял тут счета и решил удостовериться, что Состена Ларше не было в числе наших поставщиков. – Внешне Виктор был невозмутим, но мысль его в это время лихорадочно работала, пытаясь привести в порядок разрозненные сведения.
А сознание его зятя раскололось на двух маленьких Жозефов: один требовал немедленно затеять расследование убийств с запахом фруктового конфитюра, второй заявлял, что два добропорядочных отца семейства не имеют права подвергать новой опасности себя и своих близких.
– Но ведь не будет ничего страшного в том, что мы побеседуем с подругами покойной Филомены Лакарель? – неуверенно спросил он наконец. – Матушка сказала, она организовала что-то вроде клуба любительниц конфитюров, они называют себя «Фруктоежки».
– Я смотрю, в вашем распоряжении тоже есть кое-какие важные подробности, которыми вы не спешите делиться, – скрестил на груди руки Виктор.
– Вот пожалуйста: делюсь. Матушка припомнила двух «фруктоежек». Одну зовут Шанталь, она работает в булочной-кондитерской. Имя второй неизвестно, но она модистка.
– Если вы не знаете их фамилий, желаю удачи в долгих поисках.
– Ну, положим, булочных-кондитерских действительно пруд пруди, зато у модистки бутик на Райской улице, поговорим с ней и всё разведаем про остальных. И не смотрите на меня так. Мой крестный в беде, представляю, что у него сейчас на душе творится, – надо непременно ему помочь. Вчера вечером он был с нами в ресторане, но труп-то ему подбросили утром, а стало быть, он – подозреваемый! К тому же матушка сказала, что Филомена частенько бывала на набережной букинистов, отсюда можно сделать вывод, что Фюльбер был с Филоменой знаком… Два убийства, черт возьми, вы это понимаете?
– Два убийства? Однако! – раздался голос Кэндзи, стоявшего на винтовой лестнице.
– Это я о своем новом романе-фельетоне, – не моргнув глазом соврал Жозеф.
– Принимаете меня за идиота? – осведомился японец. – Сообщения о трупе без головы в ящике вашего крестного на первых полосах всех бульварных газет. Кто вторая жертва?
– Женщина…
– Что за женщина?
– Понятия не имею.
– Мой вам совет: обуздайте любопытство и не пытайтесь это выяснить. В последние годы вы оба только и делали, что играли с огнем. Кстати, у меня печальная новость – вчера умер Льюис Кэрролл.
– Ох черт! – вырвалось у Жозефа. – А сколько ему было лет?
– Шестьдесят шесть, на семь лет старше меня. Жозеф, поставьте на витрину «Алису в Стране чудес» и «Алису в Зазеркалье». В издательстве Фаскеля только что вышел «Сирано де Бержерак», закажите двадцать экземпляров. Свяжитесь также с издательским домом «Сток», попросите прислать все новинки до двадцать второго января. Прежде всего меня интересуют «Серьезный клиент» Жоржа Куртелина и «Вор» Жоржа Дарьена. Виктор, я иду на набережную Сен-Мишель, мне обещали показать редкие книги по умеренным ценам. Хочу, чтобы вы составили мне компанию.
Не обратив ни малейшего внимания на протесты совладельцев (Жозеф не хотел оставаться в лавке один, а Виктор не желал уходить), Кэндзи галантно поклонился вошедшей в торговый зал клиентке и потащил приемного сына к набережным Сены.
По пути они не обменялись ни словом. На набережной Гранз-Огюстен понаблюдали за старым букинистом, папашей Гренайем, втихаря покупавшим у лицеиста книги, которые тот наверняка стащил из родительской библиотеки. Чуть поодаль задержались у букинистической стойки упитанной дамы, специализировавшейся на подделках: она продавала фальшивые гравюры с фальшивыми подписями Дюрера и Калло, фальшивые автографы, фальшивые первые издания, фальшивые древнеримские пергамены.
– Месье Мори! Я раздобыла целую стопку требников семнадцатого и восемнадцатого веков! – похвасталась она.
– Благодарю, мадам Элиана, эти века, без сомнения, оставили нам в наследство изрядное число отменных проповедей, однако же и несметное количество неудобоваримых религиозных текстов. Впрочем, если вы снизите оптовую цену втрое…
– О нет, на это я пойти не могу, месье Мори! – Мадам Элиана досадливо наморщила нос и переключилась на элегантную даму, проявившую интерес к молитвеннику с золотым обрезом.
– Мы так и будем здесь стоять? – тихо спросил Виктор у японца. – Мадам Элиана сразила вас женским обаянием?
– Как по-вашему, какова высота букинистического ящика? – задумчиво проговорил Кэндзи.
– Метра полтора как минимум, полагаю. У всех разные. А почему вы спросили? Хотите открыть торговлю на набережной бок о бок с Раулем Перо?
– Каков был рост обезглавленного человека, найденного в ящике Фюльбера Ботье?
– От плеча до пяток?.. Думаю, с головой он был бы ростом с меня.
Кэндзи вытянул руку на уровень плеча Виктора, прикинул что-то и заявил:
– Вот и причина, по которой ему отрезали голову: иначе он не уместился бы в ящик Фюльбера.
Виктор изумленно уставился на японца.
– Чего я не понимаю, так это что подвигло убийцу выбрать для жертвы такой необычный гроб, – продолжал тот. – Быть может, он хотел жестоко подшутить над Фюльбером? Или таким образом заметал следы? А что, неглупо – теперь Фюльбер главный подозреваемый. – Кэндзи наконец-то зашагал дальше, к великому облегчению мадам Элианы.
– Неужели вы не питаете сочувствия к крестному собственного зятя? – возмутился Виктор. – Дедуле шестьдесят лет, его эта жуткая история самого в гроб загонит!
Кэндзи резко остановился и ослабил галстук-лавальер – ему вдруг стало нечем дышать. И без того узкие глаза прищурились, и в щелках появился опасный блеск.
– Через несколько месяцев мне исполнится пятьдесят девять. Никогда – слышите? – никогда не смейте называть меня «дедулей», не то я вам уши надеру! – процедил он и в следующее мгновение вдруг показался Виктору постаревшим и очень усталым.
– Простите, простите, я ни в коем случае не хотел вас обидеть! – смущенно воскликнул тот. – Вы всегда отлично выглядите! Вы бодрый и сильный, у вас мальчишеская фигура, я даже не задумывался о вашем возрасте…
– Довольно об этом, – отрезал Кэндзи, зашагав дальше. – Вы уже составили список подозреваемых?
– Э-э… нет, пока нет.
– Вот и славно. Надеюсь, вы не возьметесь за старое – это избавит вас и ваших близких от многих бед. Я достаточно ясно выразился? – Японец, не оборачиваясь, устремился в лабиринт, составленный попавшими в затор экипажами на площади Сен-Мишель.
Виктор изо всех сил старался не отставать, не глядя под ноги и не обращая внимания на грязь, маравшую новые туфли.
Фердинан Питель любил свое ремесло. Он прошел полный курс сапожного дела у старого мастера, научившего его всему, что умел сам, – от изготовления колодки до последней отделки. «Фердинан, малыш, нет ничего хуже, чем разделение труда – оно лишает человека вкуса к своему ремеслу. Когда беспрестанно выполняешь одни и те же действия, превращаешься в механическую куклу. Нынче повсюду налажено серийное производство, настало время специализации – над каждой парой башмаков работают конструктор, закройщик, отбойщик, затяжчик, сборщик и прочие по десять часов в день, всяк в своем углу. И какое от этого удовольствие? – спрашиваю я. Работник не видит конечного результата труда! А обувь между тем – произведение искусства, к тому же она должна быть подогнана по ноге, а не наоборот. Каждую пару нужно делать на заказ, парень, на заказ!» Фердинан достал тетрадку с эскизами и набросал туфлю без задника – красновато-коричневую, с позолотой. Он все время придумывал новые модели, и в каждой было что-нибудь оригинальное – сапожник комбинировал различные лекала, добавлял что-то свое. Потом выкраивал образец из картона и выставлял на этажерку в жилой комнате. Когда выдавалась свободная минутка, он изучал старинные образцы в Национальной библиотеке или в журналах, которые удавалось раздобыть на набережных у букинистов.
В картузе на буйных кудрях, в кожаном фартуке, с зажатыми в уголке рта гвоздями, молодой человек вид являл вдохновенный – точь-в-точь творец, ваяющий шедевр. Над его мастерской развевалось зеленое знамя сапожного братства Туара – родного города старого мастера, бывшего наставника Фердинана; на знамени красовалась вышитая нога. Колокола собора Парижской Богоматери звучали в такт ударам сапожного молотка. Фердинан так погрузился в работу, что не замечал течения времени и поднимал голову, лишь когда в лавку входили клиенты. Прерывался он только для того, чтобы выкурить трубку перед завтраком и вторую в полдень, поэтому в мастерской к запаху кожи примешивался аромат табака. Во время этих коротких пауз Фердинан мысленно восстанавливал хорошо изученную схему станка, который он подумывал купить осенью. Работа на станке его не слишком прельщала, но все же это позволит сэкономить время и усилия, а также уберечь пальцы, которые он всегда боялся поранить шилом.
Если бы тетушка Аделина не была такой скрягой, станок уже давно стоял бы в мастерской. Но за пять лет, прожитых у нее, Фердинан не получил ни сантима. Аделина лишь однажды проявила щедрость: позволила племяннику даром занять принадлежавшие ей две комнатушки на той же лестничной площадке, где находилась ее квартира. Каждое последнее воскресенье месяца она приглашала его на обед, состоявший из капусты или редьки, и никогда не забывала напомнить племяннику, кому он обязан своей профессией.
Скупую тетушку из его мыслей быстро вытеснил образ некой Шанталь Дарсон – круглые щечки, вздернутый носик и бледно-голубые глаза. Каждое воскресенье она стояла на птичьем рынке за прилавком, на котором в клетках ждали хозяев попугаи и канарейки, а остальное место занимали мешочки с зерном и пучки подорожника. В прочие дни Шанталь торговала пирожными в булочной-кондитерской на Севастопольском бульваре. В ее комнатке на улице Вербуа недалеко от Консерватории искусств и ремесел не смолкали птичьи трели, но жалобы соседей были напрасными – владелец доходного дома не мог устоять перед обаянием хорошенькой квартиросъемщицы.
Фердинан Питель встретил ее, когда шел с готовым заказом к клиентке на Цветочную набережную – одна заштатная актриса попросила его сшить туфли-лодочки. Он ухаживал за Шанталь изо всех сил, осыпал ее подарками, но девица была непреклонна и ни разу не пригласила к себе домой симпатичного, но слишком серьезного сапожника, которого в шутку окрестила Букой.
Сейчас Фердинан отогнал грустные мысли привычным способом: с особым усердием приколотил подметку к башмаку. Вдруг за витриной мастерской застучали шаги – молодой человек увидел, как мимо по тротуару прошел Амадей. К этому пижону Фердинан относился с недоверием – считал его подозрительным типом. Ну какой нормальный человек по доброй воле согласится играть в салонные игры с такой прижимистой ханжой, его тетушкой? Не иначе как у пижона планы на ее сбережения. Фердинан приоткрыл дверь мастерской и проводил взглядом высокую фигуру в длинном плаще, направлявшуюся к скверу Богоматери.
Приближался час закрытия. Сидевшая за кассой мадемуазель Левек скрестила пальцы, загадав, чтобы клиентка наконец определилась и ушла.
– Даже не знаю… Эта шляпка восхитительна, но она такая вызывающая… А вот эта менее броская… Что вы посоветуете, Корали?
– На месте мадам я бы взяла ту, что выглядит построже: она придаст вам достоинства и элегантности, вы же актриса. Правда, она и стоит дороже, зато как вам идет! Вам ее завернуть?
Из своего кабинетика Анни Шеванс слышала, как суетятся сотрудницы, раскладывая по местам шляпки, сваленные на банкетках.
– Уф, я думала, она тут заночует! – перевела дух Корали Левек, как только клиентка наконец покинула помещение. – Всем пока, до завтра!
Когда работницы и продавщицы разбежались по домам, Анни обошла два салона, где у стен с лакированными панелями и зеркалами, словно пышные клумбы, красовались шляпки. Одна подставка в виде гриба на длинной ножке пустовала – капор нашел покупательницу. Анни открыла дверь в рабочее помещение, постояла на пороге. Скупая, строгая обстановка свидетельствовала о серьезности, с какой каркасницы относились к своему делу. Каркасы головных уборов поступали к аппретурщицам, которые «одевали» эти скелеты, а на последнем этапе над шляпками трудились гарнитурщицы. Анни Шеванс обожала это потайное место. Здесь рождались шляпки, здесь они обретали пеструю отделку, придававшую им кокетливый, экстравагантный или изысканный вид. Подобрав два искусственных цветка и кусочек бархата, оброненные работницами, она удостоверилась, что все газовые лампы потушены, и опустила ставни на витринах.
Из бутика Анни вышла во двор, заперла дверь черного хода и поднялась по лесенке, укрытой козырьком. На третьем этаже она снимала квартиру, превращенную в бонбоньерку. Декор гостиной составляли толстый ковер, шезлонги, письменный стол, папирус на высокой подставке и комнатные растения. Домработница, прежде чем отправиться спать к себе в мансарду, позаботилась растопить камин. Анни протянула руки к пламени и вдруг поежилась от странного ощущения: как будто в комнате что-то неуловимо изменилось. Чуть-чуть нарушена симметрия в расположении двух бронзовых пастушек с гусями на каминной полке? У Анни была маниакальная страсть к порядку: каждая вещь должна находиться точно на отведенном ей месте… Модистка обошла комнаты – вроде бы ничего не переставлено. Но легкое беспокойство ее не покинуло. Немного дрожали руки – вероятно, следствие усталости. На кухне она надела фартук, закатала рукава блузки и поставила тарелку со столовым прибором поближе к печке. Эскалоп и жареная картошка оказались еще теплыми, Анни запила их бокалом розового вина, глядя на полки, уставленные горшочками с конфитюрами. Каждый был закрыт отрезком пестрой ткани, перевязанной на горлышке красной бечевкой. Поужинав, она вымыла дюжину лимонов, порезала их тонкими ломтиками, удалила семечки и положила отмачиваться в салатницу с прохладной водой. Завтра можно будет сварить конфитюр. Внезапно Анни остро почувствовала свое одиночество. Вся ее жизнь была посвящена единственной цели – добиться успеха, она только и делала, что работала не покладая рук, и вот теперь все ее ожидания оправдались с лихвой, но успех не принес ни радости, какую могла бы дать любовь ребенка, ни внутреннего удовлетворения. Да и горшочки с конфитюрами, увы, не смогли заменить ей семью.
Анни удрученно посмотрела на лимоны и вышла из кухни. Спальня показалась ей похожей на могилу. Здесь не было окон, и когда-то, чтобы восполнить этот недостаток, Анни наняла художника, чтобы он расписал стену – теперь там была панорама-тромплёй
[942], морской пейзаж в сумерках. На огромной кровати под балдахином могли бы разместиться трое, не чувствуя себя в тесноте, но сейчас Анни, глядя на это монументальное сооружение, сочла его неуместным – зачем такое ложе одинокой женщине тридцати четырех лет?..
Она переоделась в ночную рубашку, выпила валерьянки, прогонявшей бессонницу, нырнула под одеяло, погасив лампу, – и резко села на кровати, охваченная паникой: ей почудилось, что в коридоре мелькнул свет. «Только не нервничай», – сказала себе Анни, откидывая одеяло и широко раскрытыми глазами всматриваясь в темноту. Набравшись смелости, она обошла квартиру. Все было тихо. И свет ей померещился, конечно же померещился… Определенно нужно устроить себе небольшой отпуск, сходить куда-нибудь развеяться, съездить на курорт…
Анни Шеванс глубоко спала, когда темнота на пороге ее спальни сгустилась в черный человеческий силуэт. Из мрака выпросталась рука, и в ней загорелась свеча. Тень со свечой на цыпочках вошла в комнату, посмотрела на зеркало-псише и туалетный столик с подносом, уставленным флаконами духов, вздрогнула при виде обманной панорамы на стене: в неровном слабом свете свечи почудилось, будто закатное солнце падает в море кипящего масла.
Тень остановилась у огромного ложа с балдахином. Предмет, лежавший в кармане ее плаща, прекрасно подходил для того, что она собиралась сейчас сделать, но он уже побывал в деле, и полиции не составит труда его идентифицировать. А вот чугунный утюг, прихваченный в бутике, – часть местной обстановки.
Рука, готовая нанести удар, поднялась над изголовьем кровати.
Анни Шеванс никогда уже не будет страдать бессонницей.
Глава одиннадцатая
Воскресенье, 16 января
По переулкам вокруг Центрального рынка гулял пронизывающий ветер, подбирая на тротуарах обрывки бумаги, фруктовые шкурки, прочий мусор и швыряя их в окна. Сонное оцепенение, сковавшее город ночью, когда лишь колебание пламени в редких фонарях указывало на легкое движение воздуха, как рукой сняло. В повседневный шум – лай собак, вопли бродячих котов, скрежет мусорных баков, утренние перебранки замученных жизнью горожан, начинавших новый трудовой день, – вплелся стук сапог по брусчатке. Безупречно начищенных, подкованных железом сапог, которые остановились у витрины мясной лавки. Невзирая на морозную погоду, Амадей приготовился к долгому ожиданию. Длинный плащ с высоким воротником защищал его от порывов ветра, а дым короткой трубки в зубах согревал легкие.
Гаэтан Ларю любил вставать ни свет ни заря и выходить из дому, когда пассаж «Каир» еще спал и веки-ставни на витринах гравюрных мастерских и магазинов были опущены.
В темной униформе муниципального служащего и уставной фуражке, из-за которой его нередко путали с почтальоном, Гаэтан прошагал пустынным проходом, который в этот час принадлежал только ему, вышел на площадь Каира и поднял глаза к узкому балкончику своей квартиры, затем перевел взгляд выше, к трем египетским теламонам с удлиненными глазами, коровьими ушами и причудливыми прическами, и еще выше – к фризу с батальным рельефом, как в гробницах фараонов. Ему нравился этот нехитрый памятник событиям 23 июля 1798 года, когда французские войска победоносно вошли в Каир. Взволнованный воспоминаниями о первой встрече с Ангелой Фруэн под взглядами теламонов, Гаэтан Ларю залез в тряский омнибус маршрута С, и упряжка сонно доволокла его до бань на улице Вивьенн. После утренних водных процедур он оделся, обмотал вокруг талии двойной широкий пояс – рабочую амуницию первостатейной важности – и поднялся на империал другого омнибуса, направлявшегося к Елисейским полям. На человека в длинном плаще, севшего в фиакр и отправившегося вслед за омнибусом, он не обратил внимания.
Гаэтан скучал по своим обожаемым платанам на авеню Фридланда – ему не дали закончить работу на том участке. По иронии судьбы, ловкость и признанное мастерство обрезчика сучьев стоили ему перевода в самый центр, где сейчас его ждали огромные вязы, мешавшие движению на главной магистрали столицы. Для борьбы с вязами муниципалитет счел необходимым призвать виртуозного месье Ларю. «С предельной точностью оценивает сложность задачи и умеет преодолевать любые препятствия. Не боится головокружения», – нацарапала какая-то канцелярская крыса в его личном деле.
Другие обрезчики сучьев завидовали Гаэтану, считали этот перевод повышением, но сам он предпочитал менее людные места и мысленно сокрушался: «Я пешка, всего лишь пешка, вертят мною как хотят!»
Амадей, послюнявив палец, стер засохшие брызги грязи с правого сапога. Он притаился под портиком дома напротив высоченного вяза и наблюдал, как служащий муниципалитета рискует жизнью, проявляя при том непревзойденную ловкость. Обрезчик сучьев по приставной лестнице забрался на самую верхушку дерева, закрепил отходившие от пояса тросы на ветках, освободив тем самым руки, и орудовал серпом, делая глубокие надрубы в коре. Ну загляденье – цепкий и проворный, как обезьяна! Точно рассчитанный взмах серпа, удар по слишком длинной ветке – и она летит вниз, а прочие даже не задеты. Покончив с основным делом, обрезчик сучьев спустился на землю, нагрел на спиртовке смолу в горшочке и снова залез на дерево – выступление воздушного гимнаста продолжилось. Теперь он смазывал смолой нанесенные дереву раны, чтобы предотвратить гниение древесины, и Амадею, завороженному этим зрелищем, пришел в голову сумасбродный сюжет в гофманском духе: просвещенный медик, излюбленный персонаж немецких романтиков, находит изрубленный в куски труп и пытается склеить его с помощью особой смолы… Да, Эрнст Теодор Амадей Гофман состряпал бы из этого премилую сказочку!
Гаэтану Ларю тем временем осталось обрубить толстое ответвление ствола, нависшее над проезжей частью. Он погладил шершавую кору и шепнул дереву, что это крайне необходимая операция, но все будет сделано аккуратно и не больно, с учетом направления волокон древесины и ствольной структуры. Гаэтан умел разговаривать с деревьями так, что они его понимали, и сам он понимал их в отличие от глухих к природе, поглощенных собственными страхами и надеждами горожан. Если бы все научились языку леса и его обитателей! Если бы все эти жалкие лилипуты, суетящиеся сейчас там, далеко внизу, уверенные в своем превосходстве, дали себе труд прислушаться не только к таким же, как они, смешным людишкам, считающим себя владыками Земли, но к насекомым, птицам, рыбам, зверью лесному – ко всем тем, кто для них, для людишек, не более чем статисты на фоне театральных декораций… Увы, род человеческий бестолков до невозможности, полагает планету своим военным трофеем, поставил на него пятку и гордо расправил плечи. Гаэтан Ларю презрительно фыркнул. Уж он-то знал, что такое положение вещей может легко измениться. Ответный удар близок, о том свидетельствуют древние тексты.
Он обвязал тросом ствол вяза, карабин второго конца защелкнул на поясе и, стравливая потихоньку, пополз по ответвлению. Сердце отбивало барабанную дробь, Гаэтану казалось, что он покоряет вершину самого высокого в мире дерева – кедра или секвойи. Годы обучения и тренировок, выработавшие в нем исключительное самообладание, были забыты – его вел инстинкт, божественное чутье.
Прикрепленный к длинной рукоятке серп мелькал в листве на высоте десятка метров над дорогой, по которой ползли редкие в этот час людишки-муравьишки, задирая носы к макушке дерева, ахая от изумления. Нет, он, Гаэтан, не упадет, просто не может упасть. Он, как всегда, выйдет победителем, выполнит эту почетную и опасную миссию, возложенную на него за сноровку и бесстрашие. Вяз примет надлежащий вид!
Амадей замер от восхищения, которое всегда испытывал в присутствии отважных людей. А парень, балансировавший сейчас на изрядной высоте, превосходил многих храбрецов, встреченных Амадеем за время долгих странствий. Именно поэтому совершенно необходимо было вывести его из игры, пока он не проник в тайну, уже принесшую людям столько бед. Если только он уже не завладел ключом к разгадке… Стало быть, надо воспользоваться тем, что обрезчик сучьев трудится в поте лица, вернуться на площадь Каира и обыскать его жилище. А если там ничего подозрительного не найдется – продолжить слежку. Амадей зашагал обратно. Северный ветер рвал полы плаща, но его владелец не чувствовал холода. Он улыбался – скорее по привычке, нежели по велению души. Ему доводилось одерживать верх над соперниками посерьезнее…
На площади Каира чесальщицы давно уже вовсю трудились под египетским фризом: оприходовали холостяцкие постельные принадлежности и шерстяные платья. Пока их руки непрерывно чесали шерсть, языки тоже мололи без устали.
– Да говорю ж вам, экие бестолочи! Я по запаху чую, чейное шмотье – бабское или мужское! А это – супружеское, вот глядите: тут два отпечаточка, да так близко друг к другу, что побьюсь об заклад – ночка у кого-то жаркая была! – разорялась кумушка с длинными седыми волосами, заплетенными в косу на эльзасский манер.
– Ну-ка, ну-ка, покажь, сейчас мы понюхаем да пощупаем! – покатывались со смеху ее товарки.
Воспользовавшись этим бурным весельем, серый домашний кот незаметно шмыгнул в подъезд и прошелся по вестибюлю, отделанному красной и черной плиткой. За ним к лестничному маршу с навощенными крутыми ступеньками так же незаметно проскользнул Амадей. На каждом этаже здесь было по две квартиры, разделенные общим санузлом. Жилище обрезчика сучьев находилось в третьем этаже, слева, и в хлипкой двери оказался всего один замок. Отпереть его с помощью железного штыря не составило труда.
На кухоньке не больше чулана громоздились горы грязной посуды. Плита на бунзеновской газовой горелке, обросшая жирной копотью, служила пристанищем для пригоревших кастрюль и корзинки с дырявыми носками. Обшарпанный коридор вел в комнату, где обнаружились узкая кушетка и стол с мраморной столешницей, а на столе – лоханка с остатками мыльной воды.
Амадей в приступе отвращения потер нос и направился во вторую комнату, побольше. Здесь дела обстояли лучше, на стенах даже были миндально-зеленые обои с белыми цветами. Если бы не замызганные окна с обтрепавшимися занавесками, ему бы тут даже понравилось.
«Все признаки холостяцкого логова. Хозяин не слишком образован, вырос в приюте, или же, наоборот, родители с ним слишком нянчились. Однако в этой вопиющей бесхозяйственности даже прослеживается намек на художественный вкус», – подумал он, созерцая запыленный комод, люстру с двумя лампами в круглых плафонах опалового стекла и венецианское зеркало в лакированной раме. Но наибольшее впечатление на него произвел книжный шкаф, собранный из неотесанных досок, по-видимому раздобытых самим владельцем в разных местах и принадлежащих разным эпохам. При виде двух гравюр Якоба ван Рейсдаля с изображением деревьев Амадей даже забыл о холоде – каминная жаровня остыла. Если Гаэтан Ларю владеет драгоценным манускриптом, есть шанс найти это сокровище среди книг, раз уж в его коллекции есть такие редкости.
На поиски в шкафу ушел целый час. Большинство изданий были посвящены лесам и лесоводству, ботанике, эволюции и происхождению видов. Часть собрания составляли приключенческие романы и произведения Александра Дюма. Еще час Амадей потратил на то, чтобы обыскать ящики комода, перетряхнуть ворох одежды, сваленной в кучи на полках платяного шкафа и висевшей на «плечиках», пошарить под матрасами и обследовать низ мраморной столешницы в спальне. В общем, он, невнятно бормоча себе под нос, черными от пыли руками перевернул вверх дном все жилище Гаэтана Ларю, заляпав отпечатками ладоней грязную мебель. И единственным положительным результатом этих поисков стало массовое паническое бегство пауков из-под плинтусов. Драгоценного манускрипта не было. Были грязные платки, разбросанные по паркету, и тонны пыли.
Когда Амадей вышел из квартиры обрезчика сучьев, с верхней площадки степенно спустился серый кот, готовый отправиться с хозяином в новую экспедицию, и они вместе покинули дом на площади Каира.
Букинист с недобрым взглядом и любезной улыбкой раскладывал на парапете истрепанные партитуры, вожделенно косясь на проходивших мимо особ женского пола. Бретонская семейная пара выгребла из ящиков картонные папки, набитые эстампами и литографиями. Он развешивал гравюры на прищепках, она сметала с них пыль. Несколько дамочек в мехах рассеянно листали журналы и небрежно бросали их обратно на прилавки.
Виктор, не останавливаясь, дошел до набережной Вольтера и сразу увидел толпу, собравшуюся у стойки Фюльбера Ботье. Люди вполголоса переговаривались, то и дело звучали слова «без головы», но напуганными они не выглядели – скорее возбужденными и даже довольными тем, что из ряда вон выходящее событие, пусть и премерзкое, скрасило монотонные будни. Фюльбер Ботье, так и не поднявший крышки ящиков, старался держать себя в руках и лишь свирепо поглядывал на особенно дерзких зевак. Пожилой букинист был бледен, лицо осунулось, взлохмаченные седые волосы трепал ветер. В роли исторической достопримечательности он чувствовал себя преотвратно и уже с трудом терпел это полчище вампиров, лишенных нормального человеческого сочувствия, наступавших на запертую стойку и тыкавших в него пальцами.
«Почему его не арестовали?» – перешептывались зеваки, у которых не хватало духу спросить об этом самого Фюльбера.
– Доброе утро, – сказал Виктор. Хорошенько поработав локтями, он наконец пробился к букинисту сквозь толпу.
– Оставьте меня в покое! – бросил тот, не оборачиваясь.
– Это я, Виктор Легри.
– О, прошу прощения, нервишки у меня пошаливают. Только поглядите на этих падальщиков: клювы поразевали, глаза вытаращили! Как сказал бы Рабле, «Париж ротозействующий». И скопище все растет – толпа толпится при виде толпы.
– Я смотрю, некоторые ваши коллеги сегодня тоже ротозействуют, но где-то в другом месте, – заметил Виктор, указав на ряд запертых стоек. Рауль Перо, Вонючка, Люка Лефлоик и Северина Бомон и правда не явились на работу, хотя небо было ясное.
– Ну, они же не сумасшедшие. Поняли, что сюда сбежится свора любителей жареных фактов, а толкотней непременно воспользуется всякое ворье, поэтому стойки лучше не открывать. Я и сам-то здесь только для того, чтобы свое добро уберечь – от толпы всего можно ожидать: возьмут и разнесут мои ящики в щепки. Впрочем, тут полно фликов в цивильном.
– Вальми вас подозревает?
– Полагаю, да. Он нас всех подозревает – меня, моих коллег, вас и, возможно, Жозефа.
– А ваших постоянных клиентов?
– Он меня расспрашивал и на их счет. А я не доносчик, потому ни слова не сказал. Но сам для себя кое-что обдумал. Среди наших постоянных клиентов – обрезчик сучьев и сапожник. Оба часто здесь бывают, и оба работают с опасными инструментами. Нынче ночью у меня разболелся коренной зуб, я до рассвета заснуть не мог. Встал, чтобы сделать компресс с гвоздичным маслом, и вспомнил про Ангелу Фруэн, чесальщицу. Ее же обокрали недавно и, помимо прочего, унесли сапожный резак. Она говорила – острый, как коса… Ну что ж за невезение, а? Взгляните на это вороньё, я так скоро умом тронусь… – Фюльбер со вздохом помассировал шею. – Самый подозрительный из постоянных клиентов – Амадей, тот чудак, что одевается как на карнавал, – продолжил он. – Знает всех на набережных, торгует вразнос канцелярией – карандашами, ластиками, мотками бечевки…
– Красной бечевки? – перебил Виктор.
– Ну да. Я у него тоже покупаю. Он снабжает этой ерундой почти всех букинистов.
– Как вы думаете, у покойной Филомены Лакарель могло быть что-то общее с другими завсегдатаями набережных?
– У буланжистки? Дайте прикинуть… Она выискивала тут исторические документы, написанные на велени, содержание ее не волновало. Сапожник собирает тома «Энциклопедии», в которых есть статьи по его ремеслу. Обрезчика сучьев интересуют пособия по древнему садоводству, лесоводству и прочему в том же духе. Иногда он покупает гравюры. Что до почтенного Амадея, я продал ему несколько очень редких изданий, и он ни разу не пытался торговаться.
– Вы рассказали все это Вальми?
– За кого вы меня принимаете? Пусть каждый занимается своим делом.
Виктор озадаченно потер подбородок.
– Н-да, негусто. Несколько увлеченных библиофилов – неудивительно, что они постоянно толкутся на набережных. Жаль, что ваш приятель Тиролец отсутствует, можно было бы его расспросить – он много общался с этими сумасбродами. Напомните, как его зовут?
– Жорж Муазан. И никакой он мне не приятель – у нас война. Он свои книги бечевкой перевязывает, представляете? И только для того, чтобы досадить мне! Этот пес шелудивый что-то застрял в своем Кане, уже ведь должен был вернуться. Не рассчитывайте на него – он себе на уме и ужасно не любит неприятности. Ваш лучший осведомитель – я! Кстати, насчет Муазана, – вдруг спохватился Фюльбер. – Побегу сейчас к его дантисту, доктору Извергсу, на улицу Ренн. Зуб-то у меня до сих пор болит…
– Доктор Извергс? – поднял бровь Виктор. – На вашем месте я бы поостерегся…
– А что? – пожал плечами Фюльбер. – Доктор Извергс – известный врач, зубы рвет виртуозно, Муазан доволен.
– День добрый, месье Ботье, – отвлекла букиниста подошедшая светловолосая женщина.
– Приветствую вас, мадемуазель Питель, – заулыбался тот.
– По какому случаю толпа? Я с трудом к вам пробилась. Ищу месье Муазана.
– Он еще не вернулся из Кана.
– Какая жалость, значит, я напрасно время потратила. Так что тут за собрание?
– Так ведь… А вы разве не в курсе?
– В курсе чего?
– В одном из моих ящиков на месте книг оказался неопознанный труп, и еще убили одну из моих клиенток.
– Вот это да! А как звали вашу клиентку?
– Филомена Лакарель. По счастью, друг пришел меня поддержать. У меня, знаете ли, нет алиби… Вот, позвольте вам представить: месье Легри, книготорговец с улицы Сен-Пер.
Виктор поклонился женщине и попрощался с Фюльбером, который торопился к зубному врачу. Виктору и самому хотелось очутиться подальше от толпы зевак. Выбираясь с набережной, он заметил, что пришла Северина Бомон и уже открывает стойку.
– Очень любезно с вашей стороны прийти поддержать Фюльбера, мадам.
– Мне на хлеб надо зарабатывать, представьте себе. Может, кто-нибудь из этих простофиль купит у меня парочку сонников. А Фюльбер сбежал?
– Он пошел к дантисту – всю ночь не спал от зубной боли.
– Ах, бедняжка!
– Позвольте осведомиться, кто та привлекательная дама, которая сейчас беседует поодаль с кем-то из ваших коллег? Я слышал, ее фамилия Питель. Питель – как у юного сапожника?
– Это его тетушка, редкостная злыдня. Впрочем, неудивительно, что вы находите ее привлекательной – она же блондинка.
Северина Бомон с опаской поглядела на толпу, решила не отпирать пока ящики стойки и уселась на складной стул, пристроив на коленях вязанье. Виктор вдруг заметил, что белая фигура, вырисовывающаяся на синем шарфе, – вовсе не якорь, а горшочек с конфитюром.
Перепуганные статуи рухнули на пьедесталы и отчаянно вцепились в них. Глазами из мрамора или бронзы они с удивлением смотрели на собственные твердые тела, которые вдруг обрели гибкость, поводили руками, сгибали ноги в коленях, сжимали каменные и металлические кулаки…
– написала Айрис в тетрадке. Дафнэ спала, засунув в рот большой палец. Малыш Артур немного поплакал и тоже заснул в своей колыбельке. Айрис, поправив сбившиеся подушки, поудобнее устроилась в постели. Неужели Жозеф считает ее слепой, глухой и умственно отсталой? Она слышала его телефонный разговор, и последовавшее затем неловкое объяснение мужа ее вовсе не обмануло. Некогда подобные воскресные вояжи в пригород для оценки какой-нибудь частной библиотеки служили ему с Виктором прикрытием для исследований совсем иного рода. Конечно же, Жозеф разговаривал утром с Виктором. Сначала обменялся парой слов с Лулу, официанткой из «Утраченного времени», – тайным кодом, который давно не был тайным для Айрис, – потом попросил позвать к аппарату господина, сидящего за столиком у витрины. Дальше последовала тишина (Айрис представила себе, как Виктор накрывает чашку блюдечком, чтобы кофе не остыл, встает и идет к телефону за стойкой), а после этого возбужденный монолог Жозефа, из которого она уловила несколько слов: «Все в порядке, она спит… модистка… сейчас?» – и в конце традиционное «Бегу!».
Разоблачать уловку мужа Айрис не стала – сделала вид, что спит, и лишь приоткрыла глаза, когда он наклонился ее поцеловать и прошептал: «Сделка в Витри вроде бы сладилась, но добыча будет так себе – несколько томов в сафьяновых переплетах. Я, наверное, сегодня пообедаю в городе, милая». Едва за ним закрылась дверь, выяснилось, что не только Айрис не спит – раздался быстрый топоток пяток по полу, и опустевшее место под одеялом рядом с матерью заняла Дафнэ в охапку с подарком дедушки – настольной японской игрой ханафуда, выпущенной в 1889 году в Киото фирмой «Нинтендо». Сейчас дочка заснула, а Айрис задумчиво грызла кончик карандаша, пытаясь сосредоточиться на сказке про ожившие статуи – другого способа унять охватившее ее беспокойство не было. Она уже не сомневалась: Жозеф и Виктор опять затеяли расследование!
Лулу принесла двум завсегдатаям бутерброды с маслом и тарелку сыров на завтрак. Жозеф и Виктор с набитым ртом поделились друг с другом сведениями, которые удалось собрать о Филомене Лакарель и безголовом трупе на набережной Вольтера. Наевшись и выпив кофе, они поймали фиакр и отправились на Райскую улицу.
– Похоже на музей фарфора, – сказал Жозеф, остановившись возле витрины с фигурками пастушек и маркиз. – О, а вот эти зверюшки из саксонского фарфора хороши, тонкая работа – матушка была бы в восторге.
– Мы тут не для того, чтобы витрины разглядывать, – проворчал Виктор, увлекая зятя дальше по Райской улице к зданию, у входа в которое нетерпеливо переминались с ноги на ногу несколько человек. – Только не говорите мне, что ваша модистка живет там!
–
Моя модистка? – возмутился Жозеф. – Она такая же моя, как и ваша. И вообще – сами эту толпу можете расспросить.
Последним в очереди к подъезду оказался плешивый человечек лет пятидесяти. Он сообщил, что пришел на прием к знаменитой провидице мадемуазель Куэдон, предсказавшей ураган 1896 года и пожар на Благотворительном базаре.
– Хочу спросить у нее, выйдет ли моя дочь замуж во второй раз и будут ли у меня наконец внуки.
– Ну, так или иначе, ничего, кроме неприятностей, вас не ждет. Если ваша дочь не найдет супруга, она так и будет сидеть у вас на шее, а если обзаведется семейством, то все семейство станет из вас деньги тянуть. Поверьте, нет нужды маяться тут в очереди и тратиться на консульта…
Договорить Жозеф не успел, потому что Виктор бесцеремонно потащил его дальше, к бутику, перед которым стояли полицейские.
– Отпустите сейчас же! Вы мне чуть руку не вывернули! – сердито пропыхтел Жозеф.
– Мне только что передался дар ясновидения: по-моему, с нашей модисткой случилась беда, – хмуро проговорил Виктор и направился к одному из полицейских. – Скажите, здесь работает Анни Шеванс?
– Работала, месье, работала. Ее убили, труп нашли на рассвете.
– Надо отдать вам должное, любезный шурин, вы и правда не лишены сверхъестественных способностей, – шепнул Жозеф.
– Проходите, господа, не задерживайтесь, вы мешаете полиции.
Сыщики-любители с неохотой отошли. Приметив поблизости бистро, Жозеф предложил зайти туда послушать, о чем судачит народ. И не напрасно. Все посетители и официанты столпились вокруг сидевшей за столиком пухленькой девицы в пальто с воротником из кроличьего меха. Девица была бледна и норовила упасть в обморок.
– Вот, выпейте теплого молока, Туанетта, вы такое пережили, такое!.. – хлопотала хозяйка с обширным бюстом.
– Молоко! Да ей коньяка бы дернуть не помешало! – бурчал хозяин.
Его жена разогнала любопытствующих мокрой тряпкой:
– Да оставьте вы ее в покое наконец! Бедняжка никак отдышаться не может, идите отсюда, идите!
– Ничего, мадам Клотильда, мне уже лучше, – подала слабый голосок девица. – Я просто испугалась, что полиция меня из дома мадемуазель Шеванс не выпустит. Но комиссар был довольно любезен. Правда, велел мне явиться завтра для дачи показаний – вдруг арестует?.. Ох, не забыть мне это воскресенье до конца дней!
– Никто вас не арестует, барышня, – заверил Виктор, приподняв шляпу. – Комиссар просто хочет проверить, есть ли у вас алиби.
Польщенная тем, что на нее обратил внимание такой респектабельный господин, Туанетта заерзала на стуле и распахнула пальто, явив взорам соблазнительные округлости, туго обтянутые платьем в горошек.
– Ну конечно, у меня есть алиби! Я весь вечер танцевала с Робером, моим дружком с улицы Гэтэ, а потом вернулась домой к родителям на улицу Бастош. Но эти флики смотрели на меня так, как будто я самая что ни на есть
преступница. Так и зыркали, а взгляды у них какие – насквозь просвечивают, я себя прямо голой почувствовала!
Виктор встал слева от девицы, Жозеф справа, оттеснив любопытствующих посетителей.
– Стало быть, это вы нашли модистку? Говорят, она была без сознания, – закинул удочку Жозеф.
– Без сознания? Шутить изволите? Да у нее голова была проломлена, ужас просто. Это я чуть сознание не потеряла, когда ее увидела. Пришла на работу – а там замок сломан и дверь приоткрыта. «Что такое?» – думаю. Обычно, когда я прихожу, мадемуазель Шеванс уже на ногах. А тут… в спальне… на кровати… и голова вдребезги… – Туанетта залпом проглотила молоко, поразмыслила пару секунд и опрокинула в рот рюмку коньяка.
– Небось убийца сперва ее жестоко обесчестил, – с мечтательным видом предположила хозяйка заведения.
– Нет-нет, судебный врач осмотрел тело, и я слышала, как он сказал комиссару: «На первый взгляд никаких следов изнасилования».
– Ну, теперь репортеры вам проходу не дадут, мадемуазель Туанетта, – вмешался хозяин. – Попадете на первые полосы!
– Еще чего не хватало! Пусть только попробуют ко мне сунуться… Ох, боже-боже, бедная мадемуазель Шеванс, у нее лицо изуродовано, как будто по ней омнибус проехал! Флики увезли труп в морг, только бы не заставили меня еще раз на нее смотреть, у них же принято проводить опознание…
– Но ежели ее не изнасиловали, зачем тогда убили? – снова взялась за свое хозяйка. – Ограбить хотели?
– Я квартиру ее хорошо знаю, и господин комиссар заставил меня все осмотреть – не пропало ли чего. Уж я смотрела, смотрела, а все на месте – и книжки, и драгоценности, и прочие дорогие штуки. Потом поняла. Знаете, что украл убийца?
– Ее белье? – оживилась хозяйка.
– Ее конфитюры! – торжественно объявила Туанетта, гордая от того, что повергла всех в изумление.
Жозеф дернул Виктора за рукав.
– Да, представьте себе, – продолжала девица. – Она сама их делала, и подружки ей дарили. Ах, и еще пропал моток красной бечевки.
– Убить за конфитюры – ну это уж слишком! Куда катится мир? – воскликнула хозяйка.
– Ваша правда, – вздохнула Туанетта, сгорбившись на стуле. – А мне теперь что делать? Придется искать новую работу…
Жозеф и Виктор вышли из бистро и неспешно зашагали мимо рынка Сен-Кантен, погруженные в свои мысли.
«Моток красной бечевки… – думал Виктор. – Эта красная бечевка меня преследует. Она есть у Фюльбера и у Жоржа Муазана… А еще тот убитый книготорговец Ларше – уж не красной ли бечевкой его связали?..»
Жозеф тем временем вспомнил, что на томике в марморированном переплете, который его матушка по ошибке получила от Филомены Лакарель, были вмятины, как будто его перевязывали бечевкой. «Нет, сначала нужно все проверить, а потом уже расскажу Виктору. Хотя он, конечно, дико разозлится из-за того, что я раньше не сказал…»
– Странное дело!..
– Ничего не понимаю!..
Заговорив одновременно, они остановились и уставились друг на друга.
– Конфитюры! – выпалил Виктор.
– Мотив всех убийств! – подхватил Жозеф.
Виктор поморщился:
– Не смешите меня, Жозеф. Вы сами-то смогли бы убить ради конфитюра?
– Еще как смог бы – если бы мне было пять лет и меня держали на хлебе и воде. Ладно, про конфитюры – это я так, в качестве предположения, но ведь у королевы мармеладов, Филомены Лакарель, тоже украли все горшочки с вареньем. Я уже беспокоюсь за матушку – она большая охотница до сладкого…
– Жозеф, помолчите, вы мне совсем голову заморочили. Я собирался сказать что-то важное… Ах да, любопытно было бы побеседовать наконец с Жоржем Муазаном, букинистом по кличке Тиролец, когда он вернется из Кана. Фюльбер рассказывал мне о нем в день вашего рождения. Что, если убийца – Муазан? Он пользуется красной бечевкой – извините, что не сказал вам об этом раньше. И еще я подобрал обрывок красной бечевки в доме Филомены Лакарель…
– Ну здорово! От меня утаивают важнейшие улики! Отличная у нас команда получается!
– Будет вам дуться, Жозеф. Мы с вами напарники, и я только что поделился сведениями. Ведь поделился, а? Просто раньше к слову не приходилось, и в конце концов лучше поздно, чем никогда… Кстати, у чесальщицы-то тоже конфитюры украли…
– У Ангелы Фруэн? Но насколько мне известно, она пока еще жива и здорова.
– Что говорит не в ее пользу, если можно так выразиться. Выглядит она простушкой, конечно, но… Когда я еще бегал в коротких штанишках, Кэндзи сказал мне, что есть на свете люди, подобные часам, которые показывают одно время, а вызванивают другое. Это называется «двуличие».
Жозеф, охваченный чувством вины, молчал. «Вот прочитаю этот чертов дневник, который Филомена перепутала с „Трактатом о конфитюрах“, и непременно ему все расскажу!» – мысленно пообещал он, не замечая порывов холодного ветра.
Амадей поздравил себя с тем, что проявил доблесть в борьбе с холодом и не убоялся явиться на памятное собрание в честь столетия со дня рождения Огюста Конта, основателя позитивизма. Он там отдохнул душой и телом после целого утра блужданий в окрестностях Райской улицы.
Сейчас он бродил по галереям «Одеон» под свист ледяного ветра. Как и многие библиофилы, Амадей не обращал внимания ни на стужу, ни на упреки книготорговцев, которым не нравилось, что все подряд хватают их драгоценные издания и швыряют обратно на прилавок, ничего не купив. В данный момент Амадея интересовали труды по топографии Парижа, и он, останавливаясь у прилавков, листал все, что попадалось по этой теме. Он думал о том, что уже приблизился к разгадке тайны Средины Мира, упомянутой в записках Луи Пелетье, вплотную и не хватает какой-то малости. Нет, не какой-то, а очень важной малости – главной детали. Пока он с точностью не определит это место, невозможно будет прервать череду убийств. Цена разгадки, конечно, росла со страшной скоростью, но Амадей не испытывал угрызений совести. Ведь не его вина в том, что эти пешки сами влезли на шахматную доску тайны.
Средина Мира… Что-то забрезжило на краю сознания. Оттуда снова пришли слова: «Поиски Средины Мира… завершатся где-то рядом… там под сводом галереи… муж стоял вооруженный… некогда стоял на страже…»
«Муж стоял вооруженный…» Совсем недавно ему попадалось очень похожее словосочетание, не один в один, но интуиция подсказывала: это было именно то, что нужно… У какого-то современного автора… Ох, память, память… В голове было пусто. Амадей заскользил взглядом по стопкам изданий в картонных переплетах, по тяжеленным старинным томам в потрескавшейся коже, механически читая названия. Здесь торговали всем, что под руку подвернется, по бросовым ценам, зато выбор был огромный и порой можно было найти редчайшие экземпляры.
Среди сотен томов его внимание вдруг привлек один, в красном переплете: «Отверженные. Часть IV. Идиллия улицы Плюмэ и эпопея улицы Сен-Дени»
[943]. Амадей нахмурился, взял книжку, пробежал глазами оглавление – и обмер, когда взгляд его остановился на заголовке: «Книга пятнадцатая. Улица Вооруженного человека». Он лихорадочно перелистал на первую страницу: «…эпопея улицы Сен-Дени».
– «Муж стоял вооруженный»… улица Вооруженного человека… – прошептал Амадей одними губами. – Квартал Марэ!
Открытие его ошеломило, он даже выронил томик из рук.
– Если листы в книге уже разрезаны, это не значит, что с ней можно так обращаться! – сердито набросился на него владелец прилавка. – Стефан Маларме придумал книгу, которую можно читать с неразрезанными и с разрезанными листами – получаются как бы разные произведения. Кому это нужно, спрашиваю я вас? А еще я самолично видел, как Вилье де Лиль-Адан
[944] пытался разорвать неразрезанные листы в одной из книжек на моем прилавке с помощью зонтика! Но вы их обоих превзошли – вы ничего не режете, вы переворачиваете двойные листы черенком трубки, по счастью потушенной! Да еще забесплатно уже перелистали три четверти всего, что у меня есть! Что вы там успели вычитать такого интересного? – Книготорговец устало махнул рукой.
Амадей поднял «Отверженных» и аккуратно положил на прилавок.
– Что успел вычитать? Как сказал бы Рабле, «сущностную субстанцию», месье. Не обязательно читать насквозь, чтобы уловить самое необходимое. Я ищу «Харчевни и кабаки квартала Марэ» Франсуа де Жене. Увлекательная вещь, вы не читали?
– Если бы я читал все, что продаю!.. – фыркнул книготорговец. – Но кое-что почитываю, – широко улыбнулся он. – Если вас увлекают исторические анекдоты, могу предложить великолепный десятитомник «Картины Парижа».
– У меня есть Луи Себастьен Мерсье. Нет, благодарю вас, мне нужен Франсуа де Жене.
Книготорговец перестал улыбаться.
– Вам повезло, есть у меня это сокровище. – Он достал из ящика с книгами тонкий томик в красном сафьяне. – С вас десять франков. К вашим услугам, месье.
Амадей, сунув книжку в карман, удалился. Подкованные железом каблуки его сапог застучали по мостовой.
«Я вышел в опасное плавание без запасного такелажа, без припасов и компаса, но я увижу землю на горизонте! Непременно!» – пообещал он себе.
Таша рассматривала картины, которые она собиралась на следующей неделе выставить в Салоне художниц у Жоржа Пети. Ее одолела неуверенность: все полотна, стоявшие сейчас перед ней, показались вдруг отвратительно напыщенными и пустыми. Как сказал Делакруа, искусство портрета заключается в том, чтобы совместить дистанцию, необходимую для самоанализа художника, и дистанцию, позволяющую ему остаться сопричастным модели. Если принять этот критерий, до высот портретной живописи ей еще далеко. Таша нервно погрызла ноготь на большом пальце. Сейчас даже огромный портрет Джины казался ей фальшивым, потому что она не смогла отразить всю сложность характера матери – одновременно страстного, жизнерадостного и сдержанного. «Все слишком робко, слишком благоразумно, мне не хватает смелости ломать установленные правила. В моей манере нет безумства, нет откровения. Передавать биение жизни, порывы души – вот чему нужно учиться. Неужели личное счастье художника губительно для творчества?»
Вдруг к неуверенности в себе добавилось странное чувство беспокойства, но в следующую секунду Таша поняла, что оно не имеет отношения к выставке картин. Виктор! Он снова взялся за старое! Таша охватил гнев, но она совладала с собой. Без толку закатывать скандалы, самое большее, чего она добьется, – это, как всегда, мольбы о прощении и обещание покончить с расследованиями. Но обещание останется обещанием. Даже рождение Алисы не смогло отбить у Виктора охоту к опасному занятию…
Пришла Кошка и потерлась о ее лодыжки, сонно заагукала дочка в колыбельке, но даже это не утешило Таша. И тут как раз неожиданно вернулся Виктор – его несвоевременный приход не столько обрадовал ее, сколько насторожил. В другой день она бы бросилась мужу на шею, увлекла в альков, но сейчас у нее окончательно испортилось настроение. Обычно Виктор сразу понимал, что жена не в духе, и умел развеять ее хандру – Таша будто бы передавалась часть его жизненной энергии и оптимизма, – а сейчас он словно и не заметил ее, склонился над колыбелькой, пощекотал подбородок Алисы, и Таша почувствовала укол ревности, но тотчас себя за это отругала.
– Я приму ванну, милая. Ужасно вымотался и продрог, все утро без толку таскался по набережным – ничего стоящего не нашел. Заглянул погреться и переодеться. – Виктор, едва коснувшись щеки жены губами, убежал в ванную, бросив на стул пиджак.
Черт ли дернул Таша обшарить карманы пиджака, или
домовой нашептал, но она это сделала. Или просто воспользовалась своим правом супруги – ведь все, что касается мужа, имеет отношение и к ней? Так или иначе, Таша нащупала вскрытый конверт и извлекла его на свет божий. От конверта пахло женскими духами, а в коротком и весьма недвусмысленном письме, отпечатанном на машинке, говорилось следующее:
Буду счастлива встретиться с тобой в эту субботу, 22 января, в кафе «Флор»! Постараюсь выкроить два часа свободного времени. Мы так давно не оставались наедине! Хочу поделиться с тобой своими печалями, хочу, чтобы ты меня утешил.
Твой майский цветочек
На обороте что-то было написано и намалевано от руки – Таша узнала почерк Виктора и его каляки-маляки, которые он всегда рисовал в задумчивости.
Есть ли связь между убийствами Ф.Л., неизвестного с набережной Вольтера и А.Ш.?
Виктор вышел из ванной, обернув вокруг бедер махровое полотенце. Таша поспешно смяла письмо в кулаке.
– Все мужья одинаковые. Считают, что могут заявиться домой в любое время и жена должна немедленно выстелить в их честь красную дорожку, – проворчала она.
– О чем ты, милая? И чему я обязан этим холодным душем после восхитительной горячей ванны?
– Я таки напишу на эту тему аллегорическое полотно. Назову его: «На что приходится идти верной супруге, дабы ублажить отца своего ребенка, коего по жизни ведут темные инстинкты и коему наплевать на то, что супруга имеет право на свободное время, ибо у нее есть чем заняться».
– Назови его просто: «Женская доля», так будет короче, – усмехнулся Виктор, и махровое полотенце скользнуло на пол. – Твой шедевр непременно выставят в осеннем Салоне
[945], и он превзойдет творения признанных королей палитры, всяких Жерве и Клеренов!
– Вот-вот, я намерена преподать урок всем самодовольным мужчинам.
– Кого это ты обвиняешь в самодовольстве? – спросил Виктор, тщетно пытаясь поднять с пола полотенце, на которое жена наступила ногой.
– Тебя. Вокруг тебя вечно увивается столько красоток, приобщенных к культуре, что сложно сделать выбор… – Таша осеклась, устыдившись собственных подозрений. Нет, она уже говорила самой себе, что никогда не превратится в сварливую каргу, изводящую мужа придирками.
А Виктор был страшно доволен: он обожал, когда Таша проявляла признаки ревности – отвратительного чувства, которое с детства не давало ему покоя, но которое жена демонстрировала гораздо реже.
– Ты о какой культуре говоришь – о физической или интеллектуальной? И отпусти уже наконец полотенце!
– Кто из прекрасных дам опять завладел твоим сердцем? Пышнотелая княгиня Максимова все еще наведывается в «Эльзевир»?
– О, княгиня давно бросила и мужа, и нас с Кэндзи. Перестань задавать глупые вопросы, милая.
– Благодаря глупым вопросам можно получить искренние ответы.
Оставив попытки прикрыться полотенцем, Виктор притянул к себе Таша и прошептал:
– Знаешь пуэрто-риканскую пословицу, счастье мое? «Искренность – что револьвер, из которого не стоит стрелять в каждого встречного». Однако нам ничто не мешает продолжить эту увлекательную дискуссию в постели.
– При одном условии: я больше и слышать не хочу ни о каких расследованиях и…
Виктор не дослушал ультиматум – он уже страстно целовал жену. Та посопротивлялась для виду и сдалась. Сейчас ей хотелось только одного: выбросить из головы тайком прочитанное письмо и упасть в объятия любимого мужчины.
Коричневые башмаки перешли мост Сен-Луи и затерялись в толпе между рядами павлоний на территории Цветочного рынка, по воскресеньям превращавшейся в гигантский птичий вольер. Сюда приходили ремесленники, делавшие клетки и слишком бедные для того, чтобы обзавестись собственной лавкой, безработные и нищие работяги, промышлявшие птицеловством, домохозяйки, на досуге разводившие птиц. Кое-кто приторговывал втихую пернатыми, лов которых был строго запрещен. Покупателям в избытке предлагались также овес, просо, рапс, подорожник, лаванда. Торговцы уже сворачивались. Девушка с симпатичной мордашкой накрывала полотном клетки, в которых в страшной тесноте сидели красноклювые мандаринки, щеглы, ткачики и канарейки.
– До встречи через неделю, мамаша Гронден!
– Пока, Шанталь, беги скорее греться!
Девушка поставила клетки на тележку, впряглась в нее и зашагала к Севастопольскому бульвару.
Коричневые башмаки последовали за ней.
Глава двенадцатая
Понедельник, 17 января
Жермини Лэз долго набиралась смелости, прежде чем отважилась переступить порог брачного агентства, недавно открытого в доме номер 26 на бульваре Пуассоньер. Она работала учительницей в закрытом пансионе, засиделась в девицах и уже отчаялась встретить спутника, который скрасил бы ей тяготы путешествия по неспокойным волнам жизни. Иллюзий на свой счет Жермини не строила: далеко не красавица, бальзаковский возраст уже позади, зато не дура, интересуется науками и искусствами, хоть и преподает всего лишь вышивание крестиком и основы сольфеджио унылым отроковицам.
В агентстве ее встретила любезная дама лет пятидесяти и тут же поздравила с удачным выбором:
– Вы не пожалеете, что решили воспользоваться моими услугами! Вот что могу вам предложить: мы вместе сочиним объявление и я размещу его в разных газетах. Для ответов укажем адрес агентства, вместе их изучим, и если какой-нибудь вас заинтересует, я организую вам встречу, чтобы вы лично познакомились с кандидатом.
– А если он мне не понравится или будет вести себя недостойно?
– Элементарно: вы дадите ему отказ. А поскольку вашего домашнего адреса он не узнает, можете не бояться преследований. Мое заведение создано для того, чтобы помогать холостякам и незамужним женщинам с ограниченным кругом знакомств найти свою половину. Неудачи меня не пугают – не получится один раз, будем пробовать дальше. Главное – не сдаваться, таков мой моральный долг перед клиентами!
Жермини Лэз внимательно слушала, сердце у нее при этом колотилось как бешеное, и было трудно дышать.
– Наверное, ваши услуги дорого стоят…
– Ни в коем случае! Всего пятьдесят франков. Если мои усилия увенчаются свадьбой, я возьму с вас премию в размере четырехсот франков, которые можно будет выплатить в три захода. Эта сумма будет свадебным подарком от вашего супруга.
– А вдруг он окажется не очень богатым человеком?
– Голубушка, в вашем возрасте и при вашем социальном положении выйти замуж за не очень богатого человека было бы крайне неразумно.
На следующий день в крупных газетах появилось такое объявление:
Молодая женщина, образованная, с покладистым нравом и скромным, но постоянным доходом, желает познакомиться с культурным, уравновешенным господином, предпочтительно служащим или чиновником, стремящимся создать семью. Отзывы присылать на имя мадам де Липтэ, б-р Пуассоньер, 26.
Через два дня после публикации посыпались письма. Чтение порой немало забавляло обеих женщин. Авторы всех посланий, если верить им на слово, были аполлонами и обладали несметными богатствами, а также энциклопедическими знаниями, и перед каждым открывались блестящие карьерные перспективы на госслужбе. Единственным более или менее сдержанным в самовосхвалении оказался начальник отдела чемоданов и кофров в магазине «Самаританка» на улице Риволи. Он признался, что наделен непримечательной внешностью, романтическим темпераментом и склонностью к научным изысканиям, а возраст имеет средний.
Утро понедельника выдалось теплым, почти весенним. Жермини Лэз вышла из фиакра, доставившего ее на опушку Булонского леса, прогулялась по аллее и села за столик в кафе, откуда открывался вид на озеро с большим водопадом. В руках она лихорадочно теребила две газеты – «Пасс-парту» и «Эклэр», на первых полосах обеих красовались заголовки «Торговая миссия: из Курбевуа в Банги».
Жермини ждала некоего Констана Венетта, и тот не замедлил явиться. Оказался он человеком среднего роста и возраста (не обманул), с одутловатым, действительно заурядным лицом. Одет был в темно-серый костюм, серый котелок и нервничал не меньше, чем девица. Поклонился почти по-военному. Несмотря на непрезентабельный облик, Жермини кандидат сразу понравился – она оценила умные, с живым блеском глаза и открытую улыбку. Констан же при виде дамы, лишенной манерности и облаченной в сиреневый наряд в белую полоску, испытал непривычное волнение.
Выпив горького пикона, они рука об руку, будто давно женатая пара, прошлись вокруг озера.
– Дорогая, случай ли повинен в моем душевном смятении, или же я должен поблагодарить судьбу, каковая свела меня с вами?
– Дорогой, будучи прагматиком, отвечу вам так: ни случай, ни судьба тут не повинны. Нашим знакомством мы обязаны мадам де Липтэ.
– Дорогая, я премного ценю ваш здравый смысл, однако же не могу исключить вмешательства высших сил, кои привели нас друг к другу именно в понедельник, день Луны. Я родился в ночь, когда звезда эта сияла во всей своей полноте и великолепии. Она приносит мне удачу.
– Дорогой, Луна – не звезда, а спутник Земли, и светит она отраженными лучами Солнца.
– Дорогая, вы кладезь учености. Однако же позволю себе подвергнуть вашу эрудицию небольшому испытанию. Доводилось ли вам слышать о реке Юрибей? Сей водоем, открытый нашим взорам, напомнил мне о ней.
– Должна признаться, нет.
Констан, возрадовавшись случаю блеснуть интеллектом, сообщил:
– В устье реки Юрибей, что протекает в землях самоедов, в тысяча восемьсот девяносто седьмом году был найден скелет мамонта.
– Вероятно, на нем сохранилась шерсть? – уточнила Жермини.
– Ну разумеется, – кивнул Констан, понятия не имевший о такой подробности.
– Стало быть, открылось еще одно преступление против братьев наших меньших. Я читала о том, что Франции грозит исчезновение популяции бобров – этих несчастных млекопитающих безжалостно убивают ради меха.
– Вы любите животных, какое счастье! Мы можем завести кошку или собаку. Лучше собаку – мне кажется, в прошлой жизни я был псом, потому-то до сих пор интересуюсь костями, в основном доисторическими.
Они понаблюдали за лодкой, которая курсировала между берегом и островками на озере, перевозя желающих за десять сантимов. Констан в замешательстве размышлял, хватит ли ему денег на то, чтобы оплатить два завтрака в кафе-ресторане на одном из островков. Сомнения разрешил уверенный голос Жермини – она твердой рукой повлекла спутника дальше по аллее:
– Кстати, по поводу животных. Знаете ли вы, что некогда Монмартрский холм был покрыт густым лесом, где обитали хищники, а друиды собирали священную омелу?
– Какая жалость, что в ту пору не было художников, способных запечатлеть для нас… – Констан не договорил – в этот момент он заметил под кустом круглый предмет и похолодел. Мозг мгновенно распознал, что это такое, но язык не поворачивался назвать то, что увидел глаз.
– По-моему, это… – начала Жермини, решительно направляясь к кусту. Она присела на корточки и внимательно осмотрела предмет. – Череп. Судя по прическе, мужской. В авоське. Определенно не доисторический. Могу с уверенностью сказать, что он принадлежал не питекантропу и не индейцу-хиваро.
– Вы совершенно правы, дорогая. Я тоже склоняюсь к мнению, что он отделен от тела в современную нам эпоху. Отсечение головы произошло несколько дней назад, и разложение тканей изменило лицо до неузнаваемости.
– Я бы добавила, что холодная погода приостановила разложение, иначе лицо сгнило бы до костей. Удивительно, к авоське привязаны воздушные шарики, и, кажется, там есть письмо.
– Осмелимся ли мы его прочитать?
– Дорогой, нам, естествоиспытателям, неведом страх.
Жермини достала из авоськи конверт, из конверта – лист бумаги, откашлялась и прочитала вслух:
Я покидаю навсегда набережные Сены и Париж, ибо дальнейшее пребывание в обществе, где не встретишь ни одного ангела, мне невыносимо.
Жорж Муазан
– Самоубийство?! – выпалил Констан. – Как же это он ухитрился?..
– Ну, он мог надеть на голову авоську и привязать воздушные шарики, а потом перерезал себе горло, и вся конструкция выпорхнула в открытое окно…
– Дорогая Жермини – вы позволите так вас называть? – должен заметить, что это объяснение не выдерживает критики. Что будем делать?
– Во-первых, известим полицию. Во-вторых, хорошенько подкрепимся – нашим шокированным желудкам просто необходима обильная пища. Расходы, разумеется, разделим поровну.
– Ваши здравомыслие и щедрость переполняют меня восхищением, – выдохнул Констан, окончательно убедившийся в том, что в данный момент он волею мадам де Липтэ и Божественного провидения следует за будущей матерью своих детей.
Из дома на пересечении улицы Ирландэ с улицей Эстрапад, где проживало семейство Фруэн, вот-вот должны были показаться дети. За час до этого Ангела, пыхтя и отдуваясь, выволокла из подъезда двухколесную тележку со своим рабочим материалом и покатила ее по направлению к набережным. Пневматические часы с маятником показывали восемь тридцать. Наконец из дома выскочила девочка-подросток с двумя соломенного цвета хвостиками, на руках у нее был упитанный карапуз, а за ней спешил мальчуган лет семи-восьми. Похоже, в этот день они собрались прогулять школу, потому что и не подумали присоединиться к толпе ребятишек с грифельными досками наперевес, направлявшейся к храму знаний.
Коричневые башмаки отфутболили яблочный огрызок. Надо было удостовериться, что молодежь не вернется домой в ближайшее время.
У поворота на улицу Ульм к детям пристал нищий с изможденным лицом и глазами навыкате.
– Ты чего вытаращилась на меня? – набросился он на девочку. – Глаза тебе мои не нравятся, пигалица? А я такими глазами зато все вижу!
– Эй, Фонсина, ты на него и правда не заглядывайся, а то втрескаешься еще! – захохотал мальчуган.
– Отстань от нас, оборвыш, не то жандармов позову! – крикнула девочка нищему. – Фелисьен, пошли отсюда, живо!
– Во-во, проваливайте, сопляки, пока я вам уши не надрал! – погрозил им в спины кулаком лупоглазый.
Коричневые башмаки уже навострились следовать за объектами наблюдения так, чтобы оставаться незамеченными. Они прибавили шаг. Троица решила послоняться по улице Сен-Жак и сейчас замерла в экстазе перед затейливым аппаратом, рядом с которым стояла деревянная табличка с надписью:
БАРОМЕТР ЛЮБВИ!
Узнайте, что вас ждет, а уж потом играйте свадьбу.
Всего пять сантимов!
Аппарат, установленный на треноге, походил на фотографический, только был снабжен обилием рычажков. Вокруг собралась толпа скептически настроенных зевак. Владелец аттракциона предлагал им засунуть голову под черную ткань – аппарат, дескать, проведет радиографический анализ мозга и выдаст прогноз на будущую семейную жизнь. Синяя вспышка будет означать «счастье», зеленая – «неопределенность», красная – «опасность». Какая-то разбитная кумушка согласилась пройти испытание. Фонсина с малышом на руках и Фелисьен протиснулись в первый ряд зрителей.
Коричневые башмаки немедленно устремились обратно на улицу Ирландэ. Шмыгнули под арку дома, выскочили во двор и приблизились к окну. Осталось самое трудное. По счастью, Ангела еще не заменила разбитое стекло. Вытащить из дыры смятые газеты, просунуть руку, открыть оконную задвижку и забраться внутрь – пара пустяков. Теперь найти укромное местечко в квартире. Вот это задачка. Кухонный шкаф? Чулан для веника и прочих причиндалов? Верхушка гардероба?
Нет, идеальное место должно быть самым банальным. Где пенсионеры прячут сбережения, а кокотки – драгоценности? Под матрасом! Матрас у Ангелы оказался толстенным – резак под ним никто и не почувствует.
Окно снова открылось, выпустив коричневые башмаки во двор, и захлопнулось. Газеты надежно заткнули дыру.
А теперь прочь отсюда, под арку!
Кэндзи боролся со скукой, разбирая коробки с доставленными новинками. Он с удовольствием вдыхал запах новой бумаги, типографской краски и думал: «На первый взгляд все книги похожи, но даже если есть что-то общее в сюжетах, манера изложения всегда рознится, каждое произведение являет собой уникальное и неповторимое сочетание слов». Одни названия уже звучали как приглашение в царство химер: «Песни Билитис» Пьера Луи, «Сирано де Бержерак» Эдмона Ростана, «Серьезный клиент» Жоржа Куртелина, «Вор» Жоржа Дарьена.
Закончив расставлять новинки на полках в зале и в витрине, японец без особого энтузиазма вернулся за письменный стол – он составлял весенний каталог. Окинув рассеянным взглядом помещение, отметил, что краска на стенах облупилась и надо бы сделать ремонт. Но за ремонт браться не хотелось. Кэндзи уже давно чувствовал приближение старости – по неведомо откуда взявшимся болям в суставах и катастрофическому отсутствию желания что-либо делать своими руками: отремонтировать лавку и апартаменты наверху, модернизировать системы освещения и отопления, оштукатурить фасад. Он погоревал немного, что нет у него на службе доброго гения, который мог бы проделать все это по мановению пальца, и что Виктор и Жозеф – они-то еще молоды! – едва ли озаботятся привести помещения в порядок во время их с Джиной будущей поездки в Венецию, если им не намекнуть. Но сейчас Виктор снова где-то пропадал, а Жозеф сбежал в подвал разбирать на складе книжки, и ему дела не было ни до внешнего вида «Эльзевира», ни до клиентов, которые вот-вот набегут.
«Как всегда, придется все делать самому. А поскольку силы у меня уже не те и быстро все провернуть не удастся, погрязну я в этом ремонте лет на сто», – мысленно пожаловался Кэндзи чернильнице на столе.
– Это не рукопись, а китайская грамота какая-то, – проворчал Жозеф, пытавшийся читать таинственную книжицу в марморированном переплете при тусклом свете лампы. – Начнем с текста на тряпичной бумаге. Черт, писал какой-то псих…
Марго Фишон раскрыла волшебную тайну, под покров коей давно пытаюсь проникнуть и я. На случай ежели мне это не удастся, оставляю в распоряжение посвященных, что придут мне на смену, разрозненные знаки, каковые…
Молодой человек быстро перелистал страницы и наткнулся на четыре листа великолепной велени с украшенным миниатюрами рукописным текстом:
Дабы воодушевить благородные сердца, я, Марго Фишон, поведу такую речь:
В светлый день Мафусаилов
Распрощаешься со всеми,
Кто тебя любил из ближних,
И, тропой времен шагая,
Долгий путь преодолев,
В монастырь прибудешь древний,
Где отведаешь три капли
Серебристых вод из дома Йонафаса,
Какового предали огню святому
За бесовское деянье,
Вызвавшее Божий гнев…
– Жозеф, поднимайтесь, вы мне нужны! – рявкнул наверху Кэндзи, и молодой человек даже подскочил от неожиданности.
«Черт! Я ему что, батрак подневольный? Ничего, подождет! – Жозеф пододвинул манускрипт поближе к лампе. – Короче, эта Марго Фишон зачем-то предлагает выпить воды в доме некоего Йонафаса, которому устроили аутодафе… Ничего не понимаю!»
– Жозеф, вы решили стать подземным жителем на веки вечные? Тут надо заказы рассортировать!
– Да иду, иду уже! Что за жизнь – ни минуты покоя!
Жозеф засунул книгу под стопку «Вселенского обозрения». Нужно будет непременно показать ее Виктору, но только не сейчас. Отдать шурину в руки важные факты, предварительно с ними не разобравшись, ни в коем случае нельзя. Он сам скрывает улики, пусть будет ему уроком!
Молодой человек поднялся в торговый зал с намерением осторожно задать Кэндзи пару вопросов так, чтобы он ничего не заподозрил. Японец внимательно посмотрел на него поверх очков с половинками стекол и подбородком указал на стопку изданий. Фыркнув, Жозеф взялся за дело. Сначала надо было дождаться, когда уйдет мадемуазель Миранда. Эта очаровательная особа с пухлыми щечками и вздернутым носиком с некоторых пор стала постоянной клиенткой «Эльзевира». Сейчас она строила глазки японцу и выясняла, действительно ли «Песни Билитис» Пьера Луи так хороши, как о них пишут критики. Кэндзи очень льстило внимание юного создания, он раздувался от гордости и не упускал случая коснуться то руки, то плечика девушки.
«Неисправим! Хорошо, что мадам Джина ушла за покупками», – сердито подумал Жозеф. Наконец зазвенел колокольчик на двери, выпустившей мадемуазель Миранду из лавки, и молодой человек поспешил задать вопрос, который не давал ему покоя:
– Кто такой Мафусаил? Вроде бы легендарный столетний старец?
– Говорят, он прожил более девятисот шестидесяти лет, – откликнулся Кэндзи. – Желаете превзойти его рекорд?
– А у него есть свой день?
– Приемный, вы имеете в виду? Я бы, пожалуй, удивился, узнав, что внук Ноя выделил один день в неделю для светских мероприятий, как это принято у наших дамочек с бульвара Сен-Жермен.
Жозеф, возмущенный насмешливым тоном японца, яростно стряхнул пыль с бюстика Мольера, нарочно размахивая метелкой из перьев, как поп кадилом. Кэндзи немедленно расчихался.
– Так что, собственно, вы хотели узнать? – спросил он, высморкавшись.
– Есть День святого Мафусаила или нет? – буркнул Жозеф.
– Ну, я же не всеведущ… Хотя мне известны другие личности из Ветхого Завета. Слышали поговорку? По бороде – Авраам, по делам – Хам. Или вот такая есть: никто не бывает так свят, как тот, у кого нет дурных мыслей.
– Ну до чего же вы вредный! – не выдержал Жозеф.
– Вы ошибаетесь, – развеселился Кэндзи. – Я действительно не имел удовольствия чествовать сего достойного старца-долгожителя в установленный церковью день. Однако, дабы доказать вам свою благосклонность, могу справиться в книгах, пока вы подберете издания Виктора Гюго по этому заказу. – Он обежал взглядом полки, достал какой-то том и просмотрел оглавление. – Вот, извольте: «Мафусаил родился в восьмой день месяца…» Не уточняется какого. «Этот день благоприятен для путешествий и пагубен для тяжелобольных. Сны, привидевшиеся в этот день, сбудутся». Довольны?
– Да, это наводит меня на некоторые мысли, спасибо, – пробормотал Жозеф. Поспешно упаковав заказ, он умчался обратно в подвал.
…Амадей, облокотившись на парапет набережной Отель-де-Виль, наблюдал, как швартуются у причала баржи, груженные строительным камнем, песком и яблоками. Дама, которую он тут поджидал, незаметно приблизилась к нему со спины и подергала за ленту, на старинный манер перехватившую волосы у него на затылке. Амадей резко обернулся – дама показала ему язык и хихикнула:
– Месье Амадей, я разгромила вас в пикет и просто обязана немного утешить! Что скажете насчет чашечки горячего шоколада в каком-нибудь уютном местечке? Заодно вы растолкуете мне правила игры в империаль.
– Милая барышня, похоже, карты – ваша страсть. Вы играете ради удовольствия или ради прибыли?
– И то и другое.
– Мне говорили, вы также посвящаете досуг разведению птиц и конфитюрам.
«Вам забыли сказать, что я еще немало времени уделяю мужчинам», – подумала Шанталь Дарсон, которую уже очаровали старомодные манеры Амадея.
Они дошли до улицы Барр. Рядом с церковью Святого Гервазия уличный кондитер выставил жаровни, в медных котелках бурлила патока. Амадей и Шанталь прошли мимо, не заметив притаившегося за жаровнями Фердинана Пителя. Позволив парочке отойти на безопасное расстояние, сапожник последовал за ними, свернул на узкую улочку Гренье-сюр-л’О. По обеим сторонам жались друг к другу ветхие домишки, пытаясь сообща противостоять порывам северного ветра.
Амадей и его спутница добрались до улицы Франсуа Мирона, прошагали мимо прачечной и бюро перевозок, в молчании миновали церковь Святого Павла. Под сводом пассажа Карла Великого прятались от ветра плетельщики стульев и молочники, несколько цветочниц отважно выставили свой товар на холоде у руин особняка купеческого старшины времен Карла V.
Парочка исчезла за дверью крошечного бистро, построенного скорее для мышиного племени, чем для рода людского. На столике в тесном зале перед ними почти сразу возникли две исходящие паром чашки. Фердинан Питель со своего наблюдательного пункта под свинцово-серым небом мало что различал через запотевшие стекла заведения, к тому же ему приходилось думать о том, чтобы его самого не заметили. Однако же он видел, что Шанталь Дарсон кокетничает напропалую, а собеседник рассказывает ей что-то увлекательное, подкрепляя слова элегантными жестами. Фердинан задохнулся от ярости. Сегодня он поджидал Шанталь у булочной-кондитерской, где она работала, и последовал за ней с твердым намерением признаться в своих чувствах. Он уже догнал ее и хотел коснуться плеча, когда прелестница устремилась к этому шуту гороховому. Сейчас Фердинан все отдал бы, лишь бы услышать их разговор.
– К величайшему сожалению, мадемуазель, я забыл прихватить карточную колоду, но обещаю: в воскресенье мы с вами непременно сразимся в империаль. Я приду утром. Вы ведь арендуете место на Цветочном рынке?
– Уже семь лет.
– И как клиентура?
– Мне не на что жаловаться – я повидала там немало людей всех сортов: богатых, бедных, молодых, старых. Как и вы, месье Амадей. Многие обожают торговаться, порой я продаю птичек себе в убыток, зато не скучаю, как в булочной-кондитерской. Иногда происходят забавные случаи. Вот в прошлое воскресенье у меня канарейка выпорхнула из клетки, когда я открыла дверцу, чтобы достать щегла. Представляете? Ловко так вылетела и уселась на дерево.
Амадей поднес к губам чашку и подул на пенку.
– Сочувствую, это чистый убыток.
– А вот и нет! Я заплатила пять су ватаге мальчишек, и они мне ее поймали. Эти мальчишки там вечно ошиваются, уже наловчились: у них есть длинный шест с намазанным клеем концом – до самых верхних веток можно достать, так чтобы птичка прилипла. Уморительная чехарда была!
– Вы, вероятно, схожим образом ловите воздыхателей?
– О, для них мне клей не нужен – они сами ко мне клеятся!
– Тогда, стало быть, приманкой вам служат конфитюры?
– Вот уж еще чего не хватало! Конфитюры я делаю для себя, обожаю сладкое! Но если вы хотите попробовать, я, пожалуй, могу сделать исключение.
– Не осмеливаюсь вас об этом попросить. Я вам в отцы гожусь…
– Ну, отцы тоже имеют право угоститься иногда бутербродиком с конфитюром.
Фердинан Питель видел, как парочка вышла из бистро, но несколько секунд не мог пошевелиться. Он должен услышать, о чем они щебечут, черт побери! Сказав себе это, молодой сапожник решительно устремился следом. Шпионить нехорошо, но он не намерен прислушиваться к голосу совести, он не позволит этому шуту себя обойти!
…Коричневые башмаки встали как вкопанные у оклеенного рекламными плакатами деревянного забора. Плакаты вылиняли, многие были оборваны; на том, что лучше всех сохранился, шины Данлопа катились по улице вдогонку за автомобилем. Но остановиться коричневые башмаки заставил вовсе не он, а шум, внезапно заполнивший улицу Сен-Жак: в сумерках тишину разорвали крики и яростный гул толпы. Вскоре истеричные вопли зазвучали со стороны сквера Сен-Жюльен-ле-Повр:
– Смерть жидам!
Группа манифестантов спустилась с горы Святой Женевьевы. В анемичном свете уличных фонарей и фонариков на проезжавших мимо фиакрах замелькали силуэты с поднятыми кулаками. Свист, гиканье, топот, нараставшие в ритме крещендо, взбудоражили отходивший ко сну город, распугав припозднившихся прохожих на мостах.
– Убивайте всех! Смерть жидам!
Крикуны драли глотки, разинув рты от уха до уха; их дыхание, превращаясь на морозе в облачка пара, смешивалось со зловонными испарениями сточных канав.
Коричневые башмаки нырнули под арку общественного здания с надписью на фронтоне: «Свобода, равенство, братство».
Наконец последние горлопаны убрались в сторону реки. Путь был открыт. Теперь башмакам предстояло перейти Архиепископский мост, осмотреться на местности и засечь время, которое понадобится на то, чтобы дойти от Цветочной набережной до улицы Вербуа прогулочным шагом, когда работа будет закончена.
Глава тринадцатая
Вторник, 18 января
Изидор Гувье печалился. Он обнаружил, что стареть – это не только прятать лысину под видавшим виды котелком и опускать руки в борьбе с седой щетиной, которой со страшной скоростью зарастают щеки и подбородок. Это еще и хромать заметнее день ото дня из-за некогда полученного перелома бедренной кости (Изидор много лет назад схватился врукопашную с карманником), и отчаянно сражаться с помощью клетчатых платков с сенной лихорадкой, превратившейся в хроническую. Но что самое неприятное, стареть – это чувствовать себя бесполезным. По доброте душевной Антонен Клюзель не выгнал его из «Пасс-парту» и доверил скромную рубрику о живописи. В итоге Изидор Гувье, восхищавшийся Рембрандтом и Гойей, оказался лицом к лицу с современным изобразительным искусством и впал в отчаяние. «Чепуха на постном масле, кошачья моча в чане красильщика» – таков был его приговор, и не на пустом месте: честный Изидор не один день провел в мастерских монмартрских мазилок, от души желая, чтобы его переубедили, но нет. «Ренуар, Дега, Моне, Пюви де Шаванн – еще куда ни шло, однако все эти нынешние выставки портретов проституток и прочей мазни поколения, не оправившегося от войны 70-го года
[946]… Я пока еще не заделался старым брюзгой и хулителем эпохи, но всему же есть предел!» – угрюмо думал он, выходя из омнибуса маршрута Пигаль – Винный рынок у церкви Лореттской Богоматери.
– И гнездилище этой безвкусицы – улица Лафитт, вотчина торговцев картинами, – проворчал он себе под нос, шагая мимо магазинов Амбруаза Воллара, Поля Дюран-Рюэля и Дио.
Картины Будена и Коро, выставленные Жераром, а также витрина в «Тамплер», посвященная Фантен-Латуру (этого художника Изидор не слишком жаловал, но уважал за безупречную технику), немного подняли ему настроение. Он бы с удовольствием задержался у особняка, где жила Лола Монтес до своего переезда в Америку, и зашел бы в старый дом Марселины Деборд-Вальмор и Селесты Могадор
[947], но репортерский долг звал его на открытие «Палитры и мольберта» – новой художественной галереи, посвященной гнусностям конца века.
Помещением, снятым ресторатором по имени Леонс Фортен, самовластно распоряжался художник Морис Ломье. Устав бороться с превратностями судьбы, Ломье в конце концов забросил кисти и краски и все свои чаяния возложил на торговлю чужими картинами, решив, что они принесут больше дохода, чем его собственные.
Десятка
три любителей поесть за чужой счет толклись в тесном зальчике, хватая с подносов тарталетки и стараясь не задевать носом гуаши на стенах. Половину пространства занимал пузатый и пышноусый Леонс Фортен в полосатом выходном костюме. Он раздувался еще больше от гордости и похвалялся направо и налево, что своей страстью к искусству обязан не кому-нибудь, а Огюсту Родену, которого имеет честь каждый день обслуживать у себя в ресторане.
– Но никогда бы я не решился на подобное предприятие, кабы месье Ломье мне того не присоветовал и не взял на себя все организационные хлопоты! Это он убедил Мадлен Лемер
[948] дать нам несколько своих акварелек с цветами. И он уговорил папашу Малезьё, пока еще неизвестного, но подающего надежды живописца, по ремеслу колбасника, предоставить нам свои творения.
Изидор Гувье терпеть не мог букеты на картинах, и каждый взгляд на акварели прославленной Мадлен Лемер вызывал у него неодолимое желание чихнуть. При виде петухов, куриц и индюшек, увековеченных колбасником, ему сделалось совсем худо.
– Воистину, что навозом не воняет и на стенку повесить можно – уже искусство! Откуда у вас взялись эти нездоровые наклонности? Что за птицеферма у вас тут? – проворчал он, обращаясь к Морису Ломье. Тот в сдвинутой на затылок шляпе а-ля Ван Дейк, засунув руки в карманы черного бархатного пиджака с иголочки, поглядывал вокруг и вид при этом имел донельзя довольный.
– А по-моему, симпатичненькие птички, – проворковала Мирей Ломье, для близких друзей Мими, чьи пышные формы казались еще пышнее в роскошном наряде из сиреневой тафты.
– Можете смеяться, дорогой друг, это и правда редкостная мазня, но представьте себе, у нее есть поклонники, – усмехнулся Морис Ломье. – В нашем огромном городе из камня под небом, затянутым вредоносным дымом, парижане мучаются сплином и тоскуют по сельской местности. Виды птицефермы и цветущих лужочков в домашнем интерьере скрашивают их безрадостное заточение в четырех стенах. Кстати, на этих полотнах запечатлена уходящая жизнь: папаша Малезьё сначала курочку рисует, а потом в суп ее, в суп!
– Бедные цесарки! – покачал головой посетитель, похожий на английского прораба, с набрякшими веками и густыми усами. – Мир праху их, и аминь микробам, которых становится все меньше и меньше, с тех пор как в моду вошла гигиена. А Общество защиты животных и в ус не дует!
– Месье Альфонс Але
[949]! Вот уж не чаял вас тут встретить! – воскликнул Изидор Гувье.
– И это продается? – недоверчиво спросил писатель Мориса Ломье, с которым его познакомила некогда Жанна Авриль
[950].
– Будет продаваться как горячие пирожки! Благодаря папаше Малезьё мы с Мими скоро сможем перебраться из конюшни в местечко поприличнее.
– А я работаю только ради того, чтобы было на что погулять. – Альфонс Але повернулся пожать руку подошедшему Шарлю Леандру
[951] – дородному мужчине с близорукими глазками за стеклами круглых очков. – Дамочка курит как сапожник, – шепнул он ближайшему окружению, указывая на супругу ресторатора. – А у ее муженька Фортена я бы охотно позаимствовал костюмчик для карнавала.
– Одежды наших друзей – наши одежды, – хмыкнул человек с кошачьей мордочкой.
– Абель Эрман!
[952] Вот так сюрприз! – обрадовался Шарль Леандр. – А у Мориса, однако, широкий круг общения!
– И я также имею честь быть вхожим в этот круг, – заявил Виктор Легри, пробившись к ним под руку с женой.
– Ты, как всегда, прекрасна и стройна, несмотря на материнство, – шепнул на ухо Таша Морис Ломье, игнорируя грозные взгляды Мими.
Таша облачилась ради этого выхода в свет в элегантное платье из коричневого сукна с широким поясом и открытым корсажем, но не утерпела и надела любимую кокетливую шляпку с маргаритками, которая едва удерживалась на буйных рыжих локонах. Не обращая внимания на восхищенные лица мужчин, художница тотчас направилась к картинам Мадлен Лемер. «Как удивительно тонко и нежно передано здесь увядание розы, – подумала она. – Определенно у меня нет ни искорки таланта. Тогда зачем рисовать? Портреты, которые я пишу, невыразительны, от меня ускользает главное… И собственного салона, как у Мадлен Лемер, у меня нет!»
Виктор немедленно сбежал на улицу покурить только ради того, чтобы вырваться из этого курятника. За ним последовал Изидор Гувье. Они тепло обменялись рукопожатием – было ясно, что оба тут оказались по одной и той же причине.
– Ну и как вам эта мазня? – осведомился Виктор.
– К черту эту мазню, даже думать о ней не хочу! – отмахнулся Изидор. – Расскажите лучше, как у вас дела, уважаемый сыщик-любитель.
– Должен признаться, я опять затеял расследование. Кстати, вы могли бы мне помочь…
– О, я уже не пишу о преступлениях, разве что о тех, что совершаются против искусства, – вздохнул репортер, оглаживая бороду.
– А если я попрошу о личной услуге? Вы же не откажете старинному приятелю? – Виктор с мольбой протянул к репортеру руки. Выглядел он в этот момент как школяр, клянчащий у однокашника ластик в память о былых совместных проказах.
Изидор Гувье не выдержал и расхохотался.
– Так и быть. Я страшно любопытен от природы. Выкладывайте, что от меня требуется.
– Ничего невозможного. Недавно все газеты писали об убийстве одного книготорговца. Труп был привязан к стулу. Я бы хотел узнать, какого цвета была бечевка – в заметках это не уточнялось.
Озадаченный репортер собрался было почесать затылок, приподнял котелок, но порыв ледяного ветра заставил его тотчас нахлобучить головной убор поглубже.
– Неужто вас интересует такой пустяк? – разочарованно спросил он. – Всего лишь цвет какой-то бечевки?!
– Это очень важная деталь, – заверил Виктор. – С ее помощью я надеюсь установить связь между несколькими преступлениями. Помогая мне, вы, возможно, предотвратите новые убийства.
– И как зовут того книготорговца?
– Запамятовал. Но «Пасс-парту» писала о его убийстве две недели назад.
– Что ж, постараюсь что-нибудь разнюхать. У меня есть доступ в архив редакции. Репортеры, знаете ли, не очень внимательно переписывают полицейские отчеты. Если что разузнаю, немедленно протелефонирую вам в книжную лавку.
– Лучше мне домой, и… – Виктор заглянул в открытую дверь галереи, убедился, что Таша стоит далеко от входа, и договорил: – Пожалуйста, ни слова моей жене!
Огюстен Вальми тщательно обрабатывал ногти пилочкой и задержанную, которую полицейский втолкнул в его кабинет, удостоил лишь беглым взглядом. Полная, небрежно одетая женщина казалась по этим двум причинам старше своих лет, но ей едва ли перевалило за тридцать пять. Она заметно нервничала, как обвиняемый в ожидании приговора суда. Завороженная руками комиссара, дамочка какое-то время боролась с отчаянным желанием погрызть ноготь на большом пальце. Наконец прозвучал повелительный голос:
– Сядьте уже, мадам Фуэн, что вы там стоите!
Она послушно опустилась на краешек стула, будто для того, чтобы поскорее вскочить и броситься прочь.
– Моя фамилия Фруэн, позволю себе поправить ваше превосходительство. Ангела Фруэн.
– Называйте меня «господин комиссар». Ангела, говорите? Вам очень подходит это имя.
Уловив в его словах насмешку, Ангела попыталась объяснить:
– Видите ли, ваше превосхо… инспектор, когда меня так окрестили, я была очаровательным младенчиком, и моя матушка…
– Ваша матушка непременно передумала бы вас так называть, если бы ей тогда предсказали ваше будущее.
– Не трогайте мою матушку! – выпалила Ангела Фруэн с внезапной воинственностью. – И с какой стати вы меня тут оскорбляете? За что меня вообще задержали?
– Все дело в воздушных шариках, мадам Фуэн. В трех желтых воздушных шариках с надписью «Дюфайель». Ваши коллеги-чесальщицы засвидетельствовали, что вы раздобыли их для своих деток.
– Ну да, так все и было. Только эти шарики у меня украли.
– Какое совпадение! Совсем недавно я получил известие о том, что в Булонском лесу найдены три сдувшихся желтых шарика с маркой известного производителя мебели. Они были привязаны к голове… Да-да, вы правильно расслышали – к отрубленной человеческой голове, мадам Фуэн. А также там присутствовало послание, подписанное Жоржем Муазаном, букинистом, с которым вы, как мне сообщили, водили знакомство. Из текста следует, что этот господин покончил с собой, что весьма неправдоподобно, на мой взгляд. Однако интересно другое: с чего бы человеку лишать себя жизни – цитирую – «в обществе, где не встретишь ни одного
ангела»?
– Ну уж нет, я тут ни при чем!
– Есть устные заявления об уликах против вас, мадам Фуэн. Нам известно о ваших горшочках с конфитюрами, о воздушных шариках и… о сапожном резаке для тачания сабо – весьма опасном инструменте.
Ангела почувствовала, как к горлу подкатывают рыдания. За что судьба на нее ополчилась? Не иначе как кто-то из соседей или знакомых с набережной рассказал полицейским о краже резака, да и о недавней размолвке с Жоржем Муазаном, вероятно, тоже не умолчали…
Огюстен Вальми подровнял на столе чернильницу и перьевые ручки, затем пошуршал документами.
– У меня также есть письменные показания одного букиниста о ваших угрозах в адрес месье Муазана, – сообщил он.
– Ну да, я с ним повздорила! И не только я – месье Ларю тоже, он обещал этому Муазану уши отчикать садовыми ножницами! И месье Ботье с ним был на ножах…
– Что же месье Ботье не поделил с месье Муазаном?
– Месье Муазан вечно ему досаждал. В последний раз они поругались из-за какой-то штуки, которую Муазан должен был раздобыть.
– «Штуки»?
– Я понятия не имею, о чем шла речь. Может, о книжке. Короче, она была срочно нужна Ботье… Погодите-ка, они еще оба к одному дантисту ходили…
– Не отвлекайтесь от темы, мадам Фуэн.
– Я не отвлекаюсь, я рассказываю, что знаю. А больше мне рассказать нечего!
– Не кипятитесь, мадам Фуэн. Вы заявили, я цитирую: «Мой муженек отрубал им головы резаком». Будьте любезны, растолкуйте мне смысл сего высказывания. Это что, метафора?
– Фр-руэн! Моя фамилия Фруэн, с буквой «эр»! А высказывалась я о крысах. Месье Муазан собирался потравить крыс на набережной, вот я тогда на него и накинулась… Животных надо защищать! Вы только не подумайте, что я его… Я честная женщина, работаю с утра до ночи, у меня трое детей, я бы никогда не сделала ничего такого ужасного! И потом, Тиролец мне нравился…
– Тиролец?
– Месье Муазан. Он шляпу носил тирольскую, с пером, вот его все так и называли…
– В любом случае пока нет доказательств, что голова, найденная в Булонском лесу, принадлежала ему. И что прилагавшееся к ней послание принадлежало его перу.
– Голова, что ли, в шляпе была? Не знаю, какое на ней перо, но вроде фазанье, такими как будто не пишут…
– Это оборот речи такой – «принадлежать чьему-то перу», – раздраженно пояснил комиссар, отложив пилочку и смочив пальцы в теплой воде из миски на столе. – Значит «быть написанным кем-то».
– Я вам не школьница! – вспыхнула Ангела. – И не дура, просто вы мне совсем мозги заморочили своими обвинениями! Резак моего покойного мужа, который сабо тачал в Камамбере, у меня украли, я жалобу в полицейский участок подала, можете проверить. А вы тут еще со своими «оборотами речи»… Что с моими детками будет, если вы меня арестуете? Никому я головы не отрубала – ни Тирольцу, ни крысам! Мне бы свою не потерять от всего этого безобразия, капитан!
– Я не капитан, я старший комиссар полиции, черт возьми! – взорвался Огюстен Вальми, ударив кулаком по столу. Миска перевернулась, брызги воды попали ему на брюки, и он, чертыхаясь пуще прежнего, принялся вытирать их салфеткой. – В общем, так. Сегодня вечером мы проведем обыск в вашем жилище, а опознание головы в морге отложим на завтра.
Разговор с подозреваемой его вымотал, к тому же комиссар терпеть не мог визиты в морг и все, что связано с трупами, особенно расчлененными.
Ангела вздрогнула при слове «обыск» и разрыдалась. Она пыталась сдержаться, но в горле заклокотало, слезы хлынули водопадом.
– Нечего тут сырость разводить, – проворчал комиссар, – на меня эти ваши женские уловки не действуют.
– Клянусь вам, я ни в чем не виновата! Не верьте вы всяким болтунам!
– Когда вы в последний раз видели Филомену Лакарель?
– Почему вы об этом спрашиваете?
– Отвечайте. Здесь вопросы задаю я.
– Не помню… Несколько дней назад на набережной Вольтера.
– Не набережная, а светский салон какой-то! – подивился Огюстен Вальми.
– Мы с Филоменой приятельницы, – всхлипнула Ангела. – Она, до того как наследство получила, работала надомной уборщицей, я ее встретила у хозяев, которые отдали мне подлатать матрасы. И еще мы с ней обе любительницы конфитюров. А при чем тут Филомена в этой вашей истории?
– Ее убили.
– Господь Всемогущий! – остолбенела Ангела Фруэн. – Вы и это убийство на меня повесить хотите?!
– А некая Анни Шеванс, модистка с Райской улицы, часом, не входила в круг ваших знакомств? – не обратив внимания на ее вопрос, осведомился комиссар.
– Вы что, думаете, я могу позволить себе покупать модные шляпки? Да я весь год вкалываю как проклятая, чтобы свести концы с концами!
– Анни Шеванс тоже убита. И попробуйте мне сказать, что вы с ней не знакомы, – отрезал Вальми.
Ангела начала что-то говорить, но осеклась, чихнула и, высморкавшись, призналась:
– Знакома, она тоже увлекалась конфитюрами, мы все вместе – Филомена, Анни и я, мы… м-мы-ы… – Она снова разрыдалась.
«М-мы-ы! – мысленно передразнил комиссар Вальми, полируя ногти шелковым платочком. – Я от тебя дождусь чего-нибудь, кроме этого коровьего мычания?»
– Мадам Фуэн, у вас есть алиби?
– Для какого из убийств? В какой день? В какой час? Не нужно мне ваше алиби, мне нечего скрывать!
– Мадам Фуэн, с прискорбием должен сообщить, что вы подозреваетесь в совершении всех трех убийств.
Ангела вскочила, пышная грудь угрожающе заколыхалась.
«Ух ты, землетрясение началось, сейчас грянет буря», – отметил Огюстен Вальми.
– Вот, значит, как полиция работает! – завопила Ангела Фруэн. – Да вы чокнутый! Вам нравится издеваться над невинными людьми! Ничего себе правосудие, ничего себе справедливость! И потом, сколько раз вам повторять: моя фамилия Фруэн, Фр-руэн, после «эф» – «эр»! – Она от души шарахнула по столу двумя кулаками, чернильница подпрыгнула, выплеснув содержимое ей на блузку.
Ошеломленный комиссар закашлялся и взвизгнул:
– Петрюс!
В кабинет заглянул полицейский:
– Да, патрон?
– Собери группу и получи ордер – мы едем с обыском на улицу Ирландэ в квартиру этой гражданки… И принеси нюхательную соль.
Ангела Фруэн только что лишилась чувств.
– Не дай бог она мне ковер запачкает, – проворчал Огюстен Вальми.
Фиакры сбились в стадо на площади Пантеон, чтобы не мешать пешеходам на улицах Ирландэ и Эстрапад. В этом школьном квартале после тихого дня снова воцарилось оживление, матери семейств посыпали солью обледеневшие тротуары, чтобы их отпрыски не поскользнулись, спеша по домам, проезжая часть была почти пуста, и конвой добрался по адресу, указанному в ордере, стремительно.
– Эй, Ангела! Пригласила, что ли, друзей на праздничный ужин?
– А за что это тебя флики замели, товарка? Распотрошила пару тюфяков?
По соседству с Ирландским колледжем, во дворе которого стояла статуя святого Патрика, притулился маленький домишко, будто съежился под серым небом, чтобы укрыться от любопытных взглядов. Ангела снимала здесь сарай и две комнаты на первом этаже окнами на двор. Когда она вошла, девочка лет двенадцати со светлыми волосами, завязанными в два хвостика, прижимая к худенькой груди младенца, бросилась к ней, но тотчас замерла при виде незнакомцев. Из-за ее спины выглянул, ковыряя в носу, пухлощекий мальчуган помладше и попятился.
– Фонсина, Фелисьен, это старший комиссар Вальми, а эти господа тоже из полиции, они просто посмотрят, всё ли у нас в порядке.
Голос у Ангелы дрожал, выдавая страх и неуверенность. Мать и дочь уныло смотрели, как агенты методично проводят обыск на кухне – были внимательно осмотрены каждая кастрюля, каждый горшок, каждый шкафчик выпотрошен и обшарен. Одна тарелка разбилась, мешок с мукой проткнули ножом. Возмущенная Фонсина сунула расхныкавшегося карапуза в руки матери и попыталась образумить бесчинствующих полицейских, но те не удостоили ее и взглядом.
– Уймите вы младенца, – поморщился Огюстен Вальми, – не выношу этот скулеж.
– Что я должна, по-вашему, сделать? – мрачно уставилась на комиссара Ангела. – Удавить его?
– Покормить.
– Тогда подержите его, пока я приготовлю кашу. Хоть на что-то сгодитесь.
Огюстен Вальми взял у нее орущего карапуза и только хотел передать его одному из подчиненных, почувствовал, как по животу течет что-то теплое.
– Черт! Он меня описал!
Вопль комиссара слился с криками из соседней комнаты:
– А ну отпусти меня, сопляк! Патрон, мы нашли орудие преступления!
Держа младенца на вытянутых руках, комиссар бросился на зов, Ангела и Фонсина поспешили за ним. В спальне чесальщицы и ее дочери все было перевернуто вверх тормашками, один полицейский отбивался от Фелисьена, норовившего укусить его за руку, двое других подняли матрас на кровати, и под ним поблескивал резак.
– Так-так, мадам Фуэн, похоже, не всё у вас в порядке. Как вы объясните чудесное появление этого, по вашим словам, украденного предмета?
– Ума не приложу, капитан… э-э… комиссар, клянусь вам, мне бы и в голову не пришло…
– Я бы на вашем месте не употреблял в подобных обстоятельствах слово «голова». И клятвы ваши мне не нужны. Поскольку вы обременены семьей, я не буду настаивать на вашем немедленном аресте. В первое время останетесь здесь под охраной стража порядка. Заберите своего младенца и покажите мне место, где можно почистить и высушить одежду.
Не успел Огюстен Вальми договорить – раздался страшный грохот.
– Мама! – взвыла Фонсина.
Во второй раз за день Ангела Фруэн грохнулась в обморок. Падая, она ударилась боком о край стола.
– У нее кровь! – закричала девочка. – Позовите врача!
– Черт. Какая неприятность. Теперь ее в больницу придется везти, – проворчал Огюстен Вальми, который наконец-то избавился от младенца, уложив его на кровать, и теперь брезгливо обнюхивал рукава пиджака. – За вами есть кому присмотреть? – спросил он девочку.
– Я присмотрю, идите сюда, мои птенчики, – сказала прибежавшая на шум соседка. – А вам должно быть стыдно, уважаемый! Как вы можете подозревать в чем-то Ангелу? Она и мухи не обидит!
– Ну да, судя по комплекции, она и ярмарочного силача заборет, – буркнул старший комиссар и обратился к Петрюсу: – Ну что, позвали врача?
– Уже бежит сюда, патрон. Местный священник, он лечит прихожан и заодно может сразу соборовать.
– Убийцы! – заверещала соседка.
Огюстен Вальми укрылся на кухне, запер дверь и долго отчищал мокрой тряпкой одежду. Ему не раз доводилось сожалеть о выборе профессии, но никогда он еще не сокрушался так о своей ошибке.
Глава четырнадцатая
Среда, 19 января
Виктор барахтался в полусне, наполненном видениями и звуками, в которых сплелись грезы и реальность. Он слышал размеренное дыхание Таша, лепет Алисы, мурлыканье Кошки, требовавшей от хозяина немедленно встать и приготовить ей завтрак. И одновременно брел по лабиринту, опутанному красной бечевкой, где на каждом шагу попадались трупы. Над трупами из воздуха появлялся горшочек с конфитюром, и тогда они оживали.
Из этого бреда его вырвал телефонный звонок. Спихнув Кошку с кровати, Виктор поплелся к настенному аппарату.
– Алло! Это Рауль Перо! Вы уже прочитали утренние газеты?
– Я только-только собрался выпить здоровенную чашку черного кофе.
– Прошу прощения, месье Легри, я в отличие от вас ранняя пташка. Но я никогда не позволил бы себе побеспокоить вас в столь ранний час, если бы не новость чрезвычайной важности. Она касается соседа моего соседа по набережной, Жоржа Муазана… Вчера в Булонском лесу нашли его голову!
– Что?! Голову?! Уж не ту ли самую, которую потерял труп, засунутый в ящик Фюльбера?
– Не исключено, но с уверенностью пока говорить нельзя. Двое прохожих принесли находку в комиссариат – к ней прилагалось послание, подписанное Жоржем Муазаном. Загвоздка в том, что голова в ужасном состоянии и опознать лицо будет практически невозможно.
– Я сейчас забегу в лавку, скажу Кэндзи, что должен сделать кое-какие покупки, и примчусь к вам на набережную Вольтера!
Виктор озадаченно повесил рожки на аппарат. Убийца обезглавил труп, потому что тот не влезал целиком в ящик, из которых состоит букинистическая стойка. Если таким образом он хотел бросить подозрение на Фюльбера, зачем было оставлять голову в Булонском лесу? Виктор не сомневался, что Огюстен Вальми задается сейчас тем же вопросом, и хотя было ясно, что комиссар не замедлит включить сыщика-любителя в список подозреваемых, Виктор испытывал некое сочувствие и сопричастие полицейскому, который бился над этой удивительной загадкой.
– Что за голова?
Виктор вздрогнул и обернулся. Таша в ночной рубашке, скрестив руки на груди, насупив брови, стояла на пороге спальни и грозно смотрела на мужа.
– Кто тебе звонил и о какой голове вы говорили?
– Ах, это? Сущие пустяки, душа моя. Рауль Перо сообщил, что полиция, по всей видимости, нашла голову трупа, который подбросили на набережную букинистов. Он предложил мне купить газету и вместе обсудить заметку.
– Не ври мне. Я прекрасно слышала, как ты сказал: «Я сейчас забегу в лавку, скажу Кэндзи, что должен сделать кое-какие покупки, и примчусь к вам на набережную Вольтера».
– Ну правильно! Рауль очень настаивал, ему не терпится… Мы оба хотим снять подозрения с Фюльбера.
Таша погрозила ему пальцем:
– Хорошо, я тебе верю. И доверяю – не забывай об этом. Больше никаких расследований. Если ты не готов отказаться от риска из любви ко мне, подумай хотя бы о безопасности дочери! – Она хотела добавить «и твоего майского цветочка», но не позволила себе.
Виктор немедленно поклялся всеми богами, что уже отказался от расследований раз и навсегда. Супруги нежно поцеловались, а после завтрака Виктор спешно оделся, оседлал велосипед и помчался на площадь Бланш за свежим выпуском «Пасс-парту».
Перед домом 18-бис мадам Баллю поливала горячей водой из ведра обледеневший тротуар. Голова у нее была обмотана полотенцем, завязанные концы которого воинственно торчали на макушке, правая щека раздулась. Консьержка всхлипывала, постанывала и сердито бормотала себе под нос. Виктор остановился и с трудом преодолел искушение спросить, не собралась ли она на бал-маскарад в этом костюме кролика.
– Что с вами стряслось, мадам Баллю?
– Зубодер вырвал мне коренной зуб, – промычала консьержка. – Никому не пожелаю такой муки, даже злейшему врагу!
– Полощите рот коньяком, это снимет боль.
– Вы прям как мой кузен Альфонс – он тоже считает, что сгодится любое лекарство, лишь бы в нем был алкоголь!
– Он вроде бы на работу устроился, ваш кузен?
– Устроился. В духовное ведомство на улице Бельшас. Все ж таки получше будет, чем в армии: пообщается с попами, может, и сам благости наберется.
В торговом зале было пусто. После скандала с мадам де Салиньяк часть клиентуры выдала свой антидрейфусовский настрой и объявила «Эльзевиру» бойкот. Жозеф маялся бездельем, занимая себя время от времени тем, что смахивал пыль метелкой из перьев со всего подряд и вырезал из газет статейки, чтобы наклеить их в тетрадку со всякой всячиной.
– Какие новости? – оживился он при виде ввалившегося в лавку Виктора.
– Где Кэндзи?
– У себя, на втором этаже…
– Идемте со мной!
Виктор затащил велосипед вместе с зятем в подсобку, прислонил железного коня к полкам, извлек из портфеля выпуск «Пасс-парту» и протянул его Жозефу:
– На первой полосе вторая колонка.
– Жермина Лэз, Констан Венетт… Это что за клоуны?
– Дочитайте до конца и поймете.
– Черт! – выпалил Жозеф, когда заметка закончилась. – Становится всё интереснее! Стойте здесь, никуда не уходите, мне надо вам показать кое-что важное! – Он ускакал по лестнице в подвальное помещение и тотчас вернулся, перепрыгивая через две ступеньки, с книжкой в руке. – Вот, та самая книжка, которую Филомена перепутала с нашим «Трактатом о конфитюрах».
– И вы только сейчас мне ее показываете? – возмутился Виктор. – Ничего себе!
– Я ее вчера вечером совершенно случайно нашел в сарае у матушки! – не моргнув глазом соврал Жозеф.
Виктор проворчал, что вчера и надо было ему протелефонировать, а не ночевать с этим грандиозным открытием в обнимку, и принялся листать томик. Его, так же как и Жозефа, сразу заинтриговал рукописный текст на велени.
– Марго Фишон… Ни в одной книге мне это имя не попадалось. Целые куски на латыни, это прискорбно… – Он перешел ко второй части. – Тряпичная бумага. Вот здесь не хватает одного листа – его вырвали. Занятно… – Виктор открыл сборник наугад и прочел вслух:
22 ноября 1847 г. Долгие годы пытался я проникнуть в тайну считалочки на лангедойле[953], предшествующей средневековому колдовскому заклинанию. И пришел к выводу, что в ней содержится ключ к другому волшебному тексту, каковой прежде считал я пустословием и каковой после длительных изысканий мне почти удалось расшифровать. Отныне истина в моих руках, и я знаю, где найти ей подтверждение. Рыцарь печального образа , неотступно преследующий меня, не помешает мне оставить некие приметы для братьев моих человеческих!
23 июня 1848 г. Пишу в спешке. Я слышу ружейные залпы. Восстание разгорается. Боюсь, что гражданская война повергнет страну в море огня и крови. Вчера выходил на улицу, но не посмел продвинуться далее Малого моста, ощетинившегося баррикадами.
27 июня. Восставшие разгромлены. Уцелевших преследуют. Надобно спрятать книгу в надежном месте – кто знает, что ждет меня впереди. Многие тысячи мятежников убиты. Генерал Кавеньяк никому не дает пощады. Один друг сказал мне, что повсюду идут аресты. Двадцать пять тысяч человек уже за решеткой. Я уезжаю искать убежища у дочери.
Декабрь 1851 г. Мне исполнилось восемьдесят лет, и недуг уже не победить. Я многое повидал. Племянник того, другого[954], захватил власть. Упадок, движение вспять. Три сотни убитых на Больших бульварах. Зачем мне жить дальше? Чтобы наблюдать, как диктатор сменяет диктатора? Я спрятал манускрипт среди сотен книг в библиотеке супруга моей дочери. Если кто-то найдет сей манускрипт, пусть постарается проникнуть в тайну, и коли ему это удастся, я обещаю, что он не получит удовольствия, ибо предчувствую: грядут времена великой бойни, каковая превзойдет границы моего воображения.
Луи Пелетье
– Н-да, весьма оптимистично… Давайте отложим пока эти разглагольствования и разберемся сначала с Марго Фишон. – Виктор вернулся к тексту на велени и прочитал:
В светлый день Мафусаилов
Распрощаешься со всеми,
Кто тебя любил из ближних,
И, тропой времен шагая,
Долгий путь преодолев,
В монастырь прибудешь древний,
Где отведаешь три капли
Серебристых вод из дома Йонафаса,
Какового предали огню святому
За бесовское деянье,
Вызвавшее Божий гнев.
Поиски Средины Мира
Завершатся где-то рядом.
Там под сводом галереи
Муж стоял вооруженный,
Некогда стоял на страже
Древнего монастыря.
И с тех пор источник спрятан,
Но разгаданной быть тайне.
Все усилия не зря…
Буквы сливались – и виной тому был не только замысловатый почерк. Виктор подумал, что скоро придется обзавестись очками.
– Нам понадобится помощь эрудита, какого-нибудь умника вроде Кэндзи, – сказал Жозеф. – Он уже просветил меня на предмет Мафусаилова дня – это восьмой день любого месяца.
– Вы показали ему рукопись? – забеспокоился Виктор.
– За кого вы меня принимаете? Я очень аккуратно его расспросил – он ничего не понял.
– Ну так растолкуйте мне этот текст.
– Итак, некий Йонафас, сожженный на костре, обитал в монастыре. Название монастыря не уточняется. Что за тропа времен – тоже неизвестно. Насколько я понимаю, суть такова: если хочешь прожить столько, сколько прожил Мафусаил, нужно выпить воды из источника, который находится… например, в часовне древнего монастыря. Как-то так.
Виктор двумя руками взъерошил волосы на затылке:
– Это что же, речь об источнике вечной молодости?
– Я в такие сказки не верю.
– Поставьте себя на место того, кто верит. Во многих мифах и легендах есть рациональное зерно… Действительно, ничего не остается, как обратиться за помощью к Кэндзи. Идемте!
– А кто же за прилавком останется? – Жозеф испугался, что тесть выдаст его Виктору: ведь вопросы о Мафусаиле были заданы отнюдь не нынешним утром.
– Заприте лавку – после скандальной ссоры с мадам де Салиньяк клиенты к нам как-то не торопятся.
Кэндзи, облаченный в элегантный желто-сиреневый халат, завтракал на кухне. Вокруг него суетилась Мелия, давно поддавшаяся чарам этого мужчины с непроницаемым лицом и посеребренными сединой висками. Она даже изменила своей привычке вечно напевать себе под нос, чтобы не потревожить хозяина, предававшегося, по мнению лимузенки, размышлениям о чем-то высоком и недоступном ее пониманию.
На самом деле Кэндзи после бурной ночи, проведенной с Джиной, и позднего пробуждения к размышлениям о высоком пока был не способен. Услышав шаги на винтовой лестнице, он поспешно пригладил волосы и застегнул воротник рубашки.
– А, это вы?
Виктор и Жозеф подсели за стол.
– Джина уже ушла?
– Еще не проснулась.
– Вам кофе или чай? – спросила Мелия.
Жозеф хотел было потребовать горячий шоколад, но Виктор его опередил:
– Ничего, спасибо. Кэндзи, как по-вашему, «рыцарь печального образа» – это…
– Не кто иной, как Дон Кихот, – сказал японец, намазывая маслом бисквит. – Стыдно не знать.
– Такой высоченный тощий чудак, который сражался с ветряными мельницами, – пояснила Мелия, довольная, что выпал случай блеснуть познаниями. – У нас была тарелка с его портретом. Вид у него там уморительный!
Виктор раздраженно отмахнулся.
– Кэндзи, а если я перечислю вам такие приметы: Средина Мира, свод галереи, вооруженный мужчина и древний монастырь… вы сможете назвать квартал Парижа, где все это есть?
Бисквит с маслом замер в двух сантиметрах от губ японца.
– Вы, стало быть, тоже увлеклись шарадами? Жозеф меня уже расспрашивал о…
Со стола на пол с грохотом обрушился заварочный чайник.
– Прошу прощения, – пробормотал Жозеф.
Кэндзи нахмурился, покосившись на зятя. Молодой человек сидел красный как рак – не ожидал, что его дурные предчувствия сбудутся так скоро, и теперь терзал под столом на коленях открытый манускрипт, чтобы обрести душевное равновесие. Это не укрылось от взора Мелии, которая как раз присела на корточки, чтобы подобрать осколки фарфора.
– О, какая прелесть! Миленькая книжечка, напоминает о временах моего детства – мамаша вечно заставляла меня варить конфитюры. – Не заметив, что ее слова повергли в оцепенение Виктора и Жозефа, она продолжала: – С тех пор терпеть не могу это занятие. Мамаша меня доводила до изнеможения – это ж надо фрукты собрать, потом их почистить, надробить сахара, присматривать, чтоб варенье не выкипело, прокипятить банки, наполнить их… Мне нравился только самый последний этап. Мамаша у меня была привереда – считала, что банки да горшочки с конфитюром надобно закрывать только телячьей кожей, для нее слово какое-то есть специальное… э-э… Вот я дурья башка, grossa testa, pauc de sens!
[955]
– Велень? – подсказал Кэндзи, отпив зеленого чая.
– Велень! – обрадовалась Мелия. – Ваша правда! Так я, собственно, к чему, месье Пиньо? У вас книжица как раз из тех, какие моя мамаша покупала у разносчиков, чтоб на листы разодрать.
Виктор и Жозеф воззрились друг на друга так, будто хотели загипнотизировать. Кэндзи молча переводил взгляд с одного на второго. Его глаза опасно поблескивали. Налив себе еще зеленого чая, он вдруг разразился речью:
– Да уж, у книг немало врагов. Сапожники подбивают веленью задники дамских туфелек, коллекционеры вырезают из манускриптов буквицы, миниатюры и фронтисписы. Кондитеры заворачивают пирожки и пирожные в листы велени из редчайших сборников рецептов, а бакалейщики делают кульки из драгоценных пергаменов. Но, как говаривал Библиофил Жакоб
[956], любая домохозяйка этих варваров за пояс заткнет. Из века в век домохозяйки закрывают горшки с маслом и с вареньем историческими документами. Еще, пожалуй, невосполнимый ущерб наносят мамаши, которые, дабы занять на время своих отпрысков, дают им антикварные книги с гравюрами на дереве – раскрашивать, и ботаники, которые превращают бесценные ин-фолио и ин-кватро в альбомы для своих гербариев. Жозеф, вы позволите мне взглянуть на манускрипт? Он из наших фондов? – Японец уставился зятю в лицо, и тот пережил под этим взором несколько неприятных секунд. – Кстати, стоимость заварочного чайника я вычту из вашей зарплаты. Итак, я задал вам вопрос.
– Э-э… ну… гм…
Виктор не дал зятю продолжить фонетическое упражнение в междометиях – схватил за рукав и потащил к лестнице, бросив через плечо:
– Этот манускрипт – одно из моих личных приобретений. Благодарю вас, Кэндзи. И вам спасибо, Мелия. Идемте, Жозеф, в торговом зале полно работы.
– Н-да, дела… Приходят когда захотят, уходят когда вздумается… – пробормотал японец. – Мелия, приготовьте поднос с завтраком для мадам Джины.
Виктор и Жозеф закрылись в подсобке.
– Жозеф, отдайте мне книжку, – велел Виктор. – И больше никому об этом ни слова! Туман начинает рассеиваться: убийцу интересуют вовсе не конфитюры, а велень, которой закрыты банки и горшочки! Я бегу на набережную Вольтера, нужно все обсудить с Раулем Перо. Если Кэндзи озаботится моим отсутствием…
– Знаю-знаю, вы проводите оценку частной библиотеки.
Виктор отпер дверь лавки, шагнул за порог и столкнулся с мадам Баллю.
– Ага, попались, месье Легри? Коньяк, говорите, лучшее средство от зубной боли? Как бы не так! Мне церебрин нужен, а не что-нибудь, этот шарлатан дантист заткнул мне дырку от зуба какой-то дрянью против инфекции, и у меня теперь вся челюсть раскалывается от боли! Право слово, жила бы я не на первом этаже, а повыше – выбросилась бы из окна!
– Посоветуйтесь с месье Мори, – сказал Виктор, садясь на велосипед. – Он знатный травник!
Пока ноги крутили педали, в голове у него раскручивалась цепочка ассоциаций: коньяк, коренной зуб, дантист…
– Старина, ты на верном пути! – возликовал Виктор.
Прохожий шарахнулся в сторону и проводил лихача на железном коне взглядом, покрутив пальцем у виска.
При других обстоятельствах Рауль Перо с благодарностью выслушал бы наставления Люка Лефлоика по искусству реставрации антикварных книг, однако этим утром он с нетерпением ждал Виктора и предпочел бы посидеть пока в тишине.
– Универсальное средство – охлажденный мучной клей, – разглагольствовал Люка. – Несколько мазков – и переплет заблестит как новенький. Только следите, чтобы не было комков. Рекомендую также с его помощью восстанавливать обломанные уголки переплетов, тут вам пригодится еще и обивочный молоток, да-да, молоток!
К ним подошел расстроенный Вонючка:
– У меня опять сломали замок на ящике! Подумать только – Петрарка вообще не запирал дверь ни днем ни ночью!
– Моя бабушка тоже, – поведала Северина Бомон. – Времена меняются, что вы хотите? Нам в ящики уже трупы подбрасывают, а вы из-за сломанного замка горюете. Я уж не говорю, что всяк норовит стянуть что-нибудь с прилавка, проходя мимо. О, глядите-ка, опять этот гнусный старикашка!
По набережной, размахивая тростью, шагал, будто исполнял воинственный танец, пожилой господин в рединготе и белых панталонах.
– Это бывший литературный критик, – шепнул Люка Лефлоик. – Он посвятил свою жизнь уничтожению писательских репутаций. Не одного литератора по шею в навоз закопал.
– У него и имечко подходящее: Агрикуль Тур, – добавил Вонючка.
– Альфред де Виньи разнес вдребезги Виктора Гюго, Эжен де Миркур ненавидел Дюма-отца, а месье Тур, не издавший ни одного собственного романа, ополчился на всех писателей сразу, – заключил Люка. – О, а вот и месье Легри верхом на самокате!
Виктор поприветствовал всех и сделал знак Раулю Перо. Они отошли к запертой стойке Фюльбера Ботье.
– Он сегодня не появится? – спросил Виктор.
– Ему все тут опротивело. А может, Вальми вызвал его в морг на опознание, что и нам всем грозит. Ходят слухи, будто Ангеле Фруэн предъявили обвинение. Сейчас она в больнице «Божий приют».
– Чесальщица? Но это же нелепо! У меня есть другие подозреваемые. И кажется, я придумал, как установить, кому принадлежит голова из Булонского леса. Возможно, вы сочтете меня сумасшедшим, но… Фюльбер говорил, что у Жоржа Муазана был искусственный зуб на штифте. Нужно, чтобы вы… – Виктор прошептал несколько слов Раулю Перо на ухо, и тот отшатнулся с гримасой отвращения. – Ну же, не капризничайте! – взмолился Виктор. – С меня подарок независимо от результата – посмертные публикации Жюля Лафорга
[957]!
– Так уж и быть. Постараюсь как-нибудь обхитрить полицейских. Принесу вам набросок вечером в «Утраченное время».
– Эй, месье Перо, куда же вы? – крикнул в спину бывшему комиссару Люка Лефлоик. – Не сдавайтесь! Те снежные тучи над Медоновой дырой просыпятся в другом месте!
– Она скупала у букинистов документы на велени, так мне сказал Фюльбер. А если мы вспомним слова Мелии, можно сделать вывод, что документы, вернее, веленевые листы нужны были, чтобы закрывать горшочки с конфитюрами. Нельзя, однако, исключить, что у этих беспорядочных закупок была и другая цель. Почему Филомена Лакарель не распотрошила сразу манускрипт в марморированном переплете?
– Потому что в нем содержится ключ к разгадке некой важной тайны. А некто, совершивший несколько убийств, уверен, что найдет страницы манускрипта на горшочках с конфитюрами. Есть только один способ во всем этом разобраться: расшифровать мудреное стихотворение Марго Фишон.
Разговор между Виктором и Жозефом проходил в кафе «Утраченное время». Жозеф задумчиво жевал жареную картошку. И вдруг ему в голову пришла неприятная мысль: Эфросинья подарила Айрис кучу горшочков с конфитюрами – уж не от одной ли из «фруктоежек» они были получены?
– Жозеф, картошку нужно класть в рот, а не разбрасывать по столу.
– Э-э… да, простите. Интуиция мне подсказывает, что самые подозрительные фигуры в этом деле – Гаэтан Ларю, Фердинан Питель и Амадей, потому что представить себе Ангелу Фруэн в роли убийцы я никак не могу.
– Амадей заходил к нам в книжную лавку, – сообщил Виктор.
– Когда? Зачем? – удивился Жозеф.
– В день вашего рождения. Кроме меня, в лавке никого не было. Он купил Гельвеция.
– Откуда у него наш адрес?
– Ему кто-то порекомендовал «Эльзевир». Наверное, какой-нибудь букинист – я этого Амадея частенько видел на набережных, у него обширный круг знакомств. В лавке он болтал об иллюзорности материального мира и спросил, нет ли у нас оригиналов Этьена Доле.
– Этьена Доле? Ему поставили памятник на площади Мобер
[958]. Если не ошибаюсь, этого книготорговца и писателя повесили и сожгли за ересь очень-очень давно.
– В тысяча пятьсот сорок шестом году – я навел справки. Сейчас, когда я вспоминаю о нашем с Амадеем разговоре, мне кажется, он таким образом выведывал, есть ли у нас книги шестнадцатого века.
– Это он убийца, точно!
– Подождем пока с выводами. Все трое, перечисленные вами, весьма подозрительны. Они знают друг друга, часто бывают на набережной Вольтера и…
За их столик подсел Рауль Перо:
– Я знал, что вы уже здесь. Сейчас выпью пива с лимонадом – у меня в глотке пустыня Сахара – и отчитаюсь. Ну и заставили же вы меня попотеть, месье Легри. Я заявился в морг к обеденному времени – не сомневался, что подручные Вальми покинут посты, едва почуют, что животы пусты. Слыхали? В рифму сказал!
– В морг? – удивился Жозеф. – Это зачем же?
– Прошу прощения, – замотал головой Вальми, – иначе умру от жажды. – Выпив одним махом полкружки, он снова наклонился к приятелям. – Морг соперничает по популярности с самыми скандальными художественными экспозициями. Парижан хлебом не корми – дай полюбоваться трупами, разложенными на белом кафеле. И они забавляются, да-да, господа, забавляются, глядя на останки утопленников, самоубийц, жертв насилия и несчастных случаев. А излюбленное местечко рыбаков, между прочим, стрелка острова Сите – в этом месте водятся самые жирные щуки и раки во-от с такими клешнями. Знаете почему? Потому что служители морга выбрасывают анатомические отходы в Сену. Короче, мне удалось беспрепятственно обследовать челюсти головы из Булонского леса. Вот вам рисунок. Довольны?
– Ну-у, – протянул Жозеф, – я очень удивлюсь, если его выставят в Люксембургском музее
[959]…
– Этот рисунок не претендует на звание произведения искусства, он – элемент расследования, – пояснил Рауль Перо. – Бывший владелец головы не шутил с собственным здоровьем. Три зуба запломбированы, один клык отсутствует – видимо, стоял искусственный, потому что я нашел в десне штифт. Очень качественная работа, он определенно лечился у дипломированного дантиста. Итак, какие выводы?
– Сначала мне нужно кое-что проверить, выводы будут потом. А вам, как я и обещал, награда: вот ваш Лафорг.
– Благодарю! Эту книгу я не продам и за полкоролевства. Уже уходите?
– Кэндзи устроит нам разнос. Я завтра забегу на набережную.
В лавке Виктор слонялся по торговому залу и барабанил пальцами по бюсту Мольера на каминном
колпаке, пока Кэндзи не удалился на второй этаж.
– Жозеф, у меня для вас поручение чрезвычайной важности. Возьмите рисунок Перо и бегите к доктору Извергсу, дантисту. Улица Ренн… номер дома забыл. Пусть он сравнит рисунок челюстей со своими записями по поводу лечения Жоржа Муазана.
– Понял! Вы хотите выяснить, не принадлежит ли отрубленная голова Муазану… Погодите, а откуда вы знаете фамилию врача?
– Случайно услышал от вашего крестного.
– Извергс? – поморщился Жозеф. – Неудивительно, что он решил стать дантистом, при такой-то фамилии…
– Я потому ее и запомнил.
– После визита к доктору Извергсу протелефонировать вам на улицу Фонтен?
– Ни в коем случае!
– Ясно. У меня то же самое. Не могу больше врать домашним, это очень утомляет. Надеюсь, время не будет потрачено впустую. Впрочем, вы же оплатите мне фиакр – не ровен час снег повалит.
Серое зябкое небо медленно темнело. На улице Арколь стало меньше прохожих и больше экипажей. Промчался фиакр, подняв брызги грязной воды, – Аделина Питель проворно отскочила, чтобы ее не окатило. Встав под красно-белым тентом мясной лавки, где продавалась конина, она развернула газету и пробежала взглядом первую полосу с заголовком жирным шрифтом:
УБИЙСТВО МОДИСТКИ
Полиция в тупике
До сих пор нет никаких ответов по делу об убийстве мадемуазель Анни Шеванс, модистки с Райской улицы. Старший комиссар Вальми пытается установить круг общения жертвы. По словам свидетеля, в данный момент пребывающего в больнице, мадемуазель Шеванс состояла в клубе любительниц конфитюров «Фруктоежки». Не связана ли ее смерть с убийством мадемуазель Лакарель, найденной мертвой рядом с медным котлом, в котором обнаружены остатки конфитюра?
Аделина Питель опустила руки с газетой и задумчиво изучила свое отражение в витрине. Затем аккуратно сложила выпуск и неспешно направилась к церкви.
Глава пятнадцатая
Четверг, 20 января
Когда Жозеф вернулся в «Эльзевир», Кэндзи любезничал с хорошенькой мадемуазель Мирандой, а Виктор по просьбе месье Шодре раскладывал на зеленом сукне стола гравюры с картин Буше. Аптекарь рассматривал эротические композиции в радостном возбуждении.
– О, месье Пиньо, приветствую! – воскликнул он и тихо добавил, потирая ручки: – Присоединяйтесь – получите эстетическое удовольствие. Взгляните-ка на эту, как томно разлеглась на смятых простынях! До чего хороша плутовка!
– Мне нужно с вами поговорить, – шепнул Жозеф шурину. – Извините, месье Шодре, мы на минутку.
Они закрылись в подсобке.
– На вас лица нет, – констатировал Виктор.
– Еще бы! Вам бы тоже не понравилось. Не дай бог у меня когда-нибудь зубы разболятся! Это был не зубоврачебный кабинет, а камера пыток: щипцы, крюки, сверла, еще штуки какие-то, похожие на гвоздодеры…
– А пилы и молоты вы там не заметили? Ну так что, сгодился на что-нибудь рисунок?
– Доктор Извергс подтвердил вашу гипотезу: на рисунке челюсти его пациента Жоржа Муазана, который должен ему кругленькую сумму за лечение.
– Боюсь, долг останется неоплаченным. Итак, есть ли связь между четырьмя преступлениями? Состен Ларше и Жорж Муазан – книготорговцы. Филомена Лакарель и Анни Шеванс – королевы конфитюров. Четыре жертвы – один убийца. Кто?
– Некий любитель чтения и сладкого.
– У меня не выходит из головы троица подозреваемых: обрезчик сучьев, сапожник и карточный игрок. Нельзя упускать их из виду. Предлагаю заняться первыми двумя в воскресенье утром. Вы проследите за Гаэтаном Ларю, я – за Фердинаном Пителем.
– Почему в воскресенье?
– Потому что это единственный день недели, когда «Эльзевир» закрыт.
– Что означает: отоспаться не получится. А как же Амадей?
– Оставим его на десерт. – Виктор хотел добавить, что и букинистов с набережной Вольтера нельзя исключать из списка подозреваемых, но промолчал.
– Месье Легри, мой выбор пал на «Мадемуазель О’Мёрфи», – торжественно сообщил аптекарь, когда они вернулись в торговый зал. – Но сию обнаженную деву надобно чем-нибудь прикрыть, не то моя дрожайшая половина меня с ней в дом не пустит.
– Сейчас всё устроим, месье Шодре. Жозеф у нас мастер упаковочного дела!
…Кэндзи шагал по авеню Опера. У почтового отделения дорогу ему заступила дама в перьях и жемчугах. Японец шарахнулся в сторону и поспешил было прочь от этого гибрида страуса и моллюска, но гибрид его окликнул:
– Мой микадо! Ты не хочешь меня видеть?
– Фифи!.. Фьяметта!.. Княгиня Максимова!
– Для вас просто Эдокси. Вернее, для тебя. Муж меня выгнал, и никогда в жизни я не была так счастлива. Уже нашла себе покровителя в лице одного бедного вдовца.
– Я слышал. Однако Станислава де Камбрези бедным не назовешь.
– Я имела в виду его душевное состояние, а не финансовое. Скажем так, его доходы позволяют мне вести одинокое существование в относительном комфорте, при этом встречаться с ним как можно реже и только для того, чтобы поддерживать сплетни. Как-никак это он вывел меня в свет. Ты помнишь, как хороша я была в канкане, милый? Ты не забыл «Мулен-Руж»? Я царила на сцене в громе маршей, военных салютов, гитарных ритмов, и юбки взлетали выше головы. А ты глаз не мог отвести от восхитительной розовой полоски кожи между подвязкой и воланами моих панталон. Ты умирал от восторга, помнишь?
– Что минуло, то сгинуло. Русская пословица.
– Ах, как вы безжалостны! Безжалостны к несчастной разведенной чужестранке, лишенной средств к существованию, мыкающей горе в пасмурном бездушном Париже, к женщине, чья красота увядает день ото дня… Раньше ты не был таким жестоким, мой микадо.
– Позвольте-ка, это вы-то остались без средств к существованию? Не морочьте мне голову! Что до вашей красоты, она цветет пуще прежнего.
– Возвращаю вам комплимент. Седина на висках не сказалась на твоем сумасшедшем шарме, ты по-прежнему неотразим. Может, заглянешь как-нибудь вечерком ко мне полюбезничать? Мой новый адрес – улица Вожирар, дом двадцать семь. Или, если боишься оставаться со мной наедине, приходи в Монтрёй-су-Буа. Месье Мельес
[960] имел любезность принять меня в свою синематографическую труппу. Он часто дает мне главные роли. А его фильмы – авангард современного искусства, авангарднее некуда!
Эдокси поцеловала кончики затянутых в элегантные перчатки пальчиков и провела ими по щеке Кэндзи.
– До свидания, мой микадо! Мне пора, меня уж заждались.
Таша взяла газету, забытую кем-то на банкетке. Полковник Пикар подал иск против авторов телеграммы за подписью «Speranza», полученной им во время последней поездки в Тунис. Возобновление дела Дрейфуса, героизм полковника и Эмиля Золя вывели Таша из депрессии. Она изменит свою жизнь, бросит живопись и поставит свой талант карикатуриста на службу обществу – Антонен Клюзель, главный редактор «Пасс-парту» и давний друг, будет рад ее принять. После рождения Алисы она ни разу еще не отлучалась из дома вечером одна и сейчас чувствовала себя удивительно свободно и спокойно. Сидя за столиком у окна ресторана на углу улицы Пти-Шан, Таша некоторое время смотрела на прохожих за стеклом, на огни, на витрину забегаловки Дюваля, расположенной напротив, потом обвела взглядом зал. Ничего не изменилось: всё те же завсегдатаи – щеголи в поисках любовных авантюр, – тот же половой надменного вида, чуть постаревший, с темными кругами под глазами. Открылась дверь, и в блистающих зеркалах отразился элегантный мужчина. Он снял пальто и шляпу у дверей, Таша помахала ему, и через минуту он сел за ее столик:
– Вы пришли раньше.
– Для меня это своего рода паломничество. Я хотела немного побыть в атмосфере восьмидесятых, вспомнить прошлое.
– А вы сентиментальны, душа моя. Я счастлив поужинать с вами тет-а-тет. Однако ваше послание меня обеспокоило. У вас неприятности? Зачем вам понадобилась моя помощь?
– Мне нужен совет. А кого же, как не вас, мне об этом просить? Вы знаете жизнь и по-прежнему радуетесь ей. И годы, по-моему, ничуть не изменили ваши взгляды.
– Вы мне льстите. Я боялся услышать: «Ведь вы мне в отцы годитесь».
– Отец у меня и так есть, пусть и за океаном. А вы, Кэндзи, – настоящий друг.
Японец внимательно посмотрел Таша в глаза и откашлялся, смущенный от того, что ждал еще и упоминания о своей любовной связи с Джиной. Подозвав официанта, он снова обратился к собеседнице:
– Думаю, нам не помешает выпить чего-нибудь бодрящего. Гарсон, две рюмки водки! И принесите нам меню. Я слушаю вас, Таша.
Она молча протянула ему записку, найденную у Виктора. Кэндзи прочитал и лукаво улыбнулся:
– Да вы ревнивица! Подозреваете, что ваш супруг… Нет, Таша, вы ошибаетесь. «Майский цветочек» – это его сводная сестра. «Айрис» – по-английски «ирис», ирисы цветут в мае… Я очень любил Дафнэ, мать Виктора. Когда она умерла, Айрис, наша дочь, была совсем маленькой. Это она, моя девочка, мой майский цветочек, тогда стала для меня смыслом жизни. Видите ли, Таша, новая любовь не отменяет прежней, Дафнэ все еще живет в моем сердце, но я без памяти влюблен в вашу матушку. Разумеется, у меня были и другие женщины. Завоевывать и покорять – это игра, отказаться от которой трудно любому мужчине. Игра, понимаете? В конце концов, как говорится, если вы на диете, ничто не мешает вам почитать меню… А вот и оно. Рекомендую вам консоме… морской язык с кресс-салатом и… десерт потом выберем.
– Это еще не всё, – сказала Таша, когда гарсон принял заказ. – Виктор опять взялся за расследование, и я очень боюсь…
– Понимаю, милая, понимаю. Но что мы можем тут поделать?
– Прочитайте, что написано на обороте этого письма. Виктор говорил мне, что труп в книжном ящике месье Ботье нашли у него на глазах. Но кто такие Ф.Л. и А.Ш.?
– Затрудняюсь ответить… Давайте пока отложим разговоры на эту тему и воспользуемся возможностью пообщаться и поужинать. Завтра я буду знать об этом деле больше – меня вызвали в префектуру полиции. Закажем вина? Красного или белого? Белое здесь очень недурное.
– Вы ведь присмотрите за Виктором?
– Я всегда присматривал и за Виктором, и за Жозефом, даже если они этого не замечали. Не беспокойтесь, Таша. За ваше здоровье! – улыбнулся японец и опрокинул в рот рюмку водки.
Пятница, 21 января
– Ну что за погода! – проворчал Огюстен Вальми, обрабатывая ногти пилочкой и поглядывая на голодранца, жмущегося около печки.
В дверь комиссарского кабинета постучали, заглянул полицейский:
– Пришел месье Мори Кэндзи, шеф.
– Пусть войдет, – кивнул Вальми и заулыбался при виде японца: – Месье Мори, присаживайтесь. Нет-нет, не на стул, в кресле удобнее. Сейчас разберусь с этим гражданином и буду к вашим услугам. Итак, станешь и дальше все отрицать, а? Ты понимаешь, что я могу упрятать тебя за решетку? Попрошайничал в общественном месте, притворялся слепым, тырил у Господа – тут на приличный срок потянет.
– О нет, господин комиссар, по последнему пункту обвинения чист как младенец! – возопил голодранец у печки. – Клянусь головой моей бедной матушки, которая покоится на Бельвильском кладбище!
– Прошу прощения, господин комиссар, что значит «тырил у Господа»? – заинтересовался Кэндзи.
– Народное выражение, переводится «присваивал церковные пожертвования с целью обогащения». Месье ходил к мессе, делал вид, что кладет монеты в кружку с пожертвованиями, а на самом деле запускал туда лапу и выгребал все, что удавалось ухватить. Верно, Гляди-в-Оба?
– Ни-ни, не верно! Я и в церковь-то захожу только ради погреться, никуда я ничего не запускал!
Комиссар Вальми встал из-за стола и окинул цепким, не упускающим ни единой детали взглядом мизансцену: папаша Гляди-в-Оба в обносках сгорбился около печки, элегантный Кэндзи Мори непринужденно расположился в кресле, непроницаемое бесстрашное лицо, трость с нефритовым набалдашником, костюм безупречного кроя. «По заказу сшит, ткань английская», – с восхищением и некоторой завистью отметил про себя Огюстен Вальми. Он подошел к окну. По обледенелому подоконнику ковыляли два голубя. Комиссар ногтями постучал по стеклу – птицы вспорхнули, полетели над Сеной. Удовлетворенный комиссар вернулся за стол, уселся, сплел пальцы под подбородком и ласковым тоном, в котором звучали нотки угрозы, осведомился у папаши Гляди-в-Оба:
– Ты был знаком с Филоменой Лакарель?
– Дык само собой, чего мне отпираться?
– Ее убили.
– В курсе. Только я-то тут при чем?
– В день убийства ты был поблизости от ее дома.
– Это в какой же такой день?
– Сейчас я тебе освежу память, Гляди-в-Оба. Это было десятого января, в понедельник, в тот самый день, когда какой-то оборванец обчистил кружку для пожертвований в церкви Святого Евстахия. Кюре подал жалобу. И судя по описанию, тот оборванец – ну вылитый ты.
– Не я это, вот вам крест, не я! А коли не я, так, наверно, мой брат-близнец!
– Надо думать, неплохо ты поживился в церкви.
– Да вы посмотрите на меня, господин комиссар! Я похож на буржуя?
– Сосредоточься, Гляди-в-Оба, иначе отправлю тебя к судье.
– Вы бы лучше к судье отправили тех толстосумов, проклятых угнетателей, которые на горбе простого люда сидят, ноги свесив!
Вальми медленно вдохнул и выдохнул, пытаясь обуздать гнев.
– Расскажи все, что знаешь о мадемуазель Лакарель. У нее в доме бывали мужчины?
Папаша Гляди-в-Оба сделал вид, что изо всех сил вспоминает, даже зажмурился от натуги. Потом энергично кивнул:
– Так сразу не соображу. Коли надо, чтоб бывали, – только скажите, я ей выдумаю столько ухажеров, сколько вашей душе будет угодно, господин комиссар. Десяток? Больше?
– Ладно, – процедил сквозь зубы Вальми, – идем дальше. Имя Жорж Муазан тебе о чем-нибудь говорит?
– А кто это?
– Букинист с набережной Вольтера.
– Эка, букинист! Я ж книг не читаю, господин комиссар! Ну сами подумайте – слепой я! Как по-вашему, старые грымзы, которые в церковь ходят, пожалуют мне что-нибудь, окромя пинка под зад, коли увидят на паперти с книжкой в руках? А что до Филомены, знаю только, что она варенье варила с подружками. На Новый год даже угостила меня смородиновым желе. А я терпеть не могу смородиновое желе, у меня от него челюсти сводит. И еще она играла в карты с одним чудилой из Шарантона.
– Опиши мне этого чудилу.
– Ну, чудила как чудила, одевается точно фраер времен Революции.
– Знаешь, как его зовут?
– С памятью у меня нелады. Имя как у оперного композитора. Что-то на А…
– Адольф Адан? – предположил Вальми.
– Нет, совсем не наше какое-то, с подвывертом.
– Моцарт, – сказал Кэндзи.
– Говорю ж: на А… – помотал головой папаша Гляди-в-Оба.
– Вольфганг Амадей Моцарт.
– Как-как? Амадей? Вроде того… Видите, господин комиссар, как я сотрудничаю? Вы же не отправите меня в каталажку? Конкуренция в моем деле, знаете ли, жестокая, только с насиженного места слезешь – оно уже занято. И что я буду делать? Без работы ж останусь!
– Да ты издеваешься надо мной! Врешь напропалую! – рявкнул Вальми, но тут же взял себя в руки. – А если я тебя за решетку упрячу – лопнешь от счастья, потому что считай два месяца в тепле, накормленный, напоенный, чистенький, и всё за счет налогоплательщиков. Тебе ж того и надо, а? Не выйдет, ты будешь разочарован: я тебя прощаю, я уже забыл о твоих оскорблениях должностного лица при исполнении, ступай с миром. Однако имей в виду: убийца быстро разнюхает, что ты побывал у меня в гостях, и тоже проявит к тебе интерес. Так что гляди в оба, оправдывай свою кличку. А если решишь-таки исповедаться мне во грехах, дай знать. Петрюс!
В кабинет просунулся полицейский.
– Проводи этого шельмеца к выходу, он свободен. Прошу прощения, месье Мори, мне хотелось, чтобы вы ознакомились с моими методами de visu
[961]. Мягкость и настойчивость. Я получил от свидетеля имя нового подозреваемого – Амадей. Осталось его задержать.
– Впечатляюще. И чем же я могу вам помочь?
– Вы человек здравомыслящий, месье Мори, потому прошу вас оказать влияние на вашего приемного сына. Буду очень признателен, если вы не позволите ему вмешиваться в дела полиции. Вам известно, что в ящике букинистической стойки одного из его друзей с набережной Вольтера найден труп без головы?
– Еще бы не известно – об этом кричат все газеты. Что до месье Легри, позвольте вам напомнить: ему скоро сровняется тридцать восемь. Мое влияние на его поступки давно ограничивается отеческими советами.
– Сын или зять не упоминали при вас имени гражданки Лакарель?
– Нет, я бы не забыл. На память не жалуюсь.
– Осмелюсь надеяться, что любые сведения по этому делу, случайно полученные от них, вы передадите мне.
– Непременно.
– Превосходно, рассчитываю на вас. Простите, что побеспокоил.
– Мое почтение, господин старший комиссар.
– Да, и еще… Месье Мори, я нигде не могу найти «Мемуары Видока», и если эта книга ненароком попадет вам в руки…
Телефон затрезвонил, когда Виктор подносил ко рту столовую ложку. Пронзительная трель, как обычно, вызвала переполох: Алиса заревела, а Кошка устроила бешеную скачку по квартире.
– Не отвечай! – вскинулась Таша. – Меня от этого аппарата в дрожь бросает, не надо было сюда телефонную линию проводить.
– Как же не ответить, милая? А если это Айрис или Кэндзи, или…
– Или отважный сыщик Жозеф?
Виктор, сделав вид, что не заметил насмешки жены, вышел в коридор и снял с аппарата рожки.
– Алло? Слышите меня? Это Гувье. Я справился о бечевке, которой был связан Состен Ларше. Она красная. Удовлетворены?
– Да, огромное спасибо!
Виктор вернулся к столу. На время его отсутствия Таша заботливо прикрыла чашку с бульоном салфеткой.
– Что, важные новости?
– Нет, ошиблись номером.
– Я отлично слышала, как ты сказал: «Огромное спасибо».
– Я поблагодарил этого растяпу за то, что он нажал на рычаг.
Разговаривая с женой, Виктор лихорадочно обдумывал версии на тему красных бечевок – получалось, что ими пользовались и букинисты, и убитые «фруктоежки».
– Красные… – пробормотал он.
– Что? – удивилась Таша.
– Э-э… бульон… очень горячий. У меня, наверно, щеки красные…
– Опять лжешь! – не выдержала жена. – От стыда у тебя щеки красные, а не от бульона! – Вскочив, она схватила супницу и устремилась с ней на кухню, ругаясь по дороге на Кошку, которая попалась ей под ноги, на мужчин, которые вечно обманывают, и даже на дочь, которая уже давно перестала плакать и вроде бы повода не подавала.
Суббота, 22 января
Айрис казалось, что она пробудилась от долгого сна, за время которого ее истинная личность растворилась в грезе, исчезла. Этим зимним утром она вновь чувствовала себя юной, полной энергии, жажды жизни и планов на будущее. Вдохнув морозный воздух, Айрис зашагала по скверу у церкви Сен-Жермен-де-Пре, поглядывая на статую Бернара Палисси
[962] и на воробьев, разыскивавших себе пропитание в увядшей, желтой траве лужайки. Она направлялась к скромному заведению у выхода с бульвара на площадь Сен-Жермен. Заведение, открытое в 1885 году, называлось «Кафе Флоры» в честь римской богини. Айрис выбрала его местом встречи, потому что когда-то частенько приходила посидеть там на террасе, чтобы полюбоваться романской часовней церкви. Но сейчас на улице было слишком холодно, и пришлось зайти в непрезентабельный обеденный зал. Грязно-серые стены и мутные окна производили унылое впечатление, зато на обитых красным бархатом банкетках здесь порой сиживали Гюисманс и Реми де Гурмон
[963].
Айрис устроилась у витрины, между входной дверью и лестницей, за столиком, который некогда был любимым местечком Верлена. Чтобы чем-то заполнить время ожидания, она открыла тетрадку с незаконченной сказкой, и мысли о Верлене вдохновили ее на концовку истории под названием «В день, когда статуи…» Последние строчки сложились сами собой:
На тесной паперти сердца из камня впервые затрепетали, восстали наконец от летаргического сна и преисполнились тепла…
На плечо сказочницы легла чья-то рука, Айрис поспешно сунула тетрадку в сумочку и обернулась с улыбкой:
– Виктор! Как же я рада тебя видеть! Мы так давно не разговаривали с глазу на глаз.
– С детьми осталась Эфросинья?
– Что бы я без нее делала! Иногда, правда, не знаю, куда от нее деваться, но весь дом только на ней и держится. И когда вы с Жозефом играете в сыщиков, я чувствую себя спокойнее, если она со мной.
– О чем ты? Не играем мы ни в каких сыщиков! – запротестовал Виктор и сделал вид, что поглощен чтением меню.
– Сказки кому-нибудь другому рассказывай. Я чувствую, когда Жозеф мне врет. Вы затеяли новое расследование.
Виктор вздохнул:
– Что поделаешь, это сильнее меня. Расследования спасают от скуки повседневности.
– А Таша и Алиса не спасают? Тебе их недостаточно? А искусство фотографии? А книжное дело?
Виктор подозвал официантку, заказал бутерброд с гусиным паштетом и провансальское розовое вино.
– Таша – соль моей жизни, Алиса – счастье мое, я очень люблю фотографию и книги, но я не могу обойтись без собственной закрытой территории, без пространства игры, принадлежащего только мне. Ну вот, ты нашла мое больное место.
– Я тебя понимаю, потому что мы с тобой похожи. Если ты еще не догадался, у меня тоже есть свой тайный сад. Я сочиняю сказки. А Таша их иллюстрирует. Я хочу, чтобы мои сказки напечатали, хочу признания.
– Ты же всегда говорила, что тебя не вдохновляют книжки! А теперь сама пишешь? Ты разрешишь мне прочесть? И полюбоваться работой жены?
– Разрешу непременно. Только попозже, когда буду уверена в себе. Твое мнение для меня много значит.
– А мнение Жозефа?
– Боюсь, он меня не одобрит.
– Потому что сам писатель? Ты ошибаешься, он будет тобой гордиться!
Принесли заказ, и какое-то время брат и сестра ели молча. Потом, немного поколебавшись, Айрис призналась:
– Я бы хотела другой жизни, устала чувствовать себя только матерью семейства. Мы с Жозефом больше никуда не ходим вместе…
– И не путешествуете, – кивнул Виктор. – У меня есть идея: почему бы вам не отправиться на несколько дней в Лондон? Тебе будет приятно пройтись по знакомым местам, а Жозеф будет счастлив побывать в городе Шерлока Холмса. Мы с Таша и Кэндзи подарим вам второй медовый месяц.
Айрис захлопала в ладоши от радости, но вдруг нахмурилась:
– А как же дети? Кто ими займется?
– Ну конечно же Эфросинья!
В торговом зале «Эльзевира» было тесно: помимо Виктора, Жозефа и Кэндзи, здесь обретались Рафаэлла де Гувелин с собачьей сворой, Матильда де Флавиньоль, месье Мандоль и герцог де Фриуль, пришедший, чтобы в очередной раз попытаться продать свои книги. Вымокшая под дождем одежда посетителей насыщала влагой прогретый камином воздух. Звякнул колокольчик, и на пороге предстал Альфонс Баллю в элегантном полосатом костюме. Входить он не спешил, предоставив дамам время полюбоваться им в обновке. Этим тотчас воспользовалось ненастье: в лавку ворвался порыв холодного ветра.
– Немедленно закройте дверь, мы все простудимся! – возопила Матильда де Флавиньоль.
– Всех приветствую! Что сегодня творилось в Бурбонском дворце, вы не поверите! У меня там знакомый судебный распорядитель есть, он такое рассказал! Во время обсуждения дела Дрейфуса один депутат из правых начал выкрикивать оскорбления в адрес Жореса, выступавшего с трибуны, и получил затрещину от своего коллеги из левых. А в следующий миг – глядь! – господа вцепились друг другу в волосы, как базарные бабы! Депутат из правых совсем озверел, бросился на трибуну, навешал тумаков самому Жоресу и дал деру! Хотел бы я при этом присутствовать!
– Неслыханное безобразие! – возмутился герцог де Фриуль.
Кэндзи недружелюбно уставился на него:
– Ваше присутствие здесь удивляет меня, господин герцог. Известна ли вам причина, по которой ваша родственница мадам де Салиньяк лишила нас половины клиентуры?
– Мне нет никакого дела до общественно-политических взглядов графини и ее присных с улицы Барбэ-де-Жуи, – надменно отозвался де Фриуль. – Я уже давно не хаживал на вечера в гостиной мадам де Бри-Реовиль – там можно сдохнуть со скуки. И в лагерь сторонников Дрейфуса я записался только для того, чтобы досадить ее муженьку-полковнику. Репутация моя от этого, конечно, пострадает, да и бог с ней, с репутацией, ибо свобода – сокровище, достойное любых жертв. Собственно, я пришел предложить вам несколько прекрасных ин-октаво, не соблаговолите ли взглянуть?..
Вдруг по торговому залу распространилось зловоние. Потянув носом, месье Мандоль поддернул брючины, чтобы осмотреть подошвы своих ботинок. Рафаэлла де Гувелин выбранила собак и обнюхала каждую по очереди. Ее приятельница Матильда де Флавиньоль полезла в бездонную сумку, извлекла оттуда упаковку анисовых пастилок и принялась нервно ее потрошить. Закинув в рот целую горсть, она промокнула уголки губ кружевным платком и приготовилась извиниться за свой гастрит. Герцог де Фриуль обследовал подкладку собственного цилиндра, прикидывая, не пора ли покупать новый головной убор. Альфонс Баллю метнулся к подсобке в надежде, что никто за ним не последует. Кэндзи подышал в кулак, с ужасом подумав, что, наверное, напрасно пообедал сегодня кроликом под горчичным соусом. Виктор попросил Жозефа проветрить помещение.
Пока все отодвигались подальше друг от друга, обмахивались всем, что под руку попало, и зажимали нос, источник перемен в атмосфере явил себя взорам в образе неряшливо одетого букиниста, источавшего кошмарный запах чеснока и перегара.
Все, кто до этого считал себя виновным, немедленно успокоились и объединились в дружном порыве негодования против ароматического агрессора. Не обращая ни малейшего внимания на гневные взгляды, Вонючка тем временем, откашлявшись и отряхнув одежду, словно для пущего благоухания, мило улыбнулся Альфонсу Баллю, который, вывалившись из подсобки, оттеснил его от прилавка.
– Дражайший Альфонс, сдается мне, в этот час вы должны быть на работе в духовном ведомстве, – обронил Виктор.
– Кузина у меня занемогла, спешу на помощь.
– Мадам Баллю – спартанская женщина, она исполняет свои служебные обязанности с неслыханным рвением в болезни и в здравии. Но всякий раз, когда я встречаю вас в нашем квартале, вы говорите мне, что она прикована к постели.
– Вы еще расследование на эту тему устройте, месье Легри.
– Я всего лишь констатирую факт. Кстати, в нынешней потасовке депутатов, о которой вы поведали, нет ничего смешного. Боюсь, как бы это не стало эпидемией – во Франции идеи заразны.
Матильда де Флавиньоль решилась вмешаться в разговор, чтобы не упустить случай блеснуть умом перед книготорговцем, в которого она была втайне влюблена. Впрочем, ее могучая грудь, обтянутая блузкой из шотландского шелка, привлекала больше внимания со стороны Альфонса Баллю, нежели Виктора.
– Я разделяю вашу точку зрения, месье Легри. Водевильную сценку в нашей палате депутатов можно уподобить драме, которая сейчас разыгрывается в Неаполе. – Матильда понизила голос: – Там свирепствует недуг, окрещенный «белой смертью», его причины – малокровие, недоедание и… отсутствие гигиены. – Она недобро покосилась на Вонючку.
Тот невозмутимо развязывал бечевку на книжице, только что извлеченной из кармана.
– Вы тоже пользуетесь красной бечевкой! – вырвалось у Виктора.
– Красной, коричневой, желтой, зеленой – мне без разницы. Главное, чтобы зеваки, которые ничего не покупают, не трепали мои книжки.
– Это очень разумно, – одобрил Виктор. – А не подскажете, где такую бечевку раздобыть?
– Купите у Амадея – это уличный торговец канцелярией, поклонник моды времен то ли Карла Десятого, то ли Людовика Восемнадцатого. У меня, знаете ли, с датами и эпохами не очень…
– Даты и эпохи чрезвычайно важны, – наставительно заметил профессор Мандоль. – Они показывают нам, что судьбами народов правят влиятельные семейства и что история вечно ходит по кругу. Неужто стоило устраивать революцию, чтобы потом подставить шею под ярмо корсиканского императора, двух братьев Людовика Шестнадцатого, их кузена Луи-Филиппа и, наконец, племянника корсиканца, который привел нас к поражению в Седане! Да здравствует Республика!
– Я бы хотел узнать мнение месье Мори о стоимости этой книги, – сказал Вонючка. – На титульном листе гравированный на дереве портрет автора.
Кэндзи взял книгу и прочитал:
Путешествие Эмэ Тоара, венского дворянина,
или Наставление Феопомпа Хиоского к вечной жизни
Издано Дидо-старшим
M. DCCCXII
– Тысяча восемьсот двенадцатый год, – перевел римские цифры месье Мандоль.
– Дайте-ка взглянуть, – попросил Виктор. – По-моему… человек на портрете – вылитый Амадей. Что скажете, Жозеф?
– Да, пожалуй, похож, – покивал молодой человек.
Кэндзи вздрогнул. Он вспомнил, что слышал имя Амадей во время допроса папаши Гляди-в-Оба в кабинете старшего комиссара Вальми.
– Где вы ее купили? – спросил Виктор букиниста.
– Тиролец сбагрил мне целый ворох макулатуры в прошлом месяце, и сам не заметил, что в кучу дешевого мусора попало это сокровище, – ухмыльнулся Вонючка.
– Тиролец? – не понял месье Мандоль.
– Жорж Муазан, король набережных.
– Тиролец – букинист получше многих, – заметил Кэндзи.
– Итак, месье Мори, какую цену назовете? – поторопил его Вонючка.
– На книгу в таком состоянии? Источенную червями? Да вдобавок с пометкой «том второй»? Пять франков, не больше!
– Всего пять франков? Вы меня убиваете, месье Мори. А вы, месье Легри, согласны с этой смехотворной ценой?
– Ну… я бы дал вам десять франков.
Кэндзи сердито покосился на Виктора, но не стал выражать неодобрения.
– О! – обрадовался Вонючка. – Раз вы так говорите, она стоит гораздо дороже. Оставлю пока при себе. Всем привет!
Виктор догнал букиниста на улице:
– Месье! А мнения Фюльбера Ботье вы не спрашивали?
– А то. Он пожелал узнать, откуда у меня этот томик, а когда я сказал, что это Муазан толкнул мне его за бесценок, отправил меня восвояси. Фюльбер терпеть не может Тирольца, они бранятся по всякому поводу, просто любо-дорого смотреть. В последний раз Фюльбер все допытывался, раздобыл ли Тиролец для него то, что он просил. Тиролец ответил, что раздобыл и оставит у Лефлоика перед поездкой в Кан.
– А что он должен был раздобыть?
– Пистолетный футляр в подарок на день рождения вашему зятю. Фюльбер посвятил меня в тайну, потому что я кое-что смыслю в старинном оружии. – Вонючка понизил голос: – С тех пор как нашли труп без головы в ящике Фюльбера, народец на набережной забеспокоился: Муазан-то как уехал в свой Кан, так и не вернулся…
– Вы думаете, что…
– О нет! Я с трудом могу представить себе Фюльбера, отпиливающего башку мертвецу. И потом, я вообще не имею привычки думать. Собственно, все уверены, что я еще не имею привычки слушать чужие разговоры. Битая посуда два века живет. Доброго дня, месье Легри.
Таша, устав рисовать, вернулась с Алисой и Кошкой из мастерской в квартиру. Воспользовавшись тем, что дочка заснула, она растянулась на кровати и развернула недавно полученное письмо от Пинхаса.
Американцы страдают гигантоманией, прямо как жители Вавилона. Они хотят построить в Нью-Йорке 650-метровое здание – это две Эйфелевых башни! – в честь присоединения к городу предместий. Территория Нью-Йорка увеличится с 10 000 гектаров до 82 000! Его частью станут пять новых кварталов: Манхэттен, Бронкс, Куинс, Ричмонд и Бруклин, где я разместился со всем удобством. А ты еще не надумала побывать во втором после Лондона городе мира и заодно навестить своего старого папочку?
Таша представила себе остров Эллис в бухте Нью-Йорка, огибающее его пассажирское судно и себя на палубе – хрупкую рыжеволосую фигурку, бросающую вызов морю домов, тесно сплотившихся, нависающих над улицами и прохожими, подавляющих. Она уже тонула в этом море, уже шла на дно, когда раздался стук в дверь, а потом в окно. Таша вскочила. Алиса захныкала, что предвещало с минуты на минуту громкий ор, Кошка разразилась мяуканьем, и Таша побежала взглянуть, кто там заявился так вовремя.
– Морис! Вот уж кого не ждала… – Она без особого энтузиазма открыла дверь.
– Бр-р, ужасно продрог, спасибо, что впустила, ласточка! – заулыбался с порога Морис Ломье. – У тебя натоплено. Можно я сразу к печке? Надеюсь, эта симфония не в мою честь?
Алиса ревела, методично повышая тональность, Кошка вторила на свой лад.
– Ты всех разбудил. Пойду приготовлю ей кашку.
– О, прости, пожалуйста! – смутился Морис, шагая за Таша на кухню. – Если б знал, пришел бы попозже. Мими сегодня хозяйничает в галерее, а у меня встреча назначена скоро, и я по дороге к тебе… О, отборные, на рынке брала? – покосился он на миску с яйцами.
– Я Алисе сварю одно всмятку. Порежешь пока для нее хлеб? Маленькими кусочками.
– С удовольствием, я в этом деле мастер!
Если бы Таша не была занята приготовлением детской кашки в другом углу кухни, она бы увидела, как Морис Ломье жадно запихивает в рот ломти хлеба, торопливо намазывая их толстенным слоем масла. Они с Мими опять были на мели, и у Мориса сводило желудок от голода. Он воспользовался тем, что Таша в очередной раз отвернулась, и запустил руку в котелок с холодной говядиной.
– Недурно, и винный соус неплох. Подогреть бы, конечно, но мы безропотно сносим невзгоды, верно? – шепнул он Кошке, которая гипнотизировала его умоляющим взглядом.
Художник попытался со всей приятностью закончить трапезу изрядным куском сыра, но подавился и закашлялся.
– Морис, у тебя бронхит? – забеспокоилась Таша, направляясь с детской мисочкой в спальню.
– Нет-нет, всего лишь простуда. Продуло в конюшнях, сквозняки там… – Он выпил залпом два бокала воды, после чего, отдышавшись и довольно поглаживая живот, пошел за хозяйкой.
Алиса на высоком стульчике, блаженно жмурясь, уже уплетала вкусную кашку.
– Над чем сейчас работаешь? – поинтересовался Морис.
– Готовлюсь к выставке, есть несколько портретов, – ответила Таша. – И подумываю вернуться к карикатуре. Набросала одну – посмотри на тумбочке.
Художник окинул одобрительным взглядом рисунок. На рисунке школьник стоял у доски перед учителем истории и тот спрашивал: «Что происходило в Варфоломеевскую ночь?» – «Ну, евреев резали», – отвечал ученик. «Нет, юноша, – возражал учитель. – До евреев тогда еще не добрались, резали только протестантов».
– И ты думаешь, это опубликуют? – поднял бровь Морис.
– Да, – уверенно кивнула Таша. – В «Пасс-парту». Антонен Клюзель решил проявить объективность и представить в газете все мнения, звучащие в обществе. А я, как ты понимаешь, в этом деле весьма субъективна.
– Но это же опасно, ласточка моя! Тебе надо взять псевдоним.
– Я его уже придумала: назовусь Люмен, в переводе с латыни «свет». А ты-то как относишься к делу Дрейфуса и ко всему, что происходит вокруг?
– О, не вмешиваться в ход событий – мое жизненное кредо.
– Иными словами, тебе плевать на несправедливость, лишь бы она тебе жить не мешала.
– В этом я солидарен с Антоненом Клюзелем.
– Ну, он-то все же иногда восстает против ксенофобов и искренне считает их негодяями.
– Так и я их тоже не жалую, ласточка моя, особенно тех, которые ненавидят индюшек, – сообщил Морис, нагло завладев мисочкой с кашкой и успев незаметно зачерпнуть из нее пару ложек, прежде чем предложить Алисе.
– Какое отношение индюшки имеют к Дрейфусу? – нахмурилась Таша.
– Бедные птички отвержены и прокляты почитателями современного искусства. Моя галерея на грани краха, придется потребовать, чтобы папаша Малезьё забрал свою птицеферму. Но тогда мне понадобятся новые полотна, да такие, чтобы привлекли богатую клиентуру. И автор этих шедевров – ты, моя ласточка! Я согласен на самый что ни на есть скромный процент от продаж!
– Ты хочешь выставить у себя в галерее мои картины? – воззрилась на него Таша.
– Я всегда верил в твой талант. Еще в те времена, когда ты мне позировала с обнаженной грудью – с роскошной грудью, если мне не изменяет память… – Морис вздохнул, рассеянно собирая со стенок мисочки последние крохи каши, отправляя их в рот и не отрывая взгляда от Ташиного корсажа.
– Эй, куда ты уставился? – прикрикнула на него Таша. – А предложение интересное. Пожалуй, у меня найдется для тебя серия портретов, несколько набросков мужского обнаженного тела, парочка сельских пейзажей и натюрморты…
– Прекрасно! И чем раньше все это найдется, тем лучше! Что ж, оставляю тебя с твоими материнскими заботами, ласточка моя. И не забывай мой совет: не лезь в дело Дрейфуса, оно вот-вот перевернет всю страну вверх тормашками. Зачем тебе неприятности? Ты не представляешь, сколько в мире злых людей.
– О, я-то как раз очень хорошо представляю, увы!
– Вчера какой-то свинтус обидел мою Мими. Знаешь, что он ей сказал? «Ваша девичья фамилия Лестокар? Какая-то она не французская!»
Как только Морис Ломье удалился, к дому 36-бис подкатил на велосипеде Виктор. Все время, пока он крутил педали, у него в голове в том же темпе вертелись слова Вонючки: «Муазан-то как уехал в свой Кан, так и не вернулся… Я с трудом могу представить себе Фюльбера, отпиливающего башку мертвецу…»
Когда он вошел в квартиру, Таша, недоумевая, куда делся почти весь хлеб, который она хотела обмакнуть в яйцо всмятку, продолжала кормить дочь. Виктор по очереди поцеловал своих девочек и мимоходом приласкал Кошку.
– Удачный день был? – спросила Таша.
– Он был бы еще удачнее, если бы в лавку не заявился кузен мадам Баллю. Что у нас на ужин?
– Остатки говядины по-бургундски, которую мадам Бодуэн приготовила сегодня утром. Но ты же не собираешься ужинать – всего шесть часов!
– Просто перехвачу кусочек – умираю от голода.
На кухне Виктор, сняв крышку с котелка, обнаружил, что тот пуст, и хотел было выразить возмущение, но тут мысль, не дававшая ему покоя, наконец оформилась: перед тем как Жорж Муазан уехал в Кан, Фюльбер просил его раздобыть вовсе не книгу, а футляр для пистолета, который он подарил Жозефу на день рождения! Стало быть, Фюльбер не виновен?.. Или это ничего не доказывает?..
– Милая, говядину уже кто-то слопал, здесь только соус остался! – возмутился Виктор, вернувшись в спальню. – С этой ненасытной зверюгой надо что-то делать! – добавил он, смерив Кошку гневным взглядом.
– О нет, нас объел Морис Ломье! – восстановила справедливость Таша. – Он только что заходил. Предложил мне выставить мои картины в галерее Леонса Фортена.
– Какое облегчение! Я-то думал, он опять хотел тебя соблазнить.
– Ну разумеется, любовь моя, как только ты выходишь за порог, сюда врывается толпа моих поклонников. Я им даже номера присваиваю, чтоб не запутаться, – засмеялась Таша.
Виктор сердито пожал плечами и проворчал:
– Ладно, бургундский винный соус с мякишем – это тоже вкусно…
– Должна тебя огорчить: ненасытная зверюга уплела и хлеб.
Глава шестнадцатая
Воскресенье, 23 января
Гаэтан Ларю конечно же предпочел бы посвятить рыбалке весенний день на поросшем травкой берегу сельской речки, петляющей по зеленым лугам, и чтобы вода была тиха и прозрачна, а тишину нарушал только шепот осиновой рощи за спиной. Но ему пришлось довольствоваться антрацитовым небом, грязной Сеной, замызганной набережной и мрачным сводом Нового моста. А впрочем, что за беда? Рыбалка для Гаэтана Ларю была излюбленным досугом и развлечением в свободные от муниципальной службы часы. Ему все равно было, что попадется на крючок – уклеечка или башмак, особенно сейчас, когда впервые за долгое время выдался выходной. Потому он хорошенько выспался, прихватил снасти, провизию для пикника и занял свое коронное местечко на набережной, защищенное от дождя и снега.
В соседях оказались несколько бродяг, пришедших поспать под аркой, обложившись тряпками и газетами – единственным спасением от холода, – подзакусить и распить бутылочку вина. Двое приятелей – торговец метелками из перьев и починщик фарфоровых изделий – опередили Гаэтана, решив спозаранку отдать дань любимому занятию, а потом уже облагодетельствовать парижан своими услугами.
Обрезчик сучьев поприветствовал все сообщество, уселся, поставил рядом с собой жестяную банку, корзинку и задумчиво покачал в руках удочку. Он знал, что несчастной Ангелы Фруэн, которая днями напролет починяет матрасы, сегодня нет на том берегу реки. Ангела в больнице «Божий приют», у нее сломано ребро, а когда косточка срастется, бедняжку арестует полиция. Будь проклят комиссар Вальми, заподозривший в убийстве невинную женщину!
Гаэтан Ларю был влюблен в Ангелу и несколько раз почти решился предложить ей руку и сердце, но в голову тут же лезли невеселые мысли, и он откладывал признание. Нищета женится на нищете! К тому же у Ангелы уже есть трое детей, а если после свадьбы у них народятся еще… Безумие!
Гаэтан со вздохом насадил на крючок наживку и забросил удочку. Поплавок закачался на воде, как крошечная лодочка, и от этого зрелища, как всегда, сразу позабылись все заботы, на душе стало легко и спокойно. До чего приятно смотреть на серую воду, следить, как она собирается морщинками у кормы проплывающих посудин, и чувствовать себя отрезанным от мира! Гаэтан и не заметил, что за ним следят. Ни о чем не догадался, даже когда никудышный актер Жозеф Пиньо разыграл удивление, якобы случайно наткнувшись на него в столь несообразном месте. Но и ничуть не обрадовался внезапному появлению крестного сына Фюльбера Ботье. Рыбалкой надо наслаждаться в одиночестве. А Жозеф еще и разговор завел в полный голос:
– Я слыхал, лучшая наживка – это…
– Тише, рыбу распугаете, – прошипел обрезчик сучьев.
– …лучшая наживка – дождевой червь, – зашептал молодой человек. – Но их же только летом накопать можно, вот жалость.
Гаэтану Ларю очень хотелось прочувствованно выругаться, но он сдержался. Да что этот сопляк понимает в рыболовецком искусстве?!
– Еще я слышал, очень ценятся опарыши, – не унимался Жозеф, – непременно из бараньей головы…
– Замолчите сейчас же, а то меня вырвет! – процедил сквозь зубы Гаэтан. – Я использую хлебный мякиш, и хватит об этом… И
ради бога, не шумите!
– Вот вы говорите, я рыбу распугаю, а тут же омнибусы грохочут, пешеходы топают, буксиры гудят…
– К этому шуму рыба привычная, а от ваших воплей мигом на дно заляжет.
Жозеф посвятил минуту молчания поплавку, который внезапно атаковали и потащили за собой принесенные течением ветки. Обрезчик сучьев принялся высвобождать леску, ругаясь на замусоренную реку, докучливых прохожих и полицию.
– Флики – ужасные бестолочи, – поддержал Жозеф. – Подумать только – обвинили в убийстве чесальщицу, добрейшую мадам Фруэн! Она же святая простота, такие люди не способны обдумать и совершить преступление, – заявил он, с восхищением наблюдая, с какой ловкостью Гаэтан Ларю вызволил поплавок из плена.
– Чего? – нахмурился обрезчик сучьев. – Святая простота? Да она лучшая из женщин – умная, с чувством юмора и смелая!
– То есть, по-вашему, она вполне может быть виновной?
– Никогда в жизни, черт возьми! Она добрая, понимаете? Добрая! И нежная.
Жозеф вспомнил, как однажды обменялся с чесальщицей рукопожатием и у него потом полдня болела рука.
– А вы, часом, в нее не влюбились?
– Влюбился? Я?! Что за чушь? Я закоренелый холостяк!
– Ну, это еще ни о чем не говорит. Вот, к примеру, месье Мандоль, бывший преподаватель Коллеж де Франс…
Ему не дали договорить восторженные вопли по соседству: торговец метелками поймал толстенного пескаря, и тот на радость всем извивался на выдернутом из воды крючке. Рыбацкое сообщество и примкнувшие к нему бродяги поздравляли счастливчика с фантастической добычей. Торговец метелками насладился триумфом, а затем снял пескаря с крючка и бросил обратно в реку.
– Зачем же вы его отпустили? – воскликнул Жозеф. – Можно было зажарить!
– Месье, рыбалка – благородный спорт, и убийство – вовсе не наша цель. К тому же рыбы, обитающие в мутных водах, неудобоваримы. Мы лишь тщимся доказать самим себе, что человек достоин вознестись над прочими божьими тварями, подчинив их своей воле благодаря собственному усердию и упорству, и что в случае успеха милосердие людское может уподобиться милосердию Творца. Ради этого мы готовы терпеть суровые лишения: часами стоять у воды в непогоду и слушать досужую болтовню ближних своих.
Разразившись этой речью, торговец метелками собрал снасти, закинул на плечи мешки с товаром и удалился.
– Недурно излагает, однако! – восхитился Жозеф. – Он кто? Уличный разносчик?
– До того как начал торговать метелками из перьев, он был проповедником. Но однажды, по его собственным словам, глас свыше велел ему отречься от сана и посвятить себя жизни мирской, пойти в народ и помогать ближним, желающим держать в чистоте свои жилища. В переносном смысле, конечно, – пояснил починщик фарфоровых изделий.
– Перья – штука полезная, – покивал Жозеф. – Я их по десятку в год извожу.
Он простоял над душой Гаэтана Ларю еще несколько часов, без умолку болтая в основном о преступлениях с первых полос газет и прежде всего о безголовом трупе с набережной Вольтера.
Гаэтан выдержал это испытание, мысленно напевая модную песенку:
Обожаю всех зверюшек,
Обезьянок и лягушек,
В кошечках души не чаю
И верблюдов уважаю.
Однако его героизм пропал втуне – ни одной рыбешки поймать так и не удалось.
…Фердинан Питель на цыпочках выскользнул из квартиры – ему совсем не хотелось встречаться этим воскресным утром с тетушкой. Добежав до мастерской, он предался первому из утренних удовольствий – позавтракал двумя круассанами, купленными накануне и оставленными возле печки, на которой ночевала кастрюлька с кофе. Ел он не спеша, наслаждаясь заслуженным отдыхом после трудовой недели и эмоциональных потрясений. Молодой человек чувствовал себя в этот момент одиноким и свободным, как мореплаватель, приставший к пустынному острову. Чего еще можно желать от жизни? Он нашел свой путь, и никто ему не помешает шагать вперед.
Недопитая чашка кофе и крошки так и остались на верстаке – Фердинан с радостью позволил себе нарушить порядок, приберется позже. Он надел галстук-«бабочку», причесался перед зеркалом и вышел из мастерской. В его планах было побродить по набережной Сен-Мишель в поисках какой-нибудь безделушки, чтобы непременно понравилась Шанталь Дарсон, а потом наведаться к ней на птичий рынок.
Но неожиданно чья-то рука легла ему на плечо и сзади окликнули мужским голосом:
– Месье Питель!
И рука, и голос принадлежали Виктору Легри, который поджидал его у мастерской и незаметно следовал по пятам. По выражению лица сапожника нельзя было сказать, что он счастлив видеть типа, известного своей страстью распутывать загадочные преступления, однако книготорговец, несмотря на некоторое сопротивление, увлек молодого человека в сквер у собора, к фонтану Богоматери. Ни снега, ни дождя не было, так что им удалось расположиться на лавочке, вокруг которой тотчас собралась целая стая голубей.
– Говорят, вам тоже довелось пообщаться с господином старшим комиссаром Вальми, – начал Виктор.
– Он вызвал меня на допрос – пустая формальность, – пожал плечами Фердинан. – Мне бояться нечего, я в этом деле никак не замешан. И ни с одной из жертв близко знаком не был.
– А с Жоржем Муазаном? Фюльбер Ботье сказал, что вы покупали у него книги по сапожному ремеслу и антикварные документы. Я читал у Библиофила Жакоба, что мастера вашего цеха подбивают задники дамских туфель телячьей кожей и используют для этого велень из старинных манускриптов, поскольку этот материал мягче кожи обычной выделки и лучше подходит для нежных женских ножек.
– Так делали раньше. Возможно, и сейчас кто-то из моих коллег такими вещами занимается, но я – никогда. Я работаю честно и старые книги у букинистов – кстати, не только у Муазана – покупаю, потому что хочу собрать коллекцию томов «Энциклопедии», имеющих отношение к моему ремеслу, вот и все. А у Фюльбера Ботье язык как помело.
Виктор, наклонившись, подобрал с земли сухую ветку и принялся задумчиво счищать с нее кору перочинным ножиком. Фердинан возвел очи к небу в немом вопросе: когда этот зануда оставит его в покое?
– Ведь еще не доказано, что это Муазану голову отрезали, – сказал он.
– Я склоняюсь к мнению, что именно ему, – отозвался Виктор.
– Ну, если это Муазан, за убийцей далеко ходить не придется – и так понятно, у кого был мотив.
– И у кого же?
– Фюльбер Ботье вечно с ним собачился. В тот день, когда на набережной Вольтера открыл стойку месье Перо, у них опять случилась ссора.
– По какому поводу?
– Фюльбер требовал у Муазана какой-то предмет. Я думаю, речь шла о книге, потому что Муазан все время приворовывал у Фюльбера в его отсутствие.
Голубей прибавилось, они подковыляли совсем близко, и Фердинан разогнал их ногой. Орудуя перочинным ножом, Виктор притворился, что поранился, – вскрикнул якобы от боли и поднес палец ко рту.
– Черт! Порезался! А у меня кровь всегда долго не унимается…
Фердинан Питель сделался белый как полотно.
– Простите, не выношу вида крови. Я… Мне сейчас будет дурно…
Виктор замотал палец платком.
– Не беспокойтесь, рана неглубокая. Что за глупость – играть с ножом, в моем-то возрасте! А давно у вас эта проблема?
– С детства. Из-за малейшей царапины чуть в обморок не падал. Извините, – пробормотал Фердинан, вставая, – мне пора, у меня встреча на птичьем рынке.
– Я с вами, если позволите, мне как раз в ту сторону.
Не дожидаясь согласия, Виктор последовал за сапожником, который уже и не знал, как отделаться от этого каторжного ядра.
Они пересекли площадь Паперти, не обменявшись ни словом. Виктор то и дело поправлял повязку на пальце, и сапожник тотчас отворачивался. Едва завернув за угол больницы «Божий приют» на улице Сите, спутники увидели, что на птичьем рынке происходит что-то странное: народ суетится, выставлен полицейский кордон. В толпе зевак, собравшейся перед оцеплением, Фердинан узнал кумушку, которая продавала черноголовых птичек-капуцинов с коралловыми клювами рядом с Шанталь Дарсон.
– Матушка Гронден, что тут случилось? – спросил он.
– Ужас кромешный! – запричитала кумушка. – Умирать буду – не забуду! Нынче утром кормила я пташечек – и вдруг слышу странный шум по соседству. Бегу туда – и кого же я вижу? Лежит на животе, пальто в крови… малышка Шанталь!
– Нет! – выпалил Фердинан, и Виктор едва успел его подхватить – молодой человек собрался упасть в обморок. – Она мертва? – прошептал он чуть слышно, когда мамаша Гронден с Виктором отвели его в сторонку и прислонили к дереву.
– Ох да, убили ее. И неизвестно, как и когда. Пришла всего-то пять минут назад – она вечно запаздывала, – веселая была, щебетала чего-то… и опаньки! Уже на пути в рай! Народ тотчас жандармов всполошил – и всё, считай пропал день. Лишь бы меня не арестовали – я же ее первая нашла… Флики велели мне никуда не уходить – а кто моих пташечек накормит?
Фердинан Питель наконец пришел в себя, но так и стоял неподвижно, с застывшим взглядом, не в силах произнести ни слова.
– Идемте, друг мой, – участливо сказал ему Виктор. – Приглашаю вас на рюмочку коньяку, нам обоим не помешает взбодриться.
Сапожник молча позволил отвести себя в ближайшее кафе.
Дверной замок щелкнул, не сопротивляясь – отмычка сделала свое дело, – и некто в плаще с капюшоном проник в миленькую квартирку Шанталь Дарсон. Все было незамедлительно надлежащим образом осмотрено и обшарено, быстро найденные горшочки с конфитюрами собраны в корзину. Снимать с них бумажные кружочки, закрывающие горлышки, прямо здесь было крайне рискованно. По счастью, никто из жильцов на лестнице не встретился. Поездка на фиакре много времени не заняла.
На то, чтобы достать горшочки с конфитюрами из корзины и выстроить их рядами на столе, хватило пяти минут. После этого бечевки на горлышках были развязаны, кусочки велени расправлены и подвержены пристальному изучению. А затем яростно, один за другим, выброшены в мусорную корзину.
Опять неудача! Опять! Неужто игра проиграна? Нет! Нужно проанализировать все дело с самого начала и понять, в какой момент был выбран неверный путь…
Виктору не терпелось обсудить добытые сведения, и он поволок Жозефа в кафе «Вашетт». На бульваре Сен-Мишель резвился ледяной ветер, хотелось побыстрее попасть в теплый обеденный зал, но по дороге еще пришлось отбиваться от непризнанного поэта, который представился Эдуаром, бывшим студентом-фармацевтом, и пытался продать им свой сборник стихов «Я всё скажу!».
– Зачем это вы всё скажете? – буркнул Жозеф, дрожа от холода. – Что за нескромность? Уж лучше помолчите.
– Я сейчас вам тоже всё скажу, – пообещал Виктор, когда они уселись за столик в кафе, а перед ними возникли кружки с горячим бульоном и тарелки с жареной картошкой. – Шанталь Дарсон зарезали на птичьем рынке. Один удар ножом между лопаток.
Жозеф подавился, кашлянул, и брызги бульона полетели на клетчатую скатерть. Длинноволосый молодой человек в наглухо застегнутой тужурке за соседним столиком брезгливо покосился на него и демонстративно пересел подальше.
– Чего это он? – обиделся Жозеф, вытирая скатерть салфеткой. – Просто я очень удивился…
– Это, между прочим, Поль Фор, основатель театра «Д’Ар», – сообщил незаметно подошедший взъерошенный попрошайка. – Вы шокировали его, месье. Монетки не найдется? – Он протянул Жозефу портрет королевы Виктории, явно срисованный из иллюстрированного приложения к «Пти журналь».
Виктор в отчаянии купил это художество за десять сантимов, только ради того чтобы нищий убрался восвояси.
– Бедная девушка, – покачал он головой. – Такая молодая была… Но по крайней мере теперь мы знаем, что Фердинан Питель – не убийца. Я весь день ходил за ним по пятам. А что Гаэтан Ларю?
– Он оказался заядлым рыбаком, все утро не выпускал удочку из рук. Мы имели весьма увлекательную беседу о червях.
– Прошу внимания, господа! Спешу сообщить, что стихосложение – единственный смысл человеческого существования! Господь создал нас для того, чтобы мы слагали поэмы! – провозгласил заявившийся в кафе господин в потрепанном костюме, бывший приказчик из магазина «Бон-Марше». В округе его наградили прозвищем Копченая Селедка, потому что другого пропитания поэзия обеспечить ему не могла.
Черные очи твои – что жемчужины!
Как погляжу в них – и рай мне не нужен!
– продекламировал он, что вынудило Виктора поспешно расстаться еще с парой монет.
– Вы могли бы привести меня в менее… артистическое место, – недовольно заметил Жозеф.
– Доедайте картошку побыстрее. Я нашел преважнейшую деталь: Состена Ларше, надомного книготорговца, перед убийством связали красной бечевкой – Изидор Гувье мне это подтвердил. Красная бечевка – волшебная нить Ариадны, ведущая от одной жертвы к другой. Убийца ищет страницы манускрипта, написанного на велени, – ясно как день. И один неприятный факт: Вонючка мне сообщил, что ваш крестный и Жорж Муазан не ладили друг с другом.
Жозеф погрозил Виктору вилкой:
– Ну нет, не вздумайте приплести моих родственников к этому делу!
– Крестный вам не родственник.
– Как это не родственник?! Он был на моих крестинах, он мне имя дал! Фюльбер – член моей семьи!
В этот момент к Жозефу склонился бандитского вида субъект с огромными гвоздями в ноздрях. Субъект пообещал поделиться тайнами искусства засовывать гвозди в нос всего лишь за пять сантимов.
– Но с вас, пожалуй, могу взять плату картошкой, – добавил он, не сводя глаз с тарелки Жозефа.
Тот услужливо сунул тарелку в руки попрошайки, торопливо надел пальто, схватил котелок и устремился к двери. Виктор догнал его на улице.
– Не нервничайте так, Жозеф. Убийство птичницы, безусловно, событие прискорбное, но оно облегчает нам задачу: список подозреваемых уже сократился. На первом месте остается Амадей – он торгует красной бечевкой.
– Прежде чем делать выводы, нужно кое-что проверить насчет Шанталь Дарсон.
– Что? – спросил Виктор, отмахнувшись от починщика плетеных стульев, который предложил ему свои услуги.
– Украдены ли у нее конфитюры.
Глава семнадцатая
Понедельник, 24 января
На левом берегу играли сполохи солнечного света. По Сене неслышно скользила огромная баржа, вдалеке меланхолично гудел буксир. У воды, закутавшись в каррик, сидел Амадей. Он открыл книгу Франсуа де Жене на странице, отмеченной закладкой, и прочитал:
Сержант привел солдат на перекресток улиц Обрио и Сент-Круа-де-ла-Бретонри, вербовщики остановились в двух шагах от кабака с вывеской «Средина Мира». Капрал развернул вымпел с вышитой надписью: «Молодым стяжателям славы и денег»…
«Мне неслыханно повезло найти этот манускрипт», – подумал Амадей.
Он поднял голову и некоторое время задумчиво смотрел вдаль. Ему чудилось, что в ветвях старого дерева у моста Марии снова каркают вороны, слышится задорный визг детей, играющих в песочнице, опять пахнет яблоками и влажной от утреннего тумана зеленью аллеи, и свежевыстиранным бельем… Закрыв книгу, он прошел по набережной Жевр и углубился в лабиринт улочек квартала Отель-де-Виль, разглядывая фасады домов, дремавших в этом тихом, почти безжизненном уголке Парижа. Кабак пал жертвой времени, уступив место мастерской, где рисовали вывески. На втором этаже здания разместилась дешевенькая гостиница. Но на стене, на уровне человеческого роста, сохранились выбитые в камне буквы: «Средина Мира. Отсюда забрали Луи в 1708-м».
Амадей медленно вдохнул и выдохнул. Здесь находилась «Средина Мира» – трактир с сомнительной репутацией, где двумя столетиями раньше королевские вербовщики, подпоив наивных посетителей, обманом заставляли их подписать согласие на службу в армии, а когда те упирались, не стеснялись применять и силу.
Он повернул назад. Место наконец было найдено, оставалось разыскать «свод галереи», если она, конечно, уцелела в процессе бурной деятельности барона Османа
[964].
В этот понедельник, шагая по бульвару Сен-Мишель, Кэндзи чувствовал себя странно: будто его душа юноши, полного радости жизни и надежд на будущее, переселилась в тело пожилого человека. Перед ним расступилась компания студентов, после бурной, веселой ночи не спешивших штурмовать науки. Большинство магазинов еще были закрыты, зато кафе уже ждали утренних посетителей, гостеприимно предоставляя к их услугам натопленные обеденные залы. Но Кэндзи, хоть и был мерзляком, устоял перед искушением зайти погреться. Он направлялся на улицу Дюн к Джине – та сегодня принимала у себя берлинскую родню, которую недолюбливала, и надо было ее поддержать.
Мимо остановки проезжали желтые, зеленые, коричневые омнибусы, и Кэндзи в ожидании своего уселся на скамейку между престарелой дамой, навьюченной многочисленными авоськами, и мужчиной в старомодной одежде: синий каррик с бархатным подбоем, сапоги, панталоны в красную полоску и треуголка. Длинные волосы были перевязаны лентой у незнакомца на затылке; в руках он держал книгу. Поначалу Кэндзи лишь рассеянно скользнул по нему взглядом, но вдруг в памяти всплыли слова папаши Гляди-в-Оба: «Чудила как чудила, одевается точно фраер времен Революции». Кэндзи покосился на незнакомца еще раз – и узнал его. Это лицо он видел на гравированном портрете в книге, которую в «Эльзевир» принес букинист по прозвищу Вонючка.
«Невозможно, – сказал себе японец. – Этот человек давным-давно умер!»
Ждать, похоже, предстояло долго, и Кэндзи, то вставая и прохаживаясь по тротуару, то усаживаясь обратно на скамейку, исподтишка все время рассматривал незнакомца в треуголке. «Готов поклясться: сходство разительное, передо мной двойник того писателя. Может, потомок? И еще вопрос: не Амадей ли это?»
Наконец подъехал омнибус, запряженный парой упитанных лошадей. Кучер на облучке приподнял цилиндр с серебристой лентой, приветствуя будущих пассажиров, и подергал за веревку, скрывавшуюся под теплым пледом у него на коленях. Другой конец веревки был в салоне, у кондуктора, одетого во френч с барашковым воротником, форменные брюки и фуражку. Он дал свисток к остановке. Как только омнибус замер, человек в треуголке поднялся на империал, и Кэндзи не раздумывая протянул кондуктору тридцать сантимов – стоимость места в салоне. Тот бросил монеты в сумку, дернул за веревку и предупредил пассажиров об отправлении.
Путешествие человека в треуголке продолжалось битый час. Сделав пересадку, он вышел из второго омнибуса на улице Баньоле и зашагал кривыми переулками, где обитало простонародье. Кэндзи следовал за ним на безопасном расстоянии между растрескавшимися фасадами приземистых домишек. С улицы Пельпор они свернули на улицу Кур-де-Ну – сельский уголок почти в самом центре Парижа. Здесь среди деревьев и палисадов пристроились ремонтная мастерская, театр-цирк и механизированная лесопилка. Дальше незнакомец, которого Кэндзи мысленно называл Амадеем, взял вправо и на улице Шин скрылся за дверью кабачка. Сквозь замызганное стекло витрины японец видел, как он подсел к стойке и выложил перед собой коробку с домино, на радость скучавшему в одиночестве хозяину заведения.
Пока продолжалась партия, Кэндзи, маясь от безделья, слонялся на холодном ветру по тротуару туда-обратно, размышляя, не прогуляться ли пока по переулку, где в беспорядке теснились лачуги с садиками, обнесенными увитыми плющом решетками, росли тополя и стыли покрытые инеем грядки. Или выбрать прямую как стрела, но безрадостную перспективу, предвестницу выстроенных точно по линейке кварталов, в конце которой маячит больница Тенона
[965]? Японец предпочел хаотическое скопление домишек – по крайней мере можно было представить, что летом здесь все утопает в подсолнухах и зарослях валерьяны. Мимоходом он бросил франк в картуз одноногого нищего, прислонившегося к ограде лавки, где шла торговля семенами.
– Благодарствую, ваша светлость! – возрадовался нищий. – Завтра прям с утречка хлобыстну за ваше здоровье!
Тут у Кэндзи за спиной по замерзшей глинистой дороге, изрытой канавами, захрустели шаги. Японец проворно укрылся под навесом бакалейной лавки, переждал пару минут и последовал за незнакомцем в треуголке.
Все магазины на улице Республики
[966] еще были закрыты, и Амадей направился к перекрестку Сен-Фарго, где работала продуктовая лавка. Из лавки он вышел с пакетами провизии. Потом Кэндзи пришлось прятаться за уличным писсуаром в ожидании, пока объект слежки закупится картошкой у бродячего торговца овощами.
Дальнейший их путь лежал по улице Аксо, где 26 мая 1871 года были расстреляны пятьдесят заложников-коммунаров. На улице Дарси они миновали ограду пропускного пункта, предназначенного для посетителей Менильмонтанского водохранилища, имеющих особое разрешение. Кэндзи читал в какой-то газете статью об этом грандиозном гидравлическом сооружении; в ней говорилось, что творение инженерной мысли Бельграна занимает два гектара, резервуары скрыты под обширным газоном и в них поступают воды из Дюи и Марны.
Свернув налево, на улицу Сюрмелен, Амадей прошагал по улице Жюстис мимо хлева, где мычали молочные коровы, и вошел в подъезд жилого дома.
– Черт! – проворчал Кэндзи себе под нос. – Расследование зашло в тупик. Кто мне ответит – он тут живет или в гости завернул?
Далеко отходить от дома японец не решился из опасения упустить Амадея. Прождал какое-то время под фонарем, замерз до костей, проголодался и плюнул на слежку. Адрес он запомнил, так что можно будет вернуться.
Не успел Кэндзи миновать узкий проезд Буден, застроенный несуразными бараками, по его следу устремились коричневые башмаки.
Снег, засыпавший неровную глинистую дорогу, прилипал к подошвам, идти становилось все труднее. Еще хуже стало, когда японец, выбравшись из тупика Аксо через пролом в заборе, оказался посреди заснеженной тундры с сопками мусора, вокруг которых бродили ослы, овцы и домашние птицы. Эти пустыри, раскинувшиеся между улицей Монтибёф и бульваром Мортье, были вотчиной бродяг и цыган. В стоявших тут и там фургонах чадили печки, дети под присмотром отцов репетировали акробатические номера для уличных выступлений, мамаши хлопотали у котлов, подвешенных над жаровнями.
Чувствуя себя неуютно среди туземцев, которые посматривали на него кто насмешливо, кто враждебно, Кэндзи спустился по каменистому склону пригорка и поспешил к сторожевой будке заставы Баньоле, где несли вахту представители городской таможенной службы, взимавшие ввозную пошлину. Мало того что он ничего не выяснил о предположительном Амадее, так еще и умудрился перепачкать ботинки и жемчужно-серые брюки. Да и Джину на улице Дюн уже не застать… Вздохнув, Кэндзи решил вернуться на улицу Сен-Пер.
Коричневые башмаки были худо-бедно очищены от грязи куском коры. Скорее, догнать азиата и незаметно смешаться с толпой пассажиров омнибуса, на который он сядет…
Вторник, 25 января
Амадей шагал по берегу реки, освещенному редкими фонарями. Вокруг, не считая нескольких бездомных, прикорнувших у опор моста, не было ни души. Глядя на бедолаг, свернувшихся по-собачьи на картонках, Амадей думал о беззащитности человека перед силами природы – если он не обзаведется надежной защитой от северного ветра и мороза, долго не протянет. Ему вспомнился исторический анекдот, вдохновивший художника Грёза на полотно под названием «Мегера». Зимой 1775–1776 года, когда температура в Париже упала до минус двадцати двух градусов, Грёз встретил на Новом мосту полураздетую девочку – она плакала и причитала: «Я есть хочу, есть хочу». И какая-то женщина, проходя мимо, швырнула ей горбушку черствого хлеба.
Амадей оставил несколько монет рядом с каждым спящим клошаром и, неслышно ступая, удалился.
«Какая злая судьба – не иметь пропитания, крыши над головой и надежды на то, что завтра все обернется к лучшему! Ничего в мире не меняется. Цивилизация процветает, и вроде бы труд должен расти в цене, а все необходимое для жизни становиться доступнее. Но нет, что прошлое, что настоящее – никакой разницы».
Ему не хотелось продолжать начатое. Хотелось отправиться к новым горизонтам – быть может, там он наконец найдет свой истинный путь. Однако прежде чем распрощаться с Парижем, он обязан был исследовать квартал Отель-де-Виль, отыскать «свод галереи» и свершить то, чему назначено свершиться.
Ступив на мост Марии, Амадей впервые услышал шум – звук чужих шагов, мерных, опасливых, и чье-то дыхание. Он остановился. Тишина. Продолжил путь – и звук возобновился. Амадей ускорил поступь и через десяток метров резко встал как вкопанный. Чужие шаги тоже стихли, но с некоторым запозданием: преследовавший его человек не сумел вовремя замереть.
Амадей обернулся:
– Вы?!
Фонарь вычертил длинную тень человеческой фигуры на мосту.
– Что, не ожидали? А я за вами уже давно слежу, Амадей. Не желаете ли узнать, как мне удалось вывести вас на чистую воду?
– Я весь внимание.
– На глаза мне вы попались на набережной Вольтера. Поначалу ваш нелепый вид меня позабавил, и только – по берегам Сены такие сумасброды ходят толпами. А потом среди барахла, купленного мною в прошлом году у Муазана, случайно обнаружился третий том некоего сочинения с портретом автора на фронтисписе и таким четверостишием под ним:
Скитаюсь по земле веками,
Повсюду и везде я странник.
Нет места мне под облаками —
Судьбы и времени изгнанник.
– Слишком долгий зачин, – поморщился Амадей. – Давайте сразу к делу.
Рука в перчатке протянула ему книгу, открытую на титульном листе:
Путешествие Эмэ Тоара, венского дворянина,
или Наставление Феопомпа Хиоского к вечной жизни
Издано Дидо-старшим
M. DCCCXII
– Я все еще не понимаю, к чему вы клоните.
– Не притворяйтесь, Амадей. Мною были предприняты некоторые изыскания, и я не сомневаюсь, что автор этого сочинения – вы. Признаюсь, меня это открытие потрясло. Поначалу даже не верилось. Ведь это же настоящее чудо!
– Это настоящая чушь.
– Не отпирайтесь, вы и дворянин на портрете, Эмэ Тоар, похожи как две капли воды. Что, молчите? Волшебный напиток, которого вы отведали, весьма заманчив и для меня. И вы научите меня, как его раздобыть, иначе…
– Иначе что?
– Будьте благоразумны, Амадей. Я всего лишь прошу пересказать мне содержание записок Марго Фишон, упомянутых вами в «Наставлениях Феопомпа Хиоского к вечной жизни». Вы ведь пытались украсть манускрипт в марморированном переплете у Ларше, а? Точнее, вернуть его себе. Я знаю об этом, потому что ваши уловки не прошли для меня незамеченными. Вы поймали этого дурня на игру в шахматы, как мышь на сыр в мышеловке.
– Вы вольны предаваться любым измышлениям на мой счет, меня все это не касается.
– Разве не вы написали, что своими глазами видели повозки революционного трибунала? Не вы водили знакомство с живописцем Гро
[967], не вы были в Москве, когда Ростопчин поджег город, чтобы он не достался французам? Ваши описания Великой армии, замерзающей в снегах, столь реалистичны, что мороз продирает по коже! Воистину вы многое повидали, дорогой Амадей, и не обзавелись за это время ни единой морщинкой на челе.
– Я всего лишь изучил немало книг по истории. Меня весьма забавляет вера наивных читателей в то, во что им очень хочется верить. – Амадей улыбнулся, но взгляд его остался настороженным и серьезным.
– Не морочьте мне голову! Вы что, так и не поняли? Берегитесь, меня не так легко обвести вокруг пальца. Давайте же, признайтесь наконец!
Амадей увидел нож, направленный острием ему в грудь. В следующий миг он упал на колени, схватил человека в коричневых башмаках за лодыжки, дернул, и тот растянулся на мосту, выронив нож. Но прежде чем Амадей сумел его обездвижить, противник оседлал его самого и принялся наносить удары кулаками в лицо. Амадею удалось перевернуться на бок, при этом затылком он приложился о металлический фонарный столб. Собрав все силы, почти теряя сознание, он сгреб нападавшего за волосы и рванул. Оба, вцепившись друг в друга мертвой хваткой, покатились к краю моста. Внизу Сена – стальная змея в судорогах волн – несла куда-то ветки и мусор. Редкие буксиры глухо потявкивали сиренами в темноте.
Раздался всплеск.
Кто-то забился в воде, борясь с течением, и камнем пошел на дно реки.
Побежали минуты.
Тело на поверхность так и не всплыло.
Глава восемнадцатая
Четверг, 27 января
– Месье Жозеф, заявляю вам прямо: или я, или ваша матушка! Она извела меня придирками – то я не так готовлю, то не так убираю. Меня нанял месье Мори, и если издевательства продолжатся, я сообщу ему, что увольняюсь! – Мелия Беллак стояла на верхней ступеньке винтовой лестницы, и по ее виду было ясно, что она оттуда никуда не уйдет, пока не получит ответа.
Виктор нашел убежище возле бюстика Мольера – притаился там и тихонько насвистывал, прикрываясь газетой. Жозеф возвел очи горе:
– Я поговорю с ней, Мелия, даю слово.
– Очень на это надеюсь, потому что в противном случае я немедленно отправлюсь в бюро по найму. Я сыта по горло упреками вашей матушки. Я ей не горничная! – Она наконец спустилась и с размаху поставила поднос на конторку. – Вот ваш кофе. Придется обойтись без молока – оно закончилось.
Мелия развернулась, взбежала по ступенькам, и через полминуты на кухне громко хлопнула дверь.
Виктор вздохнул. А Жозеф как ни в чем не бывало осведомился:
– Дневничок Марго Фишон мне вернуть не желаете?
– Я полночи разыскивал упомянутого там Йонафаса в книгах по истории и всяких справочниках. И представьте себе, он действительно оказался реальным человеком! Я у нескольких историков нашел ссылки на анонимного автора, поведавшего о его судьбе. Эврика, Жозеф, все сходится! В тысяча двести девяностом году, в царствование Филиппа Красивого, одна парижанка донесла властям на некоего Йонафаса, который якобы у нее на глазах истыкал иголкой и разломал просфору. Означенного Йонафаса и его жену схватили, подвергли допросу с пристрастием, и они признались во всем, что от них требовали. Главным обвинителем стал кюре прихода Сен-Жан-ан-Грев, которому это мнимое святотатство было на руку: предполагалось, что оно привлечет в его церковь щедрые пожертвования. Йонафас оказался виновен по двум пунктам: во-первых, он был евреем, во-вторых, не бедствовал. Все указывает на сговор с целью завладеть имуществом человека, якобы надругавшегося, как тогда говорили, над Телом Господним. Йонафаса и его жену сожгли заживо на Гревской площади, их дом разрушили, а имущество конфисковали в пользу местного церковного прихода. Четыре года спустя парижский буржуа Ренье Фламминг на участке, принадлежавшем покойному Йонафасу, построил часовню, названную «Домом чудес». В четырнадцатом веке этой землей завладели монахи ордена Святого Августина, их монастырь в народе называли «местом, где прогневили Бога».
Виктор отхлебнул кофе, а Жозеф откомментировал:
– Эта история придает смысл тексту Марго Фишон.
– При условии, что этот текст – не апокриф.
– Вы сомневаетесь в его подлинности? Но столько убийств…
– Образование не позволяет мне верить в сверхъестественное, так что я сомневаюсь всегда и во всем. Слушайте дальше. В тысяча шестьсот тридцать первом году орден уступил место реформированным кармелитам. Затем, в начале нашего века, монастырские постройки были дарованы протестантам аугсбургской конфессии. Они там обретаются и поныне, известны как «община брусчатого храма». Адрес: Архивная улица, дом двадцать четыре.
– Закавыка в том, что мы сами не знаем, что ищем.
Притаившись под навесом упаковочной лавки, некто в плаще-пелерине с капюшоном не сводил глаз с книжной лавки «Эльзевир», куда в понедельник вошел азиат. В соседнем здании с номером 18-бис открылась калитка в воротах, и оттуда вышла женщина, вооруженная вересковой метлой. Настороженно оглядевшись, она снова исчезла во дворе, вскоре появилась с ведром и с размаху опорожнила его на тротуар прямо под ноги толстой кумушке с двумя корзинками.
– Ну вы даете, Мишлин! – задохнулась от возмущения кумушка. – Нарочно, что ли, так делаете? Я же не умею плавать!
– Я вас не видела! Ах, я так счастлива!
– Чего это вы счастливы? – грозно подбоченилась толстуха.
– У меня больше ничего не болит! Ах, мадам Пиньо, жизнь прекрасна! Как же я настрадалась, да еще чуть пьянчужкой не заделалась – однажды за ночь выдула целую бутылку бренди, которую вы мне подарили на Новый год! Слава богу, месье Шодре выписал мне наконец правильное лекарство. Теперь я могу орехи зубами щелкать!
– Поздравляю. Скажите о том лекарстве моему сыночку, а то он себе зубы ножом чистит – отличный пример для детишек!
Некто в плаще с капюшоном вышел из-под навеса, пересек проезжую часть и остановился у вывески на витрине:
КНИЖНАЯ ЛАВКА «ЭЛЬЗЕВИР»
основана в 1835 г.
ЛЕГРИ – МОРИ – ПИНЬО
совладельцы
Книги антикварные и современные
«Легри – знакомая фамилия… Ах да, завсегдатай набережной букинистов!»
– Доброго дня, мадам Баллю!
– И вам того же, мадам Пиньо!
Некто, слегка повернув голову, покосился на толстуху.
«Пиньо, Пиньо… Эта фамилия есть в записной книжке Филомены Лакарель!» Черный блокнот был немедленно извлечен из кармана и перелистан.
Вторник, 4 января. Эфросинья Пиньо одолжила мне «Трактат о конфитюрах», написанный во времена моей прабабки. Надобно вернуть его поскорее, она выпросила книжицу у сына.
«Стало быть, у мадам Пиньо есть сын. Уж не один ли из совладельцев „Эльзевира“?»
Четверг, 6 января. Вернула Эфросинье Пиньо «Трактат о конфитюрах». Опять посидели за рюмочкой в «Морай».
«Папаша Гляди-в-Оба упоминал о какой-то толстухе, которая вместе с Филоменой часто сиживала в кабачке „Морай“… Если Филомена Лакарель вернула этой Эфросинье Пиньо „Трактат о конфитюрах“ шестого января, как он оказался на улице Пьера Леско десятого? Может, она просто перепутала книги в похожих переплетах?.. Точно! Все сходится! Мори – тот азиат, Легри и Пиньо – его совладельцы, толстуха – Эфросинья Пиньо, подруга Филомены!»
Суббота, 29 января
Виктор загнал велосипед во двор дома 18-бис под навес. Он не сомневался, что, как только откроет дверь «Эльзевира», Жозеф встретит его радостным воплем: «Привет, Йонафас!» – потому что это имя не давало ему покоя.
Но дверь была заперта, хотя ставни подняты. Озадаченный Виктор открыл замок своим ключом. В торговом зале никого не было. Он закатил велосипед в подсобку и позвал Кэндзи – ответа не последовало. Забеспокоившись, Виктор решил подняться на второй этаж и вдруг увидел валявшийся у ножки стула конверт. Подняв его, пробежал глазами текст и замер. В этот момент затрезвонил колокольчик на входной двери – в лавку ввалился Жозеф:
– А, любезный шурин! Вы уже здесь? Я мчался изо всех сил! Артур всю ночь плакал, у меня голова раскалывается. Это вы подняли ставни на витрине?
– Нет, полагаю, Кэндзи.
– Что случилось? Вы заболели?
Белый как полотно Виктор протянул зятю письмо, и тот вполголоса прочитал:
Месье Мори, Пиньо, Легри и мадам Эфросинья Пиньо, любите ли вы загадки? Попробуйте разгадать мою – от вас ведь не убудет.
Кто живет в доме № 36-бис на улице Фонтен? Очаровательная рыжеволосая дамочка и прелестная девчушка по имени Алиса нескольких месяцев от роду.
Кто живет в доме № 31 на улице Сены? О, сейчас устану перечислять: пригожая евроазиаточка и двое малолетних детишек.
Внимание, вопрос: что может с ними случиться?
Ответ будет зависеть от вашей доброй воли. Следуйте указаниям в этом письме.
Одному из вас четверых надлежит явиться завтра, в воскресенье 30 января, между десятью и одиннадцатью часами утра, на первый этаж северного крыла музея Искусств и ремесел в зал прядения и ткачества. Непременно одному, а не всем скопом. Тот, кто придет на встречу, должен передать мне книгу, которую Филомена Лакарель по ошибке всучила мадам Пиньо.
Надеюсь, вы хотите увидеть, как растет и взрослеет ваше потомство? Или я ошибаюсь? Ни в коем случае не обращайтесь в полицию. Я слежу за вами.
Жозеф страшно побледнел, листок выпал у него из рук. Виктор пытался дышать глубоко и ровно – ему казалось, сердце вот-вот выпрыгнет из груди.
– Я его убью, – прохрипел он. – Убью этого подонка! – И поднял письмо.
– Конверта тут не было до того, как Кэндзи открыл лавку, иначе он бы заметил, – выдавил Жозеф.
Виктор нервно провел рукой по волосам.
– Откуда убийца узнал, что записки Марго Фишон у нас? – пробормотал он и воскликнул: – Я чувствую себя идиотом!
«Вы сами это сказали, дорогой Виктор. И я абсолютно с вами согласен», – сердито подумал Кэндзи, неподвижно стоявший на втором этаже у винтовой лестницы. Сегодня он проснулся рано, открыл лавку и нашел у двери конверт. Прочитал послание и положил его на место дрожащими руками. Автор этих угроз уже убивал и не раздумывая убьет снова. Только на этот раз жертвой может оказаться кто-нибудь из его, Кэндзи, близких. Эти два идиота опять влезли в осиное гнездо! Он знал, что мальчишки затеяли очередное расследование, но не думал, что они зайдут так далеко. Да уж, недооценил их безрассудство…
Виктор, охваченный гневом, кулаком сбил со стола стопку газет и ногой отбросил стул, попавшийся ему на пути в подсобку.
– Вы куда? – выпалил Жозеф.
– Свести счеты с Амадеем! – Вытаскивая велосипед из подсобки, Виктор споткнулся и чуть не упал.
– А вы знаете его адрес?
Велосипед полетел на пол. Виктор сделал шаг на ватных ногах и помотал головой:
– Нет…
– Даже если бы знали – думаете, он бы вас принял как дорогого гостя и чаем угостил? Нужно идти в полицию. – У Жозефа тряслись руки. Чтобы унять панику, он принялся не глядя листать реестр заказов на конторке.
– Перечитайте письмо, черт возьми! – рявкнул Виктор. – Нельзя обращаться в полицию, и кто-то из нас должен прийти на встречу один! Кэндзи вне игры, остаемся я, вы и ваша матушка.
– Матушка?! Вы спятили?! Не может быть и речи!
– Вот и я о том же! Поэтому сам займусь этим мерзавцем!
– А мне, значит, в тылу отсиживаться? – В голосе Жозефа сквозь страх и ярость прорвалось отчаяние. – И потом, с чего вы взяли, что автор письма – Амадей? Может, это сапожник или обрезчик сучьев!
– Вы что, не поняли ничего? Во время убийства Шанталь Дарсон каждый из них был под нашим присмотром!
– А если у кого-то из них есть сообщник, о котором нам ничего не известно?
– Кое-что известно. Убийца оставил следы башмаков в доме Филомены Лакарель – у него размер ноги сороковой или сорок первый. У обрезчика сучьев лапы здоровенные, как у Рауля Перо, семимильные сапоги может носить. А у сапожника девчачий тридцать восьмой… Нам нужно в точности выполнить инструкции убийцы. Сегодня вечером позвоните Таша и пригласите ее в гости – к себе на улицу Сены, вместе с Алисой… Не знаю, придумайте какой-нибудь повод! Устройте семейный ужин с Айрис, детьми и Эфросиньей. Запритесь с ними в квартире и никого не выпускайте, поняли? Ну, наплетите им что-нибудь, вы же писатель! Давайте сюда книжку Марго Фишон.
– Она в подвале, сейчас принесу, но… Виктор, все же лучше предупредить полицию.
– Нет. Я не хочу рисковать.
– Если с вами что-нибудь случится, я себе этого не прощу! На встречу пойдем вместе, я буду наблюдать издалека.
– Жозеф, до вас не доходит? Если я не сумею предотвратить несчастье, не смогу после этого жить, и вы тоже не сможете! Поэтому делайте то, что я вам говорю. Этот подонок не знает, на что способен человек, доведенный до предела!
Жозеф попятился. Он никогда еще не видел Виктора в таком состоянии холодной ярости, но не собирался так просто сдаваться, и мозг у него сейчас, несмотря ни на что, работал на полной скорости. Кивнув с покорным видом, молодой человек спустился по лестнице.
Кэндзи, неслышно ступая, удалился в свои апартаменты.
Воскресенье, 30 января
Виктор пребывал в растерянности, сердце рвалось из груди. Он боялся этой встречи в музее. Едва ли убийца подойдет к нему, вежливо представится и попросит отдать книгу. А если он пришлет за книгой сообщника?
Музей был почти пуст: парочка буржуа, старик и однорукий сторож. Кому придет в голову нелепая мысль посетить храм знаний в десять часов воскресным утром? Виктор прошел галерею, посвященную ремесленному сырью, и оказался в зале с ткацкими станками и прялками. Он прошелся вокруг станка Вокансона, вдохновившего Жакара
[968] на более совершенную модель.
«Мы сотканы из тех же нитей, что наши сны…»
[969] – вспомнилась строчка, пока он лихорадочно гадал, неужто автор гнусного письма с угрозами – сгорбленный старик в слишком большом, сползающем на глаза мятом котелке, единственный посетитель в зале, кроме него самого. Старик между тем покончил с созерцанием кружев в витрине и заковылял к выходу. Виктор остался один. Он повернулся к закутку, где были вывешены вышивки и гобелены, – и почувствовал, как ему в спину уперлось что-то острое. В ухо прошептали сзади:
– Не оборачивайтесь. Давайте сюда книгу.
У Виктора пересохло в горле. Он попытался сглотнуть, открыл рот, чтобы ответить, но не сумел издать ни звука. Тогда он сжал челюсти, призвал себя к спокойствию и наконец заговорил:
– У меня ее нет.
Что-то острое надавило под лопатку сильнее.
– Правда? Засуньте руки в карманы. Медленно повернитесь. Идем за ней.
Жозеф мчался вверх по музейной лестнице, когда вдруг увидел Виктора и фигуру в плаще с капюшоном у него за спиной. Молодой человек на всем скаку свернул в зал Лавуазье, осторожно выглянул оттуда и двинулся следом за парочкой. Так, втроем, они прошли мимо макетов овчарен, виноградных прессов и элеваторов, оказались в галерее южного крыла, где были выставлены различные земледельческие орудия, и затем в старинной часовне с маятником Фуко. Жозеф не знал, что делать. Догнать их и наброситься сзади на человека в капюшоне, повалить его и выбить из рук оружие? А если не получится?
Времени на колебания не оставалось: парочка уже углубилась в лабиринт галерей, посвященных металлургии и горнорудному делу. Жозеф вбежал в зал, в котором среди великолепных коллекций графитов и нефритов стояла модель пакетбота с гребным винтом. Парочка уже продвигалась к выходу с другой стороны, молодой человек бросился за ними, но дорогу ему заступил сгорбленный старик в помятом котелке:
– Вы направо, я налево!
– Посторонись, дедуля! – буркнул Жозеф и хотел было отпихнуть старца, но тот оказал неожиданное сопротивление.
– Дурень, глаза разуйте – это я! – зашипел он, выпрямляясь и вскидывая кулаки на уровень груди в защитной стойке.
– Кэндзи! – выпалил Жозеф.
Виктор воспользовался этой потасовкой, чтобы развернуться и атаковать человека в капюшоне. Однако тот отреагировал мгновенно – нанес удар кинжалом. Виктору обожгло болью плечо, он отпрянул, схватившись за рану рукой, и нащупал дыру в пиджаке. При виде собственной окровавленной ладони Виктор покачнулся, чувствуя, как все тело охватывает слабость, попытался вцепиться в противника и повалить его, но тот крутанулся вокруг своей оси и с размаху ударил его ногой под колено. В следующий миг Виктор рухнул ничком на паркет. Краем глаза он увидел силуэт: убийца воздел обе руки с зажатым в них кинжалом над его спиной.
– Амадей! Я с тебя шкуру спущу! – заорал Жозеф, бросаясь с кулаками на человека в капюшоне.
Но Кэндзи оказался проворнее. Он оттолкнулся на бегу, прыгнул – его кулак описал в воздухе полукруг и врезался в грудь убийцы.
В это мгновение из-за пакетбота выскочил мужчина с длинными волосами, перехваченными лентой на затылке. Раздался хлопок – и убийца в капюшоне упал. С его губ сорвался хрип:
– Мне казалось… казалось… вы утонули…
– Никогда нельзя спешить с выводами, – тихо проговорил Амадей. Он засунул пистолет за пояс, наклонился и откинул капюшон, скрывавший лицо человека с кинжалом. По паркету рассыпались светлые локоны.
Жозеф издал сдавленный стон:
– Женщина! – И отсутствующим взглядом скользнул по Амадею. Он уже ничего не чувствовал, кроме подступающей к горлу тошноты. – Она… Почему?..
К нему пошатываясь приблизился Виктор:
– Я видел ее на набережной у стойки вашего крестного. Она мертва? – обратился он к Амадею. – Вы застрелили ее?
– Вы хотели очутиться на ее месте с кинжалом в сердце?
Виктора сковало оцепенение. Он только что стал свидетелем убийства. Покушение на чужую жизнь настолько противоречило его моральным нормам, что сейчас он сам себе был противен. Смерть представлялась ему неизбежностью, финалом, который ожидает всех, но который никто не вправе ускорить. А эта женщина забрала жизнь у пятерых и могла убить его близких…
– Не время и не место скорбеть, – бросил ему Амадей и повернулся к Жозефу: – Ну-ка, блондинчик, помогите мне.
Они вдвоем затащили труп за пакетбот, и вовремя – в соседнем зале зазвучали шаги. Кэндзи быстро подобрал кинжал и спрятал его под пиджак.
– Идемте отсюда. Шагайте спокойно, не торопитесь, – велел Амадей. – Месье Легри, книга при вас?
– Нет.
– Принесите ее мне завтра ровно в полночь на Архивную улицу, в дом двадцать четыре. Это чрезвычайно важно. Получив книгу, я поведаю вам всю историю от начала до конца.
На улице он не оглядываясь зашагал прочь. Кэндзи, Жозефа и Виктора подобрал фиакр у театра «Гэте».
– Снимите пальто и пиджак, – потребовал у Виктора японец. Осмотрев рану на плече пасынка, он убедился, что это всего лишь неглубокий порез, хоть и сильно кровоточит, и перевязал его собственным шелковым шарфом.
– Что за нелепый наряд, Кэндзи! – хмыкнул Виктор. – Вы похожи на Лагардера, переодетого в горбуна с улицы Кенкампуа
[970].
– Очень остроумно, – проворчал Жозеф, – я ценю ваш намек на мой собственный горб.
– О, это всего лишь литературная аллюзия…
– Возможно, мой наряд дает повод для насмешек, зато он оказался весьма эффективным. Без меня на смех подняли бы вас. Это урок для тех, кто считает меня «дедулей».
– А где книга? – поспешил сменить тему Жозеф.
– При мне, я с ней не расставался. – Виктор достал из-под рубашки томик в марморированном переплете.
– Значит, вы солгали Амадею!
– А вы, черт возьми, почему здесь? – вдруг спохватился Виктор. – Вы обещали защищать наших близких! Вам вообще нельзя доверять!
– Все наши в безопасности – я принял меры! – оправдался Жозеф.
– Зная вас, я тоже принял меры, – проворчал Кэндзи.
– А как вы вообще обо всем узнали? – уставился на него Виктор.
– Вчера утром я первым прочитал письмо с угрозами, пока вас не было, и слегка подкорректировал ваш план защиты. Поистине, Виктор, вы ничуть не повзрослели – так и остались безрассудным мальчишкой. Эта книга могла стоить вам жизни!
– Вероятно, в ней скрыта какая-то страшная тайна, если ради нее совершено столько убийств. Я рад, что удалось ее сохранить.
– Без нашего участия и без помощи Амадея вы бы не вышли живым из этой передряги.
– Это Амадей спас ему жизнь, – заметил Жозеф.
– Остается узнать почему, – заключил Виктор.
Его все еще била нервная дрожь, но внутреннее напряжение исчезло, будто его избавили от тяжелого груза.
…При виде фиакра, остановившегося у дома номер 31 на улице Сены, Рауль Перо испытал невероятное облегчение. Все утро он просидел в засаде под крытым входом здания напротив, промерз до костей и горько жалел о том, что согласился взять на себя эту миссию наблюдения. Но ответить отказом на мольбы Жозефа было невозможно. К своему удивлению, месье Перо заметил на противоположном тротуаре своих бывших подчиненных Шаваньяка и Жербекура: один притаился возле упаковочной лавки, другой – у мастерской починщика фарфоровых изделий. Оба дрожали от холода, кутаясь в плащи с пелеринами. Оставив ненадолго свой наблюдательный пост, он расспросил ребят и выяснил, что их нанял месье Мори с той же целью и за приличное вознаграждение.
Выскочив из фиакра и сразу увидев Шаваньяка и Жербекура, Жозеф бросился к ним. Рауль Перо неторопливо пересек проезжую часть – ноги отваливались, ломило поясницу.
– Месье Перо, всё в порядке? – метнулся к нему Жозеф. – Как здорово, что вы еще и агентов с собой привели!
– Это не я, это…
– Никаких происшествий, – доложил Жербекур.
– Никаких, – эхом отозвался Шаваньяк. – Но ваша матушка грозилась вам уши надрать, месье Пиньо. Знали бы вы, чего мне стоило уговорить ее остаться дома – она собиралась бежать вас разыскивать, потому что не могла взять в толк, как это можно так долго покупать пирожные. Она очень сильная женщина…
– Чуть руку мне не сломала, – пожаловался Жербекур.
– Ну и что? – пожал плечами Шаваньяк. – Материнская любовь – это прекрасно. Я вот в приюте вырос…
– Может, зайдем куда-нибудь погреться и выпить грога? – предложил Рауль Перо.
– Я сейчас повезу Виктора к доктору Рейно. Жозеф, пригласите наших друзей в кафе, – сказал Кэндзи, сидевший в фиакре.
– Это вы привели сюда Шаваньяка и Жербекура? – поинтересовался молодой человек.
– Разумеется, – буркнул японец. – Их не оказалось на службе, пришлось бежать к каждому домой.
– Спасибо.
– За что спасибо? За то, что я позаботился о безопасности родной дочери, невестки, внуков и их бабушки? По счастью, у меня здравого смысла побольше, чем у вас. Я решил, что три мушкетера лучше одного.
Уютно устроившись в кафе возле печки, Рауль Перо грел руки, обхватив ладонями исходивший паром стакан, и думал: «Нелегко приходится букинисту зимой, нелегко. Но по крайней мере можно в любой момент отлучиться в ближайшее бистро и прийти в себя. Нет уж, полиция, засады, слежки – с этим покончено навсегда!»
Глава девятнадцатая
Понедельник, 31 января
Виктор и Жозеф шли по Архивной улице. Колокол на соборе Парижской Богоматери отзвонил двенадцать раз. Теперь тишину на пустынном тротуаре нарушали только их шаги.
– Далеко еще? – спросил Жозеф.
– Уже на месте. Вот он, «брусчатый храм».
– Амадея не видно…
– Вероятно, он ждет нас внутри.
Дверь была незаперта, и как только они переступили порог, прямо перед ними темнота сгустилась в силуэт человеческой фигуры. Красный огонек курительной трубки привел их под свод галереи, где было посветлее, чем в других помещениях. Виктор и Жозеф различили длинные, подвязанные лентой волосы и плащ с несколькими пелеринами. В следующее мгновение Амадей сделал им знак присаживаться и сам опустился на такую же каменную скамью напротив.
– Вы пунктуальны. Книга при вас?
– Минуточку! Если вы воображаете, что мы отдадим ее вам просто так, этого не будет! – заявил Жозеф.
Амадей тихо рассмеялся и пыхнул трубкой.
– Господа, когда вы дослушаете до конца историю, которую я намерен вам поведать, единственным вашим желанием будет поскорее избавиться от этой книги и никогда в жизни о ней не слышать. Но сначала я задам один вопрос. Верите ли вы в бессмертие, месье Легри?
– Разумеется, нет. Досужая выдумка.
– Это не выдумка, это проклятие. Давным-давно, при Людовике Пятнадцатом, я часто наведывался в Пуатьерские купальни неподалеку от Тюильри. Там было много злачных заведений…
– Вы сказали «бессмертие»?! – перебил Жозеф, до которого не сразу дошло, о чем речь. – За дураков нас держите? Это же детские сказки!
Амадей легко поднялся с места и прошелся туда-обратно перед сыщиками-любителями.
– Поймите меня правильно, господа, я не рассчитываю, что вы немедленно согласитесь с моими доводами, однако прошу вас не принимать сразу в штыки все, что я скажу, и дослушать меня до конца.
Он снова сел на скамью и выбил трубку о колонну – угольки посыпались на каменные плиты пола.
– Мне было тридцать шесть лет, я жил случайными заработками, перебивался как мог, искал удачи в игорных домах. Моим излюбленным местечком были «Игры добродетелей» в двух шагах от фонтана Самаританки. В этом заведении играли на деньги, угощались спиртными напитками, курили. В купальнях я свел знакомство с одним дворянином, по виду моим ровесником, и заманил его в «Игры добродетелей» в надежде разгромить в шахматы. Я и правда его победил благодаря одной секретной комбинации. Противник умолял меня поделиться «тайным знанием», а взамен посулил бесценный подарок, который, по его заверениям, должен был изменить мою судьбу. Я стал допытываться, что же это за подарок, и тогда он сказал: «Вечная жизнь». Конечно, я решил, что меня собираются надуть, но тут же напомнил себе, что все на свете продается и все на свете покупается. В ту пору я был на мели и не постеснялся бы воспользоваться любой возможностью поправить свои дела.
– Как звали того дворянина? – спросил Виктор.
– Граф де Сен-Жермен. Понимаю ваш скептицизм, месье Легри. Не исключаю даже, что вы считаете меня сумасшедшим.
– Я действительно полагаю, что вы несколько… не в себе. И я не позволю вам морочить мне голову выдумками, которые вы к тому же подаете как откровение, хотя на самом деле их можно вычитать в любой книжке про Сен-Жермена, где утверждается, помимо прочего, что он и ныне жив. Некий англичанин по фамилии Вандам даже клятвенно уверяет, что встречался с графом в Париже в конце правления Луи-Филиппа. Однако все это ложь. Известно, что граф умер от удара в тысяча семьсот восемьдесят четвертом году в возрасте девяносто трех лет. Это было в прусском городке Экенферде.
– Ваша недоверчивость, равно как и ваши обширные познания, делает вам честь. Однако все, что я говорю, – правда. Граф показал мне записки некой Марго Фишон, в которых речь шла о местонахождении источника вечной молодости. Увы, тогда я успел прочитать и запомнить лишь несколько строчек:
Поиски Средины Мира
Завершатся где-то рядом.
Там под сводом галереи
Муж стоял вооруженный,
Некогда стоял на страже…
Граф быстро спрятал записки. Но я не расстроился – мне тоже все это казалось мистификацией, к тому же меня тогда ничто не заботило, кроме денег. Вы уже начинаете понимать, о чем я толкую, господа?
– Без тени сомнения, – любезно покивал Виктор. – Вы – современник Людовика Пятнадцатого и водили приятное и поучительное знакомство с графом де Сен-Жерменом.
Амадей, не обратив внимания на иронию, продолжил:
– Граф прибыл в Париж в апреле тысяча семьсот пятьдесят восьмого года из Германии. Спустя несколько месяцев он поселился в замке Шамбор, стал бывать у мадам де Жанлис, у Казановы…
– Пардон, у того самого Казановы де Сенгальта, прославленного сердцееда? Потрясающе!
– Очень скоро Сен-Жермен попал в придворный круг и снискал расположение правнука короля-солнца. Говорили, Людовик Пятнадцатый не знал, куда деваться от скуки и от этикета, унаследованного от прадедушки. И вот однажды в салоне мадам де Помпадур ему представили Сен-Жермена. Его величество пришел в восторг от общения с этим человеком, знавшим толк в поэзии, музыке, литературе, медицине, физике, химии, механике и живописи. Слухи о бессмертии графа распространились после его встречи с престарелой мадам де Жержи, которая за полвека до этого была королевским послом в Вене. Она охотно рассказывала всем и каждому, что Сен-Жермен, хоть и выглядит как мужчина в расцвете лет, прожил уже несколько веков. Мадам де Помпадур упомянула о мадам де Жержи в беседе с графом, и тот сказал: «Да, некогда мы с ней были хорошо знакомы». «Но из ее слов следует, что вам более сотни лет!» – выразила удивление мадам де Помпадур. «Не исключено!» – рассмеялся граф и не дал никаких объяснений.
– Ущипните меня, я сплю, – проворчал Жозеф. – По вам дурдом плачет.
– В мои намерения не входит вас обманывать, – спокойно отозвался Амадей. – Я излагаю вам достоверные факты.
– Продолжайте, – попросил Виктор. – Вы обыграли Сен-Жермена в шахматы. Что было дальше?
– После того как я описал ему комбинацию, позволившую мне в той партии сказать «шах и мат», он протянул мне хрустальный флакон и велел выпить содержимое. Я отказался это сделать – мало ли, а вдруг там яд? Тогда он, чтобы завоевать мое доверие, сам сделал глоток из флакона, заявив, что на него это никак не подействует, поскольку одного раза достаточно. Что он имел в виду, я тогда не уточнил…
Виктор встал со скамьи:
– Простите, но я не верю ни единому вашему слову.
– Вы читали записки Марго Фишон?
– Полная чушь.
– Стало быть, читали…
– Вдоль и поперек! – сообщил Жозеф.
Виктор, заметив, что у зятя просыпается интерес, поспешил его вразумить:
– Ну вот что, довольно! Почти час ночи, нам пора по домам.
– Вы должны мне поверить, – сказал Амадей, заступая им путь. – Очень прошу вас дослушать меня до конца, осталось совсем немного. Последовав примеру графа, я тоже отпил из флакона – и пришел в ярость. Я поделился с ним шахматной уловкой, а взамен не получил ничего: напиток даже не принес опьянения! Граф де Сен-Жермен меня обманул! Прошли годы. Я вел беспутную жизнь, предаваясь амурным утехам и азартным играм. Людовик Пятнадцатый заразился оспой и умер десятого мая тысяча семьсот семьдесят четвертого года. Никогда не забуду эту дату. В тот день я встретил свою любовь в облике пленительной юной англичанки. Ее звали Мэри. Я сам себе удивлялся: пятидесятилетний мужчина бросился в любовную авантюру с пылом и страстью юноши. А когда я сказал об этом Мэри, она рассмеялась: «Ты шутишь? Посмотри на себя, тебе и тридцати пяти не дашь!» Тогда-то ко мне и пришло осознание очевидного: физически я остался в точности таким, каким сидел за партией в шахматы в «Играх добродетелей». И в тот самый момент я понял смысл слов графа: «Одного раза достаточно».
– Достаточно для чего? – уточнил Виктор.
– Для того чтобы порвать оковы времени. Вы бы хотели прожить века, не утратив молодости и силы?
– Кто же от такого откажется? – иронически хмыкнул Виктор.
– Подумайте, прежде чем ответить. Вы будете смотреть, как стареют, а потом умирают дорогие вам люди: жена, дети, дети ваших детей, друзья. Вы останетесь один. Мир вокруг вас станет меняться, вы потеряете желание заводить новые знакомства и завязывать отношения, вы сделаетесь чужим среди чужих, вам придется задушить в себе все чувства… Подобная перспектива кажется вам заманчивой?
– Не кажется, – покачал головой Жозеф. – Но поскольку мы пребываем в царстве фантазии, почему бы нет? Я читал нечто в этом духе – рассказ Вашингтона Ирвинга «Рип Ван Винкль» и…
– Рип заснул и проспал двадцать лет. По сравнению с вечностью это мгновение.
– Вы бредите, месье, – снова вскочил Виктор. – С нас довольно. Идемте, Жозеф.
– Что же вы, не хотите услышать развязку истории? Я снова встретил графа де Сен-Жермена в тысяча семьсот девяносто девятом году, после революционной смуты, во время которой заботился только о том, чтобы сохранить голову на плечах. Наполеон Бонапарт только что устроил государственный переворот Восемнадцатого брюмера. Мы с Сен-Жерменом случайно столкнулись на одном постоялом дворе в окрестностях Парижа, куда оба прибыли инкогнито. Он ничуть не постарел. Я сказал ему об этом, и он ответил мне тем же комплиментом.
– Вот ведь околесицу несет человек, – проворчал Жозеф.
– Я начал выражать протест, вышел из себя, кричал, требовал, чтобы он избавил меня от трагических последствий того, что я когда-то выпил из хрустального флакона – выпил по его вине. Он лишь покачал головой: ничего нельзя было исправить. Зато можно было помешать другим людям найти источник этого кошмара. Точное местоположение источника в центре столицы было обозначено в записках Марго Фишон, в тех самых, что граф мне когда-то показывал.
Жозеф вздрогнул и пробормотал:
– Источник находится в доме Йонафаса?
Амадей не ответил.
– Я потерял хладнокровие, принялся настаивать, чтобы Сен-Жермен отдал мне записки этой Фишон. Он пояснил, что лишь непосвященному дано отыскать источник, и признался, что манускрипта у него уже нет. Перед самой Революцией граф, погрязший в долгах, вынужден был продать свою библиотеку герцогу Кастьельскому и слишком поздно обнаружил, что записки Марго Фишон попали в один из ящиков со старыми книгами. Он поручил мне найти манускрипт. Десятилетиями я охотился за этим сокровищем. И вот два года назад добился встречи с нотариусом наследников герцога Кастьельского. От него я узнал, что этот аристократ, вынужденно распродавший по дешевке в тысяча семьсот девяносто шестом году часть своих книг, которые разошлись по прилавкам букинистов левого берега и сгинули, сумел выкупить в тысяча восемьсот пятьдесят третьем собрание манускриптов у зятя некоего Луи Пелетье, библиофила, умершего двумя годами раньше. В тысяча восемьсот шестьдесят шестом отдал Богу душу и сам герцог Кастьельский в возрасте почти ста лет. Свое имущество он завещал троим сыновьям. Последовали бесконечные споры и тяжбы, и в конце концов младший сын выставил на аукционе Друо лот из нескольких манускриптов по истории Парижа. Когда я прочитал их список в каталоге, у меня чуть не выпрыгнуло сердце: в заглавии одной из книг фигурировало имя Марго Фишон. Оценщик назвал мне человека, который приобрел этот лот: Состен Ларше, надомный книготорговец.
– И вы хладнокровно его убили, – заключил Виктор.
– О нет, – покачал головой Амадей. – Я подсел к нему за столик в кафе на Монмартре, где он был завсегдатаем. Оказалось, что Состен Ларше, как и граф де Сен-Жермен, заядлый шахматист. Все лето мы сражались на шахматной доске, я несколько раз ему поддался, и вот однажды он пригласил меня к себе на улицу Гранж-Бательер. Когда Ларше ненадолго отлучился из комнаты, я вырвал лист из томика в марморированном переплете – в нем были записки Марго Фишон и дневник Луи Пелетье.
– И зачем вам понадобился этот лист? – спросил Виктор.
– Луи Пелетье процитировал стихотворение «Средина Мира». Я приложил немало усилий, чтобы расшифровать его смысл, – и вот оно привело меня сюда.
– А как же череда убийств ради конфитюров?! – воскликнул Жозеф.
Амадей, вздохнув, переложил трубку из одной руки в другую.
– Я, знаете ли, люблю женщин рубенсовских форм… Летом тысяча восемьсот девяносто седьмого мое ремесло профессионального игрока свело меня с дамой, похожей на одну из моих прежних любовниц. Эрудитка и либертинка в одном лице – Аделина Питель. Она использовала мою же собственную уловку: поддалась мне в партии. И я сам не заметил, как мы очутились в постели. Все было замечательно, но недавно… Видите ли, в тысяча восемьсот двенадцатом году мне пришла в голову неуместная мысль издать свои мемуары под названием «Путешествие Эмэ Тоара, венского дворянина, или Наставление Феопомпа Хиоского к вечной жизни». Я поведал в них о бедствиях, постигших меня после встречи с Сен-Жерменом, и вскользь упомянул о том, что из века в век исторические документы и манускрипты, написанные на старинном пергамене и велени, уничтожаются домохозяйками, которые вырезают из них крышки для горшочков с конфитюрами. На фронтисписе «Путешествия» был мой портрет. Так вот, Аделина меня узнала. Она прочла эту книгу и нисколько не сомневалась, что я напал на след манускрипта, в котором указано местоположение источника вечной молодости. Чтобы завладеть этим манускриптом, она не раздумывая совершила пять убийств, будучи уверена, что найдет веленевые листы записок Марго Фишон на горшочках с конфитюрами.
– И вы конечно же понятия не имели, что встречаетесь с убийцей?
– Да. Пока она не попыталась зарезать меня самого.
– И каковы ваши планы теперь, когда вы исповедовались?
– Я уже засыпал источник. Никто до него не доберется, если вы отдадите мне манускрипт.
– Держи карман шире! – фыркнул Жозеф. – Не слушайте его больше, Виктор. Этот тип чокнутый. Манускрипт стоит целого состояния, и он это прекрасно знает!
Циничный выпад не произвел впечатления на Амадея. Он невозмутимо продолжил:
– Записки Марго Фишон не должны попасть в руки простых смертных. Не вынуждайте меня прибегнуть к более убедительным аргументам.
Виктор вскочил, готовый оказать сопротивление, – и замер под дулом направленного на него пистолета.
– Я начинаю сомневаться в виновности мадемуазель Питель. Вы так ловко и вовремя пристрелили ее, месье Амадей, как будто свидетеля убрали.
– Думайте что хотите. Я вам не солгал. Отдайте манускрипт, живо!
Виктор несколько раз глубоко вдохнул. Рядом он слышал тяжелое сопение Жозефа.
– Ладно. Книга у меня в кармане.
– Вот и прекрасно. Вы, блондинчик, возьмите мою трубку и подожгите кучу хвороста – вон там, у ступенек.
– Зачем?
– Устроим миниатюрное аутодафе. Месье Легри, предупреждаю: малейшее подозрительное движение с вашей стороны – и я не колеблясь выстрелю в вашего коллегу. Отдайте мне манускрипт.
Виктор, приняв угрозу всерьез, протянул томик в марморированном переплете. Не упуская из виду обоих сыщиков-любителей, Амадей быстро пролистал манускрипт и вернул его Виктору:
– Месье Легри, бросьте это в огонь.
Виктор повиновался. Пламя, охватившее ветки, накинулось на новую добычу – листы вспыхнули, почернели, съежились.
– Вот и всё, – выдохнул Амадей. – Успокойтесь, господа, у меня не было намерения в вас стрелять – пистолет не заряжен. Но надо же было как-то заставить вас подчиниться. – Он ногой разбросал пепел. – Отныне я свободен и покину Париж. Не пытайтесь меня искать. Застрелив Аделину Питель, я всего лишь свершил правосудие от имени тех несчастных, кого она лишила жизни. – Амадей приподнял треуголку. – Прощайте. Желаю вам всего наилучшего. Сомневаюсь, что полиция разберется в этой запутанной истории, – добавил он напоследок, прежде чем раствориться в ночи.
Виктор и Жозеф вышли на Архивную улицу и в молчании дошагали до набережной Отель-де-Виль. На мосту Жозеф повернулся к шурину:
– Почему он так поступил? Манускрипт ведь и правда бесценный.
– Не знаю, Жозеф… Могу сказать одно: чтобы заставить кого-то поверить в ложь, нужно снабдить ее порцией правды. Мы ведь и сами держим этот принцип на вооружении, верно?
Глава двадцатая
Среда, 2 февраля
Виктор пересек огромный приемный покой «Божьего приюта», заполненный больными и увечными, пришедшими искать избавления от страданий. Среди них попадались и бездомные, для которых попасть в палату хоть на пару ночей в разгар зимы было счастьем. Сестра-августинка за конторкой в глубине помещения сообщила Виктору, что мадам Ангела Фруэн, как только зажило сломанное ребро, покинула больницу. Некий чудно одетый господин, не соизволивший представиться, оплатил ее пребывание здесь, чтобы она ни в чем не нуждалась и была окружена надлежащей заботой, а также оставил щедрое пожертвование больнице и изрядную сумму для самой пациентки. Виктору на мгновение вспомнился Амадей, разбрасывающий ногой пепел сгоревшего манускрипта, но тотчас его образ сменился чередой трупов – Филомена Лакарель, Жорж Муазан, Шанталь Дарсон и белокурая женщина, лежащая на музейном паркете. Нельзя было отпускать Амадея. Как теперь объясняться с комиссаром Вальми?..
Проходя мимо собора Парижской Богоматери, Виктор вдохнул полной грудью стылый воздух и неохотно повернул к префектуре полиции, комкая в кармане полученную накануне повестку.
Старший комиссар Огюстен Вальми утеплился фланелевым жилетом, а шею укутал шерстяным шарфом до самого подбородка. Он сидел за рабочим столом, положив на него локти и задумчиво созерцая исходящий паром стакан чая, водруженный на стопку из трех бюваров. Насладившись зрелищем, Вальми поднял взгляд на Виктора.
– Рауль Перо ввел меня в курс дела, – сообщил он и хищно усмехнулся. Голос у него хрипел и срывался на визг, как ветер в водосточных трубах.
– Простудились, господин комиссар? Говорят, по городу ходит грипп, дети и старики от него даже умирают. Пореже надо выбираться из дома, избегать массовых скоплений народа…
– Ваша забота трогает меня до глубины души, месье Легри, но давайте не будем отклоняться от темы разговора. У меня всего лишь ангина. – Огюстен Вальми открыл папку с делом и просмотрел документы. – Ваш приятель Перо уволился из полиции, но это не значит, что он имеет право на отказ от сотрудничества с нами – это может ему дорого обойтись. Например, муниципальные власти не продлят его лицензию на букинистическую торговлю, а ведь это будет весьма досадно – я знаю, что новое ремесло ему по душе.
По-моему, в итоге мы с ним достигли некоторого взаимопонимания. Он, кстати, ни разу не упомянул о вашем участии в этом прискорбном деле.
– Потому что не о чем было упоминать.
– В любом случае имейте в виду: я пристально за вами наблюдаю, за вами и вашим коллегой-совладельцем. Месье Мори меня, к сожалению, разочаровал – я думал, он проявит больше благоразумия. Что до вас, месье Легри, надеюсь, тут долго объяснять не придется: еще раз вмешаетесь в дела полиции, и последствия для вас будут весьма неприятными.
– О чем вы, комиссар? – разыграл недоумение Виктор. – Об убийствах я знаю только из газет.
– Убийства уже, считайте, раскрыты. Возможно, у вас есть в чем признаться напоследок? – Вальми не сводил с Виктора грозного взгляда в полной уверенности, что сыщик-любитель в его власти.
– Скажу вам правду и ничего, кроме правды, господин комиссар: я восхищаюсь вашим чутьем и умом аналитического склада, потому что сам так и не сумел проникнуть в тайну этой череды убийств. Как же вам удалось?
– Элементарно. Установив связь между жертвами…
– Какую связь?
– У них была одна страсть: конфитюры. Месье Муазан, а также девицы Лакарель, Дарсон, Шеванс и Питель убиты одним и тем же человеком.
– Мотив?
– Вот об этом я понятия не имею, потому нам с вами необходимо прийти к согласию и построить версию, основанную на падении нравов в обществе.
Виктор нахмурился, размышляя, разыгрывает его комиссар или заманивает в ловушку. И изобразил милую улыбку, что определенно было плохим знаком, если бы его мог прочитать Вальми.
– Я не очень вас понимаю, господин комиссар.
– Легри, перестаньте юлить. Мне нужно в ближайшее время подать рапорт об этом деле, а в рапорте должны присутствовать факты, улики и убедительные выводы. Название «Фруктоежки» вам о чем-нибудь говорит?
– Э-э… нет. А что это?
– Своего рода клуб. Что вы на меня смотрите с таким кислым видом, Легри? Как будто я вас в чем-то обвиняю. «Фруктоежки» – многообещающее название, вы не находите? Легри, черт возьми, сосредоточьтесь. Вы же знаете, на какие уловки способны дамочки, чтобы завлечь клиента. Читали небось объявления на четвертой полосе газет? А кто не читал? «Мадам д’Альжер, улица Сен-Дени, двенадцать. Уроки плавания для светских львов с четырех до шести». Или «Мадам Кора, маникюр. Нежно и безопасно, с двух до семи, шоссе д’Антен». Теперь понимаете, к чему я клоню?
– Гм-м… нет.
– Предположим, эти «фруктоежки» подрабатывали древнейшим в мире ремеслом. Они объединились и, чтобы увеличить прибыль, взялись шантажировать своих клиентов. Один из них заартачился и поубивал их одну за другой. Как вам? По-моему, убедительно.
– Ну-у… А Муазан?
– Он поставлял им клиентов. Дамочки-«фруктоежки» часто бывали у него на набережной, и их убийца тоже. Мы его еще не арестовали, но за этим дело не станет – нам удалось установить его личность. Это некий Эмэ Тоар по прозвищу Амадей, иностранец, прибывший во Францию в девяносто пятом году. Он застрелил свою любовницу Аделину Питель в музее Искусств и ремесел. Вам нехорошо?
Виктор достал из кармана носовой платок и вытер лоб, будто это могло унять охватившую его панику.
– У вас тут слишком натоплено. Комиссар, остается прояснить один вопрос: почему Муазану отрубили голову и подбросили труп в ящик букинистической стойки на набережной Вольтера?
– Чтобы подставить под подозрение месье Ботье. Они с Муазаном не ладили, и Эмэ Тоар знал об их постоянных распрях.
Пока Огюстен Вальми говорил, Виктор лихорадочно решал дилемму. Очень соблазнительно было признать, что в умозаключениях комиссара есть рациональное зерно. Он взглянул на Вальми – тот не спеша сделал глоток еще не остывшего чая и промокнул губы платком.
– Мои поздравления, господин комиссар, – решился Виктор. – Вы в два счета раскрыли пять убийств. Я бы так никогда не смог!
– Обойдемся без лести, прошу вас. Я всего лишь применил на практике методы расследования, которые мне преподали в школе полиции, – отмахнулся Вальми и ехидно осведомился: – Так вас, стало быть, устраивает эта версия?
Виктор энергично кивнул.
– Что ж, тогда я вынужден констатировать, что вы никудышный лжец, поскольку вся эта версия – не что иное, как плод моего воображения, и шита белыми нитками, что не может не быть очевидным.
Виктор заерзал на стуле, ему вдруг страшно захотелось курить. А Огюстен Вальми смотрел на него и ласково улыбался. До конца насладившись победой, комиссар снова заговорил:
– Да вы и правда считаете меня идиотом, месье Легри. Версию о проститутках-шантажистках я уже изложил в рапорте – и черт с ним. Но я нисколько не сомневаюсь, что вы – единственный обладатель ключа к этому кровавому ребусу. Мой рапорт начальство проглотит за милую душу и не подавится, однако сам я, если позволительно так выразиться, останусь голодным. А когда я голодный, у меня ужасно портится настроение. Очень злым я становлюсь на пустой желудок. Так что премного рассчитываю на ваше угощение, месье Легри. Итак?..
Уверенность, с которой держался Вальми, лишила Виктора сил к сопротивлению, в горле пересохло, навалилась усталость. Он вздохнул и упавшим голосом произнес:
– Моя версия тоже может показаться вам шитой белыми нитками, комиссар…
– Излагайте – там посмотрим.
– Вы когда-нибудь слышали о графе де Сен-Жермене?..
Час спустя в жарко натопленном кабинете, где плавали клубы дыма, сгустились сумерки. Огюстен Вальми умирал от желания умыться холодной водой. Встав из-за стола, он открыл окно.
– Захватывающе, месье Легри. Само собой, в мои планы не входит отправиться в вынужденную отставку, потому перед начальством я буду придерживаться собственной версии. А вашу можете рассказывать дочке на ночь вместо сказок.
Виктор, немного восстановивший за это время уверенность в себе, поднялся со стула.
– Господин комиссар, вы случайно не знаете, как самочувствие мадам Фруэн?
Огюстен Вальми закашлялся и побарабанил пальцами по столу.
– Кто же мог подумать, что она из-за такого пустяка грохнется в обморок и сломает ребро! – проворчал он.
– Вы называете пустяком бездоказательное обвинение в убийстве? Смею надеяться, ей возместят заработок, упущенный за две недели нетрудоспособности, и моральный ущерб.
– Послушайте, мы не безупречны, согласен. Разумеется, администрация уладит эту проблему. Можете быть свободны… Ах да, месье Легри, вы не в курсе, месье Мори еще не нашел «Мемуары Видока»?
Вечер субботы, 19 февраля
Ангела Фруэн повертелась перед витриной магазина на улице Лафитт. Третья пуговица на ее пальто так и норовила расстегнуться – из-за толстой повязки на торсе. Ангела задержала дыхание, попыталась втянуть живот и сморщилась от боли, но стоически завершила начатое и осталась довольна своим видом, только поправила берет со страусовыми перьями – подарок жениха, Гаэтана Ларю. Сам Гаэтан стоял в сторонке и с обожанием взирал на невесту. Этот головной убор, купленный в Больших магазинах у Нового моста, чуть по миру его не пустил, но Гаэтан нисколько не жалел о потраченных сорока франках, до того обрадовалась обновке его возлюбленная. А вот ему было не очень уютно в шевиотовой пиджачной паре и тесных туфлях. Спустя несколько минут они с Ангелой присоединились к собравшейся у входа в художественную галерею толпе приглашенных на открытие экспозиции.
«Палитра и мольберт» организовала персональную выставку работ Таша Херсон-Легри. Морис Ломье мысленно поздравил себя с тем, что ему удалось уговорить владельца помещения, Леонса Фортена, оказать доверие этой художнице, пока еще неизвестной, но определенно многообещающей. С индюшками было покончено навсегда, теперь стены галереи украсились изящными чувственными картинами, и женская половина публики замерла в экстазе перед набросками мужского обнаженного тела. При мысли о том, что позировал Таша для этих набросков Виктор, у Ломье неприятно потели ладони, что было симптомом крайней досады. Заметив, с каким мечтательным видом Мими таращится на мускулистый торс в рамке, он сердито схватил ее за руку и потащил к картинам Мадлен Лемер.
– Отпусти сейчас же, ты мне руку оторвешь! – возмутилась Мими.
– Вот, цветочками лучше любуйся, бесстыдница!
Как оказалось, творчеством Таша был шокирован не только Морис Ломье. Кэндзи категорически не понравилось, что его приемный сын стал жертвой художественных причуд жены. Джина пыталась встать на защиту дочери, но Кэндзи так обиделся, что даже отказался одолжить для этой выставки свой портрет, написанный и подаренный ему невесткой. Означенный портрет остался висеть в спальне на улице Сен-Пер.
«То девочка играет в художницу-натуралистку, то мальчик изображает из себя великого сыщика. Когда же они перестанут надо мной издеваться?» – мрачно думал японец на открытии выставки, отойдя в уголок. Однако одиночеством он наслаждался недолго – откуда ни возьмись его атаковала Эдокси в экстравагантном красном платье с обилием лент и оборок. Корсаж платья украшали кружевные фестоны, которые лишь подчеркивали пышные формы, хотя призваны были их скрыть.
– Мой микадо! Я так рада была узнать, что вы живы и здоровы! Изидор Гувье поведал мне о ваших шалостях – как можно так рисковать, вас же могли убить! Уж я все выскажу вашим совладельцам!
– Не намекнете, как к вам теперь обращаться? Экс-княгиня Максимова? Фьяметта? Фифи Ба-Рен? – осведомилась Джина, подоспевшая на помощь своему возлюбленному, взятому в плен куртизанкой.
– Мадемуазель Аллар к вашим услугам. Не бойтесь, я здесь только ради того, чтобы изучить анатомию вашего зятя, дорогая мадам. У него прелестные ягодицы, вы не находите?
Таша, стоявшая в нескольких метрах от них в окружении поклонников, не упустила ни слова из этого разговора. Ее скромное темное платье подчеркивало буйство рыжего цвета волос и резко контрастировало с пышным нарядом Эдокси Аллар, которую Таша предпочла проигнорировать. К художнице подошла сухонькая седая женщина и преподнесла ей синий шарф с рисунком – горшочком конфитюра:
– Это подарок для вашего супруга, очень симпатичного человека. Я соседка месье Ботье по набережной Вольтера. Меня зовут Северина Бомон. Шарф я сама связала!
Немного растерянная Таша кивнула в знак благодарности. Сколько семейных неприятностей принесла ей эта криминальная история под кодовым названием «Амадей»! Она без устали упрекала мужа в том, что он нарушил клятву не заниматься расследованиями, в том, что опять рисковал собой и поставил под угрозу жизнь жены и дочери, в том, что лгал ей и изворачивался. Виктор лишь опускал голову и бродил по дому с видом побитой собаки, бормоча извинения. Но Таша знала, что он ничуть не раскаивается и снова возьмется за свое при первой возможности – его манит запах опасности и тайны.
Сейчас, в галерее, Виктор издалека наблюдал за Таша. В душе его царил непривычный покой, он испытывал гордость за жену, восхищался ее успехом, упорством и энергией. «Вокруг нее толпа мужчин, а я ни капельки не ревную, – отметил он с удивлением. – Таша, моя жена, – талантливая художница. И я ее люблю».
В этот момент Матильда де Флавиньоль вознамерилась поделиться с ним своим беспокойством по поводу Эмиля Золя, чье дело недавно начал рассматривать суд присяжных Сены. Преодолевая робость, она отвела Виктора в сторонку и воспользовалась темой разговора, чтобы придвинуться к нему как можно ближе и жарко зашептать на ухо:
– Мне ужасно хотелось попасть в зал суда, но ничего не вышло – народу было не протолкнуться! В газетах пишут, что толпа прорвала оцепление из республиканской гвардии и заполнила ряды до потолка! Когда пришел Золя, ползала встретили его аплодисментами, ползала освистали. Подумайте только – такая знаменитость, отданная на поругание толпе, которая выкрикивает в его адрес угрозы и оскорбления, и это в самом центре Парижа – какой скандал! У него, конечно, достойнейшие защитники – мэтр Лабори и Альбер Клемансо, да и сам Жорж Клемансо лично оказывает покровительство «Авроре», но я весьма опасаюсь, что это позорное судилище окончится обвинительным приговором. Знаете, что сказал Золя? «Однажды Франция поблагодарит меня за то, что я помог спасти ее честь». И он прав!
Виктор кивнул и осторожно отстранился:
– Простите, мне нужно поприветствовать знакомых. – Он направился к вошедшим в галерею Ангеле Фруэн и Гаэтану Ларю.
– Вот если бы мне сразу поверили, скольких несчастий можно было бы избежать, правда, месье Легри? Страшно вспомнить, что мне пришлось пережить! Упала в обморок среди фликов, а очнулась уже в больнице! И мне еще повезло, что я была в палате под присмотром, когда убили девушку на птичьем рынке, не то полиция обвинила бы меня в пяти убийствах! И знаете что, месье Легри? Какой-то благодетель, не назвавший своего имени, оставил для меня в «Божьем приюте» три тысячи франков! Представляете себе? Я должна была бы четыре года починять матрасы, чтобы заработать такую сумму! А теперь мы с моим женихом и с детишками купим дом в деревне и будем выращивать фрукты – вот уж найдется занятие для Гаэтана, он ведь без деревьев и жизни не мыслит!
Гаэтан Ларю степенно покивал.
Фердинан Питель появился в галерее под руку с новой пассией – торговкой сыром, хорошенькой курчавой девушкой с осиной талией. Молодой сапожник даже не притворялся, что скорбит по тетушке, – он испытывал лишь огромное облегчение, освободившись наконец от ненавистной родственной опеки. Ему предстояло унаследовать недвижимость Аделины, стать владельцем четырехкомнатной квартиры и человеком, никому не подотчетным в своих поступках.
Не прошло незамеченным эффектное прибытие Хельги Беккер на автомобиле фирмы Жоржа Ришара. Перед тем как войти в галерею, она прочитала вышедшим на воздух гостям пространную лекцию о достоинствах нового двигателя и рассыпалась в похвалах австрийцу, по проекту которого в Вене построили метрополитен раньше, чем в Париже.
– А вы читали «Разгром»
[971] Поля и Виктора Маргеритов? – раздался медоточивый голос Рафаэллы Гувелин, которая вопреки обыкновению на сей раз оставила собак дома. – В этом романе с протрясающей достоверностью говорится о войне семидесятого года. После такого трудно восхищаться пруссаками, австрияками и tutti quanti
[972]…
– Не читала и не собираюсь, – фыркнула Хельга Беккер. – Зато я не могла оторваться от «Собора» Гюисманса, его слог вызывает душевный подъем.
Виктор отошел к группе букинистов, слушавших эмоциональное выступление Люка Лефлоика.
– Подумайте только, на распродаже собрания книг библиофила Пиа поддельный автограф Мольера ушел с молотка за двадцать франков! И они еще имели наглость обозначить его в каталоге как «Предположительный автограф Жан-Батиста Поклена»! А пять лет назад он и вовсе стоил две тысячи восемьсот! – возмущался букинист.
Фюльбер Ботье отвел Виктора в сторонку. Крестный Жозефа хмурился, он словно постарел на десяток лет за последний месяц.
– Я рад, что вы уладили дело с полицией, помирились с семьей и что ваша жена снискала успех. А грущу, потому что мне не дает покоя история с убийствами – трупы, конфитюры… от этого с ума сойти можно. Но самое ужасное – я скучаю по Муазану, недостает мне наших перебранок… Какая ужасная смерть! Характер у него был, конечно, не ангельский, но несчастный Тиролец такого не заслужил! И его труп – в моем ящике!.. Участок Муазана выставили на продажу. Надеюсь, мой новый сосед окажется таким же приятным господином, как Рауль Перо…
Упомянутый бывший комиссар помахал им издалека и шмыгнул в галерею. Намеки Огюстена Вальми на то, что ему могут не продлить букинистическую лицензию, Рауль Перо воспринял как угрозу и решил держаться тише воды, ниже травы. Быть простым букинистом, вести скромную жизнь в компании черепахи по имени Камиль – большего он не желал. Заметив Жозефа, месье Перо сделал вид, что погружен в созерцание картины, на которой была изображена ярмарочная карусель с лошадками, уносившими по кругу
смеющихся парней и девушек.
– Всего одна неделя, матушка, это же не пожизненная каторга! – тихо втолковывал Жозеф Эфросинье.
– Мы будем вам так благодарны! – поддакивала Айрис, прижимая к сердцу дамскую сумочку, в которой лежала ее драгоценная тетрадка сказок. Она уже предвкушала, как преподнесет эту тетрадку мужу на берегу Темзы.
– А если малявки заболеют? А еще какое несчастье приключится? Тяжек мой крест, а вы на меня вдобавок такую непосильную ношу взвалить хотите, а? – сердито пыхтела Эфросинья.
– Мы вам полностью доверяем, вы способны решить любую проблему! – заверила Айрис. – И потом, в квартире же есть телефон – в любой момент можно позвонить Кэндзи, Джине, Виктору, Таша…
Тут уж Эфросинья раздулась от гордости: это точно, она способна, ух как способна! И охнула от боли – ей на ногу наступил кто-то в здоровенном тяжелом ботинке. Гаэтан Ларю тотчас принялся извиняться.
– Бедные мои мозоли!.. Да ладно уж, ладно, – проворчала Эфросинья, – похромаю недельку, в довершение всех бед, но ведь не помру!
– Матушка, так что же? Можно нам съездить в Лондон? – нетерпеливо напомнил о себе Жозеф.
– Ах беда-огорчение! Ты мне совсем голову заморочил! Езжайте, плывите, бросайте меня одну, такова уж моя скорбная доля – быть одинокой и всеми покинутой. Я ваших малявок в приют сдам!
– Матушка!
– Шучу-шучу, как-нибудь управлюсь с ними без чужой помощи. Отправляйтесь в свой Лондон, отдыхайте, развлекайтесь. А будете проходить мимо Тауэра – помолитесь за детишек короля Эдуарда.
– За детишек Эдуарда? – обалдел Жозеф. – Ты знаешь эту историю, матушка?
– Что ж я, невежда какая, что ли? Твой папочка Габен был поклонником Казимира Делавиня
[973], он прочитал мне его пьесу и сказал, что в ней описаны доподлинные события, а потом повел меня в Лувр, и мы там видели картину, на которой маленьких принцев душит их зловредный дядя Ричард Третий
[974]. Говорят, призраки бедняжек до сих пор бродят по Тауэру в ночь полнолуния.
– Здорово! Непременно упомяну парочку призраков в новом романе-фельетоне! Это будет фантастическое повествование о человеке в коричневых башмаках, который наделен даром вечной жизни!
– Вот уж не позавидую я твоему бессмертному, особенно если у него есть мозоли!
Эпилог
Пятница, 5 декабря 1958 года
Мясная лавка, торговавшая кониной, находилась посередине улицы Лепик. Попасть туда можно было, протолкавшись между лотками зеленщиков, среди деловитых домохозяек, гомонящей малышни и хорошеньких девушек, не упускавших ни одного восхищенного взгляда со стороны завсегдатаев соседнего бистро.
Неподалеку во все горло орал газетчик:
– Читайте «Либерасьон»! Новый лозунг Ги Молле
[975]: «Де Голль с нами!»
В лавке проворные руки рассыпали свежие опилки по плиточному полу и взялись за мясницкие ножницы. Прозвучал хриплый голос:
– Миуми! Миумину, сладенький мой! Иди кушать!
Толстуха в синем фартуке с зеленым отливом сдула со лба черную, ровно подрезанную челку и, пощелкав ножницами в воздухе, принялась нарезать тонкими полосками конское сердце, темное, фиолетово-багровое. Кусочки мяса, дряблые и ноздреватые от кровеносных сосудов, полетели в глубокую тарелку.
– Ну где этот пузатик болтается? Обед уж готов, – проворчала женщина.
В лавку вошла еще одна, как две капли воды похожая на первую, только фартук у нее был бутылочно-зеленый, а под мышкой торчал багет.
– Джеки, ты не видала Миуми?
– Нет, Сюзи, не видала, но могу поспорить, он дрыхнет в гостиной.
Вторая толстуха поднялась на жилой этаж, сестра услышала, как она двигает в гостиной мебель, и через секунду по ступенькам скатился плюшевый дымчато-серый шар. Шар превратился в упитанного котяру, который нехотя поплелся к тарелке, поставленной на пол у прилавка. На прилавке красовался здоровенный кассовый аппарат.
– Ну-ка, кто это у нас так сладко облизывается? Это же наш маленький Миумину, ты ж мой пупсичек! – засюсюкала Сюзи, наклоняясь над домашним любимцем. Короткая плиссированная юбка задралась, явив миру ляжки, которым позавидовала бы Венера Каллипига из неаполитанского музея.
– Э, капот опусти, а то весь мотор наружу! – захохотала Джеки, спустившаяся в лавку.
– Ну же, Миуми, не криви мордочку! – не отставала от кота Сюзи. – Что ты носик воротишь?
Грипмино с отвращением покосился на еду. И ради этого стоило прожить несколько столетий? Чего ему только не довелось отведать на своем веку: запеченных паштетов и мышей, пойманных на сеновале, жареных цыплят и похлебки из каштанов… Но эта резиновая мерзость в тарелке под названием «рагу», прилипающая к клыкам, была совершенно несъедобна!
Вот она, расплата за воровство! Черт его дернул слизнуть последние капли вечной жизни из хрустального флакона, забытого на геридоне! Ах, как же он скучал по своему доброму хозяину Эмэ Тоару по прозвищу Амадей, который холодным зимним вечером 1898 года вероломно оставил его на попечение консьержки, а сам ушел и больше не вернулся! Шесть десятилетий истекли с тех пор, Грипмино за это время сменил множество дурацких имен: Кики, Ноно, Гага, Туки, Мике, Рибульдинг, сокращенно Динго, натерпелся от людей, странствовал из дома в дом и наконец оказался у сестер Мартен на улице Лепик. Он устал, его изнурили годы войны, оккупации, бродяжничества и долгие, бесконечно долгие дни.
– Ну посмотри, какое вкусненькое рагу, кушай скорее, пупсичек!
Грипмино ничего не оставалось, как сдаться и заставить себя проглотить кусочек. Да уж, шикарная штука – вечная жизнь!
Послесловие
Приглашаем вас на ретроспективное кинообозрение 1898 года, который только что начался для героев романа. Мы приготовили вам немало сюрпризов. Итак, вот что происходит месяц за месяцем…
Париж – огромная стройплощадка. Скотобойни Вильжюифа и Гренеля предназначены к закрытию, их заменят скотобойни в Вожираре
[976]. Повсюду котлованы и строительные леса. Что-то сносят, что-то возводят – пора готовиться ко Всемирной выставке 1900 года. Ремонтируется и модернизируется Лионский вокзал, расширяются и достраиваются вокзалы Восточный и Монпарнасский. На левом берегу заканчивается закладка будущего моста Александра Третьего. Железнодорожные линии из Со, Орлеана и Мулино скоро дотянутся до Дома инвалидов, чтобы в будущем облегчить жизнь Монпарнасскому вокзалу и вокзалу Сен-Лазар, куда нахлынут тысячи пассажиров. На строительстве Большого дворца
[977] занято почти полторы тысячи рабочих. Орлеанский вокзал растет не по дням, а по часам на месте разрушенной Счетной палаты. В мае сотни зевак толпятся на авеню Сюффрена, глазея, как монтируется один из лучших аттракционов будущей выставки – колесо обозрения.
Январь
Истинного автора бордеро, на основании которого капитан Дрейфус был обвинен в государственной измене, – майора Эстерхази, разоблаченного братом капитана, месье Матьё Дрейфусом
[978], – единогласно оправдал военный суд в Париже
11-го числа.
13-го Эмиль Золя, уже написавший «Письмо Франции» в поддержку капитана Дрейфуса, опубликовал в «Авроре» под заголовком «Я обвиняю!..» «письмо президенту Республики». Власти приняли решение о судебном преследовании романиста.
Подполковник Пикар, обвиненный во время процесса над Эстерхази в передаче третьим лицам секретных документов военного министерства, был арестован и заключен в крепость, где оставался до начала заседания трибунала.
17-го в Париже, в «Тиволи-Вокс-Холл», начался масштабный митинг, посвященный делу Дрейфуса. Обсуждение не состоялось – вспыхнули перебранки, дошло до рукоприкладства, и манифестанты, скандировавшие «Да здравствует армия! Долой Золя!», были разогнаны жандармерией. В течение нескольких дней город бурлил митингами, в которых участвовали студенты и самые разные группы населения, в том числе вооруженные дубинками рабочие скотобоен Ла-Виллетт. Волна антисемитизма прокатилась по всей Франции, толпы людей носились по улицам с воплями: «Смерть жидам! Смерть Золя! Смерть Дрейфусу!» В Нанте, Нанси, Ренне, Бордо, Мулене, Монпелье, Ангулеме, Туре, Пуатье, Тулузе, Анжере, Руане, Сен-Мало, Марселе, Эпинале, Бар-ле-Дюке, Дижоне, Шалоне антисемитская истерия достигла пика. Повсюду громили, грабили, жгли торговые лавки, принадлежавшие евреям, пытались захватывать синагоги. И повсюду звучали крики ненависти. «В Париже шли церковные службы, на которых священники призывали паству продолжать священную войну против народа-богоубийцы»
[979].
20 января Эмиля Золя и владельца газеты «Аврора» месье Перре по требованию военного министра обязали предстать перед судом присяжных Сены 7 февраля. Основанием для возбуждения дела послужили следующие строчки, опубликованные «Авророй»:
Военный суд, руководствуясь приказом, на днях посмел оправдать Эстерхази, что является величайшим попранием истины. И ничего уже не исправить – на лике Франции так и останется позорное пятно, а историки напишут, что сие вопиющее общественное преступление совершено в годы вашего президенства. <…> я обвиняю второй военный суд в сокрытии этого беззакония.
22-го и
23-го бурные антисемитские выступления всколыхнули город Алжир. Разгромлено множество магазинов, чьи хозяева – евреи. Есть убитые и сотни раненых. Погромщиков возглавил подстрекатель по имени Макс Режис, призывавший «оросить древо Свободы еврейской кровью».
Было подсчитано – и не смеха ради, а ввиду постоянной угрозы войны, – что если солдат нескольких европейских держав, находящихся в данное время на службе в армии, выстроить в четыре шеренги, вся колонна вытянется в длину на 40 000 км. Учитывая, что расходы на содержание вооруженных сил обходились Европе в 14 000 000 франков в день, неудивительно, что власти были так озабочены поиском новых источников финансирования. Армия, подобно Хроносу, пожирающему своих детей, постоянно требует новых жертв в мундирах, и если в 1860 году рост пехотинца по уставу должен был составлять не менее 160 см для его принятия в воинские ряды, то к концу XIX века планка снизилась до 1 м 54 см. Такой же рост – стандартное требование в Германии, тогда как в 1893 году для немцев был установлен минимум 1 м 65 см. То же самое происходило и в других странах: 1 м 55 см в Италии, 1 м 65 см в Англии, 1 м 54 см в России, 1 м 55 см в Швейцарии, 1 м 60 см в Норвегии, 1 м 56 см в Голландии и 1 м 61 см в Соединенных Штатах.
На протяжении января чума продолжает опустошать Индию. Зарегистрировано 129 новых случаев заболевания, 111 со смертельным исходом. В больницах 717 зараженных. Крысы дохнут без счета.
Февраль
7-го числа началось заседание суда присяжных Сены по делу Эмиля Золя, обвиненного в клевете на военный трибунал, который оправдал майора Эстерхази. Процессу предшествовало ходатайство интеллектуалов о пересмотре дела Дрейфуса, сам процесс вызвал бурную реакцию не только во Франции, но и за границей, а также жаркие баталии в прессе, во Дворце правосудия и на улицах.
На Кубе, оставшейся одной из последних испанских колоний, взбунтовались коренные жители. С целью пресечь беспорядки испанский генерал Вейлер отдал приказ согнать гражданское население в концентрационные лагеря. Это новшество вызвало живейшее возмущение в Соединенных Штатах, и бульварные газеты, принадлежавшие Джозефу Пулитцеру и Уильяму Рэндолфу Хёрсту, активно подогревали общественное мнение. В итоге броненосец «Мейн» был отправлен на помощь Гаване.
15-го числа на его борту прогремел взрыв, корабль вмиг охватило пламя, и он затонул; 253 члена экипажа и двое офицеров погибли, 115 человек получили травмы. Эта катастрофа спровоцировала бурю эмоций в США и рост враждебных настроений по отношению к Испании. Особой комиссии было поручено расследовать причины взрыва и найти виновных.
В Париже Каран д’Аш и Форен, признанные лучшими современными карикатуристами, берутся за выпуск нового еженедельника. Он выходит под названием «Цыц!» и тотчас бросается во всеобщую социально-политическую свару, «дабы явить миру истину», то есть подноготную процесса генерального штаба против Дрейфуса. Это газетка, состоящая из четырех полос. Форену, занимающемуся оформлением первой полосы, порой отказывает чувство вкуса; к примеру, в выпуске от 10 июня под заголовком «Истина, всплывающая наружу» изображен вылезающий из дыры в сортире Золя с маленьким Дрейфусом на руках. В ответ на это предприятие в газетных киосках появляется «Свисток» – его издают А. Штенс и художник А.-Г. Ибель. Общий тон «Свистка» менее язвителен и резок, чем у «Цыц!», он осторожно атакует противников пересмотра дела Дрейфуса, в основном армейских офицеров и прежде всего Эстерхази.
23-го числа после непрекращающихся споров и пятнадцати заседаний присяжные Сены признали Эмиля Золя и месье Перре виновными в клевете на военный суд без смягчающих обстоятельств. Первый был приговорен к году тюрьмы и выплате 3 000 франков штрафа, второй – к четырем месяцам тюрьмы и выплате той же суммы.
Март
6-го числа полицейские впервые вызвали «скорую помощь» по телефонной связи, позвонив с аппарата, установленного на улице Танду в XIX округе Парижа. Врач срочно требовался человеку, раненному ножом.
Технический прогресс не останавливается. Один голландец изобрел приспособление для борьбы с фальсификацией выборов. Это был небольшой квадратный, герметически закрытый ящик, на одной из стенок которого крепились электрические лампочки – каждая соответствовала кому-то из кандидатов.
21 марта вспыхнули волнения в Алжире из-за ареста месье Макса Режиса, редактора газеты «Антисемит». 20 ноября его избрали мэром города 36-ю голосами из 37.
22-го «Официальный вестник» опубликовал закон от 19 марта, объявлявший Подветренные острова Таити частью французских колониальных владений.
27-го на основании конвенции, подписанной в Пекине, китайские власти передали России в аренду Порт-Артур и Даляньвань с прилегающими территориями.
Миссия, финансируемая французским правительством и Лионской торговой палатой, изучила культуру, производство и условия работы в разных провинциях Китая, чтобы Франция могла вступить в борьбу за земли разваливающейся Срединной империи наравне с Германией, Великобританией, Россией и Америкой.
28-го президент Мак-Кинли выступил в Конгрессе США с отчетом о работе комиссии, расследовавшей гибель «Мейна». Комиссия установила, что броненосец затонул в результате взрыва подводной мины у носовой части.
Мало того что врачи грозили любителям велосипедных прогулок искривлением позвоночника (этой форме распространенного недуга даже дали особое название: kyphosis byciclistorum), так англичанин доктор Стюарт поставил «железному коню» в вину еще и пагубное влияние на обонятельный аппарат «наездника», проявляющееся в виде обычного ринита. Он утверждал, что для придаточных назальных пазух чрезвычайно вредно быстрое попадание в ноздри воздуха и пыли, которую велосипедист поднимает при езде.
А доктор Лесли, член Бостонской академии, заявил, что лицевую, ушную, зубную невралгии и мигрень можно вылечить введением в ноздри раствора обыкновенной поваренной соли с помощью пульверизатора или путем вдыхания.
Памятник Полю Верлену в Люксембургском саду так и не был установлен – против этого дружно выступили парламентские квесторы и добились своего.
Апрель
2-го числа кассационный суд отменил приговор суда присяжных по делу Эмиля Золя и заявил, что передача дела на новое рассмотрение в какой бы то ни было другой суд присяжных категорически исключается.
5-го числа в Англии мистер Бальфур, представитель лорда Солсбери, сделал в палате общин доклад о политике правительства на Дальнем Востоке и сообщил, что Великобритания получила Вэйхайвэй на тех же условиях, на каких России был предоставлен Порт-Артур.
8-го числа трибунал, оправдавший майора Эстерхази, собрался в Париже по требованию военного министра после аннулирования кассационным судом приговора Эмилю Золя. Было решено начать новый процесс над писателем в суде присяжных.
14-го числа объявлено о том, что китайское правительство отдает Франции в аренду залив Гуанчжоу и предоставляет ей концессию на строительство железной дороги на участке Тонкин – Юннаньфу.
19-го в США закончились дебаты в сенате и палате представителей по поводу текста совместной резолюции. Вынесено постановление, что Куба должна стать независимым государством, правительству Соединенных Штатов надлежит потребовать немедленного отказа Испании от своих полномочий на острове, президент вправе использовать сухопутные войска и флот для выполнения этой резолюции и что по завершении миротворческой миссии власть над островом будет передана кубинскому народу.
22-го президент Мак-Кинли объявил о блокаде Кубы. Первым эпизодом войны стал захват военными кораблями США испанского парохода «Буэнавентура».
25-го президент Мак-Кинли направил в Конгресс послание на тему официального объявления войны Испании. Согласно принятой Конгрессом резолюции, состояние войны существует с 21 апреля и президент наделен полномочиями использовать все силы армии и флота.
28-го американская эскадра начинает бомбардировку Кубы.
29-го местное население Сьерра-Леоне восстает против англичан из-за чрезмерного налога на масло.
30-го официально объявлено об эпидемии чумы в Калькутте.
В Париже светским львицам наскучили украшения из живых черепашек – отныне они отдают предпочтение дохлым паукам. Теперь модно носить по кольцу на каждом пальце левой руки. К каждому кольцу на золотой цепочке крепится медальон с засушенным пауком в окружении жемчужин.
Май
1 мая на Филиппинах американская эскадра коммодора Дьюи разгромила испанцев в Манильской бухте и захватила арсенал Кавите.
2-го в Мадриде объявлено чрезвычайное положение – известие о событиях в Маниле вызвало у испанских властей серьезное беспокойство.
3-го во Франции во избежание повышения цены на хлеб особым указом отменены ввозные пошлины на зерно с 4 мая до 1 июля. В Италии волнения, вызванные подорожанием хлеба, подавлены силовым путем, новые мятежи вспыхивают в разных регионах.
4-го числа те же события по той же причине начинаются в Испании – хлебные бунты разгораются в Агиларе, Талавера-де-ла-Рейна, Гихоне и др. Чрезвычайное положение объявлено в провинциях Валенсия и Овьедо. В Италии
6 мая восстания охватывают Ливорно, Павию, Прато и др. и принимают угрожающий характер, особенно в Милане, где тоже введено чрезвычайное положение.
7-го мятежники строят баррикады, идут стычки на улицах, гремят ружейные и пушечные залпы, среди восставших множество раненых, 80 человек убиты.
9-го два поезда Восточной железной дороги столкнулись межде Шомоном и Лангром в туннеле Поммере. Трое погибших, огромное число пострадавших.
В Париже скоро заработает колокольня Сен-Жермен-л’Осеруа. Тридцать восемь колоколов будут вызванивать «Тюреннский марш» Люлли, по мотивам которого Бизе написал знаменитый марш королей для оперы «Арлезианка».
11-го в Пуэрто-Рико американская эскадра под командованием контр-адмирала Сэмпсона бомбардирует Сан-Хуан. Американские корабли обстреляли Карденас, но попытка высадки десанта не удалась. Еще четыре военных корабля бомбардируют Сьенфуэгос на Кубе.
23-го мая вызванный в суд Эмиль Золя предстал перед присяжными Версаля, но воспользовался правом подать апелляцию. Впоследствии судебное разбирательство так и не состоится.
Июнь
7-го в Ирландии начались беспорядки в Белфасте. Оранжисты атаковали полицию, ранены 103 стража порядка.
9-го Великобритания получила в аренду на 99 лет территорию напротив Гонконга.
11-го американские войска высадились на Кубе, в Гуантанамо.
14-го в Париже подписано англо-французское соглашение о разделе Западной Африки. Окончательно установленная граница пройдет к западу от Нигера между английскими колониями Золотой Берег и Лагос и французскими Кот-д’Ивуар, Судан и Дагомея, а к востоку – между землями Сокото и Борну, находящимися в зоне английского влияния, и французскими владениями в Сахаре.
15-го в саду Тюильри открывается «Автомобильная выставка». Она будет принимать посетителей на площади 6 000 кв. м под тентами в течение двух недель и через несколько лет получит название «Автосалон». В газетах об этом почти не пишут, но успех у выставки колоссальный: не успели учредители разрезать ленточку, к машинам хлынула толпа любопытствующих. Среди энтузиастов автомобильного дела были замечены генералы, послы, писатели, принцы, банкиры и месье Феликс Фор собственной персоной, провозгласивший: «Да здравствует прогресс!» Однако его мнение разделяют не все. Жюль Кларти напишет в газете «Время»: «Раньше в Париже был один перекресток Дез-Экразе – перекресток Раздавленных. Сейчас их десятки и сотни. Машины давят людей повсюду».
23-го еще сильнее осложнилась ситуация для испанцев в Маниле: они окружены двадцатью пятью тысячами восставших. Вождь борцов за свободу Агинальдо вынудил испанского генерала Аугустина сдаться. Большинство испанских воинских подразделений на острове Лусон захвачены в плен.
По статистике, количество людей, проживших более ста лет, во Франции составляет 243 из 39 000 000 населения, тогда как в Болгарии – 1 883. Напрашивается вывод о том, что научный прогресс не так уж способствует продлению человеческой жизни.
Июль
4-го числа после столкновения с английским парусником «Кромартишир» французский трансатлантический лайнер «Бургундия» затонул в густом тумане в 60 милях от острова Сейбл. Из 832 пассажиров и членов экипажа погибли 565.
Две парижские железнодорожные компании проводят испытание нового аппарата: с его помощью контролер быстро и легко продает билеты. Эксперимент дал блестящие результаты.
6-го президент Мак-Кинли подписал резолюцию, согласно которой Гавайские острова аннексированы Соединенными Штатами.
7-го месье Кастелен подал парламентский запрос по делу Дрейфуса. Месье Кавеньяк, военный министр, на основании нескольких документов подтвердил виновность разжалованного капитана. В палате депутатов 545 голосов было отдано за обнародование его речи.
10-го состоялось открытие мраморного памятника Леконту де Лилю в Люксембургском саду, 14-го числа – бронзовой статуи Франсиса Гарнье, покорителя Тонкина, на площади Обсерватории. Обе скульптуры создал Дени Пюэк.
17-го генерал Торраль подписал капитуляцию в Сантьяго-де-Куба с условием, что все испанские войска будут переправлены в Испанию.
18-го месье Эмиль Золя предстал перед судом присяжных Версаля. В ходе заседания он заявил, что отказывается от дальнейшего участия в судебных слушаниях, и удалился. Суд присяжных приговорил его к году тюрьмы и 3 000 франков штрафа.
26-го американцы начали военную операцию по высадке в Пуэрто-Рико, чью территорию они собирались захватить.
В интервью «Нью-Йорк геральд трибьюн» Томас Алва Эдисон рассказал о своем изобретении специального кабеля: если его проложить вокруг осажденного города, каждый, кто попытается оттуда выйти, погибнет.
Австрийский школьный учитель придумал
телефот , или видеотелефон, который позволит видеть собеседника, находящегося на другом конце провода.
Август
13-го Манила сдалась под бомбардировками. Генерал Аугустин, командующий испанскими силами на Филиппинах, покинул город на немецком корабле, чтобы не подписывать капитуляцию.
16-го закончена прокладка нового трансатлантического кабеля между Францией и Соединенными Штатами (Брест – Кейп-Код). Президенты Фор и Мак-Кинли торжественно открыли телеграфное сообщение, обменявшись поздравительными посланиями.
30-го числа арестован подполковник Анри, начальник разведывательной службы военного министерства, признавшийся в подделке письма, датированного октябрем 1896 года и позволившего «доказать вину» капитана Дрейфуса. По приказу военного министра, месье Кавеньяка, подполковник Анри был заключен в тюрьму Мон-Валерьен, где
31-го числа покончил с собой, перерезав горло бритвой.
Сентябрь
2-го числа, после самоубийства подполковника Анри, генерал Лемутон де Буадефр подал в отставку.
3-го месье Кавеньяк, несогласный с большинством членов Совета по пересмотру дела Дрейфуса, сложил с себя полномочия.
9-го в Западной Африке французский лейтенант Вельфель, командующий суданскими стрелками, атаковал софов, предпринявших попытку переправиться через реку Кавалли, отбросил их к болотистому рукаву и после шестичасового боя обратил в бегство.
10-го императрица Елизавета Австрийская, известная как Сисси, смертельно ранена в Женеве анархистом Луккени. Ей было шестьдесят один год.
14-го в Париже бастуют землекопы, требующие у работодателей повышения жалованья.
19-го герцог Филипп Орлеанский бросил вызов кабинету министров, возглавляемому Бриссоном, из-за пересмотра дела Дрейфуса. Его манифест заканчивался словами: «Предпринята попытка уничтожить армию. Мы этого не позволим».
Сентябрь выдался жаркий – столбик термометра каждый день поднимается выше отметки 30 °C. В Ландах бушуют пожары. Начинается извержение Везувия. Потоки лавы угрожают окрестным населенным пунктам. Фуникулер не работает.
Страшные события происходят в Кандии на Кипре. Толпа мусульман попыталась ворваться в контору по сбору налогов и была разогнана ружейными выстрелами английских солдат. Тогда мусульмане сами взялись за оружие, атаковали британский отряд и устроили поджоги и резню в христианском квартале – были убиты около 400 человек.
В июле 1896 года французское правительство организовало небольшой военный поход из Габона к верховьям Нила с целью укрепиться там раньше британцев. Возглавил отряд капитан Маршан. После двухлетнего марша по неисследованным территориям он в июле 1898 года добрался до Фашоды, возвел там малый форт и установил французский протекторат над окрестными землями. Из Хартума в Фашоду выдвинулся генерал Китченер, английская пресса писала, что Фашода – часть египетского Судана и что права на нее принадлежат британцам. Комендант форта Маршан отказался отступить без приказа правительства. Между двумя державами возникло напряжение, с обеих сторон начались приготовления к войне. Однако французские власти, отдававшие себе отчет, что вооруженный конфликт с Великобританией без внешней поддержки рискует закончиться не в их пользу, уступили. Комендант Маршан и его отряд 11 декабря покинули Фашоду. Форт сейчас же заняли египетские военные, французские знамена сменились египетскими и британскими.
25 сентября в Гревиле на Ла-Манше состоялось торжественное открытие памятника художнику Франсуа Милле работы скульптора Марселя Жака.
Острова Барбадос, Сент-Винсент, Тринидад, Санта-Лючия опустошены ураганом, насчитывается огромное число погибших.
Октябрь
1 октября в Париже в министерстве иностранных дел прошло совещание на тему возможного посредничества в испано-американском конфликте. Благодаря вмешательству Франции этой войне был положен конец 10-го числа. Испания предоставила Кубе независимость и уступила Соединенным Штатам Пуэрто-Рико и остров Гуам в Тихом океане, а также Филиппины, получив компенсацию 20 000 000 долларов. Американский сенат одобрил условия мирного договора. Но на Филиппинских островах вспыхнул мятеж против новых колонизаторов. Чтобы покончить с герильей, американцам потребовались 70 000 солдат и система концентрационных лагерей по образцу той, что ввели испанцы на Кубе.
Независимое кубинское правительство отказало США в праве вмешиваться во внутренние дела острова и в размещении на его территории военно-морских баз.
2 октября в Париже рабочие строительных специальностей объединились с землекопами и условились о незамедлительном начале стачки.
5-го числа забастовщики уже устраивали беспорядки на улицах и стройплощадках. Правительство бросило на подавление мятежа внушительные воинские силы, в том числе части, расквартированные в провинции.
13-го землекопы прекратили бастовать – благодаря вмешательству муниципального совета Парижа они добились выполнения своего требования: повышения жалованья. Однако административный совет профсоюза Герара объявил о прекращении работы железнодорожных служащих и призвал ко всеобщей забастовке. Власти взяли вокзалы в армейское оцепление, и стачка не состоялась.
17-го последние испанские воинские подразделения покинули Пуэрто-Рико.
28-го бродяга Ваше, убивший дюжину человек, был приговорен к смертной казни судом присяжных департамента Эн.
29-го уголовная палата кассационного суда по запросу о пересмотре дела Дрейфуса постановила провести дополнительное расследование без приостановления действия приговора.
Ноябрь
2-го числа состоялась встреча Теодора Герцля с кайзером Вильгельмом II в Иерусалиме.
Декабрь
В сборниках рецептов и методов самолечения появляется такой совет для тех, кто борется с облысением: в 1,5 литра дистиллированной кипящей воды добавить 15 г листьев лавровишни, 15 г сульфата цинка и 5 г сульфата меди, отфильтровать, утром и вечером втирать в кожу головы полученный охлажденный лосьон. Результат воздействия этого снадобья неизвестен, однако можно опасаться неприятных последствий применения сульфатов цинка и меди…
Бронзовая статуя доктора Шарко работы скульптора Фальгьера установлена в больнице «Сальпетриер».
Снесена тюрьма Святой Пелагеи (улица Кле, дом 56). Раньше в ней отбывали заключение девицы, непокорные родительской воле, и должники.
На Апеннинской улице обрушился шестиэтажный дом (XVII округ). Погибли 20 рабочих. Репортер «Пти журналь» задается вопросом: «Что бы об этом сказали средневековые архитекторы, тратившие по полвека на возведение своих зданий, которые, как можно заметить, до сих пор целы и невредимы?»
Английский журнал подсчитал периоды, в течение которых каждая из европейских держав находилась в состоянии войны за истекшие девяносто восемь лет XIX века: Турция – 39 лет, Испания – 32 года, Франция – 27 лет, Россия – 24 года, Великобритания – 21 год, Италия – 18 лет, Германия (без учета Пруссии) – 14 лет, Швеция – 10 лет, Дания – 9 лет.
Этот список не помешал армии ее августейшего величества
[980] применить в Индии пули «дум-дум». Их название происходит от названия пригорода Калькутты, где находилась оружейная мануфактура. Англичане ловко обошли запрет Женевской конвенции на использование разрывных снарядов крупнее определенного калибра. Рассудив, что пуля малого калибра наносит человеческому организму лишь незначительный ущерб, они придумали особую пулю: свинцовая начинка в тонкой никелевой полуооболочке. Ударная сила выстрела разрывала оболочку с нарезкой, в результате «дум-дум» застревала в мягких тканях и ломала кости, вместо того чтобы «прошить» их насквозь. Пули прошли официальные испытания на приграничных афганских племенах и удостоились наивысших похвал в рапортах офицеров императрице Индии.
А теперь наша рубрика некрологов, представленная Швейцарской компанией всеобщего страхования. В 1898 году нас покинули следующие знаменитости:
Отто Эдуард Леопольд, князь фон Бисмарк-Шёнхаузен, герцог фон Лауэнбург, прусский государственный деятель;
Шарль Гарнье, архитектор дворца Парижской оперы;
Льюис Кэрролл (Ч.-Л. Доджсон), английский диакон и писатель;
Эмиль Ришбур, названный Жюлем Кларти «спасителем всенародной газеты», романист-фельетонист;
Жюль Эмиль Пеан, французский хирург, член Медицинской академии, автор многочисленных трудов по медицине;
Обри Бердслей, английский художник, снискавший большую известность своими иллюстрациями и смелыми исканиями в прикладных искусствах;
Гюстав Моро, французский художник;
Эжен-Луи Буден, французский художник;
Пьер Пюви де Шаванн, французский художник и гравер;
Эдвард Бёрн-Джонс, английский художник;
Уильям Юарт Гладстон, премьер-министр Великобритании;
Стефан Малларме, французский поэт;
Елизавета фон Виттельсбах, она же Сисси, императрица Австро-Венгрии.
Компания «Детские рожки Робера» имеет честь сообщить вам о рождении в том же году
Йориса Ивенса, голландского кинорежиссера;
Рудольфа Мате, польского кинорежиссера;
Сергея Эйзенштейна, русского кинорежиссера;
Бертольта Брехта, немецкого драматурга;
Ганса Эйслера, немецкого композитора;
Лотте Ленья, австрийской певицы и актрисы;
Жозефа Кесселя, французского писателя;
Тото, актера итальянского кинематографа;
Энцо Феррари, конструктора автомобилей;
Генри Хэтэуэя, американского кинематографиста;
Ирины Арсеньевой, секретаря поэта Владимира Маяковского;
Арлетти, французской актрисы;
Кэндзи Мидзогути, японского режиссера;
Айрин Данн, американской актрисы;
Рене Симона, французского преподавателя драматического искусства;
Беренис Эббот, американского фотографа;
Рене Клера, французского кинорежиссера;
Рене Магритта, бельгийского художника;
Джорджа Гершвина, американского композитора;
Голды Меир, премьер-министра Израиля.
Предсказать будущие профессии новорожденных нам помогла дама Эванджелина Бёрд
[981], наделенная даром ясновидения. Итак, год 1898-й прошел, не уклоняясь от маршрута, дорогой, проложенной годами предшествующими. Нью-йоркская газета Life опубликовала юмористическую картинку с такой подписью: «Мир во всем мире ожидается веком позже. Встречающих просят пройти в год 2000-й».
Клод Изнер
Полночь в Часовом тупике
Посвящается Кейта Лефевру Коики
О, вспомни: с Временем тягаться бесполезно;
Оно — играющий без промаха игрок.
Ночная тень растет, и убывает срок;
В часах иссяк песок, и вечно алчет бездна.
Шарль Бодлер «Часы». Из сборника «Цветы зла». Перевод Эллиса
Перевод с французского осуществлен по изданию «Minuit, impasse du Cadran» Éditions 10/18, Département d’Univers Poche, 2012
© Éditions 10/18, Département d’Univers Poche, 2012
© Брагинская Е., перевод, 2014
© ООО «Издательство АСТ», издание на русском языке, 2015
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес, 2014
Глава первая
Воскресенье, 29 октября 1899 года
Над городом брезжил промозглый, ненастный рассвет — осенью в Париже такое часто бывает. При желтом свете газовых фонарей повозки молочников грохотали что есть мочи по камням мостовой. Появлялись и зеленщики, толкая перед собой тележки с товаром. Фонари гасли, лиловый небосвод медленно светлел. На бульваре Клиши
[982] армия дворников метлами разгоняла ночь, сметая с тротуара мусор, оставшийся от вчерашнего праздника. Появилась вторая группа утреннего кордебалета: расклейщики афиш под шквальным ветром пытались приклеить на стены свои плакаты в черных рамках, действуя при этом беспорядочно, но настойчиво. Но каждый раз с Монмартрского холма вдоль улицы Мучеников
[983] проносился вихрь, сводивший на нет всю их работу. Ветер вырвал из сумки расклейщика стопку листочков и беспечно гонял их в воздухе. Медленно кружась, как сухие листья, они опускались на тротуар.
Какой-то верзила в плаще и шляпе, из-под которой выбивались белоснежные длинные пряди, нагнулся, достал из водостока промокший листок и сунул его к себе в карман. Затем он быстрым шагом направился в сторону бульвара Рошшуар и зашел в первый же попавшийся кабак. У стойки суетилась хозяйка — бледная немощь, тощая, как подросток.
— Да ты, старый гиббон, с дуба, что ли, рухнул? Я в такое время только кофе могу тебе подать. Мне тут есть чем заняться, между прочим.
— Можно без сливок, но ведь тебе ничто не мешает добавить туда капельку кальвадоса?
Хозяйка неохотно занялась кофе.
— Папаша Барнав, похоже, у тебя трубы горят? С кем поведешься…
— А кто этот старый бродяга? — шепотом поинтересовался продавец губок.
— Бывший извозчик. Чтобы заработать на хлеб, он берет под защиту всяких нализавшихся типов и провожает до дома. Охраняет их от других пьяниц, которые норовят обобрать тех до нитки. Вроде как ангел-телохранитель. Ангел не ангел, а крылышки ему подрезали давным-давно! Я ему спуску не даю, ему для работы трезвость надобна, так, Барнав?
— Не надо ля-ля, хозяйка. Я из кожи вон лезу, а что мне за это? Буквально гроши. Пятьдесят-шестьдесят су — это в лучшем случае! И ни разу в жизни пьяного не надул, между прочим.
— Да, ты честно работаешь, никто, по счастью, не жаловался. Но если такое случится, тебе же будет хуже.
Папаша Барнав промурлыкал:
Вот муж ваш цел и невредим,
Да только пьян, бедняга, в дым.
Усевшись за круглый мраморный столик, он развернул мокрую бумажку — ту, что подобрал в канаве. Хриплым голосом зачитал:
Жители планеты Земля!
Несчастные атомы, кто бы вы ни были — короли, мясники, журналисты, недофилософы, кюре, раввины, императоры, булочники, депутаты, министры, — знайте: час высшей справедливости близок! Земля, на которой ты родился, на которой ты живешь и украшаешь ее плодами своего труда, Земля, которую ты считаешь своей, которую ты всячески портишь и пачкаешь, эта Земля исчезнет, разлетится в пыль 13 ноября. Итак, 13 ноября всякий уважающий себя смертный найдет свою гибель и обратится в небытие. Долг театра-кабаре, — носящего это имя, присоединиться к общей судьбе. Поэтому ждем вас в гости в ТЕАТРЕ-КАБАРЕ «НЕБЫТИЕ», на площади Пигаль, вход свободный, с 8.30 вечера до 2 часов ночи, в понедельник, 13 ноября. Все совершенно бесплатно.
Аутодафе[984]. В случае, если комета своим сияющим хвостом уничтожит нашу планету между 2-мя и 5-ю часами дня, как нам благородно объявили, вечеринка будет перенесена на более поздний срок1.[985]
Старик пожевал губами под бородищей: грядет великий день! Он ждал его так давно, что уже почти разуверился. Гибель Нани и Хлои найдет наконец отмщение,
аллилуйя!
— Все правильно, через четыре дня праздник Всех Святых, на следующий день Поминовение усопших… Все эти сволочи, которые угнетают наш бедный мир, получат наконец сдачи! И не жалко, что я сдохну вместе с ними, справедливость превыше всего!
— Когда уж перестанешь ты околесицу нести, чучело несчастное! Вали давай! Дуй домой и проспись, вместо того чтобы опять мечтать об опохмелке, ведь старик уже! — заворчала на него хозяйка, отбирая недопитую чашку.
Луи Барнав начал демонстративно рыться в карманах, но она его остановила:
— За счет заведения. Ноги твоей чтобы здесь не было в нерабочее время! И бумажонку свою забери.
Луи Барнав состроил ей рожу и пообещал, что ее саму сдует с лица Земли, когда на нее обрушится небесный свод — осталось-то всего две недели и два дня! Неверной походкой он перешел на другую сторону бульвара и свернул на улицу Стейнкерк.
— Да он поддатый, причем изрядно! — заметил продавец губок.
— И поддатый, и чокнутый к тому же. Это с тех пор, как его жена и дочка померли от ботулизма четыре года назад. Съели, наверное, испорченные консервы и отравились. Их пытались вылечить в больнице Ларибуазьер, но безуспешно.
— Да, нужно же побольше народу отправить в больницы, чтобы давать работу врачам! Знаете, что я тут прочитал? Вроде как стали добавлять квасцы, сульфат цинка и медь, чтобы придать хлебу безупречно белый цвет. Потребитель превратится в бронзового человека. А что говорить об этих готовых вареньях, напичканных винной кислотой да желатином и покрашенных еще кармином. Я в чем-то понимаю старика.
Хозяйка кивнула.
— И молоко! Вы еще забыли молоко! Там нашли муку и вытяжку из мозга теленка! Хорошо, что я его редко покупаю.
— Таков прогресс, милая моя, травят нас помаленьку, используя химию в своих интересах. Ну, пока мы живы, принесите мне полбутылки винца.
— Барнав вот что вбил себе в голову: это будет реванш, его победа над обществом и временем, потому что они якобы виноваты во всех его бедах.
— Ну, если этому чудаку удастся убить время, я угощу его шампанским!
«Актер на ставке в “Комеди-Франсез”! — повторял про себя Робер Доманси, поправляя перед зеркалом узел на галстуке. — Меня, какого-то вшивого статиста, который играл мальчиков на побегушках и “кушать подано” в жалких водевилях всяких парижских театришек, даже на окраинах, меня заметили в Консерватории и выбрали, приняли! Если бы мамочка могла меня видеть, она бы с ума сошла от гордости! О двадцать пять, пора цветения, я будущий Ле Барги
1!»
[986]
В подражание этому
первому любовнику, которому давно стукнуло сорок, Робер Доманси облачился в мышино-серый редингот с бархатными воротником и обшлагами, за который актеры прозвали его Крысенком. Маргарита Морено, которая была принята в труппу несколькими годами раньше, пожелала «коллеге-грызуну» долгой плодотворной карьеры.
Пока приходилось довольствоваться крохами, второстепенными ролями, которые ему предлагали. Хотя ему и благоволил Жюль Кларети, хитрюга-администратор, Доманси не рассчитывал соперничать ни с Муне-Сюлли и его братом Полем Муне, ни с Морисом де Фероди, Жоржем Берром и Эженом Сильвеном
[987]. Божественная Джулия Барте в упор его не видела. И в прошлом месяце отнюдь не его, а дебютанта Мориса Дессонна взяли в постановку «Фру-Фру» подавать реплики очаровательной Луиз Лара. Робер Доманси втайне подготовился к роли Валреаса и выучил диалоги, которые, впрочем, считал совершенно идиотскими:
О, вы красивы, вы так красивы… И даже больше, чем очень красивы… А еще, когда выпрыгали через эту канаву, ваша юбочка чуть задралась, и я увидел такую прелестную маленькую ножку…
Но увы, былые неудачи тянули его назад, и ему посчастливилось получить лишь роль слуги, единственная реплика которого в первом акте, сцена VII, звучала так:
Вот письма.
Он, правда, вложил в нее столько энтузиазма, что был уверен: критики его заметили, особенно, что важно, Адольф Бриссон и Катулл Мендес. А веселые юные девы, так те на него просто вешались и восхваляли его талант! В общем, он на правильном пути. Тем более что накануне под дверь его комнаты кто-то просунул розовый конвертик со вложенной запиской, на которой были обозначены время и место ночного свидания. Подпись состояла из одной лишь буквы: Л. Чертовски романтично! Он пойдет туда сразу после того, как закажет в магазине Дюфаэля шкаф и стулья, поскольку в его новой, только что снятой комнате на улице Ришелье почти нет мебели. Он тщательно причесался. Сделать на косой пробор? Нет! Лучше на прямой. Потом он завил усы, мысленно выстраивая интригу с оптимистической развязкой: как после года упорной работы его единогласно включают в постоянный состав «Комеди-Франсез».
«Ах! Выступления в знаменитейшей труппе, вечера под огнями рампы, влюбленные взгляды и записочки от поклонниц!»
Внезапно он подумал о своем сводном брате, который раз в год присылал ему поздравления — пустые отписки — и ни разу не удосужился навестить с тех самых пор, как Робер в поисках актерской славы приехал в Париж. Можно себе представить, какую рожу он скроит, когда узнает об успехе младшенького! Хотя он, наверное, лопнет от злости. Комедиант в таком семействе, позор, позор!
«А между тем парижане, скорее, узнают в лицо актера, чем какого-нибудь политика. Ходят же слухи, что министерство финансов, прежде чем назначить новый налог, как раз по галерке в «Комеди-Франсез» определяют показания барометра общественного мнения.
Если третий ярус в театре полон, если публика весела и беспечна, можно попробовать увеличить налогообложение. Но нужно быть внимательным. Если, например, раек заполнен лишь наполовину или зрители недовольно ворчат, жалуясь на дороговизну, — лучше отложить принятие закона на лучшие времена.
Именно здесь государственные люди набирают своих тайных советников… Мой братишка, образцовый чиновник, должен бы это знать! Заместители министра отслеживают настроения в Одеоне
[988]. А генеральная репетиция! Тревога! Какие запутанные отношения, интриги: как виртуозно актеры подсиживают соперников, как раболепствуют перед газетными писаками… Собирается весь Париж в вечерних платьях и жемчужных колье, во фраках.
С каким энтузиазмом зрители судачат о знаменитостях, обсуждают дорогущие туалеты… Такая жизнь по мне: возможно, меня ждет мой пир Трималхиона
[989], а что — из грязи да в князи! Стану своим в доску для всей шикарной публики, может, меня даже наградят, то-то братец будет локти себе кусать!»
Уложив на правую сторону напомаженные волосы, Робер Доманси напоследок окинул взглядом индийское покрывало на кровати, букет лилий в хрустальной вазе, овальное зеркало и скромный турецкий коврик. Пришлось потратиться, а что, дело того стоило. Немного расточительства под занавес!
«В один прекрасный день, дружок, ты будешь жить в шикарном особняке и ступать по леопардовым шкурам, а вокруг будут танцевать прекрасные гурии с газельими глазами. Так что, привыкай к роскоши. И к таинственным поклонницам…»
Таша Легри с Алисой отправились погостить в загородный дом Таде Натансона — одного из основателей Лиги за права человека. Он вместе со своими двумя братьями издавал в Париже журнал «Ла Ревю Бланш», в котором Таша публиковала свои карикатуры. Таде был также известен как один из самых отчаянных защитников капитана Дрейфуса
[990]. Вместе с Анатолем Франсом, Эдуардом Вюйаром и Пьером Боннаром
[991] он приобрел здание бывшего почтового стана
[992] в Вильнев-сюр-Йонн. В доме жила и жена Таде Мизия, Таша не то чтобы была одна среди множества мужчин, что слегка умеряло ярость Виктора. Но и это не утешало окончательно, хоть он и пытался справиться со своей подозрительностью, за которую его вечно упрекала Таша. Компанию ему составляла только кошка по имени Кошка (с возрастом она утратила былую резвость и все больше спала), и Виктор решил воспользоваться неожиданной свободой и предаться любимому делу: фотографии.
Кэндзи расщедрился и выделил ему свободный день, так что Виктору сам бог велел заняться опытами в своей лаборатории в глубине двора. Он старался меньше прибегать к ретуши, экспериментировал с выдержкой и диафрагмой, работал со светом и тоном. Пробовал использовать карбонат калия, чтобы ускорить процесс проявки, и бромистый калий — чтобы его замедлить. Недавно изобретенный способ проявки с помощью бихромата аммония позволял сделать картинку более выразительной.
Он рассматривал фотографии старой дамы, торгующей книгами на набережной Вольтера. Виктор познакомился с Севериной Бомон в прошлом году и решил сделать ее поясной портрет. Первый снимок показался ему слишком темным и каким-то неживым — дама словно аршин проглотила. Второй был бы вполне приличным, если бы не яркое пятно света на лбу. Зато третий наполнил гордостью его сердце. Загадочный взгляд, устремленный в объектив, склоненная чуть набок голова, морщинки на лице — вообще-то нехарактерное для Северины Бомон настроение. То ли она беспокоилась в преддверии Международной выставки, то ли грустила по срубленным деревьям и переживала о судьбе букинистов, вынужденных переехать на правый берег Сены? О прогресс, о этот безжалостный прогресс…
И тут же в очередной раз подумал о предназначении своего искусства. Прав ли был художник Морис Ломье, который говорил, что фотография никогда не вытеснит живопись?
— Между самым небрежным эскизом Энгра
[993] и самым прекрасным в мире снимком пролегает пропасть. Ты творишь с помощью машины, дружище, скажи спасибо «Кодаку»! Нет, конечно, иногда очень даже миленько получается, но даже не мечтай, до Микеланджело все равно не добраться.
Неужели его надежды неоправданны и фотография никогда на равных не войдет в ряд изобразительных искусств?
«Люди пытаются понять, на что должны быть похожи предметы окружающего мира, сравнивают их с той реальностью, которую способны уловить их органы чувств, но что такое эта реальность? Кинематограф доказал, что гениальный механик способен открыть людям новую вселенную».
После того как Виктор провел пол-лета на съемках фильма «Дело Дрейфуса» в студии Жоржа Мельеса в Монтрёе, он грезил только этим.
«Если мне и правда захочется уесть бедолагу Ломье, достаточно будет сравнить его мазню с кинематографическими лентами! Эх, ведь только выражение чувств является мерилом таланта. А чувств у меня хватает».
Проявив пленку, Виктор почувствовал себя человеком, способным изменять реальность. Он открыл в Северине Бомон, известной веселым и беспечным нравом, трагическую натуру — ведь это многообещающее начало? Разве он теперь не творец, не художник, раз способен был углядеть глубокую меланхолию, таящуюся под вечной улыбкой этой женщины?
«В комнатах ее памяти отнюдь не все разложено по полочкам, не преминул бы сейчас отметить Кэндзи. А? Что ты об этом скажешь, Кошка?» — спросил он, помотав снимком у самого ее носа.
В ответ Кошка слабо мяукнула и свернулась в клубок.
Перевод: оставь меня в покое. Ладно, больше не пристаю.
Он вернулся в квартиру, привыкшую к жизни большого семейства. Мадам Бодуэн, которая делала уборку в доме, должна была появиться только на следующий день. На неубранной кровати валялись газеты и журналы. Он перегрузил их на кресло. Апрельский номер «Чтения для всех»
[994] упал на пол, раскрывшись на порванной странице. Виктор заглянул в статью:
32 000 км из Лондона и обратно через Тегеран, Калькутту, Токио, Сан-Франциско и Нью-Йорк
«А я вот со своим верным Алкионом не готов на такие подвиги!»
Он поднял листочки с пола и, пока складывал их по порядку, решил, что нужно поинтересоваться у Кэндзи, правдива ли информация в статье. В самом деле японские дороги так хороши, как это утверждает редактор? Он представил себе, что катит на велосипеде где-то у подножия Фудзиямы, среди вишен в цвету, бесконечно далеко от будничной работы в магазине и вообще от Франции, взбудораженной новым витком процесса над Дрейфусом: военный совет, признав ряд смягчающих обстоятельств, тем не менее объявил его виновным и приговорил к десяти годам тюрьмы. Президент республики, Эмиль Лубе, который стремился к мирному урегулированию конфликта, даровал ему помилование, но этот поступок вызвал брожение умов и волны ненависти, поскольку помилование невозможно без очевидного признания вины.
Виктор постарался успокоиться и умерить свое возмущение. Что толку себя накручивать, он все равно никогда не покинет двух самых любимых в жизни женщин. Он разглядывал нагруднички, крошечные платьица с рюшечками, кружевные чепчики, исчерканный закорючками букварь. Сердце болезненно сжалось: он вдруг осознал, как быстро растет Алиса. Она развилась очень рано, уже бойко разговаривала, тем более что родители постоянно читали ей вслух, и от них не отставал дядюшка Жозеф, пересказывающий ей свои романы, и тетушка Айрис — та подарила ей два сборника своих сказок с иллюстрациями Таша. Единственное, что ей не давалось, так это произношение звука «ж», который она произносила как «з»:
обозаю, зуззит, позалуста. Кроме ярко выраженного дара слова, она проявляла еще явную склонность к рисованию. Ее любимыми темами были: Кошка в засаде (длинная воронка, круглая мордочка, ушки-галочки, а рядом огромная бабочка) и Виктор (огородное пугало: ручки-палочки, ножки-прутики, на голове воронье гнездо, украшенное невероятной формы шляпой).
«Два года уже прошло, — философски отметил Виктор. — Вскоре она оставит отчий дом, выйдет замуж, у самой дети пойдут…»
Уносясь в потоке мыслей, Виктор даже и не подозревал, что бывший извозчик по имени Луи Барнав в эту же минуту тоже терзался тревожными размышлениями о быстротечности времени.
«Ну и утречко! Вместо того чтобы храпеть как слон, я тут с похмелюги хожу маюсь, аж все нутро выворачивает».
Он заглянул в общий нужник на своем этаже, затем попил из крана в коридоре и вернулся в комнату.
Настроение было поганое. Барнав злился на весь мир. Полдня он проспал, и сон, который ему снился, был словно продолжением предыдущей ночи. Накануне он провожал какого-то желторотого юнца из знати, который умудрился обойти все кабаки Монмартра, надуваясь вином и при этом по ходу постепенно раздеваясь. На заре он уже назюзюкался настолько, что Луи Варнав запихнул его в фиакр (парень был к этому моменту в кальсонах и нижней рубашке), при этом парень горланил:
Будь доброю ко мне, о незнакомка,
Ведь я тебе так часто песни пел!
1[995]
Луи Барнав не стал отвозить его домой, дал кучеру щедрые чаевые, которые предварительно извлек из кошелька гуляки, уговорив его сдать парня с рук на руки маме или экономке.
«Ух! В гробу я видал всех этих богатеев! В башке у них ветер гуляет, но при этом ведь считают, что папаша Барнав явился в этот проклятый мир лишь затем, чтобы их за ручку водить. Стакан клубничного коктейля, запитый коньяком и ромом, — и они валятся с ног, как былинки под струей мартовского кота. Пьянствовать-то тоже надобно учиться. Вот что должны им преподавать их сухари-наставники вместо латинских спряжений!»
Он посмотрелся в треснувшее зеркало. Копна полуседых всклокоченных волос, две глубокие морщины, идущие от курносого носа к беззубому рту, затерянному в зарослях бороды и усов. Барнав сокрушенно вздохнул, но попыток навести порядок предпринимать не стал. Еще полюбовался своей землистой физиономией и тогда решил, что его нынешнее ремесло — отнюдь не синекура.
Разогревая в кастрюльке цикорий, он предался ностальгическим воспоминаниям о прежней работе. Как глубоко он узнал душу своих друзей — лошадей! Прежде чем стать кучером омнибуса, он долго работал извозчиком и гонял свой фиакр по всему Парижу. Поступил в специальную школу, встречался там с разными людьми: официантами, каменщиками, другими извозчиками, молодыми провинциалами, которые прибыли в столицу заработать денег и поддержать свои семьи. Были среди них и парни из богатых семей, лишенные родственниками наследства: отбросы высшего общества, одним словом; они, как правило, были белоручками и не умели стоять на своем. Он усвоил хитрую науку управления вожжами и секретные тонкости упряжи. Вбил себе в голову правила движения и научился общаться с полицией: ведь за любое нарушение могли содрать целых двадцать два франка! Свои права он тоже хорошо уяснил. Но труднее всего было освоить практический курс. Пришлось пешкодралом обойти весь Париж вдоль и поперек, запомнить расположение улиц, наметить маршруты. Утром он шел с Восточного вокзала на вокзал Монпарнас или от площади Клиши до церкви Мадлен. После этого шел в школу, на улицу Маркаде, делился результатами своего похода, повторял названия улочек и переулков, выискивал варианты подъезда к вокзалам, памятникам, большим магазинам, театрам, которые пришлись бы по душе будущим клиентам.
«Но больше всего я, конечно, любил лошадушек. Говорят, что лошади глупые, ни хрена не понимают и к тому же бесчувственные. Вот чушь! Лошадь — лучший друг человека. Моей любимицей была Булю, шикарная кобыла. Мы с ней понимали друг друга. Стоит подумать, что этих животных забивают на мясо и потом жрут… Моя Булю умерла от старости в деревне.
Когда она уже неспособна была вкалывать, я выкупил ее. Еще не хватало тащить ее к Макару
1, на живодерню! Мне было бы грустно ее потерять. Эти божьи твари, что тянут свою лямку, таская за собой фиакры и омнибусы, не транжирят по вечерам деньгу, не виснут у стойки бара, наливаясь абсентом и красненьким, им вполне достаточно овса! Так что я прошу Боженьку пощадить их 13 числа, когда он будет забрасывать нас пылающими метеоритами».
[996]
Он с упоением перечитал афишку кабаре «Небытие».
«Какое все же счастье точно знать дату, когда закончится вся эта грязная история человечества! Просто с тех пор как человек решил стать прямоходящим, начали твориться всякие ужасы. Возникает желание бегать на четвереньках, как это делает большинство уважающих себя животных».
Он протер закопченное стекло и посмотрел на кусочек угольно-темного неба. Дождь никак не желал уйти с Монмартра. Он надел свой видавший виды плащ и напялил на голову шляпу из лысого бобрика. Даже не взглянув на комнату, больше напоминающую хлев, которую, казалось, никогда не пытались проветривать, — а толку, все равно недалек тот светлый день, когда он навсегда оставит ее, — Луи Барнав скатился по лестнице, плюнул на коврик возле будки консьержа, вышел на улицу Абревуар и пошел дальше по улице Сен-Венсан — на сердце накипело, должок один в память о маленькой Хлое. Стайка оборванных мальчишек играла в пиратов и носилась вокруг кабаре «Шустрый кролик». Они-то этого типа давно знали. Сначала он их отпугивал своим видом, но со временем они привыкли и поняли — дед, оказывается, добрый! Они обступили Луи, протягивая к нему ручонки. В каждую грязноватую ладошку он вложил медную монетку. Он не допускал никаких фамильярностей, однако улыбался каждому и спрашивал, как он поживает. А детишки любили его не только за эти подачки, еще и за то, что он не требовал тратить эти деньги на благое дело и не велел их приберегать из экономии. Вслед Луи Барнаву понеслось дружное ура.
На улице Ив он почтил своим присутствием дружественный кабачок, поприветствовал нескольких художничков, которые зашли потрепаться о живописи, хозяина, погруженного в чтение газеты, бульдога с гноящимися глазами, пускавшего слюни на подстилке возле двери. Он не спешил — спокойно ждал, что ему пожалуют рюмку анисовой и пару бутербродов с салом, после сиесты всяко надо закусить. Так, шуткой-смехом, и время пройдет. Художнички и хозяин оживленно обсуждали войну, объявленную антиподам 11 октября
[997].
— А вот 9-го числа президент Крюгер объявил англичашкам ультиматум, он им дал 48 часов, чтобы убраться восвояси. Надо было слушаться, ростбифы хреновы! — воскликнул парень в широкой блузе, пестревшей разноцветными пятнами краски.
— Да уж, всё, собственно, что от них требовалось, — отвести войска от границ Трансвааля. Да они в упор не слышат, — подхватил патрон, свернув газету в трубку.
— Вот теперь ввязались в конфликт, который может и долго продлиться. И кому от этого сладенько? Только торговцам пушками. А ежели учесть, что Оранжевая Республика будет заодно с бурами…
— С какими такими бурыми? Даже к этим скалам бурым обращаюсь с каламбуром!
Молчание. Затем взрыв хохота.
— Да уж, по части каламбуров французов никто не переплюнет! Парень заслужил свое, — отметил какой-то пузан, лысый как коленка, но зато с шикарными подкрученными вверх усами.
— Ну, я знаю, чем его отблагодарить, — заключил патрон и поставил перед Барнавом рюмку анисовки и два здоровенных ломтя хлеба с салом.
— Гогочите, бездари! Дались вам эти буры! Полюбуюсь на ваши хари, когда вам на головы посыпятся черепица и обломки труб! Кроме коняг, никого и ничего нигде не останется!
— Буры… А что вообще означает это слово? — поинтересовался Робер Доманси у продавца, озабоченно записывающего покупки в приходно-расходную книгу.
— Это потомки первых колонистов — голландцев, немцев и французов, которые высадились в Южной Африке в XVII и XVIII веках.
— Спасибо, что озарили мое невежество светом знания.
И проигнорировав угодливый смех продавца, так же как и его попытки продать какую-нибудь мебель в кредит, Робер Доманси поспешил покинуть магазин Дюфаэля.
Ни одного фиакра на горизонте. Пришлось смириться и сесть в омнибус, лишь бы уже скорей отъехать из окрестностей бульвара Барбес — района, который он считал вульгарным местом, не подобающим для настоящего артиста, будущей гордости французской сцены. Когда доходы ему позволят, он снимет квартиру у Мапла, в сквере Опера
1.
[998]
«Да уж! Надо сегодня там опять пройтись, посмотреть. Только бы отделаться от этой липучки Рафаэля Субрана».
Дорога до Бастилии, где он намеревался встретиться с этим своим приятелем со времен учебы в Консерватории, оказалась невероятно путаной из-за строительства метрополитена, который должен был соединить Венсенские ворота с воротами Майо. Хотя часть строительного мусора, извлекаемого из-под земли дорожными рабочими, по ночам растаскивали телеги и трамваи, улицы были перегорожены грудами земли, так что не проехать не пройти — как, например, на улице Риволи. С нее точно кожу содрали, и под тем, что недавно было дорогой, выступали какие-то скелетообразные конструкции.
— Ну и помойка, — заметил Рафаэль. — Представляешь? Каждый день приходится вывозить тысячу кубометров мусора! К тому же инженеры переносят канализационные трубы и укрепляют те участки, где не пройдет линия метро. Я понимаю, почему торговцы возмущаются и просят освободить их от налога на витрины!
Владелец кафе с ними согласился, теперь невозможно было поставить столики на террасе из-за огромного туннельного щита, который поставили на месте будущей станции «Бастилия».
— Знаю-знаю, — поддакнул Робер Доманси, — такая же история с Пале-Роялем. Хорошо еще, что в зале весь этот шум не слышно!
Рафаэль Субран аж лицом потемнел. Он завидовал приятелю, которого приняли в престижную труппу, полагая, что сам он больше достоин этой чести как, несомненно, более одаренный исполнитель.
— У тебя с собой? — спросил он, протягивая руку.
Доманси нехотя протянул ему конверт.
— Обещаю, эта будет последней, — заверил его Рафаэль, пересчитывая банкноты из конверта.
— Ох, каждый раз это слышу.
— Нет, теперь уж точно. Я получил роль в «Дегенератах» Мишеля Провенса и еще репетирую в «Горюшке», пьесе в трех действиях Мориса Вокера.
— Согласись, я уж немало выложил.
— Ты ничего не воровал, Робер, не дрейфь, я умею держать язык за зубами.
В отличие от Робера Доманси, внешне невыразительного, но зато высокомерного, Рафаэль Субран с первого взгляда внушал симпатию. Но присмотревшись к его добродушно-игривым замашкам и внимательней взглянув в ясные голубые глаза, можно было понять, что не такой уж он рубаха-парень, каким хочет казаться. Он расплатился за пиво и позвал приятеля посмотреть на фундамент башни Свободы, обнажившийся в результате работ по прокладыванию туннеля метро под улицей Сент-Антуан. Полуобрушенное заграждение отделяло зрителей от траншеи.
— Ух ты, как глубоко! Только не наклоняйся. Не хватало еще, чтобы разиня себе хребет переломал! — ехидно заметил Рафаэль Субран.
«Был бы ты на месте того разини, притворщик!» — подумал Робер Доманси. Ему вдруг стало нестерпимо тоскливо от мысли, что этот лицемер взял над ним верх. Но тут он нащупал в кармане письмецо, и его это утешило.
— Веришь, у меня поклонница появилась! Она, видно, меня приметила в «Капризах Марианны», которые показывали дома у некоего Станисласа де Камбрези, это был сбор средств для детей, чьи родители погибли во время пожара на благотворительном базаре.
— Неудивительно, у этого дворянчика как раз жена погибла на пожаре.
Робер Доманси задумался: в мечтах ему представлялось, как его дружок превращается в горящий факел и обугливается. Как головешка.
Обливаясь потом, хотя на улице было прохладно и сыро, Кэндзи Мори спешил на бульвар Сен-Мишель. Он бросил магазин на попечение зятя и собирался одарить Джину флаконом духов «Алый трилистник» из парфюмерного магазина Пивера. Она рассердилась на него, заметив, что он слишком много внимания уделяет молодой красивой клиентке мадемуазель Миранде. Ах! Женщины — его слабость! Может быть, женитьба его успокоит. Он бы и рад был жениться на матери Таша, да вот ее муж, некто Пинхас, который жил сейчас в Нью-Йорке, все никак не мог объявиться в Париже и освободить ее от уз супружества.
Он собирался было уже пересечь бульвар Сен-Жермен, как вдруг его остановил резкий, пронзительный голос — аж в ушах зазвенело.
— О мой знаменитейший соотечественник! Как же я счастлив видеть вас! Вы как тихая гавань, островок спасения в бурных водах этого негостеприимного города.
Так вычурно обратился к нему шестидесятилетний японец с пергаментным лицом и тюленьими усами. Его звали Ихиро Ватанабе, а свою профессию он именовал «продавец достойной смерти». Он приехал из Осаки в 1896 году, а с Кэндзи они встретились у общего знакомого, преподавателя боевых искусств. С тех пор Ихиро буквально преследовал его и каждый раз рассказывал одну и ту же историю — Кэндзи слышал ее уже раз пятнадцать, не меньше.
— Революция разорила меня и разрушила мою жизнь, с тех пор мне пришлось осваивать все возможные профессии от Киото до Кобэ и от Кобэ до Осаки
[999]. Я дрессировал соколов, преподавал чайную церемонию, продавал сухую лапшу, изучал французский язык, а потом учил ему молодежь, желающую отправиться в веселый Париж, а главное, главное — я узнал от потомков самураев тонкости ритуала сэппуку
[1000]. Увы, в Японии сейчас больше не умеют красиво умирать, и я решил эмигрировать, чтобы преподать молодым парижанам благородное искусство горизонтального разрезания живота. И что же, вы думаете, из этого получилось? На это достойнейшее предложение они даже не откликнулись! Им больше нравится пулять в себя из пистолета, поглощать яд или болтаться на веревке. Я знал одного, так его вообще угораздило сброситься с башен собора Парижской Богоматери! И мне остается переводить на французский японские семнадцатисложные трехстишия. Я питаюсь исключительно подогретым рисом! О друг мой, мой бесценный друг!
Кэндзи лихорадочно порылся в карманах и высыпал горсть мелочи в сложенные лодочкой ладони Ихиро.
— Мори-сан, вы подобны босацу
[1001]! В знак благодарности могу ознакомить вас с результатом моих исследований: знаете ли вы, как человек тратит двадцать четыре часа в сутках?
— Я бы предпочел остаться в неведении, — ответил напуганный Кэндзи, пытаясь найти способ высвободить рукав и скорее смыться.
— Ну все-таки я расскажу: в среднем человек спит восемь часов, ест два часа, работает семь часов, развлекается три часа, ничем не занят в течение часа, полчаса, в общем, тратит на справление естественных нужд, столько же посвящает личной гигиене и в течение двух часов идет пешком.
— Блеск! Мне осталось не более часа двадцати минут на ходьбу! Моцион прежде всего. Сайонара, Ватанабе-сан, — воскликнул Кэндзи и последним решительным движением вырвался из лап продавца достойной смерти.
— Куда они все несутся в этом сумасшедшем городе? — риторически вопросил Ихиро. — И не бегут ли они навстречу своей кончине?
Но судьба в тот день была немилостива к Кэндзи. Едва он миновал бани Клюни, как снова нарвался на надоедалу.
— Мсье Мори!
Из толпы, как чертик из коробки, появилась Эфросинья Пиньо с большой корзиной. Она выскочила из толпы и как снег на голову обрушилась на Кэндзи.
— Угадайте, что надумала эта неумеха Мели Беллак! Собралась мясо вам завтра жарить без чеснока! Вот кулема, сидела бы уж у себя в Коррезе! И вот я вынуждена скакать сюда, на улицу Тюрбиго, чтобы добыть несколько долек! А мои бедные вены на ногах так и гудят, так и гудят! Как я устала нести свой крест!
— А зачем надо было бежать к черту на кулички? — проворчал он.
— Ну а то как же! Здесь же самый лучший чеснок, я-то знаю, не забыла еще те времена, когда продавала фрукты и овощи с лотка.
— В таком случае счастлив за вас, но я очень спешу, мне нужно на площадь Мобер.
И он мигом ретировался, не в силах более выслушивать излияния Эфросиньи Пиньо.
— А я-то, дура такая, надеялась, что он мне подбросит пару монет на фиакр! А так, на минуточку, ведь он отец моей невестки! — взвизгнула ему вслед Эфросинья Пиньо.
Хотя Робер Доманси по натуре был прижимист, на этот раз вслед за тратами на мебель от Дюфаэля и на конверт для Рафаэля Субрана он замыслил еще одну. Время от времени он предлагал себе маленькую радость: ужин в дорогом ресторане и проматывал при этом бо́льшую часть содержания, которое ему каждый месяц присылала мать. Она тяжко трудилась на перчаточной фабрике возле Узеса и ограничивала себя во всем, чтобы дитятко в Париже ни в чем не нуждалось.
Он спустился на улицу Рояль, рассказывая себе отрывок из пьесы, которую собирался написать на досуге и которая его, несомненно, должна прославить.
— Мерзавец! Подонок! Хам! — прокричала Констанция де Нарцисс своему любовнику.
— Мадам, паровоз ваших оскорблений летит по рельсам моего безразличия, — парировал Адриан Плодоро, смакуя свою реплику, как мятную пастилку.
Робер Доманси, безмерно гордый придуманным диалогом, хотя он и не знал еще, к какому сюжету его пристроить, поступью победителя вошел в ресторан «У Вебера», излюбленное место отдыха художников и поэтов.
Официант принялся настойчиво предлагать ему
welsh rarebit — уэльский пивной суп и к нему гренки с сыром.
— Мсье Каран д’Аш его обожает, — доверительно добавил он.
Робер Доманси заметил человека в кремовом костюме, который сидел возле военного — ему раньше говорили, что это сам генерал Галифе, — и поглощал йоркскую ветчину с румынским салатом.
— Нет, благодарю, я возьму сосиски и картофель, жаренный кружками.
— Если я могу позволить себе совет, молодой человек, закажите лучше холодную говядину, если уж не хотите попробовать английское блюдо с мясной нарезкой, это лучшее произведение местной кухни, — посоветовал из-за соседнего столика какой-то аристократ с изысканными манерами.
— Мсье принц де Саган нам льстит, — заметил официант, низко ему поклонившись.
— Холодная говядина хороша для дельцов! — отозвался с другого столика гуляка, сидящий в окружении Франсуа Коппе, Северина, Орельена Шолля и стайки журналистов из «Фигаро» и «Тан». Только поглядите на этих придурков, которые считают себя куда как элегантными с этими гардениями в бутоньерках!
Потом он потянулся к Роберу Доманси и заговорщицки прошептал:
— Доверьтесь мне, берите антрекот с горчицей на гриле, не пожалеете, молодой человек, это я вам гарантирую.
— С кем имею честь?
— Как, вы не признали мсье Жана Жореса? — поразился официант.
Робер Доманси смущенно кивнул соседу головой и последовал его совету.
Поужинал он прекрасно, потраченные семь франков оправдали себя: после антрекота последовали кофе, бокал коньяку, кусок английского пирога, именуемого «пай», и хватило еще на чаевые официанту. Робер ловил обрывки разговоров, которые, как он считал, могут пригодиться ему в будущем, и в сотый раз перечитывал письмо.
Дорогой месье!
Почту за счастье встретиться с вами в это воскресенье, 29 октября, в Часовом тупике, у подножия холма Монмартр. Я найду вас там — на этом месте в былые времена проходил бал Фоли-Робер. Мне столько нужно вам рассказать! Как хотелось бы повидаться с вами вдали от сцены и осаждающей вас публики!
Заранее ваша,
Л.
Он наклонился, вглядываясь в украшенную завитушками на старинный манер букву Л, в изящные строки, старательно выведенные фиолетовыми чернилами. Аккуратный почерк выдавал романтическую натуру, скрывающую свои порывы. Такой бутончик сулил прелести долгой и страстной ночи.
Когда он выходил из ресторана, какой-то тип, закутанный в безразмерное пальто, робко поздоровался с ним. Робер Доманси не удостоил ответом странного, одетого как чучело незнакомца — некоего Марселя Пруста, прозаика, книгу которого, изданную у Кальмана-Леви, критики разнесли в пух и прах.
Без двадцати двенадцать он вылез из фиакра на бульваре Рошшуар и неспешно, с осторожностью двинулся вдоль домов — тупик был совсем небольшой, его слабо освещал единственный фонарь. В садиках соседних домов угадывались силуэты высоких деревьев. Ветхие лачуги теснились между двумя-тремя особняками в османовском стиле. Такое экстравагантное соседство было вполне характерно для изменений, происходящих в городе, который мало-помалу утрачивал свой колорит. Робер Доманси подумал, что в недалеком прошлом здесь болтались гризетки и их кавалеры, кружились в волнах «Вальса роз» в этом зале, который потом какое-то время был фабрикой по производству мячей и помещением для политичеких собраний, а теперь лежал грудой руин в глубине тупика. Ну, по крайней мере, так было написано в путеводителе, который он прочитал. Если бы солнечные часы, которые дали этому тупику название, не исчезли отсюда, а остались бы на своем месте, они были бы свидетелями всех этих метаморфоз.
Робер быстро утомился от таких философских измышлений. Ну что за нелепая мысль посетила голову этой овцы! Место донельзя жуткое, час уж поздний и, как назло, еще начал накрапывать дождь. Робер Доманси поправил шляпу и принялся расхаживать под единственным освещенным окошком на первом этаже трехэтажного дома.
Занавеска была слегка отдернута, в окне появилось лицо и приникло к стеклу. Женщина всматривалась в снующий силуэт в шляпе дыней. Пьянчужка какой-нибудь? Нет, вроде не шатается. Бродяга? Что он замышляет, что за козни строит? Пусть уже уберется отсюда!
Женщина, опираясь на костыль, только собиралась отойти в туалет, как вдруг ее взгляд привлекло какое-то движение среди груды развалин в глубине тупика. Второй силуэт выступил из тьмы. Казалось, слишком широкая одежда затрудняет его движения. В правой руке человек держал тросточку и небрежно вращал ее на ходу. Женщина у окна схватила керосиновую лампу и поднесла ее к стеклу. Человек в шляпе резко обернулся. Другой, быстрый, как змея, молниеносно подскочил к нему, схватил за воротник, взмахнул в воздухе свободной рукой… На конце тросточки сверкнуло лезвие, удар, еще удар, еще и еще, пока жертва не застыла на земле, свернувшись в позе эмбриона. Убийца присел на корточки возле жертвы, потом вскочил и со всех ног убежал в сторону бульвара.
Жилица первого этажа так проворно отпрянула от окна, что чуть не упала. Подвывая от отчаяния и ужаса, она с трудом справилась с тугой неподатливой дверной ручкой и заголосила на лестничной клетке, скликая соседей.
В Часовом тупике блестящая лужа, чернеющая на земле, постепенно стекала с водой в канаву.
Глава вторая
Понедельник, 30 октября
Единственный свидетель преступления был незамедлительно опрошен прямо на дому. Комиссар местного отделения, кругленький чиновник, который, казалось, только что пробудился ото сна, но при этом пытался важничать и явно гордился своим пенсне и небольшой бородкой, явился самолично. Показания свидетельницы он записывал в специальный блокнот, обильно мусоля при этом карандаш.
— Подытожим: Од Самбатель, 1852 года рождения, отец плотник, мать работница на спичечной фабрике…
— Мама померла от чахотки, когда мне еще пяти лет не было. «Много серы в организме», так сказал доктор. Отцу посчастливилось вторым браком жениться на вдове, у которой был магазин зонтиков на бульваре Рошшуар. Хотя она была, как говорится, бальзаковского возраста, 37 ей было, вроде как пора увядания, но она тем не менее была хороша собой и умела нарядиться, одежду подбирала ту, что к лицу. А уж притом, что с финансами у нее все было благополучно, так вообще невеста на выданье. Отцу тогда пятьдесят стукнуло, он взвесил все «за» и «против», ну, ей он тоже глянулся — статный, что называется, сильный мужчина — и так она стала моей мачехой. Ну, начались золотые времена. Предприятие жены приносило доход, отец превратился в рантье. Был тощим, стал толстым. Был живчик, стал вялым и ленивым. Коммерция-то вызывала у него отвращение, так что он тратил время и здоровье, коротая дни за выпивкой.
Комиссар вздохнул и перестал чирикать в своем блокноте.
— Мадам, я…
Но никто и ничто не могло остановить поток словесных излияний хромоножки. Комиссар обессиленно прикрыл веки, невероятная усталость обрушилась на него, Од Самбатель все тараторила, трещала без умолку, он кивал, не в силах уловить главную мысль: покинутые отцом и мужем, торговка зонтиками и маленькая Од сидели по своим комнатам и предавались бесплодным мечтам. Берта Самбатель зачитывалась рыцарскими романами о любви и воображала себя лихой героиней на белом коне.
Веки комиссара отяжелели, глаза сами собой начали закрываться. Ему почему-то привиделась леди Годива, обнаженная и прикрытая лишь своими прекрасными волосами, которая скачет галопом под улюлюканье каких-то темных личностей. Он тряхнул головой, пытаясь прогнать охватившую его дремоту. Предпринял мощное усилие, чтобы собраться и не наделать роковых ошибок. Но в глубине души ему вовсе не хотелось концентрироваться, а хотелось только спать, спать…
— Когда мне исполнилось восемнадцать лет, три события полностью перевернули мою жизнь: как-то вечером во время очередной выпивки папаша не устоял на ногах, споткнулся о помойку, попытался ухватиться за тележку зеленщика, но он был таким тяжелым, что тележка перевернулась и кочаны капусты выкатились на мостовую, а встречный фиакр вильнул и задавил его. Вскоре после похорон моя мачеха Берта, записывая в приходно-расходную книгу проданный зонтик, схватилась за грудь и бездыханная застыла в кресле. Возвращаясь с погребения, я сняла вуалетку перед зеркалом, висящим в будуаре, и вгляделась в свое лицо, которое до сих пор меня как-то мало интересовало, так, словно увидела его впервые. И тогда поняла, что я уродлива.
Где-то на этаже заплакал ребенок. Комиссар очнулся. Похоже, он попал в ловушку. Он кашлянул, пытаясь привлечь внимание к своей персоне и прервать неудержимый шквал красноречия Од Самбатель. Его собеседница при этом скорее напоминала бледную тень человека, чем живое существо.
— Ну и вот, поскольку я была разумной и передовой девушкой, я решила не выходить замуж, продать Бертин магазин, приобрести квартирку в новом доме в Часовом тупике и украсить ее всякими безделушками, приобретенными во время прогулок по городу. Еще я запоем читала мачехины книги. И вот пришел несчастный день, когда на меня напала непонятная хворь, четверо врачей называли разные ее причины, но ни один не мог предложить лекарство. И я оказалась закрытой в четырех стенах. Я и тут не утратила здравого смысла и сумела организовать свое затворничество достойным образом, благо, материальных средств мне хватало, и я сумела нанять помощников, которые ведут мое хозяйство и ходят за покупками. Сама я перемещаюсь только из кровати на кухню, из кухни в уборную, из уборной в комнату, к окну, и от окна назад в постель. Вот теперь вы все знаете, господин комиссар.
— К окну? — пробормотал комиссар.
Од Самбатель проверила рукой, на месте ли клюка, чтобы при необходимости встать с кресла.
— Да-да, именно окно, в нем-то я все и видела! Вот кошмар! Вы будете удивлены, но я люблю ночь, я совсем ее не боюсь, ее тишину нарушают лишь пьяницы, забредающие сюда выгулять хмель от вина, которым налились на Холме или на бульварах, но это случается не так часто. Я-то все по дому болтаюсь, стараюсь соседей не беспокоить, веду себя скромно, вот даже на палочку пришлепала наконечник из резины, я ведь…
— Так что в окне? — устало переспросил комиссар.
— Я в какой-то момент заметила этого фанфарона, который поджидал кого-то внизу. Он стоял в непривычном месте, обычно люди возле фонаря ждут, а не у кучи обломков. Ну, сперва я предположила, что у него назначено свидание с женщиной. По этому поводу я вспомнила рассказ, что прочитала на прошлой неделе, там один…
— Так что в окне?
— Ну если это вам так важно… Затем я подумала, что больно он беспокоен, как-то слишком дергается, и я решила, что он замышляет неладное. И тут сзади появляется вовсе не фифа в рюшечках — из темноты выдвигается мужской силуэт, он мне кого-то напомнил, но никакой возможности вспомнить, кого же… Короче, он достает короткую палку с лезвием на конце и два или три раза пронзает горло того фанфарона. Затем раскладывает какие-то вещи возле тела…
— Благодарю вас за проявленную гражданскую доблесть и предоставленную ценную информацию, — объявил комиссар, с облегчением вставая с неудобного, словно набитого булыжниками, диванчика. — Мы еще придем, чтобы задать вам несколько вопросов.
— Конечно-конечно, я отсюда никуда не денусь.
Од Самбатель проводила комиссара до двери: калека-калекой, она тем не менее оказалась на голову выше кучерявого стража порядка.
«Он похож на спаниеля… — подумала она, пожимая ему руку. — Грустный спаниель, который притворяется полицейской ищейкой».
Она уже готова была закрыться, как в дверь просунулся чей-то ботинок, а за ним голова молодого человек в кепке.
— Рено Клюзель, репортер «Паспарту». Мой дядя — владелец газеты. Вот моя визитная карточка. У нас есть связи в парижских комиссариатах, и как только где-то произойдет убийство, нас сразу предупреждают. Согласитесь ли вы рассказать что-нибудь интересненькое для нашего листка? Если желаете сохранить анонимность, не волнуйтесь, я обещаю! Я могу предложить вам даже небольшое вознаграждение.
— Даже не думайте! У меня все есть. Я так люблю вашу газету! И счастлива буду прочесть в ней свое имя. Проходите, располагайтесь! Чайку? Что-нибудь выпить?
— Я бы не отказался от чашечки кофе.
Хозяйка заковыляла на кухню, а журналист примостился на жестком, как камень, канапе и принялся разглядывать полку, на которой в рядок выстроились шкатулки из перегородчатой эмали.
— Красивая у вас коллекция, — заметил он, когда она появилась в комнате с подносом, на котором дымилась чашечка кофе в окружении сахарницы и трех черствоватых на вид печенюшек.
— Ох! Это воспоминания о том прекрасном времени, когда я выходила из дома и ходила по магазинам. Я не закрываю дверь на ключ, поскольку ко мне часто забегает соседка по этажу, так она, порой, возьмет да и стащит одну или две! Нравится ей водить меня за нос, что поделаешь. А меня это даже как-то забавляет. Так что вы хотите знать?
— Всё, дорогая мадам, абсолютно всё!
Проворство вчерашнего выпускника Торговой школы Рено Клюзеля, которого дядя взял на работу, только чтобы угодить старшему брату, помогло газете «Паспарту» раньше всех подготовить специальный выпуск про убийства. К откровениям Од Самбатель добавились сведения, по крохам собранные в полицейском участке.
И потому Жозеф Пиньо, воспользовавшись отсутствием клиентов в магазине, решил скрасить себе хмурое утро чтением увлекательнейшей криминальной хроники. Рядом валялось недоеденное яблоко, намерения поработать над романом «Кровавый сочельник» тоже были забыты. Он все не мог закончить рукопись о бессмертном герое, безжалостно уничтожавшем полчища призраков в парижских подвалах. К счастью, его предыдущий роман, «Адский селезень», только что вышел в издательстве «Артем Файар». Хотя аудитория тут была попроще, чем у «Шарпантье и Фаскель», он добился большого успеха у широкой публики, все более падкой на романы господина Пиньо.
— Отлично сработано! Хрясь ему прямо в сонную артерию! Но прежде чем смыться, преступник положил возле тела жертвы несколько странных штук!
— О чем это вы здесь сидите и рассуждаете возле кассы, обложившись со всех сторон бумагами — с одной, я вижу, ваше последнее творение, а с другой — одна из вечных скандальных газеток?
Жозеф внезапно обнаружил, что перед ним стоит Кэндзи, который спустился с первого этажа раньше, чем обычно. Жозеф скрестил ноги (чтобы справиться с беспокойством) и хлопнул себя по ляжке (чтобы поскорее прийти в себя).
— Да я просто оценил лихо закрученный сюжетец…
— Держу пари, что в этой истории действует некто, отправленный к праотцам каким-нибудь злоумышленником. Так что за газета?
Жозеф с несчастным видом протянул Кэндзи номер «Паспарту», тот водрузил на нос очки и насупил брови.
— Жозеф, скажу вам прямо: вам нужно немедленно избавиться от этой мании. Вы собираетесь опять впутать Виктора в одну из этих заварушек, чтобы он рисковал жизнью?
— Ох! Я сыт по горло вашими упреками! Это он всегда начинает! А я, что ли, не рисковал жизнью, не закрывал его собой? Ну спасибо на добром слове!
— Что тут за перепалка и при чем здесь я? — раздался спокойный голос, принадлежащий владельцу велосипеда «Алкион». Он только что затащил свое средство передвижения в магазин и теперь тщетно пытался найти ему место.
Присвистнув, новоприбывший вопросительно посмотрел на спорщиков.
Его появление остудило страсти. Жозеф тут же принялся аккуратно складывать стопку рукописей, чтобы лежала листик к листику. Кэндзи положил газету на кассу и сел за свой рабочий стол, где скопилось огромное количество нечитанных писем.
— Вы же должны быть на заседании Кружка книготорговцев, — проворчал он.
— Я ушел, закончив дела с нашим зимним каталогом. Простите мою смелость, но меня охватило неистовое желание вернуться в родной магазин, где я чувствую себя как дома. И когда я увидел, каким счастьем осветились ваши лица при моем неожиданном появлении, бальзам пролился на мое сердце, — невозмутимо ответил Виктор.
Потом он оттащил велосипед в кладовку, а вернувшись, заглянул через плечо Жозефа и пробежал глазами статью, которую тот, наконец получив такую возможность, дочитывал.
— Вот где собака зарыта! О чем речь-то?
— Расскажу вкратце. Сегодня ночью в Часовом тупике (это XVIII округ) было совершено кровавое преступление. Был найден труп молодого человека с перерезанным горлом. У него забрали все документы, кроме одного письма, по которому и удалось идентифицировать его личность. Этот юноша стал жертвой адской постановки. На его груди лежала иллюстрация из старинной рукописи — впрочем, поддельная. Рядом с телом — три камня, обтянутых белой тканью. Водяные часы. Плюшевый крокодил. Мешочек с пшеничными зернами и черной галькой. Можно, я вырежу эту статью и наклею в свой дневник?
— Дружище, вы забываете о том, что вам давно уже не нужно ни моего согласия, ни согласия Кэндзи на ваши действия! Вы же теперь наш коллега и к тому же известный писатель! Вырезайте, наклеивайте и, главное, не отвлекайте меня от основных обязанностей, а то тут есть один человек, который нам за это устроит взбучку!
Уязвленный иронией в свой адрес, Кэндзи резко обернулся:
— Да я знаю, что если уж вы влезли в расследования, то, что вам ни поручи, все без толку. Однако я все-таки хотел бы, чтобы ваша тяга к смертоубийству как-то сошла на нет, всего-то.
— Очень вам за это признателен. Будьте совершенно спокойны, все это осталось в прошлом. Ни плюшевый крокодил, ни черные камушки меня не собьют с истинного пути.
Он дал Жозефу щелбан и подмигнул.
— Мы тут сходимся во мнении, надеюсь, господин Шерлок Пиньо? Литература, только литература… Ну и еще семья.
— Само собой разумеется, — пробурчал Жозеф, не теряя при этом надежды сохранить статью.
— О, семья… Я соскучился и так жду уже, что Таша с малышкой вернутся домой!
Жозеф удержался от замечания о том, что при всей нежности к домашним он бы не отказался побыть пару дней в одиночестве в квартирке на улице Сены.
По обычаю, Таша удостоила своего высочайшего благословения здание «Мулен Руж», вырисовывающееся на горизонте, и вошла в арку дома 36-бис, в одной руке держа сумку, в другой сжимая липкую ручку Алисы. И зачем она купила ей карамельки на площади Клиши! Она упрекнула себя, что слишком потакает дочке. Та хоть и не была капризницей, но охотно принимала ласки и подарки от мамы, которую в детстве не особо баловали. Виктор был не в силах этому воспрепятствовать, но побаивался, что девочка вырастет требовательной кривлякой.
«Мне все сегодня представляется в черном свете — подумаешь, конфетка, пустяк… Виновата эта встреча, зачем я согласилась, почему не ответила ему “нет”? Может, это успех кружит мне голову?»
После того, как ретроспектива ее работ была выставлена в галерее «Ла Палетт», которой тогда руководил ее приятель Морис Ломье, заказы посыпались один за другим. Она вполне могла отказаться, но ей нравилось, что она вносит свой вклад в семейный бюджет, который раньше пополнял в основном один Виктор. Но выигрывая в одном — в известности, в материальных средствах, она теряла при этом в другом — в независимости и самоуважении.
— Мамуль, я хосю поиграть в кегли во дворе под акасией! Ну позалуста! — пискнула Алиса. Ее эта игра увлекала куда больше, чем куклы.
— Ладно, пятнадцать минут. Потом ты помоешь руки, перекусишь и сядешь рисовать.
— Отлицно, а Коску мне прислес?
Время это показалось девочке целой вечностью, и она захлопала в ладоши, когда из квартиры вылетела кошка. Таша зашла в мастерскую, но дверь оставила открытой, чтобы следить за дочерью — та иногда начинала хулиганить.
Она вспомнила, как тот мужчина выскочил из своего кабриолета, когда она расплачивалась за фиакр, который привез ее с вокзала. Таша утомилась гостить у Натансонов, поэтому уехала раньше, чем собиралась: ей надоело вести умные разговоры об искусстве и носить прическу, хотелось расслабиться, распустить волосы, почувствовать себя наконец дома. Она соскучилась по Виктору, перед всей этой артистической публикой она не могла в этом признаться, однако только в его присутствии она расцветала, даже если каждый из них был погружен в свои дела.
— Вы мадам Херсон, если я не ошибаюсь? Пардон, мадам Легри? — поинтересовался долговязый тип в мешковатом темном костюме. Незнакомец был, скорее, смазлив, хотя впечатление портили резкие носогубные складки. В углу рта торчала трубка. — Не узнаёте? Я Бони де Пон-Жубер, мы встречались у моего дяди, герцога де Фриуля.
Она сразу узнала этот нудный голос, в котором время от времени мелькали игривые, сальные нотки. И вспомнила, как в прошлом году, не обращая внимания на свою жену Валентину и близнецов, Гектора и Ахилла, этот нахал Пон-Жубер пытался за ней волочиться, буквально преследовал ее, как коршун, так удачно скрывая при этом свои развратные намерения, что ни несчастная супруга, ни Виктор ни о чем не подозревали. Нет, не может быть, чтобы эта востроносая Валентина не догадывалась о похождениях мужа, ей просто глубоко наплевать, решила тогда Таша.
«Ох! Хочется пощечин себе надавать! Почему, когда этот хлыщ стал уговаривать меня написать портрет его жены, я не послала его куда подальше?»
— Мы с Валентиной будем счастливы видеть вас в нашем новом особняке на улице Ремюза, рядом с домом престарелых Шардон-Лагаш. Приходите в любой удобный для вас день, мы подстроимся! И главное, ни слова об этом тетке моей жены, мадам де Салиньяк, у нее зуб на вас и вашего мужа!
— Это немудрено, она из ненавистников капитана Дрейфуса и при этом в курсе моего происхождения.
— Псст, ну ладно, это дело закрыто, кому теперь интересны глупые предрассудки! Талант не имеет национальности. Так что, договорились?
— Я навещу вашу жену, — сказала она, чтобы побыстрее отвязаться.
«У таланта нет национальности! То-то все знакомые этого Пон-Жубера и эта мерзкая газетенка, “Ла Либр Пароль”, которую издает Дрюмон, утверждают совершенно обратное!»
Как же она теперь исправит эту оплошность? И что скажет Виктор? Она поставила на раздвижной столик стакан молока и блюдце с несколькими розовыми печеньями, положила полотенце и собиралась идти во двор за Алисой, и тут вдруг услышала мужской голос. Вздрогнув, она помчалась к акации, где играла дочка. Беда никогда не приходит одна: этот главный комиссар, Огюстен Вальми, который вечно старается к ней прижаться, явился — не запылился. Что ему тут понадобилось?
Он, как всегда, был одет с иголочки: белый пикейный жилет, серые брюки в бежевую клетку, черные кожаные сапоги из города Шантильи, сверкающие так, что в них можно было смотреться, как в зеркало. Приталенный сюртук, цилиндр, черные кожаные перчатки и небрежно накинутый на плечи непромокаемый плащ завершали его щегольской наряд.
— О, мадам Легри, вы столь же ослепительно сияете, как и в былые времена!
— Моя мама вам не лампа, — отрезала в ответ Алиса.
Он присел на корточки, попытался дружески щелкнуть ее по носу, но вышло у него неуклюже и неловко, Алиса отпрянула и зарылась в юбки Таша.
— Какая умница! Есть в кого, впрочем.
— Если вы ищете моего мужа, сходите на улицу Сен-Пер.
— Я разыскиваю книгу «Парии любви», произведение мсье Горона, бывшего начальника сыскной полиции, недавно вышедшую в издательстве «Фламмарион». Там речь идет о событиях из криминальной хроники, о садисте, отрезающем у девочек косички, о мошенниках, которые втирались в доверие к провинциалам, объявляя себя знаменитыми писателями… Я жду не дождусь, когда мне в руки попадут эти мемуары, они необходимы мне для самовоспитания, ну я и решил, что раз уж оказался в вашем районе…
— Вы уверены, что о таких вещах стоит говорить в присутствии ребенка? Я же уже сказала вам, что Виктора нет дома!
— Как жаль, у меня нет времени слоняться по городу!
— Тут вообще-то рукой подать!
В этот момент к великой радости Таша и Алисы во двор въехал Виктор на велосипеде, который явно выдавал восьмерку на переднем колесе. Он соскочил с седла прежде, чем потерял равновесие, и прислонил свой агрегат к стене мастерской.
— О! Какая приятная встреча! За нее следует выпить, — предложил Огюстен Вальми.
Тут вмешалась недовольная Таша.
— Нам с Виктором есть о чем поговорить, мы давно не виделись. Мы с дочкой гостили у друзей, и теперь нам с мужем нужно кое-что обсудить.
— Не волнуйтесь, мадам, я не такой наглец, чтобы служить яблоком раздора в вашей семейной жизни. Я у вас его позаимствую буквально на секунду, он запишет название нужной мне книги и немедленно отправится к вам, обещаю!
Виктор с непроницаемым лицом последовал за настырным главным комиссаром, радуясь одержанной победе, а Таша повела Алису домой. Кошка вперилась зелеными глазами хозяину в спину, недовольная его изменой, а затем приступила к тщательному туалету.
Сидя на открытой веранде вдали от других посетителей, они потягивали напитки и приглядывались друг к другу. Виктор смаковал вермут с черносмородинным ликером, Огюстен Вальми мочил губы в терпком и горьком «Амер Пиконе».
— Никогда не догадаетесь, зачем я пришел, — сказал он.
— Я так понял, что по поводу книги.
— Это всего лишь повод. Произошло убийство. А я не могу взяться за расследование, потому что эта история касается непосредственно меня. Потому-то я и решил прибегнуть к вашим услугам.
Виктор так резко поставил свой стакан, что половина выплеснулась. Брезгливо промокая салфеткой лужицу, он пробормотал:
— Вы что, запоздало пытаетесь мне отомстить? Срок давности для ваших обвинений по поводу предыдущего расследования уже вышел!
Огюстен Вальми подозвал официанта.
— Повторите заказ мсье. Дорогой мой Легри, как вы могли такое подумать! Я попал в переплет и умоляю вас помочь. Когда вы узнаете все подробности, ситуация прояснится, вы поймете, что я вас не пытаюсь ввести в заблуждение.
— Нечего изображать оракула, рассказывайте уже, а я потом решу, как поступить.
— В тупике, в темном уголке, убили мужчину. Комиссар полиции XVIII округа сразу предупредил меня. Если информация о его личности будет предана огласке, пресса не упустит возможность проехаться на мой счет. Мое имя смешают с грязью, семейные дела покойного батюшки (Господи, храни его душу) и моей матушки, которая уединилась в Гапе, будут обсуждать на каждом углу, ее станут чернить продажные писаки, бумагомаратели! А моя карьера… Я с одной стороны не имею права вмешаться лично, но и оставить это подлое деяние безнаказанным не могу: убитый человек был моим сводным братом. К счастью, мы носим разные фамилии.
— А как вы узнали, что это ваш сводный брат?
— В его бумажнике лежало письмо, адресованное Роберу Доманси, улица Ришелье, дом 3. Доманси — фамилия его матери. Вот, прочтите:
Робер, сахарный мой!
Жаль, ничего не скажешь! Мы могли бы составить отличную пару и вместе покорить подмостки «Комеди-Франсез». Что поделать, тогда останемся друзьями, да? Я на тебя не обижаюсь, жизнь предлагает всевозможные варианты таким выдающимся личностям, как мы с тобой.
Твоя Шарлина
— Выдающиеся личности, я вас умоляю, — усмехнулся Вальми. — Я ходил в морг опознавать труп, — продолжал он свой рассказ. — Хотя мы уже несколько лет не виделись, сомнений нет — это он, мой сводный брат. Сказать, что я испытывал к нему сердечную привязанность, было бы преувеличением, однако я с горечью думаю, как несправедлива к нему судьба: лежал с перерезанным горлом, а вокруг тела валялся весь этот мусор, какой-то плюшевый крокодил, пакетик с зернами…
— Знаю, с пшеничными. Мне Жозеф зачитывал статью.
— У мсье Пиньо поразительный нюх, он упускает свое призвание, в полиции его ждут с распростертыми объятиями.
— Этот Робер Доманси — актер?
Огюстен Вальми тяжко вздохнул.
— Отец мой был развратником. Мне было девять лет, когда он соблазнил Манон, молодую служанку в таверне возле нашего дома. Когда она обрюхатела, отец избавился от нее, дав ей денег и отправив куда-нибудь подальше. Она вернулась в свою семью, жили они где-то в глубинке, в Гаре. Там и родился Робер. Проказник-папаша, наградивший меня братиком — по счастью, пока неизвестным, постепенно привязался к мальчику, которого редко видел, но продолжал переписываться с тех самых пор, пока малыш научился складывать на бумаге два слова. На смертном одре он наказал мне присматривать за ним. Это моральное обязательство не вызвало у меня энтузиазма, но я послушно исполнял отцовскую просьбу, сведя ее, впрочем, к регулярным денежным переводам и полезным советам, на которые этот шалопай не обращал никакого внимания. В один прекрасный день он предупредил меня, что собирается приехать в Париж с твердым намерением покорить сцену. Поступил в Консерваторию. Во время каникул подвизался в бульварных театрах. Он, в общем, был близок к тому, чтобы добиться успеха, его взяли в «Комеди-Франсез». И вот он убит…
Виктор допил свой коктейль.
— Очень жаль, я сочувствую вашей беде, но…
— Вы нужны мне. Полицейский, которому поручено это дело, не обладает и малой толикой вашей проницательности. Судя по всему, какой-то изощренный ум решил обставить символами свое преступление. Кто знает, не последует ли за этим еще одно убийство?
Вновь такое знакомое искушение зашевелилось в душе Виктора. И вот ирония судьбы — его закадычный враг, главный комиссар, который вечно старался ему помешать в расследованиях и изводил своими нападками, теперь пытается заставить таскать для него каштаны из огня!
— Исключено. Я не могу подвергать опасности Таша и Алису. А Кэндзи и Айрис меня со свету сживут своими упреками.
— Но Жозеф Пиньо уже гарцует от нетерпения! Вы будете действовать незаметно, под моим тайным прикрытием. Никто не заподозрит, что вы занимаетесь этим делом. Я буду снабжать вас всей информацией, которую смогут накопать мои сотрудники, а вы мне в ответ будете оказывать бесценное содействие. Хватайте удачу за хвост, даю вам свое разрешение!
Виктор задумчиво водил пальцем по краешку стакана. Привычка к размеренному существованию пригасила его охотничий инстинкт, с годами поубавилось авантюризма. Он так гордился, что удалось обуздать его, неужели он признает, что потерпел фиаско?
— Ваше молчание — знак согласия, Легри? — поинтересовался Огюстен Вальми.
Виктор едва заметно кивнул головой. Да, полное фиаско. А сердце уже радостно затрепетало.
— В первую очередь необходимо срочно отправиться в «Комеди-Франсез», чтобы допросить с помощью ваших деликатных методов эту таинственную Шарлину. Смотрите, я уже написал для вас рекомендательное письмо, которое позволит вам проникнуть в любой уголок театра.
— Свобода, о как ты прекрасна, свобода… — вполголоса пропел Виктор.
— Ох! Вот что я вам скажу… Это всего лишь версия. След может привести куда угодно. Знаете, например, что мой сводный брат играл на бегах? Вот что нашли у него в кармане.
Он протянул Виктору бумажку, на которой было написано:
Оплатить услуги «советчика» за октябрьский выигрыш в Лоншане. РДВ Бистро на Холме.
— Попробуйте проследить эту ниточку. Мой братишка, может, отказался вознаградить этого торговца секретами, и тот разозлился. У вас полная свобода действий.
— Договорились. Когда хищник выслеживает жертву, он идет на север, а смотрит на юг.
— Шекспир?
— Нет, Кэндзи Мори.
— Хотите сделать из меня козла отпущения? Если мы будем следовать его указаниям, упремся рогами в стену!
— Думаю, не стоит отказываться от этой идеи. Сейчас у нас особенная ситуация. Мы сейчас единомышленники, поэтому не вставляем друг другу палки в колеса.
— А отказ будет для него оскорбителен.
Такой разговор между Виктором и Жозефом состоялся в «Потерянном времени» (им удалось незаметно скрыться с рабочего места). Каждый пытался утаить от другого свое возбуждение. Жозеф тайно наслаждался возможностью заняться этой историей, взорвавшей все газетные хроники. И мысль, что комиссар Вальми будет у него в должниках, тоже окрыляла. Да и Виктор вдруг почувствовал себя помолодевшим на десять лет.
Игра состояла в том, чтобы не выдать другому свою радость, поэтому Жозеф заставил долго себя упрашивать и не сразу согласился помочь зятю.
— А как мы это технически осуществим? — спросил он, прихлебывая свой напиток.
— Я сейчас отправлюсь в «Комеди-Франсез», а вы меня прикроете перед Кэндзи. А вам, если меня не подводит память, нужно было съездить в библиотеку на бульвар Рошшуар. Кто знает, может удастся накопать что-нибудь ценное.
— Вы считаете нашего шефа идиотом? Он сразу заподозрит неладное, узнав про бульвар Рошшуар, он ведь тоже читал ту газету.
— Умение скрывать — королевское искусство, как-нибудь вывернетесь. Если вы поведете себя осмотрительно, ни наши жены, ни Кэндзи не заметят наших маневров. На этот раз нам придется превзойти самих себя: сдержанность и рот на замке.
— Да. Мечтать не вредно.
Дождь поливал мостовую, когда Виктор пришел в «Комеди-Франсез». Он снял свой дождевик, оставил велосипед заботам доброго разносчика вина, который при этом налил ему кружечку грога, и спрятался под греческой коллонадой, окружавшей театр. Он смотрел, как дождь стучит по лужам, смотрел на мокрую листву деревьев в саду Пале-Рояль, на зонтики прохожих и думал: «Что же я тут делаю?
Вечно мне на месте не сидится. Может, у меня не в порядке нервы? Почему я не могу полностью раскрыться в обычной жизни? У меня прекрасная семья, интересная работа, я влюблен в свою жену, как в первые дни знакомства, обожаю свою дочь — я счастливый человек, и все же мне вечно надо свернуть с протоптанной тропки. У меня создается впечатление, что мой путь — санный спуск, по которому я скольжу с каждым годом все быстрее. И есть только один способ остановить этот стремительный спуск — нарушить монотонную повседневность».
Ему нужно было помочь Кэндзи в магазине, но невозможно было противиться зову дороги. Расследование — пауза в повседневных делах, возвращение в детство, наполненное пиратами, сокровищами, бандитами, законниками.
«Мне не хватает зрелости, поэтому мне не светит стремительная карьера. Все, что мне остается — в ожидании старости, которая совсем лишит меня энтузиазма, я развлекаюсь. Думаю, что Жозеф настроен примерно так же».
Он подошел к билетной кассе, полюбовался на цены, выбрал ложу бенуара (цена показалась ему заоблачной).
— Если вам на «Фру-Фру», на любое представление остались только сидячие места на галерке по два франка, — кислым голосом предупредила его кассирша.
— В таком случае я не попадаю на спектакль. Ну, раз так, можно мне хотя бы осмотреть зал?
Он достал письмо, под которым стояла подпись главного комиссара Огюстена Вальми.
— Полиция? Здесь, у нас? Да вы шутите, мсье.
— Простая формальность: нужно провести небольшую инспекцию, раз уж произошло убийство.
Кассирша заколебалась: открытый номер «Фигаро», лежащий перед ней, доказывал, что до нее дошли слухи о смерти Робера Доманси.
— Подождите немного, я справлюсь у начальства.
Виктор воспользовался этим, чтобы полюбоваться прекрасным убранством вестибюля, где стояли разнообразные скульптуры, воплощающие драму и комедию. Кассирша медленно подошла и метнула на него недоверчивый взгляд.
— Сейчас нет репетиции, но у вас только час, ни минутой больше.
Он приподнял шляпу и направился в сторону лестницы.
Зал на тысячу четыреста мест стоял пустым, и потому создавалось странное впечатление, словно он населен призраками. Может быть, Тальма, Рашель, мадемуазель Клерон, мадемуазель Марс
[1002], невидимые, танцевали на сцене фарандолу
[1003], а бригадир тем временем стучал три раза, и занавес взлетал к потолку?
— Могу я спросить у вас одну вещь? — раздался нежный голосок.
Он обернулся: перед ним оказались фиалковые глаза, вздернутый носик и отважно декольтированная грудь.
— Правда, волнующее ощущение возникает здесь, среди этих притихших кресел, словно предчувствующих шепот и гримасы будущих зрителей? У меня сердце сейчас выскочит из груди, послушайте, как бьется.
Незнакомка взяла его руку и приложила к своей левой груди. Виктор вежливо высвободился.
— Я буду в декабре играть в пьесе «Сознание ребенка» Гастона Девора. Ах! Если бы я могла талантом и славой сравниться с Жанной Дельвер!
[1004] Она получила первый приз за трагическую роль в пьесе «Эринии» Леконта де Лилля. Говорят, что она будет играть Гермиону, но, по-моему, она так и осталась вульгарной продавщицей из магазина Old England на улице Скриб. Я вот начала выступать с двенадцати лет, правда, сперва была просто наездницей в цирке, но мои родители из кожи вон лезли, заставляли александрийские стихи учить, лишь бы для меня лучшей жизни добиться! Прощай, конюшня и навоз! Вам нравятся мои духи? Это туалетная вода на основе опопанакса, он нравится мне больше, чем гелиотроп
[1005].
— Я привык к запаху бензоина, такими духами пользуется моя жена.
Девушка скривилась в недовольной гримаске, даже чуть покраснела. Поправила пальцем непослушную прядь на лбу.
— А, так вы из женатиков? А что тогда кольцо не носите?
— Оно мне жмет, я его снял.
— А что вы ищете здесь в такое неподобающее время?
Виктор решил, что лучше всего будет сказать правду.
— Один из моих друзей, полицейский, попросил меня помочь в расследовании смерти Робера Доманси. Вы его знали?
— А что случилось? Я вчера вернулась из Гере, с похорон бабушки.
— Он погиб. Его зарезали.
Его собеседница бессильно опустилась в кресло.
— Это невозможно! Робера убили! Я высоко его ценила, несмотря на его мерзкую скупость и высокомерие. Я была ему небезразлична, но мы не особенно сближались, поскольку привыкли отделять мух от котлет. Он хотел заловить какую-нибудь богачку, либо поклонницу с наследством, либо звезду сцены. Какая-нибудь Шарлина Понти была достойна только простыни согревать, а основные силы он берег для более шикарной любовницы. Парню хотелось усидеть одним задом на двух стульях!
— Пардон?
— Чтобы на каждой руке по девице висело! Вы, кстати, не из тех гнилых аристократишек, которые не держат за людей бедных актрис?
Виктор не знал, лестно ему от этих слов или обидно. Он решил не принимать их всерьез.
— Мадемуазель Понти, вы заблуждаетесь. Я книгопродавец, вот моя визитная карточка, кстати, возьмите несколько, раздайте коллегам — актерам, костюмерам, гримерам, чтобы они могли со мой связаться, если им есть что сказать по поводу мсье Доманси.
— Шарлина сгодится для интимных поручений. Это адрес вашего магазина. Вы там и живете?
Он встала, подошла к нему чуть ближе, чем положено для спокойной беседы, чуть касаясь его: в ее движениях чувствовалось мастерство опытной соблазнительницы.
— Мы с женой живем неподалеку оттуда.
— Неподалеку? Ну, я разыщу. Я тоже умею проводить расследование. Вам не надоело в этом зале, здесь такие сквозняки? Давайте поднимемся наверх, к внутренней стене, я покажу вам потайную дверцу, которая позволяет попасть в библиотеку. Восемь тысяч томов, сокровище из бумаги, в котором понатыканы портреты авторов и переводчиков, буковки и виньетки. Вы обомлеете, там такой поразительный покой, вы, я и тонны книг. Ух ты! Вас что, скорпион укусил?
Виктор быстро поклонился и поспешил ретироваться. На выходе из зала он еще раз приподнял шляпу. Правило номер один: избегать нескромных вопросов при первой встрече.
— До свидания, господин полицейский книготорговец, вы упрыгали, как заяц, но вы меня еще не знаете: я загоню вас, как только обнаружу вашу норку, — прокричала ему вслед Шарлина Понти.
Глава третья
Тот же день, ближе к вечеру
Ливни прошли, и тротуар на бульваре Рошшуар стал немного подсыхать. Из соображений предосторожности Фермен Кабриер протер мостовую при входе в тупик, присел на корточки, развернул свой узел, в котором были собраны жирные мелки, два или три горшка, терка для сыра, кисточки и щетки. Он обозначил квадратный контур и голубым мелком набросал лошадь, впряженную в карету. Ловко пририсовал голубое дерево, зеленую тумбу Морриса, желтого полицейского, ярко-красную продавщицу кокосовых орехов и фиолетового ребеночка. Затем встал, вытер руки куском мягкой ткани, отряхнул штаны и стал наблюдать за реакцией прохожих на его творение.
Жозеф заметил его еще издали. Он весь трясся от радости: наконец-то настал желанный миг. Долгие часы он томился в магазине до прихода Виктора, и потом пришлось терпеть обед, который Кэндзи пригласил разделить с ним у него на этаже. Мели прислуживала до ужаса неторопливо, можно было два раза умереть с голоду, пока она что-то принесет. Наконец ему удалось вырваться, несмотря на ядовитые замечания тестя, удивлявшегося вслух, что зять поехал оценивать какие-то книги, о которых до этого никто слыхом не слыхивал.
«Я словно под надзором, он обращается со мной как с мальчишкой, а я между тем отец семейства и его коллега. Когда он уже начнет воспринимать меня как взрослого человека, который сам может отвечать за свои поступки?»
Он вскочил в фиакр, ввинтился, как улитка, между телами… Какая-то рыжуха затолкнула его в самую гущу.
«Держу пари, что этот уличный художник расскажет мне много интересного».
Фермен Кабриер оценил его взглядом: ищейка. Нужно быть осторожным, эта публика может любое ваше слово обернуть против вас, раз — и вы уже попались в их сети.
— О, вы настоящий мастер, жаль только, что они так эфемерны: несколько капель дождя — и они исчезают!
— Если бы погода была не такой капризной, я бы побольше постарался: у меня есть своя антикоррозийная техника, я применяю клей. Намазываю им ту поверхность, которая мне необходима, потом разрисовываю, используя стилет. С помощью вот этой терки я измельчаю мелки в пыль и разными цветами раскрашиваю разные участки картины. Такие картины держатся дольше, но это довольно скрупулезная работа. А при такой влажности, как сегодня, игра не стоит свеч.
— Держите вознаграждение за ваши труды, — сказал Жозеф, протягивая ему монету десять су.
— Вы очень щедры. Ну, до скорого!
— Погодите… Мне сказали, что в этом тупике произошло убийство. Вы видели труп?
Фермен Кабриер, сидящий на корточках и собирающий в узел свое имущество, внезапно откинул голову и посмотрел на Жозефа. Мешковатый черный костюм, когда-то белый галстук, курчавые волосы с проседью, под кустистыми бровями — маленькие свинячьи глазки, усы топорщатся, вид гордый и независимый — ну, чисто барсук. Жозеф инстинктивно сделал шаг в сторону.
— Я? Нет, я ничего не заметил, я тут нечасто ошиваюсь, у меня в других местах дел по горло. А не хватит ли вам приставать с разговорами, отдохнуть от вас хочу.
— Извините, пожалуйста, я без задней мысли, просто вокруг тела лежали такие странные предметы, ну я и хотел… Ну, мы, короче говоря, хотели бы раскрыть эту тайну.
— Вы — это кто? Полиция?
— Нет-нет, вы ошибаетесь, я сам по себе, просто мы расследуем это дело вместе с товарищем.
Когда Барсук встал, Жозеф с облегчением убедился, что он маленького роста. И тут же он показался каким-то менее воинственным и устрашающим.
— Ну а что там лежало вокруг трупака-то?
— Там была поддельная миниатюра, плюшевый крокодил, пакетик с зернами пшеницы и черным гравием, три больших камня, обернутых тканью, и клепсидра.
— Сколько, говорите, сидра?
— Клепсидра — это такие водяные часы. Похоже, та, что была найдена, — копия античного греческого образца. Такой сосуд с раструбом и с дырой в основании.
Он переполнен, и жидкость переливается в приемник, который расположен внизу, и по уровню в вазе видно, сколько времени прошло. Но пустая клепсидра, которую там оставили, — явно какой-то символ времени.
Уличный художник поскреб подбородок:
— Кабаре «Небытие». Стоит туда дойти, это недалеко отсюда, на бульваре Клиши, номер 34. Смотрите, интересно ведь, может, есть связь с тем типом, который сыграл в ящик.
Он водрузил узел на плечо и пошел прочь от голубого дерева, желтого полицейского и фиолетового ребеночка, от разноцветного дождя, размывающего раскрашенную нашлепку на асфальте.
Траурные ленты обрамляли вход в кабаре «Небытие», они были замаскированы ставнями с черепами. Видеть то, что внутри, полагалось только вечером посетителям — любителям сильных ощущений.
Жозеф заглянул в ближайший магазинчик бакалейных товаров.
ВДОВА ФУЛОН
Домашние консервы и варенья
Доставка на дом
Он смешался с толпой домохозяек, изучающих товар на полках с консервами. Не стал задерживаться перед полками с блинной мукой и с фосфорными удобрениями фирмы «Фальер». Повертел банку с бульоном перед пожилой женщиной, измученной ревматизмом.
— Это недорого, — шепнула старушка, — всего 13 сантимов, на нем еще можно быстренько овощной суп сварить, с краюшкой хлеба вполне съедобно получается, если в кармане пусто.
Он кивнул и пошел по ряду с чаями, печеньями, медом и уксусом. Старушка ковыляла за ним.
— Что-то впервые я вижу, как вы тут отовариваетесь. Здесь хорошее местечко, не воруют, все цены написаны. Я-то уж в этом понимаю, я ходила с тележкой, торговала овощами, зеленью, но что уж там, потом стареешь, и все… А прошлой зимой я к тому же упала… рекомендую вам шоколад «Пихан», два франка фунт, буквально тает во рту, — прошепелявила она, заговорщицки поглядывая на него.
Не имея сил сопротивляться, он взял три плитки и впихнул старушке.
— Дарю их вам. Пойдемте, я оплачу их при выходе.
Она даже покраснела от удовольствия, но для формы поломалась:
— Ох, зачем же, молодой человек, я не настолько бедна…
— Нет-нет, это честь для меня, на вашем месте могла бы быть моя мать, она тоже торговала зеленью с тележки. Возьмите, пожалуйста.
— Ну раз вы настаиваете… Это так мило… Ну тогда вам совет, никогда не покупайте у них чечевицу, она твердая, как ружейная дробь, даже когда ее битый час варишь. Зато их ветчинка за пятнадцать су просто чудо!
Когда они дошли до кассы, в руках Жозефа были пакеты с цикорием «От маркитантки», несколько жестянок сардин, кусковой сахар на веревочке, три палки уцененной колбасы — и это помимо шоколада и бульона. Он поставил все рядом с кассой — медным произведением искусства. Хозяйка явно наслаждалась звучным щелканьем клавиш. Эта пятидесятилетняя костлявая женщина со стянутыми в пучок волосами, в розовой кофте, с завлекательной улыбочкой на губах чувствовала себя царицей в своих владениях. С двух сторон от ее высокого стула на соломенных поддонах лежали круги сыра бри из Мелюна и Мо. За спиной висели связки колбас и стояли баночки с горчицей.
— Что празднуем, молодой человек?
— Да это не мне, это для мадам.
— Для матушки Ансельм?
Внезапно говор в лавке стих. Глаза всех присутствующих обратились на счастливицу, которая удостоилась такого грандиозного подарка на сумму три франка шестьдесят сантимов. Жозеф положил в карман сдачу: тоненький голосок внутри него нашептывал, что он так, глядишь, разорится. Матушка Ансельм озадаченно молчала.
— Ну в чем же я все это попру?
— Держите сумку, потом принесете, — бросила ей хозяйка.
Старушка вцепилась в своего благодетеля.
— Спасибо, молодой человек, надо уметь принимать подарки судьбы, кто-то говорил мне, что понедельник — мой день, так оно и получилось! Благослови вас Бог! Я уверена, что тут помог мой амулет!
Она достала из сумочки кружевной платочек и, развернув его, показала плоский овальный камушек с нарисованной на нем красной звездой.
— Это Фермен Кабриер, тот художник, что рисует мелками, подарил мне этот камень. С ним нужно обращаться осторожно, рисунок может стереться.
— Очень красиво, — из вежливости похвалил Жозеф. Он сложил провиант в корзину, но когда бабуля взялась за нее, она чуть не рухнула.
— Илер! Помогите ей, она живет в двух шагах отсюда, — приказала хозяйка приказчику, почти такому же старому, как матушка Ансельм, с лицом, как лезвие бритвы, обрамленным желтовато-белой, словно ватной, бородой. Впрочем, держался он прямо, точно аршин проглотил.
— Бесплатная доставка за счет фирмы, чаевых не надо, — во всеуслышание объявила хозяйка.
Жозеф выгреб из кармана всю мелочь и перегрузил ей на кассу.
Получив в ответ порцию благодарности, он почувствовал, что отныне будет желанным гостем в торговом доме Пелажи Фулон.
Хозяйка украдкой изучала странного типа, оказавшегося таким щедрым.
Русский князь, переодетый мистером Икс? Один из жизненных принципов ее мужа, Оскара Фулона, гласил: «Когда покупатель вдруг выкладывает кругленькую сумму, нужно попробовать его загарпунить и выяснить его подноготную».
— К нам скоро поступит партия деликатесов. В нашем магазине появится фуа-гра из Страсбурга, великолепные паштеты в желе, икра, копченая рыба, ветчина из Праги и из Лимерика.
— Я вегетарианец, — ответил Жозеф, внезапно обрадовавшись решению Айрис отказаться от мяса.
Бакалейщица только хотела что-то сказать на это, как вдруг какой-то достойный господин в крылатке потряс перед ее носом бутылкой с минеральной водой.
— У нас что, во Франции нет своих источников?
— Ну как же: Виттель, Виши, Эвиан…
— Тогда зачем вы продаете эту воду, Маттони, которую черпают в Богемии, возле Карлсбада, и утверждаете, что это лучшая из всех столовая минеральная вода?
— Это не мы утверждаем, а производитель. А если вам не нравится, идите к нашим конкурентам. А вы, мадам Бобуа, вам не надоело копаться в фасоли? Берете уже или нет? — напустилась хозяйка на назойливую покупательницу, нажимая пальцем на чашку весов, отчего стало невозможно определить правильный вес.
Жозеф покинул это поле раздора и подошел к одной из продавщиц, пухленькой брюнетке, у которой спросил, что интересного представляет собой кабаре «Небытие».
— Таверна мертвяков? Мой жених Рене там вкалывает, так он ходит одетый могильщиком, врагу не пожелаешь такую работу. Не ходите туда, там одни кости какие-то. Вам подают выпивку, а вокруг скелеты или дурацкие привидения, и что тут интересного, правда, Колетт?
Вторая продавщица, бледная невысокая блондинка с синими кругами под глазами, кивнула.
— Да лучше поднимитесь на Холм, там полно местечек, где танцуют и веселятся, правда, Колетт? — продолжала брюнетка. — А, ну да, я забыла, ты по таким местам не ходишь!
— Я вот с чего решил спросить: мне тут друг с какой-то тумбы сорвал объявление, в котором говорится о конце света.
— Да этими бумажками завален весь квартал, — сказала Колетт. — Гроша ломаного они не стоят, я вот одну тоже подобрала. Если это шутка, у них не все дома, они сеют в народе панику.
Она сходила за сумочкой, достала из нее листок с траурной каймой и протянула Жозефу.
— Очень признателен вам, мадам.
— Мадемуазель, — поправила Колетт.
— Ах, ну да-да-да, мармазель! Она у нас скромная, мсье, в ее-то возрасте нет любовника, вся такая нетронутая! А уже четыре года здесь горбатится! И заметьте, от Илера толку мало, он древний, как Старый жид.
— Пардон? — удивленно переспросил Жозеф.
— Да замолкни уже, Катрин! Она имела в виду Вечного жида, Агасфера, мсье. Намекает на Илера Люнеля, приказчика.
— Эге-ге, мсье, если отправитесь в «Небытие» сегодня, передайте Рене Кадейлану, что я его люблю!
— Катрин, ну хватит!
— Вы его легко узнаете, это гигант с ярко-рыжими волосами, — уточнила брюнетка.
Жозеф совсем засмущался от такого внимания со стороны обеих девушек и решил тихо ретироваться, незаметно выскользнув в дверь.
— Как, вы уже нас покидаете? — воскликнула хозяйка.
В ответ прозвучало что-то неразборчивое, среднее между «достань» и «до здания». Махнув рукой на прощание, Жозеф удалился.
— Вот тебе и здрасте, жаль, что мы не удержали такого голубчика-то! — огорчилась Пелажи Фулон.
На бульваре Жозеф пробежал глазами текст лже-извещения. Он испытывал все большее возбуждение. А у уличного художника-то, оказывается, неплохой нюх — возможно, существует связь между смертью Робера Доманси и рекламой этого кабаре.
«Конец света 13 числа. Думаю, эта комета совершенно безобидна. Они пытаются водить нас за нос. Надо навести кое-какие справки, это срочно. Но где? В магазине? Нет, там Кэндзи будет за мной шпионить. А, у мамы! Она будет счастлива, что я буду под боком».
Он сложил вредную бумажку и засунул ее себе в бумажник.
Обед на улице Сены завершался в относительном спокойствии. Дети устали за день, Айрис обдумывала сюжет сказки «Злоключения Мочалки», про пастушью собаку, которая никак не могла сосчитать своих баранов. Эфросинья сокрушалась, что никто не хвалит ее пирог с тыквой.
— Мам, ничего, если я переночую на улице Висконти? Мне нужно кое-что поискать в библиотеке.
— Правда, мальчик мой? Пойдем домой вместе? Буду на седьмом небе от счастья. Ой, а как же Айрис?
— Никаких проблем. Я уложу детей и буду писать сказку.
— Ну, у вас у обоих это писание в крови, и у вас, и у Жозефа. Господи, словно и так книг мало, те, что есть, никак продать не можем!
Как только они пришли на улицу Висконти, Жозеф стянул кухонную лампу и отправился в свою вотчину, где и набросился на старые гравюры, газеты и журналы, заботливо расставленные по годам.
— Ну по правде, детка моя, что ты там выискиваешь, а?
— Объяснения по поводу смерти.
— Веселенькое занятие! Ты долго будешь этим заниматься? Если долго, я посижу с тобой и прилажу пуговицы на платье, которое мне дала мадам Херсон.
Спустя час Эфросинья ошеломленно рассматривала Жозефово логово, где она, не щадя сил, наводила порядок и расставляла по полкам реликвии, которые со страстью коллекционировал отец Жозефа.
— Как подумаю, что я пополам рвалась, чтобы музей твоего бедного отца привести в порядок, а ты! А ты!
Откинув волосы со лба, Жозеф потряс в воздухе брошюрой.
— Эврика! Это легенда о Сатурне! Кое-что проясняется!
— Что же ты тут выясняешь? Сатурн? Это планета такая, что ли? А она имеет отношение к этому дождю из падающих звезд, о котором нам все уши прожужжали?
— Нет-нет, римский бог Сатурн.
Он наклонился над брошюрой и зачитал из нее несколько фраз.
— У греков он назывался Крон, или Хронос. Сперва в мире царил первозданный Хаос, из него родилась Гея — Земля и Уран — Небо. Эти два божества родили титанов, циклопов, Япета, Рею и, наконец, Сатурна. Опасаясь соперничества со стороны своих детей, Уран низверг их в бездну.
— Ну и белиберда! А имена у них, хоть стой, хоть падай. А этот урод Уран! Уничтожить плоть от плоти своей! Иисус-Мария-Иосиф!
— Да, можно считать, Сатурн отомстил за своих братьев. Продолжение я тебе расскажу в следующий раз, сейчас уже поздно.
— Ну спасибо, только распалил мое любопытство и теперь дразнишь меня! А у этой Мели Беллак руки растут сам знаешь откуда, она только и делает, что все портит! Ох, за что мне все это, Господи! А я-то хотела вечерок спокойно провести за картами, в мушку
[1006] поиграть! Ну и ладно, так и сделаю, счастливо оставаться! И не забудь прибраться, я тебе не служанка!
Дверь за ней хлопнула. Жозеф счел своим долгом послушаться мать и начал уборку. И вот, когда он перекладывал на место стопку театральных программок, в голове всплыл обрывок воспоминания. А ведь это имя, Робер Доманси, он уже раньше где-то слышал! Но вот только где? Никак не вспомнить. Ругаясь про себя на провалы в памяти, он растянулся на своей узкой кроватке, приятно удивившись чистым простыням, благоухающим лавандой.
Эфросинья уже улеглась в постель с романом, который скрашивал ей отход ко сну, но никак не могла сосредоточиться на драматических перипетиях сюжета: сын за стеной беспокойно мерял комнату шагами.
— Детка? Ты уж меня прости, я вспылила, день был тяжелый. Сладких тебе снов! — крикнула она.
— И тебе, мамочка!
Уже погружаясь в сон, Жозеф вдруг вспомнил, как в прошлом году ходил в театр «Жимназ» на комедию «Мадемуазель Морассе» Луи Лежандра, билет достался ему по случаю, это был подарок главного редактора «Паспарту» Антонена Клюзеля. Изнывая от скуки, при тусклом свете, идущем от двери запасного выхода, он вновь и вновь перечитывал программку спектакля. Жозеф готов был поклясться, что в списке действующих лиц и исполнителей мелькнуло имя актера, убитого в Часовом тупике.
— Куда же запропастилась эта проклятая программка? Я точно помню, что сохранил ее. Завтра посмотрю, она должна быть в подвале магазина, — пробормотал он и уснул.
Глава четвертая
Вторник, 31 октября
Луи Барнав никак не мог заснуть. Обычно вино оказывалось верным средством от ночных кошмаров. Но не в этот раз. Скрипнет где-то дверь, послышатся шаги соседа сверху — и сразу нервы напряжены, в голове теснится толпа образов. В конце концов, его сморил тяжелый сон, но этот сон был переполнен кошмарами.
Во сне он видел парад людей-бутербродов, одетых в выцветшие пальто. Они шли гуськом вдоль бульваров, на груди была афиша, на спине была афиша, и на обеих кровавыми буквами было написано его имя. Люди скандировали: «Луи Барнав,
Луи Барнав, Луи Барнав — убийца!» Стая ворон превратилась в городской полицейский патруль, вооруженный белыми палками, а потом целая толпа людей из окрестных домов перемешалась со сворой ищеек, пущенной по его следам. Вдруг навстречу ему вылетел фиакр, запряженный обезумевшими, в пене, лошадьми. Даже прежде чем он был раздавлен колесами, увидел, как огромная пила разрезает брусчатку, и он падает, погребенный под останками.
Проснулся он в холодном поту.
— Я не убивал, я невиновен! — вскрикнул он, съеживаясь под драным, провонявшим табаком одеялом. — Жуть какая приснится!
Он встал, почувствовал, что замерз. Накинул плащ поверх фуфайки и кальсон и пошел разжигать угольную печку. Давешнему клиенту, англичанину с пышными бакенбардами, в костюме в клеточку, нравилось общество ремесленников, приказчиков и веселых девиц, собирающихся в районе Мулен де ла Галетт, чтобы поплясать и пофлиртовать. Он мечтал встретить там знаменитого клоуна Футита, как и он, уроженца Великобритании. Напившись в зюзю на площади Пигаль, он устремился на улицу Стейнкерк, где было скопление публичных домов, в том числе и дешевых, трехфранковых, «на время». Луи Барнав лез из кожи вон, чтобы они могли наконец удалиться от толпы женщин, стоящих руки в боки перед дверями с написанными номерами, и наконец, преследуемые их оскорблениями в спину, телохранитель и его подопечный вскочили в фиакр, который отвез их в отель «Темза», на улицу Алжир.
— Я и десятой части того не выпил, что этот англичашка, когда вонючки из компании «Омнибус» выставили меня с работы как какого-то засранца! Они мне инкриминировали вождение в пьяном виде! Ни работы, ни деньжат, и тут мои крошечки травятся от стухшей жрачки, — пробормотал он, взглянув на пожелтевшее фото своей жены и дочери.
Он вспомнил про то воскресное утро, когда бродячий фотограф снял их на улице Абесс, между кондитерской и мясной лавкой. Все еще было неплохо, Нани работала в Армии здоровья на улице Рима, 76, а Хлоя собиралась пойти в обучение к низальщице жемчуга для кладбищенских венков.
Он разжег огонь, пошарил в поисках хлеба или сыра, но безрезультатно, нашел лишь немного скисшего молока, и, раз уж так получилось, позавтракал им. Затем набил трубочку, оделся, засунул в карман плаща потрепанный блокнот и незаметно выскользнул на улицу. Собака консьержа, убежавшая погулять и пометить территорию, побрезговала своим паштетом. Луи Барнав решил не дать пропасть добру и умял его, черпая из собачьей миски руками, а потом вытер пальцы о занавеску привратницкой.
«Поделом ему, вечно на меня рычит и семейство кошачьих не любит, в отличие от всех нормальных консьержей», — подумал Луи Барнав и плюнул на коврик у двери.
Дождь, ливший всю ночь, превратился к утру в синеватую морось. Силуэты домов были таинственно размыты, прохожие напоминали призраков. Повозки с фруктами и овощами двигались в сторону улицы Лепик: там, на крутом подъеме в горку, закупались жители Монмартра. Рядом с тележками шагали рабочие, направляющиеся на заводы северных окраин, а редкие муниципальные служащие в жакетах и шляпах дыней бежали по лестницам вниз, чтобы занять свои насиженные местечки-синекуры за сто пятьдесят франков в месяц.
Луи Барнав прокладывал себе путь среди теней, расталкивая их без единого слова извинения. Иногда он кого-то узнавал на ходу: вот горнист Марсиаль в красной жилетке, златошвейка Фернанда, а этот лысый составляет желающим гороскопы, а это музыкант, который играет на виоле, а вот Альфред, он занимается литьем из бронзы. Барнав прошел вдоль мастерских художников, завешенных кумачом, с кучей всяких ящиков и ящичков. Едва увернулся от бочки, которую бондарь катил по тротуару. Плюнул на леса, окружившие церковь Сакре-Кёр: огромный крест, недавно водруженный на купол, ярко выделялся на фоне грозового неба. Он показал небесам кулак. Снова плюнул на строительную площадку: рабочие сооружали фуникулер для подъема на Холм. На улице Жирардон он остановился возле поворота на аллею Туманов и смачно харкнул в сторону двухэтажного павильона, где жил художник Ренуар. Луи Барнав ненавидел все, что, по его мнению, уродовало его родные места.
Он вернулся, прошел мимо старых домиков, крытых соломой, окруженных садиками и огородиками, на границах стояли крынки с молоком. Несколько лавочек, красный домик — мясная лавка, желтый — молочник, зеленщик-бакалейщик с оранжево-шафрановой лавкой внесли свой вклад в эту убогую декорацию. Улочка со сточной канавой, с теснящимися обшарпанными домишками выглядела совершенно провинциальной. Здесь все пропахло бедностью — если не сказать, нищетой.
— Точить ножи-ножницы! — завывал бродячий точильщик.
Но те, кто работал дома, заперлись в четырех стенах вокруг очага или газовой лампы. Шаги Барнава отдавались в тишине, слышно было лишь, как несколько тощих девчушек прыгали в классики.
— Ну что, малявки, а кто в школу будет ходить? — прогрохотал им Луи Барнав.
Он вышел с узкой улицы на площадь Тертр и направился в свое любимое бистро «Бускара», где была еще маленькая гостиница. По воскресеньям хозяин писал мелом на стекле объявление: «Лотерея». Луи Барнав толкнул дверь, в нос ему ударил запах аниса, бульона и древесных опилок. Он с удовлетворением заметил, что его стол, в углу возле стойки, прямо под газовым фонарем Ауэра, свободен. Уютно расположился за столиком и заказал окорок с фасолью. Рядом с ним два анархиста сочиняли памфлет и заговорщицки перешептывались, потягивая аперитив с хиной. Остальные посетители разделялись на любителей бильярда, которые толпились в задней комнате, и разгульных художников с подмастерьями в подбитых мехом беретах и заношенных шляпах. Одни щеголяли в мушкетерских плащах, другие — в национальных бретонских костюмах. Самые невыразительные были одеты в прямые куртки и стянутые на щиколотках краги или же в саржевые костюмы в стиле «Прекрасной садовницы» Рафаэля.
Стоптанные башмаки, щегольские бородки козликам на зависть, и вдобавок все эти ребята поглощали огромные порции жареной картошки, запивая ее красным вином, и прерывали процесс активного пережевывания пищи лишь затем, чтобы во всеуслышание изречь что-нибудь о современном искусстве.
— Морис! А я уж думал, что ты копыта отбросил! Экое ты чучело в этом цилиндре! — закричал какой-то лохматый художник новому посетителю, зашедшему в бистро.
— Ломье, ты предатель! — проревел его сосед.
— Я? Я вообще запрещаю тебе ко мне обращаться, — мигом отреагировал новоприбывший.
— Ты, владелец галереи, выставляешь какую-то бабу, к тому же русскую, да еще сомнительного происхождения, тебе нет места среди нас!
Завязалась было потасовка, но хозяин ворвался в толпу и быстро унял безобразников. Вновь воцарился обычный безобидный гвалт. Луи Барнав, зажав руками уши, принялся изучать каракули в своем блокноте.
— Доктор Рудольф Фальб
[1007], астроном, профессор геологии в Венском университете и профессор математики в Пражском, объяснил это в своем пророческом произведении: 13 ноября 1899 года наша планета столкнется с огромной кометой. Ее раскаленный хвост заденет Землю, обрушив на нее поток громадных небесных скал, все города и их жители превратятся в пепел.
— Чашку кофе? — спросил официант.
Луи Барнав поднял руку в знак согласия, продолжая читать вслух текст, переписанный из календаря «Альманах Ашет, советы практической жизни» за 1899 год.
— Количество комет, несущихся в ледяном космическом пространстве, приблизительно равно семидесяти четырем миллионам миллиардов. Длина их хвостов достигает многих миллионов лье.
— Я бы и подумать не мог, что их столько! — воскликнул официант, в ужасе тараща глаза.
— Да уж, дружище, нужно учиться, чтобы что-то знать и понимать. Беранже
[1008] вон уже сочинил песню, вдохновленный идеей катастрофы, которую предрекали в 1819 году, «Довольно с нас: состарился наш мир»
[1009], я вот с ним согласен на все сто. Второй раз паника поднялась 29 октября 1832 года, в это время, по мнению некоторых ученых, мир должна была уничтожить комета Биела. А потом 13 июня 1857 года на род людской покушалась комета Карла Пятого, да как-то пронесло. Но теперь уж, дружище, эта новая нас уж точно не пощадит!
Официант так перепугался, что уронил ложку на каменный настил. Несколько художников повскакивали с плетеных стульев и окружили Луи Барнава.
— Ну хватит тут мне! — взорвался хозяин. — Вы совсем застращали этого дурня! Не потеряй мозги, как эту ложку, Арнольф, разуй глаза: эти господа ждут свой окорок с фасолью. Жуть, что тебе здесь понарассказывали.
— Рудольф Фальб — не какой-нибудь шарлатан! Он никогда не ошибается, предсказывая опасные дни, морозы, ураганы, наводнения, землетрясения, извержения вулканов! И нельзя забывать притом о Камиле Фламмарионе! — проревел Луи Барнав.
— Это что еще за птица?
— Это, мсье, ученый и к тому же писатель. Он написал «Конец мира»
1, я читал отрывки в «Сьянс Иллюстре», но даже если там и показаны истории через шесть веков после нас, смысл-то такой же: прилетела комета — и бабах.
[1010]
— У тебя не все дома, слушай! Только маньяк может так хотеть, чтоб все грохнуло! — возмутился хозяин.
Анархисты поднялись из-за столика и тихо удалились, чем и воспользовался Морис Ломье, чтобы вновь зайти в бистро.
— Ну теперь, когда всех предупредили, надо забраться в укромный уголок и подождать, пока все утрясется, — подмигнув, шепнул он Луи Барнаву.
Не удостоив его ни единым взглядом, бывший извозчик расплатился за мясо и кофе, сунул блокнот в карман плаща и зычным голосом провозгласил:
— «
Близки дни и исполнение всякого видения пророческого». Книга Иезекииля, глава 12! Привет всей честной компании!
Таша читала письмо, которое получила утром. Уже раскрывая конверт, она заметила американскую марку и поняла, что письмо от отца. Она всегда волновалась, получая известия от Пинхаса, но на этот раз так распереживалась от прочитанного, что даже опрокинула стаканчик, в котором отмачивались кисточки. Кошка тут же прискакала в надежде получить лакомство, Алиса захныкала, но, к счастью, не проснулась.
Дорогая моя доченька!
Дела мои процветают в этом бурлящем городе, по сравнению с которым Париж — просто деревня. Мы с моим партнером намереваемся открыть еще один синематограф на Бродвее. Когда ты получишь это письмо, я уже буду в Англии: задумал путешествие в Европу. Я, конечно, рад буду увидеть вас, тебя, Виктора и малышку Алису, но главное — мне надо поговорить с Джиной: я наконец решил документально оформить наш разрыв. Мы два года назад договорились разойтись полюбовно, но расстояние мешает осуществить все формальности, потому я и пишу тебе. Можешь ли ты договориться о заседании бейт дина, нашего религиозного суда, и найти двух свидетелей? Я обращаюсь к тебе потому, что у тебя есть связи, которые могли бы облегчить этот процесс. Я не могу найти наше свидетельство о браке, думаю, у Джины есть ее экземпляр. После нашего официального развода нам будет легче начать новую жизнь. Мне, конечно, неудобно говорить об этом с тобой, но правда такова: у меня есть подруга, мы очень любим друг друга, и я надеюсь, что женюсь на ней. Трудно найти верные слова, поэтому я сразу перейду к сути дела: у нас родился ребенок, сын, ему три года и его зовут Джереми.
Таша в ярости скомкала письмо.
«Вот шлемазл, мешуга
[1011], — пронеслось в ее голове, — просто чокнутый какой-то! Седина в бороду, бес в ребро! Братик, понимаете! Моложе меня на тридцать с лишним лет!»
Она прямо вся кипела от негодования. Ему теперь до нее нет дела, он гордится своим новеньким отпрыском, это в его-то возрасте!
— Знать не хочу этого парня, этого… бастарда!
Она взяла себя в руки, успокоилась. Развернула письмо. Пинхас ничего не писал о матери ребенка.
— Никакой он мне не брат, сводный просто! Тоже мне, дядя Алисы и Маркуса!
Решила все-таки дочитать:
Джереми очень славный. Знаешь, он похож на тебя! Он не рыженький, скорее шатен, но у него твои глаза, и когда он сердится, делает такую же гримаску. Джина обидится, нет никаких сомнений. Но я по-прежнему очень привязан к ней.
И ни слова о сестре Рахили. Ах нет, тут постскриптум:
Я рассчитываю затем отправиться в Краков, где поживу у твоей сестры и ее мужа Милоша Табора. И увижу своего внука Маркуса. Как было бы чудесно, если бы в какой-нибудь момент мы могли бы собраться все вместе…
Гнев утих. Таша постояла у кроватки Алисы, ее сердце наполнилось нежностью. Потом она решила перечитать письмо, и даже не заметила, как в комнату вошел Виктор.
— Что нового пишут? — улыбнулся он.
Она вздрогнула, спрятала письмо в сумочку. Не было пока никаких сил обсуждать с ним изменения в личной жизни Пинхаса.
— Да это подруга детства пишет, ничего особенного, неудачный брак, собирается, возможно, развестись… А как у тебя утро, плодотворно прошло?
— Великолепно. Продали партию книг для украшения гостиной, заказчик больше интересовался переплетами из телячьей кожи, чем содержанием. А ты задумала новую картину? — поинтересовался он, бросив взгляд на ее альбом с эскизами.
— Да. Бони де Пон-Жубер пожелал, чтобы я написала портрет его жены. И выдал мне ее фотографию, чтобы я представляла, как она выглядит. Скоро надо к ним идти.
«Час от часу не легче. — подумал он. — Этот гнусный развратник будет пытаться завлечь ее в свои тенета».
— Ты действительно считаешь, что так правильно? Что тебе нужно тратить время на заказы?
— Я же тут отлично написала мадам де Гувелин с ее псами! И ты был не против.
— Но это было три года назад!
— Я обещала. И за это дадут много денег.
— Но нам вроде и так хватает! А как быть с Алисой?
— Я обо всем договорилась. Айрис возьмет ее в Люксембурский сад на кукольный спектакль.
— Было бы лучше, если бы мадам де Пон-Жубер сама приходила сюда, ее муж позволит ей на некоторое время ускользнуть из супружеских оков — он-то так частенько делает.
Таша не ответила. Сидела, молча грызла ноготь на большом пальце, — ясно было, что из нее ни слова не вытянуть.
— Здравствуйте, мсье Легри. Вычислить место вашего обитания было даже проще, чем я предполагала. Служанка в вашем магазине — сама любезность…
«Будь проклята Мели Беллак!» — подумал Виктор, стиснув челюсти.
Он, ни о чем не подозревая, смело распахнул входную дверь на первый же стук — и, о ужас, столкнулся нос к носу с Шарлиной Понти, еще более обворожительной, чем накануне.
— Я вас надолго не задержу, — успокоила его она, усилив при этом напор и буквально вдавливаясь в квартиру.
Она кивнула головой Таша, которая оцепенела от ярости: посреди обеда вваливается какая-то совершенно незнакомая красотка, при этом вся такая элегантная. Актриса расстегнула клетчатый плащ и повесила на спинку кресла. Поправила оборки муслинового платья цвета слоновой кости, обшитого по краю бархатными бантиками и стразами.
Завитые волосы венчала вишневая плессированная шапочка, украшенная плюмажем из черной жатой тафты. А Таша, уверенная, что к ужину никого ждать не приходится, осталась во всем домашнем. Потому она тут же устыдилась своей широкой блузы в пятнах краски и растрепанной шевелюры. Она бросила испепеляющий взгляд на Виктора, с негодованием заметив странные гримасы, которые он строил гостье в надежде заставить ее примолкнуть. А той между тем было хоть бы хны.
— Это мадам Легри, я так понимаю? А девочку как зовут? — поинтересовалась Шарлина Понти, встав рядом с высоким стульчиком, где сидела малышка.
— Алиса, — с набитым ртом прошамкала девочка.
— Какое чудесное имя! А как ты хорошо разговариваешь! Это будущая актриса, мсье Легри. О, как неудобно получилось, я ввалилась к вам во время еды, мне очень жаль!
— Я почти доел, может быть, мы отойдем с вами в мастерскую моей супруги?
— Вы отъявленный лжец, мсье. Ваша тарелка почти полна, и благодаря моему внезапному вторжению вам придется есть холодную говядину. Буду краткой: у меня есть несколько важных сведений о Робере Доманси, которые я могу вам сообщить. Вчера я скрыла правду, сказав, что он держался от меня на расстоянии, на самом деле мы очень быстро преодолели это расстояние. А потом он очень быстро смылся. Боже, как же я была глупа, сердце разрывается!
Она испустила трагический вздох. Алиса испугалась, бросила вилку, отвернулась от тарелки с пюре.
— Женщины такие наивные, вы согласны со мной, мадам? Ох, я опять болтаю глупости и вам докучаю…
— Кто такой Робер Доманси? — спросила Таша.
Виктора внезапно одолел приступ кашля, и он устремился на кухню. Он надеялся, что Шарлина Понти догадается пойти за ним. Но она не тронулась с места, стоя как соляной столб возле Алисы. Он выпил стакан воды и вынужден был вернуться.
— Ну, вам получше? Вы меня так напугали! Представляете, ведь моя бабушка умерла, потому что ей не в то горло попало! Робер был актером в «Комеди-Франсез», как, впрочем, и я, — объяснила Шарлина Понти, обернувшись к Таша.
— Был? А сейчас что?
— Он умер, его убили в воскресенье ночью, разве муж вам не рассказывал?
Таша встала. Лицо ее было очень бледным. Она в упор смотрела на Виктора, а тот был готов провалиться сквозь землю.
— Нет, он в очередной раз избавил меня от своих патологических пристрастий, — сердито ответила Таша. — Ну, или у него провалы в памяти.
— Заметьте, я понимаю, почему он скрыл от вас нашу встречу: он, очевидно, боялся, что вы будете ревновать. Не волнуйтесь, наша беседа была о посторонних вещах, он даже отверг мое предложение посетить библиотеку. Что же касается Робера, бедняги Робера, я вполне в состоянии удовлетворить ваше любопытство, если это вас по-прежнему интересует, мсье Легри.
Шарлина скинула шарф, открывая взорам обширное декольте.
— Ну так удовлетворяйте уже! — раздраженно воскликнула Таша.
Алиса аж подскочила — она не привыкла, что мама кричит, и тут же заплакала. Виктор был ей за это даже благодарен, он бросился к ней, схватил на руки и унес на другой конец комнаты, чтобы утешить.
— А ваши часы вон там правильно идут? Ох, я опаздываю на репетицию, вы уж на меня не обижайтесь! Завтра в полдень, сад Пале-Рояль, мсье Легри! — повелительно заявила Шарлина Понти, облачаясь в плащ.
— Ну, я не уверен, что… — но красотка уже упорхнула.
— Вот противная кривляка и невоспитанная вдобавок, ни тебе здрасте, ни до свиданья, и все это перед нашей девочкой, с ума сойти можно! — возмутилась Таша.
— Тише, милая, она ведь нас слушает.
— У тебя еще хватает наглости волноваться, что наша дочь что-нибудь не то услышит в этом доме?
Виктор сел, взял на руки Алису и принялся пичкать ее остывшим пюре.
— Ты зря волнуешься. Я правда встретился вчера с этой юной нахалкой, потому что меня попросил об этом Огюстен Вальми. Робер Доманси — его родственник. Он хочет провести тайное расследование и попросил меня помочь в этом.
— И ты хочешь, чтобы я проглотила эту нелепицу?
Виктор изобразил оскорбленную невинность и, левой рукой, продолжая рисовать кошечку на пюре в Алисиной тарелке, торжественно поднял правую.
— Любовь моя, клянусь здоровьем нашей дочери, что…
— Нет уж. Не клянись, тем более здоровьем дочери. Ты никогда не держишь слово. Ну обещай мне хотя бы вот что: ты не позволишь соблазнить себя этой доморощенной Саре Бернар.
— Не более, чем ты уступишь домогательствам Бони де Пон-Жубера!
— Она липучка!
— А он хлыщ!
Алиса поочередно смотрела то на одного родителя, то на другого, а потом заявила, показывая на кошку в своей тарелке:
— Хлыпучка!
Они обернулись к ней, потом переглянулись, пытаясь сдержать подступающий хохот.
Таша вышла из фиакра на улице Мирабо — чтобы попасть в особняк Пон-Жуберов, она должна была пройти пешком мимо двух больших зданий, в которых помещался дом престарелых, первый корпус назывался Сент-Перин, а второй — Шардон-Лагаш. Ее внезапно вновь охватила тревога, она почувствовала, что боится постареть, потерять тех, кого любит, что страшится попасть в братскую могилу живых мертвецов, вырванных из памяти близких, приговоренных ожидать конца в компании других таких же престарелых затворников. Потом перед мысленным взором промелькнуло лицо дочери, оставленной заботам Айрис, и она почувствовала, что успокаивается. Если она доживет до преклонных лет, Алиса будет ей поддержкой и опорой, хотя Таша вовсе не собиралась при этом отравлять ей существование.
Она подошла к воротам, потянула за шнурок звонка. Лакей в ливрее окинул ее недоверчивым взглядом, а когда она сообщила о цели своего визита, сделался еще более высокомерным. Они прошли черед садик, потом поднялись по небольшой лестнице, вошли в подъезд и оказались в коридоре. Далее Таша предложили полюбоваться обстановкой будуара, а мадам де Пон-Жубер не замедлит в ближайшее время появиться.
В комнате царил культ сатина-либерти
[1012]: им были обиты стены, софа, кресло, подушки, исключение составляли картины и гравюры. Таша почувствовала, что ей становится дурно в этой нише, украшенной букетами в стиле Помпадур и фантастическими цветами: создавший их художник явно был не силен в ботанике. От такого обилия безвкусных цветолож и цветоножек у нее закружилась голова. И тут дверь в будуар незаметно захлопнулась. Прежде чем Таша успела пикнуть, ее обхватили две сильные руки и развернули лицом к лицу с тем, кто затем впился губами в ее губы. Бони де Пон-Жубер впился в нее так крепко, что сопротивляться было бесполезно. Шаг за шагом он теснил ее к софе, и как она ни напрягалась, стараясь устоять, он клонил ее все ниже. Она с ужасом и отвращением почувствовала, как его рука скользнула под ее юбку и пытается проникнуть между ног. Она попыталась закричать, но его губы зажимали ей рот, у нее получилось лишь замычать. Насильник навалился на нее, давил всем своим весом, а его рука, словно краб, пыталась проникнуть ей в самое интимное место.
— Прекратите немедленно! Встаньте и отпустите ее, или я позову на помощь, и вся челядь узнает о ваших развратных наклонностях! — прозвучал тут женский голос.
Рука замерла, выскользнула наружу, тяжесть, давящая на Таша, исчезла. Бони де Пон-Жубер бросил уничтожающий взгляд на Валентину:
— Что вы себе напридумывали? Эта дама счастлива уступить моим ухаживаниям, она сопротивлялась только для порядка, она только того и жаждет, ну совсем как вы, дорогая.
И он вышел из будуара так спокойно, словно заходил за пепельницей.
Валентина устремилась к Таша, которая сидела и пыталась поправить сбившееся белье и одежду.
— Мне так жаль, послушайте… Может быть, вызвать врача?
— Нет-нет, если можно, водички. Меня что-то тошнит.
Валентина помчалась и принесла стакан воды, который Таша опустошила одним махом.
— Боже мой, какое животное! Я должна была что-то заподозрить, это ведь не в первый раз. Да и меня он сперва силой принуждал к таким вещам! Что только не творил со мной в первую брачную ночь! Как только родились мальчики, я запретила ему заходить в нашу спальню. Но он выслеживает и иногда, где-нибудь в уголочке, в коридоре…
— Ничего себе! А о разводе вы не подумываете?
— Да уж думала! Но что тогда со мной будет, у меня никаких средств, все на его имя. Когда я выходила замуж за Бони, моя тетя, мадам де Салиньяк, не спросила, чувствую ли я что-то к этому человеку. У меня не было никакого опыта физической любви, она казалась мне отвратительной, но чем больше я ему отказывала, тем больше росли его аппетиты, и я терпела его нескончаемые приставания, не пытаясь возражать. Так меня воспитали, покорной и безответной. Утешало меня лишь то, что приличия были соблюдены. Рождение близнецов стало часом моего избавления, он прекратил меня домогаться. Приобрел привычку ходить на сторону. Его встречали в обществе дам полусвета, а я, а я… — Валентина всхлипнула. В итоге Таша пришлось ее утешать. А ей уже поскорей хотелось бежать из этого особняка — вдруг владельцу приспичит вернуться? Она встала. Виктор был прав. Ни при каких обстоятельствах ей не следовало даже переступать порог этого особняка.
— Я вам очень сочувствую. Лучше будет, если вы сами будете приходить ко мне раз в неделю, если захотите, мы сможем поговорить, а предлогом будет ваш портрет, который я согласилась написать, но никто не заставляет вас позировать, если вам того больше не хочется.
— Спасибо за сочувствие, мне стало полегче. Мне бы хотелось, чтобы вы написали мой портрет. И посоветовали бы мне что-нибудь — если вы не против.
— Конечно. Вы спасли меня из когтей тигра, это будет только справедливо.
Валентина проводила Таша до ворот. На прощание она шепотом спросила:
— А мужу вы расскажете?
— Никогда. Он вполне способен тогда убить вашего.
Глава пятая
Тот же день, ближе к вечеру
Шарль Таллар утомился, проверяя толстую стопку тетрадей, и решил устроить себе паузу. Двухкомнатную квартирку на улице Ампер, которую он занимал с начала учебного года, он выбрал из-за близости к лицею, где он преподавал. Но — Шарль Таллар не уставал это повторять — монументальный шкаф, царивший в тесной комнатке, радовал глаз. Не то чтобы шкаф был красив или функционален: просто дубовый ящик безо всяких там завитушек, и стильным его тоже нельзя было назвать, да и бесполезный вовсе, поскольку вещей в нем почти не было. Главным тут было зеркало. По двадцать раз на дню он любовался на себя анфас и в профиль. Анфас он лицезрел молодого человека с угловатым лицом, темными глазами и тоненькой ниточкой усов, переходящей в острую бородку, вокруг почти неразличимой линии рта. Он представлял себя в костюме Жерома Бонапарта, младшего брата Наполеона I и дядюшки Баденге
[1013]. Для довершения сходства он, когда рассматривал себя в профиль, просовывал руку под жилет, имитируя императорскую стать, и при этом придерживал слегка отвисший животик.
Часы под колпаком напомнили ему о трудовой повинности.
Дата. Дальше с новой строчки: отступаем восемь клеточек от полей. Тема месяца:
Необходимо любить труд, естественный закон и общественный закон.
Тема сочинения-рассуждения:
Почему считается, что Виктор Гюго — глас слабых и обиженных?
Двое из этих маленьких кретинов написали вместо глас «глаз» и получили за это «ноль». Работа в этом лицее, полученная после четырех лет преподавания в школе Монж, была все же большой для него удачей. Это светское учебное заведение, созданное в 1869 году одним последователем Сен-Симона, тяготело к прогрессивному образованию, девизом которого было:
Чтобы хорошо учиться, нужно беречь физические силы и укреплять моральные.
Каждый урок длился не более полутора часов, а после двенадцати три часа были посвящены занятиям гимнастикой или фехтованию, или же прогулке по парижским паркам. Некоторые играли в футбол или ездили верхом. Школьная форма отсутствовала.
«Мечешь бисер перед свиньями… Вот, вероятно, в чем загвоздка: слишком много с ними цацкаемся, ни тебе линейкой по пальцам не ударь, ни дурацкий колпак не надень… Вот меня так учили, и это закалило мой характер!» — подумал Шарль Таллар, слегка покривив душой: на самом деле ему очень нравилось работать в этом вполне либеральном заведении. Он состоял в той группе учителей, что готовила к степени бакалавра. Большой популярностью у учеников не пользовался, однако тридцать две овцы из его отары вполне добродушно ценили педагогические способности и непредвзятость своего пастыря, заметные на фоне остальных учителей. Один-единственный серьезный недостаток все портил: у него совершенно не было чувства юмора. Только мраморная статуя могла не рассмеяться шуткам Гийома Массабьо, лучшего фигляра в классе!
Он вдруг передумал и перед каждым из нулей поставил единичку. А вдруг та, что написала письмо, приходится родственницей кому-нибудь из этих двух балбесов?
Он лихорадочно порылся в памяти. Сочная блондинка, к которой помчался Жак Верньон, когда зазвенел звонок, — была ли это его мать или гувернантка? А кто, интересно, ждал на выходе Фердинанда Гальбье?
Он приметил еще одну женщину, кудрявую брюнетку с вздернутым носиком, но как ее зовут, вспомнить не мог. Хорошо бы это была она…
Да какая разница, кто! Сам факт, неужели листок кремовой бумаги, подброшенный ему в портфель, — проделки матери, одного из бесенят, которых он окормляет? Старательный почерк, фиолетовые чернила (явно у сына позаимствовала), уверенный нажим, вычурная неразборчивая подпись, различимо только заглавное Л: явно писала женщина.
Месье!
Это я положила письмо в ваш портфель, пока вы расплачивались в лавке мясника после занятий в школе.
Я решилась написать вам лишь потому, что сама убедила себя в полной обоснованности моей просьбы. Сколько бессонных ночей мне это стоило! Однако, по зрелом размышлении, я уступила и прошу вас встретиться со мной в среду, 1 ноября, в полночь в Часовом тупике у подножия Монмартра. Странное время, странное место, подумаете вы. Увы, мое положение обязывает меня быть осторожной. Поэтому я предпочла бы встретиться подальше от дома, там, где меня никто не сможет узнать и увидеть нас вместе.
На протяжении долгих недель я привыкала к удовольствию каждый день видеть вас, это превратилось в какое-то наваждение…
«
”…привыкала к удовольствию каждый день видеть вас, это превратилось в какое-то наваждение…
“ — красиво изъясняется, а?» — спросил Шарль Таллар у своего отражения в зеркале, прежде чем продолжить чтение.
Ваше присутствие в моей жизни стало мне так же необходимо, как вода, как пища, я собираю по крохам те краткие встречи, которые мне никак не удается продлить.
Вот почему я в конце концов решилась на эту бессмысленную просьбу о тайном свидании.
Может быть, вы будете разочарованы, может быть, оттолкнете меня. Что поделаешь! Кто не рискует, тот не выигрывает. Если я окажусь в вашем вкусе, не пытайтесь воспользоваться моей слабостью. Но что это я, как я могу предположить, что вы измените правилам хорошего тона: вы ведь джентльмен, это видно по всем вашим манерам. Так что до завтра, жду и надеюсь…
Л.
Он подошел к окну и прошептал: «Леони? Люси? Луиза?»
Задумчиво застыл, глядя на улицу. Сквозь занавеску различил силуэт своего соседа по лестничной клетке, Вилфреда Фронваля, который возвращался из кафе, где убивал время за игрой в домино с другими завсегдатаями. А если это он — автор загадочного послания? Способен ли он на такое низкое коварство? Шарль Таллар принялся прикидывать так и сяк, поглядывая на плетущуюся к дверям фигуру бывшего торговца-филателиста. Ключ повернулся в замке, дверь скрипнула. Взвесив все за и против, он отверг это предположение.
Едва въехав в это буржуазное жилище, Шарль Таллар завел дружбу с этим соседом, шестидесятилетним стариком с вкрадчивыми манерами, который постоянно предлагал ему свою помощь и старался услужить. Вилфред Фронваль, казалось, обладал каким-то шестым чувством, он угадывал мысли и намерения Шарля Таллара, прежде чем тому они даже в голову приходили. Так, например, он принес ему кофемолку и сковородку, когда еще коробки с вещами предыдущего квартиросъемщика стояли в коридоре, и тут же рассказал, в каких магазинах что нужно покупать. Он к тому же многократно приглашал Шарля на аперитив в своей вотчине, называемой «Фасоль».
И постарался наладить своему протеже тесный контакт с нелюбезной хозяйкой этого питейного заведения Каролиной Монтуар.
— У вас будет у нее своего рода кредит, это вам пригодится, если вдруг нет наличности. Главное, неустанно повторяйте ей, что вам так нравится, когда она напевает что-то из Бизе, ей медведь на ухо наступил, но она мнит себя второй Эммой Кальве
[1014] не нужно ее разубеждать, и у вас с ней будут отличные отношения!
Через пару месяцев до Шарля Таллара дошло, почему некоторые посмеиваются, когда он и его покровитель заходят в бистро. Как он был наивен! Вот почему старик его поглаживал то по руке, то по коленке!
— Будьте с ним поосторожнее, ему нравятся мужчины, это может повредить вашей репутации, и на работе узнают — будут неприятности, — шепнула ему как-то вечером Каролина Монтуар.
К удивлению и огорчению Вилфреда Фронваля, Шарль Таллар с тех пор отказывался пропустить с ним стаканчик и вообще бежал его как чумы. Он и сам расстраивался по этому поводу, потому что знал, что старый филателист был счастлив, что кто-то готов смотреть его альбомы с марками, и вовсе не собирался покушаться на его честь. Однако тот факт, что письмо было подброшено в портфель, свидетельствовало не в пользу старика.
«Ну если это он, то он как минимум принял меры предосторожности, назначив встречу подальше от школы».
Основной вопрос заботил Шарля Таллара: какой костюм ему надеть на свидание. У него, правда, все равно их было только два, так что выбор был невелик: коричневый или бежевый?
В лужах на тротуаре отражались огни витрин и фонари экипажей, проносящихся в сторону бульвара Бон-Нувель. Жозеф не испытывал никакого желания присутствовать на специальном представлении пьесы «Дегенераты!», хоть афиша и уверяла красными большими буквами:
МЕСЬЕ МИШЕЛЬ ПРОВЕНС
НАШЕЛ СЛОВА И МЫСЛИ,
ТОЧНО ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАШУ ЭПОХУ.
Он увидел, как перед окошками касс образовалась большая очередь. На протяжении более семидесяти лет публика высоко ценила театр «Жимназ», прославленный такими именами, как актрисы Рашель и Дежазе, драматурги Эжен Скриб, Александр Дюма-сын, Эмиль Ожье и Октав Фейе.
Жозеф смешался с толпой, чтобы послушать, что говорят ценители искусства. Там были дамы, обожающие сентиментальный театр, романтические хитросплетения сюжета, сорванные украдкой поцелуи — эти просто на дух не выносили серьезных сюжетов. Были ненавистники единого оформления спектаклей, хулители любовных треугольников, снобы, гордящиеся местом в партере.
Жозеф записал кое-какие соображения в блокнот: вдруг ему взбредет в голову идея написать пьесу. Набросал портреты людей, читающих газету, сидя на складных стульях в тени зонтиков. Под навесом-маркизой женщины вяжут, другие укачивают свертки с пищащими младенцами. Нищие студенты жмутся к мидинеткам
[1015], которые сами не в состоянии приобрести что-то получше балкона второго яруса или галерки.
У входа в театр толпились торговцы билетами по сниженным ценам. Жозефу предложили последнее свободное кресло в партере, он помотал головой.
«“Дегенераты!”, вот уж повезло так повезло, я и так уже намучился с этой нудятиной “Мадемуазель Морассе”, премного благодарен! Хоть бы это еще не тянулось до самой ночи!»
Он направился в сторону бульвара Пуассоньер, средоточия больших ресторанов и пивных, бросил беглый взгляд на кричащий рекламный щит газеты «Ла Либр Пароль», мельком посокрушался по поводу былого величия ресторана «Бребант», превратившегося в скверную забегаловку. Потом, опасаясь упустить подходящий момент, вернулся.
Он сказал Айрис, что задержится в магазине, поскольку надо подготовиться к праздникам в конце года, но ему вовсе не улыбалось прийти на улицу Сены за полночь. Хотя желудок настойчиво требовал пищи, он удержался от искушения поужинать в пивной, из которой неслись завывания цыганского квартета. Повернул на улицу Луны, купил молочный хлебец и уселся на скамеечку, освещенную огнями ресторана «Маргери». Он рассматривал густо накрашенных девиц, по всей видимости, танцовщиц или певиц легкого жанра, которые спешили в кафе-шантаны, где им предстояло выступать, чтобы потом, расхристанными и растрепанными, в ночи так же спешить по домам.
Внезапно ему открылся весь абсурд ситуации. Буквально через пару недель весь этот привычный ход событий будет уничтожен появлением кометы. Смеяться тут или бояться? Он вынул из кармана «Конец мира», роман Камиля Фламмариона, открыл его на отмеченной странице:
Вопреки всем ожиданиям, 13 июля в пятницу день выдался прекрасный…
Цифра 13 поразила его. Он впился зубами в булочку, откусил кусок. Интересно, автор произвольно выбрал эту дату или что-то имел в виду? Проглотив, продолжил чтение:
Звезда, угрожавшая гибелью, повисла над головами… Через пять дней побледневшие от ужаса люди либо вздохнут с облегчением, либо испустят последний вздох…
Он закрыл книгу. Что толку вечно дрожать и обливаться холодным потом? Жозефу внушал надежду тот факт, что катаклизм, который станет концом всего живого на Земле, знаменитый ученый назначил на XXV век.
«Все-таки время еще есть, — утешал он себя. — Вот странно-то: я только и делаю, что занимаюсь серийными убийствами, а сам терпеть не могу смерть. Ладно, забудем».
Чтобы как-то убить время, он тщательно изучил программку пьесы «Мадемуазель Морассе», которую выудил утром из кучи подобных бумажек, проведя раскопки в подвале их магазина. Имя Робера Доманси было записано самым мелким шрифтом.
Публика начала выкатываться из театра уже в четверть одиннадцатого — это приятно удивило Жозефа. Предъявив пресс-карту, которую ему выдал Антонен Клюзель, редактор «Паспарту», он двинулся навстречу потоку зрителей в сторону гримерки. Артисты снимали грим: мадам Мегар, Дюлук, Тутен, месье Гранд, Шотар и Готье принимали своих поклонников. Жозеф поинтересовался, не может ли кто-нибудь из них рассказать ему что-нибудь по поводу погибшего актера, Робера Доманси. Ответом ему были недоумение, отказ или же воспоминания, слишком незначительные, чтобы чем-то помочь расследованию — в общем, неутешительный итог.
Он расстроился и решил убраться восвояси. Но тут почувствовал. Что кто-то хлопает по плечу. Он заметил приятного молодого человека, симпатичней не придумаешь: кудрявый блондинчик, голубоглазый, в рубашке без пиджака.
— Я так понял, вы были приятелем Робера Доманси? Меня потрясло это убийство, я его хорошо знал, его ждала блестящая карьера в «Комеди-Франсез». Какая несправедливость!
Жозеф отвел его в сторонку.
— Я журналист, если хотите, я не буду упоминать вашего имени.
— Наоборот, это будет хорошая реклама, меня зовут Рафаэль Субран, мне надоело говорить «кушать подано» и открывать героям двери! Я одно время учился в Консерватории вместе с Робером. Он был очень талантлив.
— Я нашел тут программку спектакля «Мадемуазель Морассе», так там его имя в лупу едва разглядишь.
Рафаэль Субран вздохнул. Его улыбка стала еще шире. Что-то в ней появилось неуловимое, неопределенное, такое, чему Жозеф не мог подыскать определения. Помолчав, актер ответил:
— Да, роль была незначительная, но ему удалось сорвать аплодисменты. Жаль, что у него была тенденция к… ну как вам сказать? Чему-то вроде душевной усталости.
Не вдаваясь в дальнейшие объяснения, Рафаэль Субран щелкнул каблуками — вероятно, это означало прощальное приветствие.
— Что вы пытаетесь мне растолковать?
— Я не пытаюсь: я в этом уверен. Робера в какой-то момент застукала кассирша, когда он пытался позаимствовать часть выручки. Достаточно скромную сумму, я знаю об этом. Ему простили. Не стоит писать об этом в статье. Порочить умерших, особенно убитых, — недостойное занятие. Робер очень переживал из-за своего срыва. А кстати, полиция уже кого-то подозревает?
— Расследование только начато, пока все туманно.
— Я надеюсь, что удастся поскорее поймать и казнить преступника. Убийство актера, даже если он и не ангел во плоти, это преступление против драматического искусства. До свидания, мсье, и запомните мое имя: Рафаэль Субран, ни «д», ни «т» на конце, просто «н».
Едва он повернулся, чтобы уйти, Жозеф наконец нашел определение для его улыбки: плотоядная!
«Друг называется! Вот лицемер… Идеальный подозреваемый, кстати».
Отправившись за заслуженной порцией вырезки с печеными яблоками, Жозеф решил записать этот разговор. А может, еще побаловать себя пирогом с абрикосами? Он обещал себе оставить кусочек для Артура. Он чувствовал потребность объединиться с сыном, чтобы любимая жена Айрис, все больше уходившая в свою литературную деятельность, и лапочка-дочка Дафна, в которой души не чаяла Эфросинья, не развели дома полный матриархат.
Спрятавшись в тени между двумя рядами кресел, Рафаэль Субран проследил, как уходил «журналист». Он удовлетворенно вдохнул носом запах, оставшийся в зале после представления: смесь пота, духов и пыли. Это была его атмосфера, самая подходящая для такого любителя половить рыбку в мутной воде.
Глава шестая
Среда, 1 ноября
Газовые горелки книжного магазина «Эльзевир» безуспешно старались пробить серый сумрак дождливого утра. Некоторые завсегдатаи решили не обращать внимания на ливень и явились-таки в магазин. Теперь они рассматривали поступившую новинку — несколько книг семнадцатого века, стопочкой лежащих на столе. Жозеф был настороже. Кэндзи выглядел настоящим денди в шелковой темно-синей рубашке, жилете цвета морской волны и черных шерстяных брюках, сидел на своем обычном месте за конторкой. Он делал вид, что записывает информацию для нового каталога. Однако если бы кто-то из клиентов полюбопытствовал и наклонился над его блокнотом, он был бы очень удивлен, обнаружив вместо записей круги, спирали, цепочку муравьишек и даже лягушку. Это означало, что достойный господин Мори был погружен в женевское издание «Орлеанской девственницы» Вольтера, предваряемое «Эротическим предисловием», называемым «английским». Восемнадцать иллюстраций — рисунков Марилье и гравюр Дюфло — представляли непристойные утехи и анатомические подробности, которые явно оказались по вкусу любителю японских эстампов.
Но, к большому сожалению Кэндзи, ему пришлось захлопнуть книгу — тяжелый том с пурпурной сафьяновой обложкой и золотым тиснением. Возле камина внезапно возник Ихиро Ватанабе и принялся тараторить, жестикулируя с риском расколотить бюст Мольера:
— Мори-сан, я могу обогатить ваши знания о различных странностях и диковинах! Вы никогда бы не подумали, но между двадцатью и двадцатью пятью годами люди отводят на флирт примерно
полчаса в день, и это время неустанно уменьшается: между сорока и шестьюдесятью это уже четверть часа. К концу своего земного существования мужская особь приблизительно двести семьдесят дней тратит на ухаживание за женщинами. Неслыханное транжирство!
— Позвольте мне с вами не согласиться, это весьма благодарное занятие. И кстати, думаю, что эти цифры значительно занижены. Простите, что вынужден прервать дискуссию на столь животрепещущую тему, мне нужно работать, — пробурчал Кэндзи, пытаясь обуздать пальцы на правой руке, лежащей на обложке, — они судорожно сжимались в кулак.
— Все эти статистические данные, Мори-сан, нам следует обобщить в одной книге. Давайте напишем ее вместе, вы и я. Заработаем много денег, — как ни в чем не бывало продолжал Ихиро Ватанабе, словно не расслышав его.
Тут, к живейшему облегчению Кэндзи, консьержка соседнего здания принялась трезвонить в дверь. Она обычно приносила лишь дурные вести, однако Кэндзи с благодарностью поцеловал ей руку, когда она ввалилась в магазин. Ихиро Ватанабе, который боялся ее как огня, тут же скрылся в служебное помещение.
— Ох, горе мое горькое, кузен Альфонс попал в беду! Угораздило же его связаться с этой корридой в прошлом месяце! Он все не может оклематься после падения, и кто, как вы думаете, кто должен ездить навещать его в больнице Монморанси? Это ж надо так! Все ноги стерла!
— Коррида? Где это? — поинтересовался мсье Мандоль. Бывший профессор французского колледжа вошел на мгновение раньше и уже, производя немалое разорение, ожесточенно рылся на полках в поисках «Секретной миссии Мирабо в Берлине», сопровождаемой предисловием и комментариями Генри Вельшингера.
— В Дёйе, возле Ангена, бык пробился через ограничительные барьеры к публике, результат: человек пятьдесят ранены, шестеро из них тяжело, — уточнил Кэндзи.
— Дёй-ла-Барр? Это шутка такая?
— Нисколько. Пожалейте Ромито, его прикончили.
— Кто такой Ромито?
— Бык. И префект департамента Сена и Уаза выпустил указ, запрещающий бои быков, — продолжал Кэндзи, с трудом сдерживая смех.
— Давайте-давайте, издевайтесь, бедняга Альфонс был одной ногой в могиле! Придержали бы язык!
Джина, которая спустилась с винтовой лестницы, ведущей на второй этаж, возмущенно ахнула. Она ненавидела, когда мучают животных. В этот же самый момент Таша, одетая в лиловое драповое полупальто, толкнула входную дверь.
— Что-то случилось с Виктором? — спросил Кэндзи. Он был слегка обеспокоен таким наплывом людей, а компаньон тем временем наслаждается выходным днем.
— Он прекрасно себя чувствует, собирался покататься на велосипеде в Люксембургском саду, а я отказалась, мне не нравится ездить по городу, да еще когда дождь моросит.
— А кто же с малышкой? — забеспокоилась Джина.
— Мадам Бодуэн. Мам, я получила письмо от Рахили, пойдем-ка отойдем и вместе его прочтем, — она показала рукой на служебное помещение.
Кэндзи посмотрел им вслед.
Они вытеснили из задней комнатки Ихиро Ватанабе, который немедленно вновь вцепился в него.
— Ну раз такое дело, я возвращаюсь в родные пенаты, — проворчала Мишлин Баллю. Она была крайне недовольна, что этот друг мсье Мори не выказывает ей никакой симпатии.
И быстро ретировалась.
— Эта дама носится, как страус. А знаете ли вы, мсье Мори, что если идти в течение шести лет и трех месяцев со скоростью не менее трех километров, можно четыре раза обойти вокруг Земли?
Кэндзи утомленно кивал головой, а тем временем поглядывал на Джину, которая стояла возле застекленного шкафа, где он держал сувениры, привезенные из разных путешествий. Он увидел, как она вырвала из рук дочери письмо, но не мог различить по губам, что при этом говорилось. Казалось, она охвачена каким-то сильным чувством — скорее радостным, чем печальным. Тут у него зародилось подозрение: а правда ли, что письмо от Рахили? Почему она тогда так разволновалась? Не произнесла ли она имя «Пинхас»?
— Тайное письмо — ловушка или опасность — прошептал он.
Звонок телефона застал всех врасплох — только Жозеф успел подойти. Прислонив к уху трубку, он что-то прокурлыкал и быстро закончил разговор.
— Кто звонил?
— Мама, — ответил Жозеф Кэндзи. — У Артура температура, разрешите мне, пожалуйста, отойти до обеда?
— Вы свободны. Дезертируете, бросаете меня на произвол судьбы! — вздохнул Кэндзи, совершенно ошалевший от высказываний Ихиро Ватанабе.
Едва Жозеф выскользнул за дверь, в магазине появилась Эфросинья, нагруженная двумя корзинками со съестным.
— Ну, как малыш? — поинтересовался Кэндзи.
— Артур-то? Забавный парень, и здоровье железное! Чего нельзя сказать о его бабушке, которая тут надрывается, как вьючный мул таскает и таскает…
Жозеф, задыхаясь, ввалился в комнату и плюхнулся в заваленное детской одеждой и кисточками кресло. Виктор помогал дочери вырезать гирлянду ножницами с круглыми концами и при этом горячо объяснял шурину ситуацию:
— Таша меня подозревает! Из-за этой актрисы, Шарлины Понти, с которой я разговаривал в субботу в «Комеди-Франсез», а еще она вчера сюда приперлась.
— О, вот вы уже выражаетесь как один из персонажей моего романа!
Виктор смутился и с удвоенным рвением принялся вырезать.
— В общем, мне это очень неприятно, но я не смогу продолжить это расследование.
— О нет, только не сейчас, мы не можем все так бросить! Я тоже встречался вчера с одним актером, неким Рафаэлем Субраном, блондином с голубыми глазами, другом Робера Доманси. У него, похоже, рыльце в пушку.
Виктор незаметно показал ему глазами на девочку.
— Деточка моя, взгляни в окно: уже пришла мадам Бодуэн, тебе пора на прогулку!
Алиса надула губы. Большого труда стоило запихнуть ее в непромокаемый плащик и отправить на улицу.
— Это актер из «Комеди-Франсез»?
— Нет, из театра «Жимназ». Он поведал мне, что Доманси позаимствовал деньги из кассы театра, но директор замял дело. Субран настырно интересовался, как идет расследование.
— Эта информация ничего не проясняет в деле. Ну, Доманси не устоял перед искушением, не убивать же за это!
— Вечно вы преуменьшаете мои заслуги! Но у меня есть кое-что на закуску, весьма аппетитное! Вы, наверное, в курсе мифа о Кроносе, которого римляне называли Сатурн?
— Я смутно помню, что его папаша, Уран, спихнул свое потомство в пропасть.
— А что дальше было, знаете? Сатурн отомстил за братьев, зарубив отца косой, и занял его трон. Титан, другой сын Урана, счел себя уязвленным и разгневался на брата. Сатурн был покладист по натуре, поэтому он обещал подвинуться на троне и уступить ему местечко, а также поклялся проглатывать всех своих детей мужского пола сразу после рождения. Рею, сестру и жену Сатурна — античные боги были терпимы к инцесту, — совершенно не устраивало такое обращение с ее отпрысками. Чтобы спасти сыновей, она подкладывала мужу камни, завернутые в пеленки.
Виктор почесал затылок.
— Точно! Я же знаю эту легенду, кажется, мне Кэндзи рассказывал в Лондоне. Здесь таится аллегория, как и в большинстве греческих мифов. Время разрушает все, что само породило!
— Поддельная миниатюра, три больших камня, завернутых в белую ткань, клепсидра… Все приобретает тайный смысл. Но к чему пакетик с зернами пшеницы, черный гравий и плюшевый крокодил?
— Думаю, что это атрибуты времени в представлениях древних. Давайте зайдем, у меня в мастерской несколько словарей, — предложил Виктор, уже забыв о своем недавнем решении прекратить расследование.
Библиотека располагалась между двумя полотнами: одно изображало прогулку кошек во время Тронной ярмарки, второе было вольной вариацией на пасторальные сцены у Николя Пуссена
[1016]. Виктор схватил толстый том, который принялся нетерпеливо перелистывать, потом радостно зацокал языком.
— Вот оно. Если в Греции Кронос был богом времени, в Италии Сатурн был покровителем урожая. Слово «сатор» означает сеятель. Потому и пшеничные зерна. Празднование Сатурналий происходило в декабре. Сатурн представал перед зрителями с косой, а у его ног стояли песочные часы и лежал крокодил, священное животное в Древнем Египте, символ разрушения.
— Наш преступник одержим идеей временно́го потока?
— Или же, наоборот, он хочет привлечь внимание к мысли о быстротечности жизни, тут сразу не разберешь. Вот тут еще в статье написано, что Сатурн — отец истины, поскольку бег минут вызывает самые строгие мотивации. В Средневековье каждый бог ассоциировался с определенным металлом. Сатурну соответствовал свинец.
— Поэтому черный гравий! Как тщательно он продумал мизансцену!
— Жертва не случайна. В прошлом Робера Доманси таится ключ к разгадке его убийства.
— Что возвращает нас к нашему расследованию. Вы не имеете права бросить все на полпути. Ох!
Жозеф остановился, остолбенев, перед открытым альбомом с зарисовками. Остроносая женщина в бальном платье с пелериной стояла у оттоманки с веером в руке. Ему сразу стало понятно, кто это.
— Валентина, — прошептал он.
Его первая любовь. Та, что сводила его с ума в те времена, когда он был простым приказчиком, а она впервые появилась в магазине в сопровождении своей тетки, Олимпии де Салиньяк.
Виктор закрыл блокнот, прижав его пальцами. Перед глазами пронеслась картина: Бони де Пон-Жубер, который трется возле Таша.
— Я пока не отказываюсь, временно. Нужно воспользоваться сведениями, которые мне обещала сообщить эта актриска из «Комеди-Франсез». Сейчас переоденусь и отправлюсь в Пале-Рояль.
Жозеф безнадежно проводил глазами блокнот в руках у Виктора.
— Понял. Удаляюсь. Вы мне расскажете, если что-то выяснится?
— Давайте завтра встретимся. Ни слова, ни намека в магазине на наши дела, договорились? Я устрою так, чтобы мы могли пообедать где-нибудь в городе.
* * *
В саду Пале-Рояль появился народ — обрадовавшись, что гадкий моросящий дождик наконец закончился, самые смелые вышли на прогулку. Робкое солнце освещало на одной из окрестных лужаек уменьшенную модель пушки, которая палила в полдень, если небо было чистым. В галерее Монпансье женщины в вуалетках разглядывали витрины с украшениями. Под аркой пряталась пышнотелая торговка лотерейными билетами, которая налетела на Виктора, потрясая в воздухе связкой своих листочков.
— Попытайте счастья, господин!
Он ускользнул от нее, вышел из аркады на центральную аллею. Женщина, которая сдавала в аренду стулья, пряталась за деревом, выслеживая ослабевших пешеходов и любовные пары. Он увернулся и от этой. Тут его внимание привлек пожилой господин в цилиндре, который разбрасывал в воздухе крошки хлеба. Затем старик положил несколько зернышек на ладонь в ожидании, когда с деревьев и из чахлых кустов к нему за угощением слетится птичий народ. Голуби и синицы били крыльями, их опережали шустрые воробьи. Эти маленькие нахалы присаживались людям на плечи и буквально вырывали еду изо рта. Подкравшаяся хозяйка съемных стульев объяснила Виктору, что старик, бывший наборщик в типографии, обладал тем же даром, что и его младший брат, лучший друг луврских ворон, которых он кормил кусочками сырого мяса.
— Говорят, пятьдесят птиц даже присутствовали на его погребении. А этот брат такой же, стоит ему только появиться, налетает вся мелюзга! Они вон какие жирные, перышки блестящие, видите? И никого не боятся, только поливальщика со шлангом. Налетают на него всей стаей!
Вдруг появилась Шарлина Понти, которая наблюдала всю сцену с галереи Валуа.
— Вы уж извините меня за опоздание, господин букинист, и пойдемте-ка подальше от этих тварей, я не хочу подцепить орнитоз.
— Вообще-то орнитоз переносят только попугаи разных видов.
— Балаболка, с которой вы общались, явно из той же породы!
Она увлекла его к маленькой парикмахерской, зажатой между фотографией и магазином подарков, в витрине которого висели короны, гирлянды, звезды и ленты. Шарлина Понти долго разглядывала выставленные медали, затем богемские вазы. Солнечные лучи, слабые и неяркие, тем не менее играли на поверхности кристаллов и отбрасывали блики на меню ресторана.
— Ням-ням, какое соблазнительное меню! Корюшка из Лаго-Маджоре, ростбиф по-арденнски, клубничное мороженое из Велизи-ле-Буа… Угостите меня в «Большом Вефуре»?
— Мы здесь не затем, чтобы изображать туристов, — проворчал он, отойдя так, чтобы она отвернулась от витрины. — Ваше время слишком дорого, вас ждут Мельпомена и Талия.
— Это кто такие?
— Музы трагедии и комедии. Что такое вы мне собираетесь сообщить, из-за чего стоило прерывать мой обед, сердить мою жену и уноситься, как ветер?
Она остановилась перед витриной торговца свинцовыми фигурками и переклеила мушку на щеке. И одновременно с этим не забыла выпятить зад и расстегнуть пальто.
— Застегнитесь, вы зря растрачиваете ваши усилия. Подхватить пневмонию гораздо вероятнее, чем орнитоз.
— Ну вы и злюка! Поверьте, я очень огорчена, что расстроила вашу даму. Между тем она, думаю, не страдает от своей внешности, просто очаровашка, между нами. Ладно, хватит испепелять меня взглядом, у меня интересная информация по поводу Робера Доманси. И поскольку сейчас мне предстоят большие расходы…
— У вас хватает наглости еще просить вознаграждение?
— Да так, самую малость, что уж там, просто помочь молодой талантливой актрисе, оказавшейся на мели…
Виктор, недовольно фыркнув, извлек из кармана монету в сто су.
— Этого хватит?
— Целое состояние! С самого Нового года таких денег в руках не держала! Робер мне, небось, такого не подбрасывал!
— Ну, не стоит преувеличивать, — заметил Виктор, улыбнувшись, — все-таки так приятно доставлять людям радость!
Она взвесила монету на ладони, оглядела с восхищением.
— Она так сверкает, что я не уверена, решусь ли ее потратить.
Они пошли дальше, так и не заметив, что за ними еще с момента встречи в галерее Бовэ издали следит какой-то человек.
Огюстен Вальми жалел, что нельзя подойти поближе и расслышать, о чем они говорят. Эта балаболка — наверняка та самая, чью записку нашли в рединготе его брата. Проститутка, как большинство баб. Сам ее облик внушал ему отвращение. Ему внезапно захотелось подбежать к бассейну и умыться. Но он совладал с собой и вновь продолжил свою бесстыдную слежку.
— У Робера был один секрет, мучительней болезни. В те редкие моменты, когда мы делили с ним одну постель, он мешал мне спать, выкрикивая во сне всякую ахинею типа: «Это не должно было случиться, это была роковая ошибка!» Как-то вечером в прошлом году я спешила в свою гримерку и тут услышала какой-то разговор у него: хотела войти, а дверь заперта. Робер орал на какого-то типа, говорил, что ни гроша больше не даст. В скважине повернулся ключ, ну я струхнула и смылась оттуда.
— Это все?
— Ну уже кое-что, разве нет? Робера кто-то шантажировал, я бы назвала это решающим фактором расследования. Как, вы меня покидаете?
— Вы слишком опасный собеседник для женатого человека, который влюблен в свою жену, — ответил Виктор.
— Ах, соблазнитель! Вернитесь скорее, послушайте: у меня есть воздыхатель, его зовут Арно Шерак, он от меня без ума, но я знаю этих мужчин: если хочешь привязать кого-нибудь потуже, нужно сперва долго отказывать.
— Так вы хотите, чтобы я вызвал его на дуэль?
— Я достаточно взрослая девочка, сама справлюсь. Арно Шерак подтвердит вам то, что я сейчас рассказала. В тот самый день он появился в коридоре сразу вслед за мной. Он там явно не сразу возник, дожидался какое-то время, я даже сперва подумала, что это с ним ругался Робер.
— Может, и правда с ним?
— Да вряд ли, скорее, он подстерегал меня, чтобы украдкой сорвать поцелуй… озорник!
Она поднесла к губам сложенные щепоткой пальцы, поцеловала их и подула в сторону Виктора. В эту же секунду воробьи, собравшиеся вокруг старика, сорвались и улетели, шелестя крыльями, как страницами. Огюстен Вальми брезгливо отпрянул, наступив на ногу продавщице лотерейных билетов. Она погрозила ему вслед кулаком.
Глава седьмая
Тот же день, ближе к вечеру
В свои тринадцать лет Гийом Массабьо выглядел на все пятнадцать. Отец его поколачивал, матери до него не было дела, и расцветал он лишь в классе, среди почитателей его таланта. Он изображал учителей с таким мастерством, что любой мог бы поклясться: парень буквально превращается во взрослого. Его любимым объектом для пародий был Шарль Таллар, которому доверили обучение родному языку и воспитание своры свободолюбивых подростков.
В этот ноябрьский денек скука, написанная на склоненных к тетрадкам лбах учащихся, так сочеталась с серостью мрачного низкого неба, что Гийом Массабьо не мог удержаться от искушения прервать эту порочную связь. Какое ему дело до того, что лжец никогда не останется безнаказанным и что глупец подобен автомату? Взрослые стараются и вешают на уши лапшу, страной руководят дебилы. Жизненнный опыт доказывает, что все, что им внушают, — обман.
Воспользовавшись тем, что учитель отвернулся, чтобы написать мелом на черной доске очередной девиз: «Благородный человек пишет оскорбления на песке и прославления на мраморе», он двумя указательными пальцами оттянул вниз веки, большим пальцем правой руки изобразил усы и вобрал внутрь губы.
Всеобщий взрыв хохота был ответом на этот карикатурный портрет.
Шарль Таллар страшно побледнел и в ярости объявил:
— Массабьо, вы мне проспрягаете во всех временах настоящего, прошедшего и будущего времени глагол: не предаваться во время занятий идиотскому гримасничанию.
— Но мсье, если это глагол, то я житель Патагонии!
— И вы оставлены после уроков на два часа.
— Но сегодня все в три часа уходят, это праздник Всех Святых! Меня ждет мама, чтобы пойти на кладбище!
— Ну, обойдется без вас на этот раз.
— Она будет волноваться.
— Хорошо, на три дня вы отстранены от уроков.
— Это несправедливо.
— Ну тогда ноль и предупреждение. Дайте ваш дневник, пожалуйста, я напишу вашим родителям, как вы мешаете мне на занятиях.
Он не обратил внимания, каким ненавидящим взглядом ответил ему Гийом Массабьо, залезая на эстраду.
Точно так же, как он проигнорировал фирменный бланк лицея Карно, навешенный на задний карман его штанов, пока он отвернулся от учеников. На бланке красовалось:
Шарль Таллар — сукин сын
И мочалок господин…
— Эх, Рене Кадейлан, вы просто бешеный баран, у меня приглашение от англичанского лорда, потому я имею право войти! — прогремел Луи Барнав могильщику, проверяющему билеты в кабаре «Небытие».
Высокий рыжий человек, сунув руки в карманы черной куртки и выпростав наружу внушительную бороду, оглядел его с озадаченным видом.
— У меня были указания на твой счет. Ты уже устраивал скандалы, и хозяин отнес тебя к разряду нежелательных посетителей. Ты был пьян в стельку и два раза подряд угрожал разнести все в заведении.
— Мы с алкоголем пришли к окончательному разрыву, Рене. Я рвусь сюда лишь потому, что здесь единственное место, где я утешаюсь с тех пор, как погибла моя семья. Бесконечное блаженство. Вечность. Постоянное чистилище. Так приятно вдыхать атмосферу места, где ничто более не существует, вдали от этого постылого капернаума, который называется миром. Здесь никаких тебе королей, судей, Третьих республик, а также двух предыдущих, никаких битв, сражений и перемирий, ни тебе эволюции, ни прогресса, ни налога на двери и окна, все здесь перемешано, и мы начинаем с чистого листа, живем, живем, друг друга не трогаем! И к тому же я замерз, холод на улице собачий, мне нужно немного тепла перед тем, как заползти в свою каморку без отопления!
Могильщик с рыжими волосами окинул его неприветливым взглядом.
— Слушай, ты часом не чокнутый? Ну слегка не в себе, это точно. Держи билет, давай считать, что я тебя не видел, сожмись в комок и сделайся совсем маленьким.
— Спасибо, Рене, надеюсь, комета тебя пощадит! И твою невесту, славная она девчонка. Когда у меня водятся деньжата, чтобы расплатиться за продукты в бакалее Фулон, я всегда стараюсь попасть к ней.
— Это точно, Катрин — замечательная цыпочка, — Рене Кадейлан так растрогался, что аж прослезился.
Он гордился тем, что ему удалось покорить ее сердце: не она ли разрешила себя целовать двумя днями раньше, прошептав на ушко, что она вновь воспылала к нему страстью и что как только у него выдастся свободный вечер, они отправятся в ее гнездышко под крышей, чтобы заняться понятно чем… И вообще, он же счастливый отец своего ребенка!
Рене Кадейлан отодвинул тяжелый занавес, маскирующий порог. Луи Барнав бесстрашно вошел в комнату, темную, как туннель. Медленно загорались свечи, стоящие на выступах стен. Блеснул массивный подсвечник — композиция из черепов и костей напоминала костлявые пальцы, держащие погребальные свечи. Вдоль комнаты стояли деревянные гробы. Стены украшали скелеты в вычурных позах, батальные сцены, гильотины и корзины с отрубленными головами. Невидимый хор шептал: «Добро пожаловать в нашу пещеру, презренный смертный, погрузись в волны вечности. Подбери себе гроб, слева или справа, разместись там поудобнее и наслаждайся торжественным спокойствием кончины. Да смилостивится над тобой Господь!
Луи Барнав заметил под куполом могилу, перед которой он обычно усаживался в прошлые разы. Сейчас там сидели две пары подвыпивших буржуа, которые жизнерадостно выпивали и закусывали, овеваемые гнилостным запахом помойки, которую уже явно больше недели забывали вынести. Одни официанты разносили какие-то ядовитые зелья, содержащие целый набор сильнодействующих ядов, каждого из которых хватило бы свалить быка. Другие продавали сертификаты на погребение по смешной цене 20 су.
Луи Барнав, вне себя от ярости, уселся перед афишей, предрекающей появление кометы и последующий конец света, перечитал ее раз, другой, и, уже не сдерживаясь, обрушился на пришельцев.
— Пиво! Вишни в водке! В этом священном месте! Какой позор, даже, более того, — святотатство!
Он схватил пивной стакан и опрокинул его. Пиво полилось на пол. Дамы завизжали. Их пьяные вишни тоже отправились в пыль.
— Гомункулы! Вы пьете, чтобы сегодня ночью предаться блуду, вы думаете только о ерунде, ни одна мысль о высоком не способна пробиться в ваш примитивный мозг человекообразного! Ну-ка, Лизетта, пошевеливайся, тащи сюда метлу! Это мой гроб, и, к вашему сведению, я сейчас в него плюхнусь, сборище болванов!
Замешательство обеих парочек позволило ему легко осуществить свою угрозу. Он ничком завалился на могилу. Однако победа его была недолгой. Два могильщика (один из них был Рене Кадейлан) схватили его за плечи, проволокли к выходу и вышвырнули на мостовую.
— О, беззаконники! — возопил он, вновь обретя вертикальное положение. — Сволочи! Так обращаться с пожилым человеком! Вы поплатитесь за это и даже раньше, чем можете предположить!
На его плащ посыпались светлые конфетти. Он поднял голову, и комок попал ему прямо в нос. Это пошел снег, валясь с неба большими хлопьями. Луи Барнав сардонически захохотал:
— О, запомните этот вечер! Я присоединюсь к вам, мои родные. Здесь все иллюзорно и тошнотворно, какая-то вселенная могильщиков! Пойду точить свой нож, прежде чем навсегда отбросить копыта.
Улочки, спускающиеся с Холма, побелели от снега. Площадь Тертр была совсем засыпана, и следы подошв отчетливо выделялись на заснеженном скользком тротуаре. Луи Барнав, кутаясь в плащ, мчался вперед, словно преследуемый охотниками зверь. Одно за другим гасли окна, редко где сквозь ставни пробивался луч света. Наверное, там играют в карты, а кто-то потягивает подогретое винцо. Луи Барнав позавидовал этим счастливцам. Он чувствовал себя последним человеком на этой планете. Вокруг церкви Сан-Пьер горели фонари. Колокол пробил одиннадцать раз, и где-то другой вторил ему в отдалении. Луи Барнав зашел в какую-то дверь и начал спускаться по лестнице. Ступеньки скрипели под его осторожными шагами.
Шарль Таллар вернулся домой в очень злобном настроении. Только он собрался после занятий повыглядывать в толпе матерей и гувернанток таинственную особу, написавшую письмо, порасспрашивать аккуратно, как на него насел директор лицея, затеяв долгий нудный разговор о мероприятиях, приуроченных к концу года. Из-за этого он опоздал к ужину, что для его проникнутой разнообразными холостяцкими правилами и установками натуры было просто неприемлемо: он всегда ужинал ровно в семь, и точка. А так, пока он запасся порцией брюссельской капусты в молочном кафе, пока приобрел длинный батон и пирожное сант-оноре в булочной, прошло больше получаса, и перед тарелкой он очутился уже без чего-то восемь.
Вечернее свидание требовало тщательной подготовки. Брюки коричневого костюма были отвергнуты: пятно от кофе и две лишних складки. Как нарочно, пиджак от бежевого костюма продрался на локте. Он был вынужден решиться на необычный маневр — соединить бежевые брюки, которые он не стал снимать, с коричневым пиджаком. Такая жестокая неизбежность весьма огорчила владельца всех этих неподходящих деталей одежды.
Мысль нервно бродить по дому в ожидании свидания его тоже не грела, поэтому он прыгнул в омнибус и отправился бродить по бульвару Рошшуар, поскольку был плохо знаком с этим районом и хотел исследовать его на манер туриста. Но очень быстро от этой идеи его отвратила толпа зевак, хлопья мокрого снега и воинственные зонтики, готовые нанизать его, как на вертел. Он ушел с бульвара и на улице Мучеников нарвался на не слишком многообещающее заведение, которое называлось «Кабаре налогов и сборов», — по виду совершенно убогий сарай.
Вывеска привлекла Шарля Таллара, в любом случае ему нужно было убить несколько часов, он вошел и получил реестр, оформленный как административный документ:
Диплом второго класса
Слабый пол 1 фр. 50
Сильный пол 2 фр.
Светские, полусветские и светские на четверть вечеринки
Братский привет.
В комнате с побеленными стенами, теснясь на жесткой негостеприимной скамейке между каким-то толстячком, пропахшим чесноком, и буржуа, возжелавшим предаться пороку, он вскоре пожалел о своем решении. Что для него значат эти имитаторы, вульгарные певцы и трехгрошовые рифмоплеты? Но увы, он плотно зажат соседями, невозможно выбраться из этого забитого людьми зала. Стояла такая жарища, что Шарль Таллар испугался вспотеть, а ведь он и без того был одет слишком небрежно…
Манерный пиит в лорнете, с всклокоченными усишками под вздернутым носом и козлиной бородкой, удлиняющей и без того длинное лицо, вдруг разразился тирадой:
— И в это время Всемогущий сказал Тримуйа: «Ты Пьер, что значит камень, и на этом камне я построю одну из самых прочных и безупречных репутаций поэта-шансонье нашего века…»
— И грядущих веков! — завопил какой-то юный оборвыш. — Давай уже рожай, времени в обрез, скоро конец света!
Тримуйа не стал ломаться, уселся за пианино и объявил:
— Я сейчас исполню вам песню «Малолетка», музыка и слова Пьера Тримуйа.
Ей от силы тринадцать, не слишком-то ладная,
Но уже зарождаются женские чары,
И фланеры усмешки таят плотоядные…
Погляди: малолетка идет по бульвару,
Малолетка…
Шарль Таллар возмущенно вскочил с места:
— Как не стыдно! Тринадцатилетняя девочка, ребенок!
— Мсье, у нас, как известно, Республика, мы платили за место, и вообще артиста надо уважать, ты, кислая харя! — прикрикнул на него сосед, а тем временем Тримуйа невозмутимо запел второй куплет громким козлитоном, вызвавшем одобрительные возгласы аудитории:
— Откройте окна, а то стекла вылетят!
И на что не пошли б старики похотливые,
Чтобы этой девчонке залезть под юбчонку…
Малолетка…
Задыхаясь от ярости, Шарль Таллар вылетел из зала как пробка. Порывшись в кармане в поисках носового платка, он нащупал письмо, и ему стало стыдно. Под влиянием минутного безумного порыва он чуть было не прыгнул в первый попавшийся автобус, чтобы вернуться домой, но вовремя опомнился. Пневматические уличные часы показывали одиннадцать тридцать: пора уже двигаться в сторону Часового тупика. Едва он вышел на бульвар, на него налетела какая-то простоволосая женщина, в руках ее была корзина с цветами.
— Купите букетик, мсье, возьмите вот фиалочки. Всего два су.
«Цветы? На первом свидании? А что, это идея!» — подумал Шарль Таллар.
Расплачиваясь с цветочницей, он спросил у нее дорогу.
— Да вы спиной стоите к вашему переулку, это здесь в двух шагах, вот, налево идите. А скажи, милый брюнетик, не пойдешь ли ты лучше со мной? Я тут рядом живу. Буду с тобой ласковой, не сомневайся.
Шарль Таллар покраснел и рявкнул:
— Да за кого вы меня принимаете!
— Вали отсюда, сухарь, мерзкий ханжа! — заорала в ответ девица.
Шарль Таллар побагровел и быстро пошел прочь, едва сдерживаясь, чтобы не побежать. Через несколько сот метров он прислонился к какой-то изгороди, чтобы перевести дух. Напротив он различил какой-то темный проулок — значит, цель достигнута. Он смутился, заколебался, но все-таки двинулся вперед, словно во сне. На часах было без десяти двенадцать. Снегопад закончился.
Шарль Таллар стоял столбом, разглядывая мыски своих ботинок. Он чувствовал, что смешон. Казалось, прошла целая вечность. Сверху что-то хлопнуло, он поднял голову и увидел, что какая-то женщина закрывает ставни.
Надо взять себя в руки. Он решил закурить сигарету, зря истратил три спички и отказался от этой затеи.
А что, если эта история всего лишь розыгрыш, подстроенный его учениками? Нет, почерк слишком изящный, стиль изысканный и бумага из самого дорогого писчебумажного магазина.
Он не мог двинуться с места, ничего не видел, ничего не слышал, весь погрузившись в ожидание.
Вдруг раздался тихий звук, словно кто-то скребется.
Он навострил уши, весь напрягся: нет, вроде бы тихо. Бросил взгляд на часы-луковицу — без пяти двенадцать. Снова что-то скрипнуло: может быть, шаги?
Он не мог понять, откуда доносятся звуки. Похоже, откуда-то из темноты в конце тупика. Он медленно обернулся. Ничего не видно. Он почувствовал, как колотится сердце. Она не придет, да это и к лучшему. Местечко это ему совсем не нравилось. Какая несуразная мысль: назначить свидание в этом странном месте в такую поздноту!
«Да будь же мужчиной, в конце концов!»
— Привет, Шарль, — прошелестел голос.
Он вгляделся: вокруг фонаря задвигались смутные тени.
И тут почувствовал сзади дыхание.
— Я тут, Шарль.
Горло пронзила дикая боль. Его охватила паника, он застонал и ничком упал на припорошенную снегом мостовую. Прежде чем наступило небытие, в расширенных от боли зрачках отразилась зеленая голова крокодила.
Прошло немало времени, прежде чем Аристотель почуял приближение своего божества. Легавый пес не сводил глаз со щеколды. Хвост его нетерпеливо мотался туда-сюда. Голод и желание поскорее опорожнить мочевой пузырь замутняли чистую радость от встречи с тем, кому он был предан всей своей собачьей душой. Когда дверь открылась, он принялся скакать вокруг хозяина, подвывая от радости.
— Убери лапы, Аристотель, пойдем писать, я приготовил тебе твою похлебку, — проворчал Рене Кадейлан.
Аристотель пулей вылетел из комнаты и помчался в сторону Часового тупика: единственный заветный фонарь манил его и тянул, как магнит притягивает стрелку компаса. Какое наслаждение нарушить наконец запрет и облегчиться между двумя стенами — в этом месте его обычно приучали сдерживаться. Он пометил территорию и уже собирался вернуться к своей похлебке и к любимому хозяину. Но тут черный блестящий нос собаки уловил какой-то заманчивый запах. Он был так возбужден, что не обратил внимания на знакомое позвякивание вилки о миску.
— Аристотель! Где тебя черти носят? Час ночи, мне уж дрыхнуть пора, с ног валюсь. Быстро сюда!
В три скачка пес вернулся к дому на бульваре.
— Где ты так морду извозил, свинтус? А ну покажи… Ох, ты крысу, что ли, замочил, кровищи-то сколько!
Аристотель взлаял и помчался назад. Рене Кадейлан побежал за ним. Под фонарем он различил какой-то лежащий предмет.
«Пьянчуга, видать… Насосался как клещ».
Он присел на корточки, наклонился над телом и, в ужасе отпрянув, так и сел на задницу.
— Трупак! Самый что ни на есть настоящий! Ох, ему перерезали глотку, что за дерьмо вообще! Жуть какая! Плюшевый крокодил, обмотанные камни, голубой мелок…
Глава восьмая
Четверг, 2 ноября
В свои двадцать лет Рено Клюзель легко мог бы позволить себе жить припеваючи и проводить время в праздности: его родители были обеспеченными людьми, он жил в их особняке на улице Бак, и они без всяких проблем содержали его и не требовали, чтобы он шел куда-нибудь служить. Отец, директор адвокатской конторы, довольствовался тем, что сын получил диплом школы коммерции, и большего от него и не требовал. Мать, которая выглядела и вела себя так, словно ей было тридцать пять, хотя на самом деле ей уже стукнуло пятьдесят, думала только о своей внешности, и ее вовсе не заботило, какое поприще выберет для себя ее единственный сын, которым она и в детстве мало интересовалась. Что до самого юноши, ему надоело порхать и бездельничать и он помышлял о карьере репортера. Ежемесячные визиты дяди Антуана, главного редактора «Паспарту», еще больше распаляли его стремления, подогретые чтением криминальных романов, созданных воображением модного и весьма плодовитого автора: некоего Жозефа Пиньо.
Случай с Робером Доманси послужил для него поводом попробовать себя в деле. Рено Клюзель был не обделен интуицией: он догадался, что это загадочное убийство — дело рук хитрого, ловкого убийцы, который на этом наверняка не остановится. В ожидании нового злодейства он снял меблированную комнату у владельца кабака, в который частенько заходили городские стражники из комиссариата.
Ранним утром 2 ноября, когда он допивал свой кофе со сливками, его упорство наконец было вознаграждено. В районе часа ночи служитель из кабаре «Небытие» нашел в Часовом тупике мужской труп с перерезанным горлом. К заднему карману брюк приклеена этикетка, на которой напечатано:
Лицей Карно
И дальше красным карандашом приписано от руки:
Шарль Таллар — сукин сын
И мочалок господин…
Никаких следов бумажника, но зато сразу заметно было, что вокруг тела разложили те же предметы, что и в прошлый раз: поддельная миниатюра, пустые водяные часы, пакетик с зернами и черным гравием, три камня, обернутые в белую ткань, и плюшевый крокодил. На этот раз к этим предметам прибавился голубой мелок. Допрос охранника из кабаре «Небытие», некоего Рене Кадейлана, ничего не дал. Женщина по фамилии Самбатель, живущая в доме, возле которого было совершено убийство, закрывала ставни на ночь после партии в безик
[1017] с соседями и заметила возле фонаря мужчину. Но поскольку в переулок частенько заглядывали разные пьяницы, она уже к ним как-то привыкла и не придала этому никакого значения. Комиссар рвал на себе волосы, а Рено Клюзель торжествовал: ему достались все лавры.
Хотя не было еще и шести часов, Од Самбатель, которая страдала бессонницей, уже слонялась по дому в бесформенной душегрейке. Когда в дверь осторожно поскреблись, она собиралась сварить себе цикорий с молоком. Шаркая тапочками, она открыла дверь и улыбнулась раннему посетителю.
— О, как рада вас видеть! Мсье молодой журналист! Я собиралась сделать гренки, позавтракаете со мной? Тут недавно приходил этот невежа комиссар, вытащил меня из постели, чтобы задавать мне всякие дурацкие вопросы, и все противно слюнявил карандаш… Эта канцелярская крыса лучше бы убийцу арестовала!
— Так где его взять, убийцу?
— Да это же ясно как день! Убил Фермен Кабриер, уличный художник!
— Уличный художник?
— Ну да, он рисует мелками, размалевывает тротуар, а ему за это деньги платят. Маляр, одним словом. Голубые деревья, фиолетовые дети, вы наверняка на это натыкались, нет? У него не все дома, он с луны упавший. А когда она полная, такое происходит…
— Что происходит?
— Про оборотней слыхали? Это такие же люди, как вы и я, но в полнолуние они превращаются в диких зверей, ну и вот…
— Как вы можете так уверенно это утверждать?
— Про волков-оборотней?
— Про виновность этого… как его…
— Фермена Кабриера? Да потому что возле тела нашли голубой мелок! И потому что вчера этот славный Илер Люнель, посыльный в бакалее Фулон, который помогает мне, два раза в неделю приносит продукты, сам, своими глазами видел рисунок Фермена на бульваре Клиши. Сядьте уже, что стоите как столб, глаза мне мозолите. Пейте кофе, а то остынет.
Рено Клюзель с отвращением покосился на беловатую жидкость, которую она налила ему в стакан.
— Так что было на том рисунке, мадам Самбатель?
— Человек, лежащий на земле, с вонзенной в грудь косой. Зря вы делаете такое лицо, это чистая правда. И Фермен такого же роста, как тот человек, которого я заметила на прошлой неделе, кажется, в воскресенье вечером. Вам еще нужны доказательства? Да он одержимый, он рисует на асфальте все смертоубийства, которые совершил. Вы напишете об этом в «Паспарту»?
— А где он живет?
— Вот в этом вся загвоздка! Никто точно не знает, где ночует этот Фермен. День здесь, день там. Единственное, в чем можно быть уверенным, что он ошивается где-то в этом районе. Наша мостовая еще извозюкана следами его художеств, хороший же пример для детишек!
В кухню зашел еще один человек. Клочковатая борода, желтоватые седые волосы, кожа как пергамент, воспаленный взгляд — на Рено Клюзеля он произвел отталкивающее впечатление.
— Ну что, Илер, вы, кажется, разволновались, — отметила Од Самбатель.
— Народ волнуется с тех пор, как полицейские отвезли в морг второй труп. Подозревают Фермена Кабриера. Есть желающие устроить облаву.
— Мсье Люнель, опишите мне, пожалуйста, что он нарисовал на бульваре Клиши, — попросил Рено Клюзель.
— Нарисовано очень реалистично, голубым мелом. Я напоролся на него возле бакалейной лавки, где я работаю посыльным. Там человек лежит на спине возле газового фонаря, грудь пронзена таким длинным лезвием, которое еще насаживают на палку, я забыл слово, вертится на языке…
— Коса?
— Точно. Что самое удивительное, он смеется, да-да, он смеется. Но самое ужасное — эта надпись внутри маленького облачка, меня это вообще вывело из себя.
— Что за надпись такая?
— Оскорбительная для нашего магазина. Я тут же рассказал вдове Фулон, уж больно плохая реклама для нас эта надпись. «Ну, гад какой! — завопила она. — Илер, принесите ведро воды и хозяйственное мыло и пусть Колетт отмоет эту гадость!»
— Уничтожение улик, — отметил Рено Клюзель.
— Сразу видно, что вы не работаете у вдовы Фулон, таких, как она, раз-два и обчелся.
— Да этот Кабриер полоумный, ему на свободе делать нечего! — вскричала Од Самбатель. — Илер, ваш долг — предупредить представителей власти.
— Вот как раз, мадемуазель Од, я пришел сюда, чтобы спросить ваше мнение, я просто с легавыми не очень-то люблю дело иметь…
— Но сейчас совсем другое дело! — воскликнула она, ударяя ложкой по столу. — Жизнь наших сограждан в опасности, нужно отловить этого полоумного. Напишите об этом в вашей статье, мсье. Если пресса взбудоражит общественное мнение, полиция хоть зашевелится, вместо того, чтоб груши околачивать. Так что, Илер, дуйте в комиссариат.
В девять часов продавцы газет носились по улицам, приставая к похожим и горланя:
— Покупайте «Паспарту»! Второе убийство в Часовом тупике! Резатель еще на свободе!
Реакция последовала незамедлительно. После сенсации в «Паспарту» новость напечатали во всех газетах. Директор лицея Карно, который покупал только газету «Галуа», с ужасом прочитал, что жертвой оказался не кто иной, как Шарль Таллар, один из его преподавателей, и поспешно связался с комиссаром XVII округа, который незамедлительно спихнул это мудреное дело своему коллеге в XVIII округе. Рено Клюзель смог набросать словесный портрет честного, порядочного учителя французского языка, которого любили ученики и уважали коллеги и который вел строгую монашескую жизнь, — потому таким странным и загадочным и выглядело убийство. Газета «Паспарту», которая никогда не могла пожаловаться на недостаток воображения, во втором выпуске опубликовала призыв к свидетелям, обещав в награду годовую подписку, и сопроводила его рассказами посыльного из бакалеи вдовы Фулон и жилицы дома в Часовом тупике. Оба указывали на уличного художника по имени Фермен Кабриер.
Кэндзи словно прирос к своему письменному столу и пустил корни. Виктор и Жозеф должны были дождаться полудня, чтобы обменяться впечатлениями по интересующему их вопросу. Они вели банальные разговоры о погоде, о семьях, о литературных новинках, а сами сгорали от нетерпения.
В целях предосторожности Виктор перенес место встречи: «Потерянное время» было слишком близко к книжному «Эльзевир». Его выбор пал на задрипанное бистро на улице Бонапарта «Взад-вперед», где крутился молодняк из Школы изящных искусств. Там не было никаких шансов встретить в обеденное время кого-либо из завсегдатаев магазина.
Как только Жозеф зашел в кафе, он сразу понял, что это идеальное место для тайных сборищ и приватных бесед. В этом дешевом ресторане, шумном, дымном и мрачном, они с Виктором не увидят ни одного знакомого лица. Он сел в центре зала, заказал бифштекс с картошкой и развернул «Паспарту». И тут так поразился, что аж дыхание у него перехватило, и онемевший, с выпученными глазами он вцепился в газету дрожащими пальцами, перечитывая статью с начала. Он даже не заметил, как напротив расположился Виктор.
— Жозеф, ваш картофель. Что это у вас с лицом?
Тот молча протянул ему газету. Виктор впился глазами в строчки:
…полиция устроила облаву, чтобы разыскать некоего Фермена Кабриера, который нарисовал на площади Тертр оранжевый силуэт человека, насквозь пронзенного косой. Владелец мастерской фарфора на улице Лепик заметил картинку, изображающую крокодила, вставшего на задние лапы, который танцевал польку-бабочку со скелетом.
Рисунки эти были сделаны недавно, онимогли быть выполнены только после снегопада в ночь преступления, потому что этим утром тротуар был сухим. Опрос торговцев, домохозяек и школьников оказался безрезультатным.
— Целых двое! — пробормотал Жозеф. — Вдову Фулон я знаю, заходил к ней в магазин. А с Ферменом Кабриером я разговаривал, и он, похоже, не так прост, как кажется. Эти преступления связаны между собой, все сходится: поддельная миниатюра, крокодил…
— Знаю, знаю, Жозеф. А давай порассуждаем. С какой стати учитель французского из приличного лицея, к тому же холостяк примерного поведения, будет болтаться в XVIII округе в столь неподобающе поздний час?
— Девушек искал.
— Правдоподобно, но бездоказательно. Мне кажется, тут кое-кто замешан.
— Кое-кто? Кого вы имеете в виду? Шарлину Понти?
— А почему нет? Она как-то странно себя ведет, слишком настойчиво ко мне пристает. Надо еще прощупать ее воздыхателя, которому она кружит голову, тоже актер, я записал, как его зовут… Арно Шерак. Она рассказала мне, что Робера Доманси шантажировали.
— Шантажировали? Почему?
— Думаю, точно не за махинации с кассой театра, поскольку и персонал, и актеры все знали об этом.
— Это усложняет дело.
Жозеф отодвинул свою тарелку.
— Я не голоден. Послушайте, нельзя позволить, чтобы нас обставил этот газетчик, Рено Клюзель. Сопляк, молоко на губах не обсохло. Сегодня днем мне необходимо что-то выяснить, ведь завтра мы поедем на аукцион. Придумайте что-нибудь для Кэндзи, я хочу опередить полицейских и этого Рено Клюзеля, инстинкт подсказывает мне, что Фермен Кабриер явно замешан в этой истории.
* * *
«Ух ты, зараза, как же мне раздобыть адрес этой пожилой дамы, которой я тут накануне накупил провизии? А, знаю!»
Жозеф прыгнул в омнибус на остановке «Белая площадь». Не удостоив взглядом огромную нарядную карусель, он доехал до бульвара Клиши и влетел в бакалею вдовы Фулон.
Хозяйка орудовала специальными щипцами, пытаясь извлечь селедку из рассола. Увидев Жозефа, она упустила рыбину, вытерла руки о передник и обольстительно улыбнулась.
— Мсье вернулся? Что желает мсье?
— Вы мне тут хвалились вашим фуа-гра и вашим копченым лососем, так вот, у одного из моих друзей в конце месяца свадьба, он придет за покупками, но хочет заказать доставку, это возможно?
— Конечно, мсье, конечно.
Она открыла конторскую книгу, обмакнула перо в чернильницу.
— Давайте я запишу, а как его зовут?
— Клюзель, Рено Клюзель, улица Бательер, дом 40.
— Это очень любезно с вашей стороны, мсье.
— Я тут как раз вспомнил о вас сегодня утром, когда читал газету. Надо же, как неприятно! Вроде бы посыльный из вашего магазина обнаружил какой-то замогильный рисунок у вас на пороге.
— Представляете, какая мерзость! Злоумышленик, гнусный завистник хотел испортить мою репутацию, но теперь ему недолго прятаться, его сцапают и отрубят ему башку.
— И что там было?
В магазин зашли три суетливые домохозяйки, но это не помешало вдове выплеснуть до конца свою ярость:
— Труп и еще какая-то гнусная надпись. Я уже говорила с полицией, у меня порядочное заведение, вон те дамы могут подтвердить. Не так ли, мадам?
Дамы бурно закивали.
— Дайте мне две плитки шоколада — это для моей дочки, и пакетик драже, — сказал Жозеф и как бы невзначай поинтересовался: — А что, собственно, за надпись?
— Да гадости всякие! Типа, что торговый дом не дает в кредит, и еще какая-то белиберда про время, не то, в котором мы живем, а то, что бежит… Ну это же вранье! Как подумаешь, сколько народу у меня отоваривается в кредит… В рай этого Фермена Кабриера точно не пустят, даю слово Пелажи Фулон.
— Дайте еще, пожалуйства, пакет кофе и скажите мне, где живет эта пожилая дама, которой я тогда накупил ваших прекраснейших продуктов, я обещал занести ей кофе, но замотался и забыл.
— Матушка Ансельм? Дом 38 по нашему бульвару, шестой этаж. Не беспокойтесь, вашего друга, мсье… м-м-м… Клюзеля, обслужат как махараджу.
На четвертом пролете черной лестницы Жозеф почувствовал, что ноги у него подкашиваются от усталости. На пятом сбилось дыхание.
«Ненавижу высоту…»
Наконец шестой! Вот радость-то!
Покоритель вершин устремился в коридор с множеством дверей в комнаты служанок. В конце коридора свет не горел, нужно было двигаться на ощупь.
«Швейцар сказал, что она живет здесь».
Он постучал.
Матушка Ансельм встретила его, ласково улыбаясь, усадила на соломенный стул и сама села на кровать. Жозеф оглядел скромную обстановку: все лучилось чистотой. Он тотчас же почувствовал себя уютно, как дома: словно в детство попал.
— Я принес вам пакет кофе.
— О! Как это мило с вашей стороны, а то все цикорий да цикорий… Кофе мне не по карману, больно уж дорог. Вы просто умница, молодой человек, потому что лазить по этим лестницам с моими суставами… Двадцать лет я как вьючный мул таскала тележку с овощами и фруктами, закупалась в Ле-Аль и взад-вперед ездила по бульвару Рошшуар. А с какой стати вы оказываете мне эти услуги?
— Я могу задать вам один вопрос?
— Ну давайте.
— Вы знакомы с Ферменом Кабриером?
— Знакома ли я с ним! Да я его еще мальчиком помню. В былые времена мы с моим стариком жили на Холме, мы были молоды, эх! Мы жили на улице, которая круто спускалась вниз, к мостовым и рынку, это еще до строительства Сакре-Кёр, тут была деревня деревней. У каждого был собственный сад, собственный колодец, мы держали корову, и я продавала масло до того, как заняться торговлей овощами. Мы жили деревенской жизнью, как одна семья, помогали друг другу. После школы я смотрела за детишками тех соседей, кто работал допоздна. Фермен был моим любимчиком, такой был славный парнишка, не дергался по пустякам, десять лет ему было, тощий как жердь, маленький мышонок, да что там говорить, недоношенный, сперва вообще говорили, не жилец! Он хорошо учился, вечно сидел над книжками, которые ему давал учитель. Он часто получал награды, но поскольку был замкнут и нелюдим, его считали слегка ненормальным. Он уже тогда рисовал, мечтал стать художником, только, сами понимаете, заниматься у мастера в мастерской, когда твои родители едва сводят концы с концами, а у тебя при этом еще время от времени случаются припадки падучей… Когда его папа и мама померли, он собрал свои манатки и исчез. Я хотела оставить его у нас, но мы слишком бедны. Увидела его снова я только через два года. Он рассказал мне, что ходил на корабле до Тонкина, драил палубу и колол матросам татуировки. Это все, что мне удалось узнать, он по большей части молчун. Живет как живется, выкручивается, лишь бы получалось делать то, что ему нужно, а ему в жизни одно нужно — рисовать на тротуаре. Иногда он находит себе какую-нибудь сдельную работенку часа на три, но ничего постоянного даже не намечается. Знаете, мсье, люди чешут языками, они болтают, что безработные все бездельники, подонки общества, но когда ты с детства ни в чем не нуждаешься, ты не имеешь права судить других. Я пытаюсь ему как-то помочь тем, что в моих силах. А почему вы им интересуетесь?
— Вы мне показывали амулет, который он вам подарил, я подумал, что вы дружите и…
Жозеф оглядел по очереди слуховое окно над водостоком, начищенную плитку, железную кровать, милое лицо матушки Ансельм в облаке седых волос. И решился.
— Поскольку вы все равно это узнаете, скажу: полиция подозревает его в двух убийствах, которые были совершены в Часовом тупике.
— Что вы говорите? Его? Да он кроткий как ягненок. А когда было совершено первое преступление?
— 29 октября, примерно в полночь.
— Тогда это точно не он, он был тогда у меня. Надо вам сказать, что это день моего рождения, шестьдесят восемь лет стукнуло. Я Скорпион по знаку, но я не могу предательски ужалить из-за угла. Было поздно, холодно, он спал на коврике, завернувшись в покрывало, и ушел с утра, выпив кружку цикория. Вы мне верите, а?
— Да, я вам верю, но вам придется повторить свое свидетельство полиции.
— Я готова подтвердить, будьте уверены. А когда произошло второе убийство?
— Вчера. На том же месте в тот же час.
— Не он это! В хорошую погоду с наступлением сумерек он ночует на Холме в кустах. А зимой находит пристанище на заводе по сборке омнибусов, на углу улицы Шампьонне. Он старается принести людям пользу, спросите кого хотите, о нем никто дурного слова не скажет.
— Я это и хочу сделать. Не беспокойтесь, я вытащу его оттуда. А к вам я еще зайду.
Матушка Ансельм помрачнела.
— Ох, нервы у меня шалят! Не представляете, чего только себе на ночь не напридумываешь! Мысли бегут, не остановишь. Ну вы точно ко мне еще придете? Обещаете?
— Обещаю, — твердо сказал Жозеф, кладя на стол пакетик драже и две плитки шоколада.
Большой завод на улице Шампьонне выполнял все операции по сборке омнибусов и трамваев. На его территории теснилось огромное количество мастерских и объединений. Каких здесь мастеровых только не было! Каретники, мастера по колесам, наладчики рессор, кузнецы, плотники, краснодеревщики, стекольщики, фонарщики, токари, оцинковщики, болторезчики, шорники населяли этот маленький трудолюбивый город. Как же проникнуть туда? К кому обратиться, чтобы найти среди толпы рабочего люда Фермена Кабриера?
Небо потемнело. Вскоре заводской гудок отпустит всех на волю. Жозеф решил рискнуть. Он подошел к будке и спросил ночного сторожа, который как раз заступал на ночную смену. Тот недоуменно пожал плечами.
— Я ночной сторож, вот дневной может знать. Не я же сюда рабочих нанимаю. Завтра зайдите, я узнаю. Как, вы сказали, его зовут?
Тут Жозеф заметил в глубине сторожки, на столе, рядом с котелком, страницу газеты «Ле Пти Паризьен», где две полосы занимала статья с заголовком:
Второе убийство в Часовом тупике. Предполагаемый преступник — Фермен Кабриер — в настоящий момент разыскивается полицией.
— Мишель Бувьер, — тут же ответил он. — Высокий блондин, краснодеревщик.
— Не знаю такого, — пробормотал ночной сторож, шуруя в печи кочергой.
Глава девятая
Суббота, 4 ноября
Хельга Беккер ворвалась в книжный сразу после открытия.
— Здравствуйте, мсье! Ну вот, нас избавили от убийцы, Париж весь бурлит! А во всем остальном мире тоже все убивают друг друга как хотят, вот ужас-то!
Жозеф, который стоял на лесенке возле полок, соскользнул вниз.
— О чем это вы? — нехотя поинтересовался Кэндзи.
— О преступлениях в Часовом тупике, о Бурской войне, ну не знаю! Нет ни одной газеты, которая бы не разжигала в человеке самые низменные истинкты. Вместо того чтобы стараться поднять народ до своего уровня, как учит мсье Эмиль де Жирарден, газеты сами опускаются до уровня читателя, я, в конце концов, стану читать только журналы мод!
Она швырнула на прилавок «Паспарту», которую мгновенно подхватил Виктор.
— Они его поймали, — шепнул он Жозефу.
— Кого?
— Фермена Кабриера. Какой-то служащий омнибусной компании его выдал.
— Немного внимания, пожалуйста, — попросила
фройляйн Беккер, — у меня важная новость: я обручилась!
Кэндзи, оживившись, поднял голову:
— Мои поздравления. И кто счастливый избранник?
— Торговец автомобилями из Франкфурта. С его помощью я получила «Сертификат специальной способности» к вождению транспортных средств не более ста пятидесяти килограммов веса. Вы можете себе представить, французскими префектурами было выдано всего тысяча восемьсот таких дипломов! Я вместе с экзаменатором села за руль авто «Клеман-Гладиатор», проехала по трудному маршруту и…
Виктор метнул быстрый взгляд на Кэндзи, убедился, что тот плотно взят в осаду, и кивнул Жозефу на дверь задней комнаты.
— Что они собираются с ним сделать? — заволновался Жозеф. — Я уверен, что это не он, меня убедила матушка Ансельм. Где они его отыскали?
— В мастерской шорников.
— Как же глупо получилось! Надо было мне там походить по заводу позавчера!
— А кто вам сказал, что ваша матушка Ансельм не лжет, не покрывает его? Как бы то ни было, Огюстен Вальми постарается довольствоваться этим подозреваемым и побыстрей закрыть расследование.
— Виктор! Жозеф! Идите сюда, нужно произвести инвентаризацию Мюссе! — в голосе Кэндзи слышалось беспокойство.
— Это крик о помощи, — заметил Виктор. — Пойдем, а то хуже будет.
Когда они пришли, Кэндзи уже прижался к камину, теснимый напористой Хельгой Беккер.
— Надо жить в ногу со временем, мсье Мори, За несколько су вы можете использовать одно из ста десяти электрических авто, которые Генеральная компания транспорта предоставила в общий доступ.
— Я все-таки боюсь, что на каждом перекрестке нашего города тогда окажутся задавленные пешеходы, — проворчал Кэндзи.
— Я предпочитаю ходить ногами по твердой земле, — заявила Эфросинья, которая как раз собиралась подняться по винтовой лестнице. На самом верху лестницы стояла Мели Беллак и боязливо на нее поглядывала.
— Наш внучок все такой же непоседа? — поинтересовался Кэндзи, внимательно разглядывая бюст Мольера.
— Если бы он был в том возрасте, когда носят форму, он бы показал этим «бузотерам и буроломам», которые осмелились восстать против англичан.
— Вообще-то это голландские фермеры, — уточнила Хельга Беккер.
— Да и наплевать! Я так подозреваю, что это дикари, которые пляшут под звуки тамтама. И потом, что это за страна такая, с гулькин нос: Трамваль какой-то. Кто о ней до этого слышал?
— Трансвааль, четвертая «н», два «а», — бросил Кэндзи, явно уже на грани нервного срыва. — Будь я проклят, если вам удастся найти его на карте.
— А вот и ошибаетесь! Я найду его там, где ему самое место, в Африке, это континент, где куча неизученных земель, и меня туда не заманишь, ни пешком не пойду, ни на велосипеде не поеду, ни на вашей этой электрической машине. Вот так, давай, потешайся, — крикнула она Жозефу, — насмехайся над матерью! Ох, уснуть бы и никогда не проснуться! А вы там, альпинистка-скалолазка, не хотите что-нибудь приготовить на ужин?
Виктор наклонился к Жозефу и прошептал ему в ухо:
— Мне надо увидеться с комиссаром Вальми. Прикройте меня, а потом подходите к трем часам в кафе «Взад-вперед». Попробуйте еще расшевелить вашу матушку, пусть побушует, тогда никто и не заметит, как я уйду.
— Да ее и шевелить не надо. Она и так готова к извержению, точно вулкан.
Он сказал нарочито громко, жалобным тоном:
— Мама, если тебе не трудно, ты могла бы говорить на полтона ниже, а то я не могу сосредоточиться на Мюссе.
Невзирая на свою занятость, Огюстен Вальми весьма любезно принял Виктора. В его свежевыкрашенном кабинете теперь красовалась репродукция картины «Разбитый кувшин». Ему нравилась эта работа Грёза
[1018], которая символизировала утраченную девственность: она укрепляла его в уверенности, что женщины — непредсказуемые создания, и их хрупкость — лишь иллюзия, приманка для сильного пола. Огюстен Вальми был непривычно весел, потирал руки и даже предложил гостю сигару.
— Дорогой мой Легри, ну вот мы и избавились от этого заковыристого дела. Уличный художник, куда катится мир? Он в камере предварительного заключения.
— А какой, вы считаете, у него мотив преступления?
— Вскорости выбьем из него и мотив. Все указывает на него, он постоянно размалевывает тротуар кошмарными сценами, иллюстрирующими убийство Робера Доманси и Шарля Таллара. Он обронил свой мелок возле его тела. Кроме того, две почтенные личности практически опознали его. Тут дело ясное.
— Почему же он выдал себя таким глупейшим образом?
— Потому что он, дорогой мой, потому что он действовал по образу и подобию любого другого преступника. Я информировал мать Робера, в Узесе, она настаивает, чтобы сына похоронили там. Это у черта на куличках, я туда не поеду!
— Узес? Мне приходят на память две строчки из Жана Расина, который жил там как-то в течение года:
Прощай, Узес, о город вкусной снеди,
Здесь двадцать корчмарей чудесно проживут,
Но с голоду умрет книготорговец.
— Расин? Надо же. Жаль, но я не стану совершать туда паломничество, лучше денек отдохну и поужинаю у Прюнье. Вознагражу себя за работу супом с устрицами и блюдом улиток, потом проведу вечер «У Максима», где светские вертихвостки будут пытаться меня соблазнить. Интересно, посчастливится ли мне повстречать Лиану де Пужи, чья постель слывет такой гостеприимной?
— Господин комиссар, вспомните, что случилось с нашим последним президентом Республики.
— Прошу вас, мсье, я на пятнадцать лет моложе старины Феликса Фора, придерживаюсь строгой диеты, постоянно хожу пешком, романтизм мне чужд, я не рискую сложить оружие во цвете сил в объятиях красотки. Ну я не лишаю себя иногда приятных излишеств, чего-нибудь мучного, например, потому что при разумном соблюдении чувства меры это вовсе не опасно.
— Я не собирался читать вам нотации.
— Я видел вас в компании этой бесстыдницы в саду Пале-Рояль, вы, кажется, были готовы поддаться ее чарам. Проще поймать ветер в поле.
— Вы что, меня выслеживали?
— Какое противное слово! Я просто убедился, что вы преисполнены доброй воли помочь мне, но теперь это больше не нужно, поскольку мы поймали убийцу.
— Он уже признался?
— Терпение, у нас свои методы.
— А как же мотив? Вы меня, конечно, извините, но просто так не убивают.
— Какой может быть мотив, когда мы имеем дело с неуравновешенным субъектом, или же у него раздвоение личности, как у доктора Джекила, героя знаменитого романа Стивенсона, который я читал в оригинале?
Виктор вспомнил свою беседу с Шарлиной Понти и ее ироничное, даже язвительное замечание по поводу Робера Доманси: он словно хотел усидеть одним задом на двух стульях…
— Я очень признателен вам за вашу своевременную помощь, мсье Легри. Я надеюсь, что отныне вы сможете целиком отдаться торговле книгами. Подумайте над словами Расина о том, что «умрет книготорговец» и пословицу о том, как «повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сломить». Ваша военная служба окончена, возвращайтесь в семью.
— К черту ваши цитаты и поговорки! — отмахнулся Виктор. — Я не дурак и всегда был очень осмотрителен.
Огюстен Вальми встал и оперся руками на стол: аудиенция была окончена.
— Да, кстати, Легри, когда вы мне наконец найдете «Мемуары Видока»?
«Вот наглец! Спровадил меня, вроде как отпустил домой, словно я его подручный. Жалкий фат! Конечно, тебе удобно подвести под монастырь беззащитного бедолагу. Художника всякий обидит! Надо поговорить с воздыхателем Шарлины, как его, Арно… Арно Симпатяга».
Арно Шерак сомневался в своем таланте настолько, что порой считал себя отвратительным актером и через день раскаивался в решении покинуть родную деревушку Латуй-Лентийяк и переехать в Париж. Ни успех, ни комплименты, ни похвальные отзывы критики не могли убедить его в собственной значимости. Когда его хвалили, он думал, что над ним насмехаются. Давали ему главные роли, но он оставался на ролях второго плана. Иногда он вставал с постели, исполненный воодушевления, божественного вдохновения, которое уже привело его в труппу «Комеди-Франсез» и не оставило до сих пор. Но неделя сладкого опьянения проходила, он достигал вершин своей отваги и силы, и тут на него вновь набрасывались беспокойство и хандра. Трах-тарарах! И одного вскользь оброненного слова, одного неправильно понятого замечания хватало, чтобы это непрочное душевное равновесие рухнуло и неуверенность вновь начала охватывать его при каждом шаге. Эта тоска так изнуряла его, что он нашел себе некую паллиативную меру
[1019], на которую возлагал все свои надежды: любовь. Только нежная подруга сумеет внушить ему веру в себя. Его выбор пал на головокружительную Шарлину Понти, он разразился каскадом букетов, духов и лакомств, и каков оказался результат: ему предпочли Робера Доманси, тщеславного нахала, который считал себя выше гениального Фредерика Леметра. Страшную смерть соперника он воспринял с облегчением, но к цели все равно не приблизился. Истерзанный духом, он оставил надежды покорить прелестницу и довольствовался тем, что подавал ей реплики на сцене.
Хотя на улице было прохладно, он безо всякого аппетита жевал молочный хлебец с куском холодного мяса, сидя на скамейке в парке Пале-Рояль и глядя на бассейн. И тут к нему подошел какой-то незнакомый человек.
— Мсье Шерак? Мне в билетной кассе театра сказали, что вас можно найти здесь. Разрешите представиться: Виктор Легри, книготорговец. Шарлина Понти мне о вас рассказывала.
Арно Шерака словно током пронзило, он уронил свой сэндвич, из-за которого тут же начали ссориться воробьи и голуби.
— Вы друг Шарлины?
— О нет, просто знакомый. Тайна бродит по парижским улицам, преступления и злодейства вызывают мое любопытство. Убийство Робера Доманси показалась мне интересным случаем. Вы были дружны с ним?
Арно Шерак смахнул крошки с брюк.
— Не ждал ничего другого от Шарлины, она меня презирает. Она, наверное, растрезвонила про наши с Робером разногласия. Меня подозревают, да? Нет смысла притворяться книготорговцем, господин инспектор. По правде сказать, я очень рад, что этого коварного соблазнителя казнили. Вяжите меня, мне наплевать! И знайте, что его смерть меня только порадовала.
— Нет-нет, вы ошибаетесь, я, правда, книготорговец. Вот моя визитная карточка. Никто вас не подозревает. Шарлина Понти…
— Сучка! — яростно воскликнул Арно Шерак.
— Она испытывает к вам чувства, уверяю. Она просила, чтобы вы подтвердили то, что она рассказала мне.
— О чем еще?
— Она услышала, как Робер Доманси ссорился в своей гримерке с незнакомцем, вы были там?
— Я был в коридоре, она меня оттолкнула.
— Она только претворяет в жизнь изречение Пьера Корнеля: «И желание растет, если осуществление затягивается»
[1020].
Арно Шерак изволил улыбнуться.
— Вы действительно так считаете?
— Типичная женская тактика. Шарлина Понти оттачивает на вас свое искусство: заставить просить, как о милости, то, что она сама горит желанием вам предложить. Расскажите мне, что вы заметили.
Виктор сосредоточенно крутил педали, направляясь к северу столицы. Таким образом он успокаивал нервы после разговора с Арно Шераком. По правде сказать, он был в этом состоянии с тех пор, как Огюстен Вальми его безжалостно отстранил от дела.
«Погоди маленько, старина, если ты решил, что меня обставил, ты попал пальцем в небо: я на корпус впереди тебя».
Он остановился, заскочил в кафе «Дюваль», чтобы согреться, заказал рагу из баранины с репой и графинчик красного. Прежде чем вновь прыгнуть в седло, он позвонил Кэндзи и извинился за внезапный отъезд: горло вдруг заболело, видимо, начинается ангина.
Въезд в Часовой тупик был перегорожен, туда пускали только жителей окрестных домов. Бульвар Рошшуар являл собой печальную картину пейзажа после свадьбы: небольшие группки людей шушукались, стоя на тротуаре. Человек с длинной палкой, на конце которой были губки, переходил улицу и чуть не протаранил Виктора, который едва успел затормозить.
— Осторожней нельзя? — пробурчал человек с палкой.
— Простите, — ответил Виктор, — я журналист, разыскиваю служащего кабаре «Небытие», того, который нашел тело.
— Рене Кадейлана?
Человек с палкой наклонился и поднял одну из своих губок. Его явно больше заинтересовал велосипед, чем вопрос.
— Это то, что мне надо, за сколько вы приобрели вашу машинку?
— Я не знаю, это мой патрон покупал. Так что с мсье Кадейланом?
— Рене так надоели легавые и репортеры, что он свалил с квартиры. Он квартируется в бакалее Фулон, где работает его цыпочка, это дом 42 по бульвару Клиши. Только молчок! Если он узнает, что это я вас направил туда, он мне уши надерет.
Пелажи Фулон довольно прохладно отнеслась к идее Виктора припарковать велосипед в помещении магазина.
— Прислоните его к стене, вот здесь, между капустой и картошкой. Что вам угодно?
— Я бы хотел поговорить с мсье Рене Кадейланом.
— Ну, здесь на гостиная и не переговорная комната, здесь бакалея! Идите внутрь, в подсобное помещение, — сухо сказала она. — Он там увивается вокруг этой фефелы Катрин, хорошо, что хоть Колетт испытывает какую-то тягу к труду!
Виктор пошел вдоль полок. Рыжеволосый гигант беседовал с двумя девушками: одна — темненькая, кругленькая, разрумянившаяся, вторая — блондинка, с тонким, бледным лицом, которая улыбнулась Виктору.
— Мадам, добрый день. Мсье Кадейлан, у меня к вам дело. Я журналист, я знаю, что вас уже замучили мои коллеги, но я отниму у вас всего несколько секунд.
— «Паспарту», «Галуа», «Эклер», легавые — да это уже просто скучно! Не рассказывайте только, что моя персона популярна на юге Франции и что вы работаете в «Пти Провансаль»!
— Рене, — вмешалась блондинка, — дай ему отработать свой хлеб, ответь ты этому господину, ты ведь сам в восторге, что оказался в центре внимания.
— Спасибо. Мадемуазель…?
— Колетт Роман.
— Это вы отмывали надпись и рисунок на пороге вашего магазина?
— Откуда вы знаете?
— Это было в статье в «Паспарту». Приказчик рассказал.
— Да, я. Мне это показалось забавным, я пыталась объяснить вдове Фулон, что стирать их было бы неправильно, но она не желала меня слушать.
— А вы помните точный текст этой надписи?
— Да, я даже переписала. Одну минуточку.
Она открыла выдвижной ящик и протянула Виктору листок. Он прочитал:
Такое время года, что нет времени на чувства.
— А я как же? — спросил Рене Кадейлан. — Что я могу вам сообщить, что еще не рассказывал остальным? Дату битвы при Мариньяне? 1515 год.
Колетт и брюнетка прыснули, а Виктор тем временем снял с ручки колпачок и приготовился записывать на оборотной стороне листка, который дала ему Колетт.
— Я пишу статью для «Эко де Пари», — сказал он. — Для меня важнее всего ваше личное впечатление. Был задержан человек, уличный художник, который рисует мелками, ему вменяют в вину два убийства. Мне показалось, что полиция немного поспешила.
— Ох, ну наконец-то хоть у одного голова на плечах. Я того же мнения. Стрелочник у них виноват, единственная улика — кусок мела, оставленный на месте последнего преступления, да его кто угодно мог оставить, я это пытался объяснить полицейским, а они только глазами хлопают. Только и надо им, что повязать человека да в камеру запихнуть! Фермен Кабриер — это мечтатель, это добрая душа, плоть от плоти парижских улиц! Когда небо серое и мрачное, он раскрашивает мир в яркие краски. Когда у него у самого дурное настроение, его преследуют страшные видения, и он передает их на картинах! Но между рисунками и убийством есть некоторая разница, а?
— Я с ним согласна, — подтвердила Колетт Роман, — Фермен миролюбивый тип, да Катрин?
— Она права, — согласилась брюнетка, — он вообще-то славный малый, этот Фермен.
— А правда, что он одержим временем?
— В смысле, временами одержим или одержим временем, которое проходит?
— Ты глупая или как? Хронологией, часами, ходиками, днями, месяцами! — воскликнула Колетт, явно раздосадованная.
— Девочки, не ссорьтесь! — вступил Рене. — Фермен Кабриер, насколько я знаю, не один нам голову морочит с датами, знаю еще одного такого. Тип не из тех, кому отпустят грехи без исповеди! Я позавчера вечером выставил его за дверь кабаре «Небытие», и причем не первый раз. И он еще угрожал мне ножом!
— А кто другой-то?
— Луи Барнав, чокнутый старик, и пьет при этом как лошадь. Он убежден, что через десять дней Земля столкнется с кометой, ну все эти бредни из календарей, которые ни имеют никакого отношения к науке. В кабаре «Небытие», где я работаю, решили обернуть эти дурацкие предсказания и панические настроения в свою пользу и сделать на этом рекламу, такой вот план.
— Это шутка дурного толка! — возмутилась Колетт Роман. — Некоторые всерьез воспринимают ваше объявление, ведь есть же ограниченные, недалекие люди! Нельзя шутить с такими вещами.
— О-ля-ля, отчего бы не посмеяться, тем более что жизнь не балует, кругом борьба! А Луи Барнав правда свято верит в эту ахинею, уверяет, что, если человеческий род исчезнет с лица Земли, невелика будет потеря и что времени надоело быть часами труда для бедняков и наживы для богачей.
— А где мне можно найти этого Луи Барнава?
— Он водит дружбу с угольщиками, навещает виноторговцев, захаживает в кафешки низкого пошиба, во всякие кабаки на Холме. Можно прочесать местность и порасспросить завсегдатаев. Кто-нибудь точно укажет, где искать типа, одетого в коричневый плащ, который может стоять самостоятельно без поддержки, такой он засаленный. Тревога, дракон летит!
Мадам Фулон, встрепанная и злая, вышла из-за угла строевым шагом, словно главнокомандующий перед войском.
— И за это я вам плачу, дорогие девушки? Там народ собрался, беспокоится! А вы, могильщик, идите сторожите свое кладбище, и чтобы я больше не видела вашего дружка, который испражняется своим искусством на моем пороге, иначе хуже будет!
Катрин подошла к Рене и расцеловала его в обе щеки, явно напоказ.
— Ох, — сухо заметила вдова Фулон, усмехнувшись с видом человека, которого на мякине не проведешь, — Этот рыжий дурень вовсе не нуждается в ваших телячьих нежностях. Поправьте платье, бездельница, и идите отпустите фунт масла! А что до вас, велосипедист, раз вы ничего не покупаете, извольте освободить территорию, здесь люди работают!
— Он журналист, — ввернула Колетт.
— Я журналист и книготорговец, у меня уникальная коллекция учебников с правилами хорошего тона, принятыми в современном обществе, дорогая мадам, вот моя визитная карточка, буду рад вам услужить.
Потом Виктор повернулся к Колетт Роман, у которой дрожали губы от сдерживаемого смеха.
— Мадемуазель, взвесьте мне триста граммов пралине и двести граммов розового реймского печенья.
— Слушайте, я вспомнил! — вдруг сказал Рене Кадейлан. — У Луи Барнава излюбленное место — «Бускара» на площади Тертр.
Виктор доверил свой велосипед заботам мадам Баллю, консьержки дома на улице Сен-Пер: он решил не показываться в магазине. Он сидел в бистро на улице Бонапарта, потягивая стакан белого вина. Пыльные шары газовых ламп заливали помещение тусклым светом. Запыхавшийся Жозеф плюхнулся на стул рядом с ним и бросил на стол «Паспарту».
— Я остановился по дороге у газетного киоска. Рено Клюзель интересуется предметами, которые были разложены вокруг тел, он вот-вот догадается об их символическом значении!
— И дальше что? Как это поможет ему найти настоящего убийцу?
— А Вальми что об этом думает?
— Доволен донельзя, получил своего убийцу.
— Какой идиот! У него нет никаких доказательств его вины.
— Кто знает?
— Ну что, мы так это и оставим? Удовлетворимся?
— Вот ничто вас не удовлетворяет, Жозеф. Сплошной негатив.
— А вы что выяснили, пока я повышал сборы от продажи книг в магазине?
— Я прощупал актера по имени Арно Шерак, он увивается за Шарлиной Понти и очень доволен смертью своего соперника. Он признался мне, что был свидетелем ссоры между Робером Доманси и каким-то незнакомцем. Вы записываете?
— А как же!
— Эта сцена происходила в «Комеди-Франсез», в гримерке Робера Доманси. Он был, похоже, взбешен, а незнакомец уговаривал его успокоиться. Потом в скважине повернулся ключ, и Шерак скрылся, но успел увидеть силуэт мужчины. Но это не все.
Виктор вынул из кармана листок бумаги.
— Сегодня днем в бакалее Фулон одна из продавщиц дала мне вот это. Это копия той самой надписи мелом перед магазином.
Жозеф прочел и улыбнулся
Такое время года, что нет времени на чувства,
Торговый дом в кредит не отпускает.
— Забавно. А это было написано до или после ареста Фермена Кабриера?
— А это как раз следует выяснить. Хозяйка заставила стереть рисунок и надпись. Верните мне листок, я там с обратной стороны записал имена. Один тип, служитель в кабаре «Небытие», Рене Кадейлан, указал мне на старикашку, который помешался на теме времени, его зовут Луи Барнав. Надо найти его, займитесь этим, он удостаивает своим присутствием бистро «Бускара» на площади Тертр.
— Холм, кусты, дешевые кабаки — это по моей части, завтра туда отправлюсь.
Маленькая развязная дамочка подскочила к Жозефу и спросила у него, который час. Он только собирался посмотреть на часы, как Виктор перехватил его запястье и показал женщине на большие настенные часы. Она не стала настаивать, пожала плечами, окинула их высокомерным взглядом и двинулась к другому посетителю.
— Что все это значит? — удивился Жозеф.
— Вы извините, что я к вам придираюсь, но вы все-таки удивительно наивны. Это была проститутка, высматривающая простофилю, которого можно обвести вокруг пальца. Хотите что-нибудь выпить?
— Проклятие! Кэндзи мне разрешил отойти только на час, он поднимет шум и будет разыскивать меня с собаками!
Единственное возможное решение: свалить без шума и пыли.
Рафаэль Субран мысленно поздравил себя, что владеет таким минимумом имущества. Он жил в меблированных комнатах, и его скарб, который пополнился только за счет нескольких книг и немудреной кухонной утвари, весь умещался в двух сумках. От пассажа Вердо до его новой резиденции на улице Фобур-Пуассоньер было недалеко. Он двумя днями раньше познакомился с консьержами и очаровал их, посулив бесплатные билеты в театр «Жимназ».
Поднявшись по лестнице до последнего этажа, он оказался в комнате под самой крышей, где уютно гудела угольная печь, где кровать его была убрана, на столе стоял графинчик вина и лежали колбаса с булочкой. Он был в безопасности.
Откуда взялась эта тревога, которая поселилась в нем после того, как блондинчик-журналист подошел к нему после спектакля? Почему интересовался его отношениями с Робером Доманси? Терзаемый сомнениями, Рафаэль Субран стал припоминать все слова и движения Шарлины Понти и этого ничтожества Арно Шерака. Тут он вспомнил, что они оба о чем-то шушукались с велосипедистом, словно сошедшим со страниц «А вот и крылья»
1, юмористического романа о спортсменах, который он прочитал в прошлом году. Это еще усилило его беспокойство.
[1021]
В коридоре раздался какой-то шорох. А вдруг это они?
Он приоткрыл дверь, чтобы иметь возможность следить за жизнью обитателей шестого этажа. Это была вотчина слуг и уборщиц, которую посещали к тому же продавцы поддельных духов и дешевых побрякушек, гадалка с картами и попугаем и даже один известный писатель, который по ночам сочинял рифмованные поздравления ко всяким памятным датам и юбилеям. Рафаэль Субран потерся в узком коридоре, намозолил глаза всем и каждому и завел многообещающее знакомство с очаровательной субреткой по имени Антуанетта, которую потом обещал себе обязательно заволочь в постель. Затем закрылся у себя, ожидая, когда уже можно будет отправиться в театр.
— Поднимут шум? Станут бить в колокола? Что-то не слышно… — пробормотал Луи Барнав.
Он сидел в «Бускара» на своем обычном месте, за столом под прямым углом к стойке. Вооружившись ножницами и клеем он пытался собрать коллаж из цветного картона, изображающий астрономические часы на Страсбургском соборе. Он отложил в сторону башенку с разновесами и сконцентрировался на круге с днями и соответствующими им небесными телами-покровителями. Солнце — воскресенье, Луна — понедельник, Марс — вторник, Меркурий — среда, Юпитер — четверг, Венера — пятница и, наконец, его любимец Сатурн, запечатленный в момент, когда он пожирает своих детей; самый прекрасный символ времени, истребляющего все, что им создано.
— Что ты тут мастеришь, Барнав? — поинтересовался какой-то оборванный пьянчужка.
— Слушай, оставь меня в покое! И не вздумай поставить свою жирную кружку на мои картинки. Мне нужно поставить четыре возраста жизни перед смертью, которая отсчитывает часы, ни на миг не останавливаясь, а главное, важно, чтобы я не забыл песочные часы. Песочные часы ой как важны!
— Ничего такого отвратительного в смерти нет, — заметил гарсон из-за стойки. — Ты нажрался, Барнав.
— У меня с утра капли во рту не было, ей-богу! Чтобы собрать это произведение искусства, необходимо, чтобы руки не дрожали. Ты, халдей, иди сюда, покажу тебе, кто я есть! Вот дерьмо! Народу здесь слишком много, пожалуй, я свалю. Ну, скоро вы перестанете чесать языками, старые дураки!
— Какой ты невежливый, Барнав.
Луи Барнав старательно собрал разные части своего макета, положил их в картонную папку для рисунков, которую нашел в помойке у какого-то художника-пачкуна, и вышел из бистро.
Он поднялся по переплетению улочек, обрамленных палисадниками и веревками, на которых сушилось белье, присел на изъеденную червями деревянную ступеньку. Открывающийся вид сверху — голубые, серые, лиловые крыши, мягкие цвета, словно переливающиеся друг в друга, — как-то успокоил его. Потрескавшиеся стены и расшатанные непогодой каркасы с торчащей железной арматурой придавали этим лачугам вид одновременно таинственный и печальный. Над водосточными канавами поднимался теплый парок. Тощие псы делили территорию. Луи Барнав положил на язык ментоловую конфетку, обнаруженную в глубине кармана, нагнулся, подобрал с тротуара газету и погрузился в чтение.
«Ни хрена себе! Нет, это мне снится! Обвинить Фермена Кабриера в двух утонченнейших убийствах! Посчитать его способным создать вокруг двух этих жмуриков ребус, связанный с Сатурном? Его, чокнутого, упавшего с Луны простака? Что за кретин написал эту статью, да я заставлю его съесть свой поганый листок без соли!»
Луи Барнав вскочил, его трясло от злости.
— Сатурн! Да он ни черта не смыслит ни в Сатурне, ни в его кольцах, этот пачкун недоделанный! — бубнил он, с трудом карабкаясь по лестницам Холма. — Если он и заслуживает кольца, то только в нос, как медведь на ярмарке! Как будто он сечет в мифах и знает, что Кронос проглотил камень, который ему дала его женушка. Эту чертову бабу ее сынуля Зевс пристроил в Дельфах, где греки устроили гадательный комбинат! Фермена это увлекает не больше, чем халдея в «Бускара» теорема Пифагора! До чего ж тупые эти легавые! Принять за убийцу фантазера, который рисует крокодилов, танцующих польку-бабочку — а почему тогда не мазурку? Я-то все знаю!»
Его проход сквозь заросли за бараками произвел немало шума. Курицы заквохтали, осел заревел жалобным голосом, старушка в ужасе выронила котелок, который надраивала на заднем дворе. Мальчик в мятых штанах, сосредоточенно ковыряющийся в носу, уставился на выскочившее из кустов чучело в коричневом плаще. Луи Барнав резко затормозил.
— Тебе помочь? — поинтересовался он у мальчика, демонстрируя корявый палец.
Мальчик испуганно заслонил лицо рукой.
— К твоему сведению, сопляк, время не склоняется перед нами, это мы склоняемся перед временем! — провозгласил он, неожиданно смягчившись.
Вконец обалдевший мальчонка нашел в себе силы поднять голову и опасливо принял предложенный леденец.
А старик уже удалялся, размахивая руками. Перед зданием Сакре-Кёр он плюнул на вывеску ресторана «Убежище Святого Жозефа» и высунул язык, обращаясь к облупившейся стене, в которой еще сохранились дырки от пуль после казни генералов Тома и Леконта, которых расстреляли коммунары 18 марта 1871 года.
На улице Мон-Сени он приклонил колено перед покосившейся халупой, где более шестидесяти лет назад жил Гектор Берлиоз
[1022], и промурлыкал Dies irae, пятую тему «Фантастической симфонии», единственное классическое произведение, которое было ему известно, а затем продолжил свой бессмысленный поход.
Луч солнца, промелькнувший между тучами, сверкнул на лезвии ножа.
Глава десятая
Воскресенье, 5 ноября
Кларисса Лостанж закрылась в туалетной комнате и, набрав полный рот шпилек, начала энергично расчесывать длинные седеющие волосы. Соорудив на голове монументальный пучок, она кинула триумфальный взгляд в зеркало, украшенное золочеными ангелочками. Эта полненькая, общительная, ухоженная сорокалетняя женщина с первого взгляда внушала доверие и симпатию. Но если кто-то пытался злоупотребить расположением этой благородной души, он напарывался на когти пантеры, пригвождающие его к земле, и несчастному оставалось одно: спасать свою шкуру.
Кларисса Лостанж жила на бульваре Бурдон, на втором этаже, выходящем на улицу, в красивой квартирке, которую она получила по завещанию от умершего десять лет назад супруга. Весь шик ее жилища состоял главным образом в огромном количестве расставленных там и сям дорогостоящих безделушек. Так бы она и осталась одинокой, если бы жизнь не вынудила младшего братца воспользоваться ее гостеприимством.
Непросто было Эзебу Турвилю осмелиться и попросить сестру приютить его! Его активное участие в забастовке почтальонов в центральном отделении связи Парижа на улице Лувра 18 мая прошлого года лишило его работы и средств к существованию, а соответственно и жилья — а все потому, что он и его коллеги впервые в истории почты потребовали злополучного повышения зарплаты. По приказу заместителя госсекретаря по делам почты и телеграфа Леона Мужо разносить почту были отправлены солдаты регулярной армии. За этим последовало двадцать семь увольнений. Среди уволенных оказался и Эзеб Турвиль.
С одной стороны, он был благодарен сестре за то, что она взяла его на содержание, с другой — его больно ранили ее язвительные замечания. Хлебом не корми, дай поворчать на него: не сумел достойно пройти по жизни, даже такую жалкую работу глупейшим образом профукал, даже жениться и то не сумел, но это и к лучшему, потому что как такому семью содержать… Он же не собирался повесить на нее еще и своих детишек? А ну да, конечно, она же забыла эту Анаис, тоже мне штучка-дрючка, телефонисточка, дала ему отставку сразу, как его выкинули с работы, не церемонилась! После этого потока критики Кларисса переходила к самовосхвалениям. Она обожала определения типа: «я была бы лучшей в мире матерью, если бы Бог даровал мне детей», «добрейшая из сестер», «лучшая из домохозяек». Если вдруг Эзеб перебивал ее робким вопросом, она отвечала ему издевательским замечанием. Но если она о чем-то спрашивала брата, она никогда не слушала его ответ и
вновь принималась за свою канитель.
Эзеб Турвиль был узником в ее доме. Каждый вечер сестра окидывала его насмешливым взглядом и демонстративно опускала ключи в китайскую вазу. Это был ритуал, смысл которого состоял в следующем: если он хочет уйти, он должен получить ее разрешение — или отказ. Эзеб Турвиль легко разгадывал ее мысли: «Ты думаешь, что ты свободен, дорогой Эзеб. Но у тебя нет ни одного шанса». На ее миловидном лице читалась ирония.
Но Эзебу было не до смеха. Он обходился без табака, без аперитива, без газет, без игры на скачках — и чах на глазах. До этой проклятой забастовки каждое воскресенье с утра он отправлялся в Лоншан, если скачки не переносили в Отей или в Круа де Берни. Он садился на поезд в толпе простолюдинов, конюхов, букмекеров и карманников. В пролетки, почтовые кареты, ландо и фиакры загружались совершенные джентльмены и истинные леди. Ему нравилась эта лихорадочная взвинченность и взбудораженность, он сравнивал ее с атмосферой в казино. Эзеб Турвиль редко выигрывал, но когда это случалось, он мог подарить Анаис какой-нибудь подарочек, чтобы больше привязать ее к себе. А какое удовольствие смотреть на парад жокеев и лошадей перед трибунами, чувствовать, как сердце трепещет в ожидании старта! Но теперь шиш с маслом. Он — приемыш, без единого су в кармане, его держат у себя из милости. Однако хитростью ему удалось сохранить в теплом местечке под подкладкой пальто 20 франков, остаток его последней выплаты. После его переезда к сестре он засунул поглубже гордость и тщеславие и наблюдал за жизнью бульвара через стекло из закрытого окна.
В этот день Эзеб Турвиль проснулся в дурном настроении. Он чувствовал настоятельную необходимость вдохнуть аромат большого города. Просто хоть ненадолго сбежать от этой гарпии, которая поджаривает его на медленном огне. В конце концов, чем он рискует? Сестрица будет нудно его отчитывать? Ну, потерпит, что делать. Пытаясь разлепить тяжелые ото сна веки, он вспомнил, что сегодня придет новая служанка — вот уже третья за полгода. Ну, значит, благоприятный момент для бегства настал!
Он поспешно оделся. Прислонившись ухом к дверному косяку, он услышал шум шагов, суету, приглушенные голоса. Консьерж тащил в коридор вещи, сестра водила служанку по комнатам и показывала объем работ.
— Вот ваша комната, — услышал он ее голос.
Эзеб Турвиль не смог сдержать смех. Так называемая комната представляла собой узкий проход, освещаемый окошком, выходящим на кухню, в котором стояла железная кровать с двумя плоскими матрасами, соломенным стулом и разломанным шкафом.
— Не будем терять времени, деточка, растапливайте печку, — холодно указала сестра. — Вам следует думать только о работе, а не о романах про розовую водичку и прочих глупостях! Чтение портит зрение, и потом бьется посуда!
Эзеб Турвиль воспользовался суматохой, незаметно открыл задвижку и проник в гостиную. Быстро перевернул вазу, схватил ключи и заодно спрятал в карман маленькую фарфоровую статуэтку. Он продаст ее старьевщику на улице Алигр.
«Честность, конечно, прежде всего, но исключение только подтверждает правило», — подумал он без тени угрызений совести.
— Идите посмотрите, где хранятся половые тряпки, метелки и швабра. И я категорически запрещаю вам открывать окна! А то недолго и насморк подхватить.
— Да, мадам.
В три бесшумных прыжка Эзеб добрался до входной двери.
— Чтобы накрыть на стол, вы будете надевать белый передник. Что это вы так вырядились! Шапочка — какое-то уродство, и платье вам тесновато, похоже! Я пойду проверю ваш чемодан.
— Хорошо, мадам.
Ура, свобода! Эзеб Турвиль, ликуя, проскользнул на лестницу, оставив дома сестрицу и ее рабыню.
Когда он добрался до площади Бастилии, то по-прежнему радовался, что удрал от своей тюремщицы. Она разбудила воспоминания об Анаис, и, естественно, первый же омнибус привез его именно к ней. Салон был полупустой, он заметил место в глубине, у окна. Уже собрался сесть, как вдруг омнибус тряхнуло и он уткнулся в могучую грудь полной дамы, которая тут же заверещала:
— Маньяк! Сатир! Ну надо же так!
— Извините, пожалуйста, — пробормотал он, поймав заговорщицкий взгляд одного из пассажиров.
Опустив голову, он дотащился на подгибающихся ногах к лестнице империала. Смутно ощутил чье-то присутствие рядом и уставился в окно на бульвар.
— Ваш билетик, пожалуйста!
Эзеб Турвиль подскочил. С огромным трудом он извлек монетку из-под подкладки редингота, извинился перед флегматичным кондуктором и попросил билет в одну сторону до станции Жавель.
Дорога через весь Париж заняла у него больше часа, за это время он тщетно пытался собрать мысли в кучу, но его жизненная ситуация казалась совершенно безвыходной. Он вышел неподалеку от улицы Гутенберга и устремился к зданию из стекла и бетона. Там был расположен центр телефонных служб. Человек, сидящий рядом с ним, обогнал его, посмотрел ему вслед и встал под навес остановки омнибуса.
Руководительницы узнали Эзеба, удивились, что его давно не было видно, и разрешили пройти в один из прямоугольных залов, где в середине сидели телефонные барышни.
Анаис, худенькая шатенка с невыразительным лицом, в алюминиевых наушниках, была занята тем, что втыкала штекер с двойным шнуром в гнездо, соответствующее одному из восьмидесяти абонентов, с которыми она работала (всего телефонная станция обслуживала шесть тысяч номеров). Затем она устанавливала связь с одним из надлежащих номеров — например, Ваграм или Опера, и затем нужно было следить за тем, чтобы отсоединиться. Операция занимала довольно много времени. Благодаря Анаис Эзеб узнал, почему телефонные номера составлены из пяти цифр. Например, в номере 134 — 28 единица была номером телефонной станции, а двадцать восемь — номером абонента, зарегистрированного в тридцать четвертой сотне. Эзеб оценил удобство и практичность этой системы. И он гордился, что такая умная женщина, как Анаис, обращает на него внимание.
Он коснулся ее плеча и снял с нее наушники.
— Ох, откуда ты явился? Я уж решила, что ты в Америку эмигрировал. Слушай, у меня нет времени болтать!
Она поправила на голове наушники. Он снова тронул ее за плечо.
— Мадам Дюпре сказала мне, что твоя соседка справа могла бы тебя заменить на некоторое время.
— Что? Я слышу только какое-то кудахтанье.
— Ну сними же эту штуку.
Она нехотя встала и прошла с ним в конец зала, где стояли руководительницы.
— Я не виноват, я же безработный, а кроме того, у меня неприятности, но я так скучаю по тебе, я был бы счастлив, если бы мы вновь начали общаться…
Она высокомерно задрала нос.
— Ну, мы здесь люди простые, забастовками не развлекаемся. Я зарабатываю десять франков в день, у меня сто пятьдесят восемь рабочих дней в год, это привилегированная позиция, даже если раз в неделю я должна пахать с семи утра до девяти вечера. Раз в две недели мне будут повышать зарплату на сто франков, до того момента, когда ежемесячно буду получать тысяча восемьсот франков, и меня ждет хорошая пенсия. А ты катишься вниз по наклонной, ты просто нуль!
— Да я выберусь из этой ямы, клянусь тебе, и мы сможем…
— Хватит! Я сыта по горло обещаниями! Хочется чего-то конкретного. Вот Эрве платежеспособен, у него есть перспективы…
Она повернулась к нему спиной и проследовала на свое место.
Когда Эзеб Турвиль, сгорбившись, вышел из здания телефонной станции, расстроенный донельзя, некто на остановке подумал сперва, что к нему просто было бы подойти, если бы не внезапное появление грузовика, который встал посреди улицы Гутенберга, преградив путь. Когда бывший почтальон вновь показался в поле зрения, он уже карабкался в омнибус. Видимо, его одолевала охота к перемене мест. Но прочь сомнения, нужно за ним проследить. Новый экипаж повез их в первый округ, к отелю Почты, который помещался в большом квадратном здании между улицей Лувра и улицей Этьена Марселя. Торчать на улице уже невыносимо. Холодно, вот-вот пойдет снег. К счастью, будочка находится прямо у выезда тильбюри
[1023] и почтовых фургонов, так что все хорошо видно.
Решетки, которые в других почтовых отделениях отделяли кабинеты от посетителей, здесь были сняты, поэтому пообщаться со служащими стало гораздо проще. Просторный и светлый главный зал выглядел уютно и гостеприимно, для клиентов были предоставлены специальные столы и скамейки, чтобы они могли спокойно написать письма и разобраться с прочей корреспонденцией.
Эзеб направился к окошечку кассы, где сотрудница заклеивала конверты с помощью специального аппарата Дагена.
— Здравствуйте, Мартина, а Жерар здесь?
— Ты здесь! Ну-ка сделайся незаметным, не то тебя выкинут отсюда, если увидит кто-то из главных, он скажет, что ты пришел баламутить народ, и сожрет тебя с острым соусом.
— Так Жерар-то где?
— Там, внутри, возле пневматических аппаратов.
Пневматические аппараты — трубы с контейнерами, перемещающимися с помощью потока воздуха — были новым изобретением, восхитившим в свое время Эзеба. Сеть этих труб, помещенных в желоба, соединяла почтовые отделения. Он представил себя крохотным, летящим под землей со скоростью шестьсот метров в минуту. Уж тогда Кларисса его точно не поймает.
— Так, значит, из меня сделали козла отпущения? — спросил он своего друга, который в этот момент закладывал кипу писем в контейнер.
Вот уже четверть часа человек в тени остановки наблюдал за дверями здания, выглядывая Эзеба Турвиля среди непрерывного потока лиц.
А вот и он, под ручку с каким-то приятелем. Человек, следивший за Эзебом, безнадежно махнул рукой. Вот уже два раза подряд его план срывался, ничего не выходит, нужно с этим смириться. В этом деле следует проявить особенное проворство. Будет непросто. Но все получится, это точно.
Стоящие один впритирку к другому шале, в которых не было ничего швейцарского, теснились вдоль улицы Коленкур, их лестницы мелькали сквозь заросли кустов. Деревья, даже сухие, успокаивали страх Луи Барнава. В предыдущую ночь он не нарушил его покой своим присутствием, и целительный сон охватил его, без обычных кошмаров. Из тумана появлялся клинок, лезвие тянулось к нему, медленно погружалось в его горло. Он пытался закричать, но просыпался в поту, с пересохшим горлом. Он прошел рощицу, где карикатурист Шарль Леандр иногда организовывал какую-нибудь бучу. Жители протестовали против этой охоты на бродячих котов, улиток или черепах, которая обычно сопровождалась звуками рога и взрывами холостых безобидных выстрелов.
Луи Барнав дошел до сетки, которая огораживает Холм. На улице Корто он попал в стойло, принадлежащее скотоводу, который за несколько су продал ему стакан молока прямо из-под одной из своих коров. Затем прошел по улочке, вдоль которой тянулись заборы, исписанные народными мудростями. «Нини плюс Гастон равно любовь», «Легавые — сволочи», «Конопляный галстук по тебе плачет, Леонар», «Конец света назначен на завтра», «Филибер — сморчок» — примерно таким было содержание большинства этих надписей, выцарапанных на потемневшем дереве. Над заборами нависали кроны невысоких деревьев, в щели видны были потрескавшиеся стены домов.
Череда ведущих вверх улиц привела его на площадь Тертр, и он направил свои стопы в «Бускара».
Десятью минутами раньше туда решил зайти Жозеф. Он надеялся встретить там старого чудака, осаждающего кабаре «Небытие», и завести с ним беседу о том, что было пунктиком старика: о времени. Элегантно одетый мужчина, потягивающий в одиночестве пол-литру за пол-литрой, внезапно воскликнул:
— Ни хрена себе! Это же Жозеф Пиньо, знаменитый романист!
— С кем имею честь, мсье? — поинтересовался польщенный Жозеф. — Но простите, вы напоминаете мне Мориса Ломье!
— Я и есть этот всем известный дурень. Присаживайтесь.
— Дурень? Да ладно вам! Не вы ли владеете галереей, куда все сливки общества сбегаются, чтобы полюбоваться современной живописью?
— Я только управляющий, дорогой мой. Да, я стал респектабельным типом, это уж точно. Эх, незадача! Потерял всех своих старых друзей, а те, кто пришел на их место, ломаного гроша не стоят. А что касается высших материй: я скоро стану отцом.
— Прекрасная новость! Дети — это как глоток свежего воздуха, у меня двое, так что можете поверить мне на слово.
— Я бы предпочел подольше дышать менее чистым… Ну мы скоро сравняемся, Мими ждет близнецов, по крайней мере, так утверждает акушерка. Ну вот я и стал узником своей давнишней мечты: размеренное существование, кругленький счет в банке, семья. И это называют счастьем! Пшик! Судьба заковала меня в наручники, прощай, веселая жизнь.
— У вас просто такой пессимистический период, это бывает, пройдет. Вот возьмите этих двух бедолаг из Часового тупика, у них ведь вся жизнь была впереди! А кстати, не знаете, как мне встретиться с неким Луи Барнавом? Меня уверяли, что он захаживает в это заведение.
— Ну, вам повезло в этой игре, значит, в любви может не повезти, начинайте приглядывать за женой.
— Жена мне верна, у вас были шансы в этом убедиться, когда вы за ней ухаживали.
— Ну, зачем так сразу, это была только шутка. А вот он несется к нам, этот одержимый кометами. Я вас покидаю, на дух не переношу его пророчеств.
— Вот бандитская рожа! И явно уже поддал.
— Да ну, вы слишком во власти ваших детективных историй. Он работает тут ангелом-хранителем для пьяниц, разводит по домам, в общем, ничего страшного.
Тут Мориса Ломье как ветром сдуло — он вышел из «Бускара» за секунду до того, как туда ворвался Луи Барнав.
Жозеф подождал, пока тот плюхнется на стул за столиком, чтобы подойти. Старик встретил его мрачным, изучающим взглядом из-под кустистых бровей. Ножик с открытым лезвием лежал на столе перед ним.
— Даже не представлял, что буду иметь возможность с вами познакомиться, мсье Барнав! Я вовсе не уверен, что наш мир погибнет 13 числа этого месяца, столкнувшись с неумолимой кометой. Вы позволите мне предложить вам дискуссию и поделиться с вами гипотезами на эту тему?
Напыщенный слог этого обращения только разозлил ангела-хранителя.
«Еще один писака. Что им ни скажи, все исковеркают, сначала назойливо пристают с дурацкими вопросами, и если не нароют чего-нибудь эдакого, сами придумают, так и рождаются газетные утки!»
— Вы позволите присесть и поговорить с вами без обиняков? — стоял на своем Жозеф.
— Это частное владение! — рыкнул Барнав. — Ничего не могу поведать вам такого из ряда вон выходящего, у меня амнезия.
— Говорят, что вы рассказываете душераздирающие истории о конце света…
— Все это враки! Да концу света спасибо надо сказать! Прежде здесь вроде бы было море. И что они делают в течение десятков лет! Сооружают торты с кремом, чтобы просить доброго Боженьку спасти их от пруссаков, а теперь вот еще и от кометы! Но ей на них наплевать, этой комете, она летит своим путем. Если вы мне и правда поверите, только одна вещь сможет вас утешить — выпивка!
Сочувственная улыбка на заинтересованном лице его собеседника свидетельствовала, что он не особенно-то поверил в его слова.
— А откуда вы знаете, как меня зовут?
— Мне сказал мой друг, художник Морис Ломье.
— Этот пачкун мог бы и подержать язык за зубами! Ну, если вы деньжат подбросите, тогда другое дело. Большой кофе да стакан водочки к нему в придачу! И еще два ломтя хлеба с маслицем, а не со смальцем!
Официант издали кивнул, он слегка опасался этого бесноватого. Жозеф присел, стараясь дышать пореже: уж очень мощное амбре издавал заношенный плащ старика.
— Ну а вы-то примете на грудь маленько? Или так и будете сидеть, как у тещи на блинах?
Жозеф заколебался. От алкоголя он мгновенно терял голову.
— Баньюльс.
Луи Барнав на минуту замолк, оценивая выбор соседа по столу, затем склонился поближе к Жозефу и заговорщицки шепнул:
— Да это аптечное зелье, лекарством отдает, оно вредно для вашего здоровья.
— Уф… Ну, может быть, Пикон-фрез?
Луи Барнав шумно вдохнул воздух.
— Да это аперитив для девчонок! Вы неправы, нужно пользоваться моментом, прежде чем вы отправитесь на прогулку по мрачным полям Аида. А ждать осталось недолго! Хо-хо, халдей, давай пошевеливайся! Водку с черной смородиной вот этому незнакомцу! Это напиток, более подходящий для мужчины, если туда не набуровят слишком много сиропа!
Официант все записал и побежал выполнять заказ. Жозеф лишь слегка пригубил свой напиток.
— Ну так, ваше высочество, что побудило вас искать со мною встречи?
— Да вот ходят слухи, что вас радует грядущий крах всего на свете, мсье Барнав! А чем, интересно, Сатурн перед вами провинился?
— Сатурн? О Боги, да он явно не из моих дружков! Он мне всю жизнь изгадил. Будь у него время последить за временем, все дорогие мне люди не отправились бы на променад по бульвару Жмуриков.
На его шее вздулась вена. Он стукнул кулаком по столу, схватил нож, раскрыл лезвие и вонзил его в дерево стола.
— Скорей бы уж все кончилось, и все это человечество, все эти моллюски, которые лезут из кожи вон в надежде на то, что им удастся чем-то удивить соседа, прежде чем его удушить, уже скорее сдохнут! Да здравствует тринадцатое число! Чем больше будет жертв, тем я громче поржу! Что? Что такое? Вы шила моего испугались? Да то шило вовсе безобидно по сравнению с пулеметами да с пушками! Война всех выбивает из колеи. А скажите, любопытный мой господин, случалось ли вам вонзать штык в живот неприятеля?
— Иисус-Мария-Иосиф, нет!
— Не произносите эти имена всуе, я очень придирчив в вопросах религии.
— Я только хотел…
— Ух, простота! Вы просто желторотый птенец, вам никогда не приходилось расправляться с кем ни попадя, а мне вот приходилось! И должен вам сказать, это довольно просто, привыкаешь на раз. Наводишь прицел, перезаряжаешь, и хоп — парнишка напротив уже грызет землю, а она не очень-то вкусная…
Луи Барнав вынул из стола нож и принялся чистить им ногти.
— Ну, верите вы или нет, мне приходилось в такое вляпываться, — заключил он, внимательно наблюдая за движением таракана вдоль водопроводной трубы.
Жозеф воспользовался моментом и вылил свой стакан под стол.
— Повторим? — предложил Луи Барнав, глаза его загорелись. — Выпивку и хлеб с маслом?
— Вы давайте, а мне вполне хватит.
— Чудненько, весьма благодарен, молодой человек. Напьюсь в стельку и побреду домой вразвалочку, хлопнусь на свою койку и забуду всю эту клоаку! Вы все тут хором передохнете, а я спляшу на ваших трупах!
Жозеф почувствовал, как кровь приливает к щекам. Этот человек его водит за нос, поприжать бы его легонько, нужно, чтобы его увидел Виктор и разобрался, в чем дело. Он выпалил первое, что пришло ему в голову:
— Надеюсь, в любом случае с вами можно будет увидеться завтра вечером, приглашаю вас в кабаре «Небытие».
Луи Барнав вновь подозрительно нахмурился.
— А с чего бы в «Небытие»-то? Это не ловушка, подстроенная Рене Кадейланом?
— Ну, ваш намек лишил меня права на ответную реплику.
— Вы можете говорить как нормальный человек?
— Мы с одним из моих друзей очень хотим посетить это место, а вы там свой человек. Мы боимся, что поведем себя как-нибудь не так, хорошо, если бы вы согласились быть нашим чичероне.
— Вашим кем?
— Нашим гидом и защитником. В районе уже произошли два убийства, совершенные неким Ферменом Кабриером. У этого монстра могли быть соучастники.
— Фермен — убийца? Что за чушь! Эти преступления потребовали немного побольше ловкости и серого вещества, чем есть в запасе у этого простофили. Нарисовать — одно дело, а замочить, да еще пописать по горлу ножичком — совсем другое. Но в целом, между нами говоря, кабаре «Небытие» — сплошная показуха.
— Я не сомневаюсь, но мы с другом как раз публика для них! И потом, у нас есть с собой афишка, о которой столько пересудов!
— Потому я и работал вчера вечером!
— Где работали?
— Везде, где бухло течет рекой. Я же телохранитель.
— Если я не ошибаюсь, в кабаре «Небытие» принято пить по-черному. Сколько обойдется эскорт забулдыги до дома?
Лицо Луи Барнава разгладилось. Он, видимо, понял, что же от него хочет Жозеф.
— Вы можете одним выстрелом убить двух зайцев. Я заплачу вам, и если вы найдете клиента, получите столько же еще и с него, — продолжал Жозеф.
— Пять монет. Половину немедленно.
Жозеф залез в карман и достал требуемое.
— Ну, по рукам, ваше высочество, завтра вечером встречаемся, и пусть будет свиньей тот, кто скажет, что это не так. Только не опаздывайте, не то меня выставят вон, у меня в «Небытии» хреновая репутация.
Он оттолкнул свою чашку.
— От этого кофе меня с души воротит! Ну спасибо еще раз, я нагружен по самое не балуйся, хоть не буду мучиться с похмелюги! А кстати, зовут-то вас как?
Жозеф дал ему свою визитку. Луи Барнав убрал визитку в карман, спрятал туда же нож, покачиваясь, направился к двери и захлопнул ее за собой. Официант, увидев это, пошел к двери и демонстративно распахнул ее, обмахиваясь меню как веером.
— Черт возьми, как же воняет, нужно проветрить.
Жозеф кивком подозвал его и расплатился по счету. Он спешил рассказать Виктору об этой встрече и надеялся, что тот согласится с ним: ангел-телохранитель обладает теми качествами, которые необходимы настоящему преступнику.
Жерар, начальник отделения пневматики, убежал уже больше часа назад, однако Эзеб Турвиль не мог смириться с идеей возвращения в квартиру сестрицы, где его ждала унылая парочка — Долг и Упрек. Он заранее представлял себе укоризненные замечания, которые выдаст Кларисса во время ужина, а ему кусок не будет лезть в горло. Она будет называть его пошляком, посредственностью, а он будет забиваться в глубь комнаты, заставленной массивной мебелью, которая, кажется, вот-вот обрушится на него и раздавит в лепешку.
С такими мыслями он томился в маленьком баре на улице Лувр, где до этого они с другом с удовольствием выпили по стаканчику абсента. От тепла, которое разлилось по всему телу под влиянием алкоголя, он совсем размяк и вяло следил за движениями уборщиц, за огнем в камине. Два итальянца разговаривали, бурно жестикулируя, журналист что-то ожесточенно строчил в блокноте. Толстая дама, обвешанная дешевыми побрякушками не хуже негритянского вождя, стреляла глазами, пытаясь заарканить хоть какого-нибудь мужичонку.
— Еще стаканчик, мсье? — поинтересовался официант.
Эзеб Турвиль отказался, расплатился по счету и вышел на улицу.
Дождливый сумрак лишь усилил его меланхолию. Неверной походкой он пробирался в потоке служащих, спешащих поскорее забраться в свои норки. Так, это плод воображения, или молодая женщина, которая шла перед ним, рухнула на землю? Он прибавил шаг, помог ей встать, хотя сам готов был упасть в обморок.
— Ай! Как больно щиколотку… Это вывих или растяжение, черт, только этого и не хватало! — воскликнула она, даже не поблагодарив.
— Обопритесь на меня, вон скамейка.
— Ну вот сейчас не надо этих увещеваний, я, между прочим, опаздываю, меня ждут!
— Я только хотел облегчить вам боль…
При свете фонаря он разглядел личико, обрамленное темными волосами, шляпку с цветочками. Ей было никак не больше тридцати. Грубость ее черт вполне смягчалась мягкими линиями чувственного рта.
— Извините меня. Вы ужасно любезны. Я дальше сама разберусь.
Тем не менее она позволила проводить себя до скамейки.
— Вы хромаете. Может быть, нанять фиакр?
— Ну вот не знаю… боюсь, у меня нет с собой столько денег…
— Не беспокойтесь, я расплачусь. Вам далеко ехать?
— Бульвар де Клиши.
— Давайте я вас туда отвезу, а потом поеду домой на этом же экипаже.
— Не знаю, согласиться ли?
— Я понимаю ваши опасения, но, однако, не принимайте мое предложение за попытку ухаживать за вами, я просто хочу услужить, и вообще я человек серьезный.
Она окинула его оценивающим взглядом и рассмеялась.
— Серьезный — это точно, ничего не скажешь! Беру назад свои подозрения и тревоги.
Желтая карета городской службы, которой управлял кучер в желтоватом рединготе и белом цилиндре, притормозила возле них. Голубой фонарь осветил лицо молодой женщины, которая выглядела уже куда более покладистой.
Как только она уселась в угол плетеной банкетки, то положила ноги на батарею отопления — такие зимой ставили в общественном транспорте.
— Это облегчает боль, — сказала она.
Несмотря на противный запах — смесь пыльного ковра и подпревшей кожи, Эзеб Турвиль испытывал чувство радости, которое уже давно его не посещало. Вот оно, приключение!
— Мы можем еще увидеться в случае, если у вас будут какие-то проблемы?
— Какие такие проблемы? Ну вы и нахал! Ну ладно, запишите мне ваш адрес.
Он, волнуясь, исчеркал лист блокнота.
Фиакр трясло, особенно там, где мостовая переходила в тротуар, они постоянно наваливались друг на друга и смущенно улыбались, извиняясь. Эзеб мечтал опустить занавески и поцеловать свою спутницу, но не решался. Он скрестил пальцы, чтобы дорога длилась подольше. Увы, всего через полчаса они въехали в IX округ.
Когда фиакр остановился, матушка Ансельм разговаривала с Илером Люнелем и вдовой Фулон на пороге бакалейного магазина. На противоположной стороне улицы они заметили молодую женщину, узнали ее, хоть она и повернулась к ним спиной, и одновременно окликнули:
— Катрин!
Она подала руку какому-то незнакомцу, который проводил ее до двери, там они немного побеседовали, а потом мужчина направился назад к фиакру.
— О боже, ущипните меня, чтобы я поняла, что не брежу. Какая вертихвостка! А у Рене Кадейлана, пожалуй что, рога режутся!
— Может, это дальний родственник? — предположила матушка Ансельм.
— Дальний или близкий, какая разница. Если Рене прослышит про это дело, парню не поздоровится! — отметил Илер Люнель.
— Ну вот будет драчка! Ну хоть Рене Кадейлан за ум возьмется, а то его собака то и дело оставляет свои дары возле магазина, ну, посмотрим, я готова взять билет в партер, и без больнички не обойдется! — заметила вдова Фулон, пожав плечами.
Глава одиннадцатая
Понедельник, 6 ноября, после обеда
Виктор не мог отказаться от удовольствия проехать через парк Монсо, где редкие кормилицы располагались с колясками — день был холодный, почти как зимой. Он ностальгически припомнил их прогулки в этих местах в 1889 году, когда он ухаживал за Таша, но еще не добился успеха. Он прошел мимо ротонды, последней опоры Шартра
[1024] на бульваре Курсель, легко поднялся на улицу Фальсбург, потом на улицу Кардине до бульвара Мальзерб, где находился лицей Карно. Он попросил портье предупредить директора, что журналист из «Паспарту» хотел бы задать ему несколько вопросов.
— Вы неудачно попали, — ответил портье. — Г-н директор, который, заметим вскользь, уже дал кучу интервью этим всем господам из газет, сидит возле супруги, прикованной к постели. Заходите в следующий раз.
— А могли бы вы дать мне его адрес?
— Конечно, но для это нужно, чтобы мне захотелось, — ответил мужчина, закрывая окошко.
Разочарованный Виктор стоял на тротуаре, пытаясь найти способ проникнуть в здание.
— Тс-с! Мсье! — шепнул кто-то за его спиной.
Он обернулся и увидел подростка лет пятнадцати, волосы растрепаны, щеки в веснушках.
— Я ученик Шарля Таллара. Вы не по моему поводу здесь, а? Меня зовут Гийом Массабьо.
— Почему вы не на занятиях?
Гийом Массабьо выдал в ответ первую пришедшую в голову чушь, выражавшую между тем его потаенные стремления.
— Это из-за отца, он вчера скончался от апоплексического удара.
— Соболезную, мой мальчик, — сказал Виктор, весьма удивленный, что сиротинушка ничем не показывает своего горя. — Поскольку директор вашего лицея сегодня не пришел на работу, не могли бы вы показать мне, где жил ваш преподаватель?
— Ну вот это вряд ли, зато я знаю, где он торчал целыми днями: в кафе на улице Жоффруа, называется «Фасоль». Развлекался там с Вилфредом Фронвалем, старым похотливым чемпионом по домино.
Виктор поблагодарил подростка, который оказался вполне неплохо осведомлен о привычках покойного, и тут вновь удивился, почему парнишка не носит траурную повязку.
Гийом Массабьо посмотрел ему вслед.
— Гори в аду, Шарль Таллар. Это тебе расплата за то, что ты издевался надо мной и даже выгнал на три дня из школы.
«Фасоль» больше напоминала кабаре, винный погребок. На ярко-алом фасаде выделялись черные двери, покрытые рисунками в виде нот и скрипичных ключей. Повсюду были расставлены и развешены арфы, флейты, гитары и сверкающие золотом трубы. Для всех и каждого, чтобы знали, под названием был написан девиз заведения:
Если выпить к нам бокал заведет дорога —
Знай, что музыку у нас нужно чтить, как Бога.
В небольшом зальчике три одиноких постояльца потягивали свои напитки. Аппетитный запах риса с креветками защекотал ноздри Виктора. Он подозвал официанта в голубом переднике. Тот, невзирая на то, что ему было явно за пятьдесят, хотя его и молодили соломенный чубчик и улыбка во весь рот, с юношеской резвостью подскочил к Виктору. Передвинув аккордеон на бедро, он исполнил:
Кто же поздно к нам зашел,
Кто же, милые друзья,
Был он весел, вижу я,
Только вот ни с чем ушел…
— Извините, что?
— Это я в стихотворной форме предупреждаю вас, что, если вы хотите поужинать, ничего не выйдет!
— Ну что поделаешь, довольствуюсь бокалом вермута с черной смородиной, — ответил Виктор, хотя желудок его протестовал изо всех сил.
Выпьем вместе, выпьем тут,
На том свете не дадут,
— пропел официант.
Вдруг откуда-то раздался высокий пронзительный голос:
— Корнелиус, спойте лучше этому запоздалом клиенту:
Люблю я галеты, люблю пирожок,
Куснуть бы его за румяный бочок!
Крупная женщина в красном потрепанном парике, одетая в национальный бретонский костюм, выскочила из кухни. Она не собиралась лишить себя удовольствия покрутиться в обществе такого симпатяги с тонкими усиками и блестящими глазами,
Это Анна Бретанская,
Королева в сабо,
— промурлыкала она, усаживаясь перед Виктором. Потом неожиданно воинственным тоном бросила вызов:
— Какая тональность? Давайте, отвечайте!
— Ну…
Она принялась искушать:
— Если угадаете, будете накормлены… Ну, прислушайтесь, сосредоточьтесь…
— Итак, какая тональность?
— До минор, — предположил Виктор.
— А вот и нет! Проиграли.
С издевкой в голосе допел официант Корнелиус.
— Должен ли я после этого понять, что вы напечете мне блинов? — угрюмо спросил Виктор.
— Без вопросов, очаровательный невежда, вы находитесь во дворце дамы-тартинки, урожденной Каролины Монтуар, чей дед по матери был уроженцем Дуарнене, но все предки по отцу из Севильи, оле!
У любви как у пташки крылья,
Ее нельзя ни-и-икак поймать…
— пропела она, достигнув редчайшей пронзительности на верхах. А затем устремилась на кухню.
— Эмма Кальве по сравнению с ней микроб! — с уверенностью заявил Корнелиус.
Пальцы его пробежались по клавиатуре аккордеона.
— Хозяйка сама приготовит вам порцию паэльи, это честь, которой удостаиваются только высокие гости.
Трое других клиентов только смиренно вздохнули. И пяти минут не прошло, как Каролина Монтуар появилась с блюдом, завернутым в полотенце. Корнелиус принес приборы, и тарелка Виктора наполнилась паэльей, а его стакан — рубиновым вином.
— Чтобы не нарушать старинную традицию, я чокнусь с вами, — объявила хозяйка, усаживаясь на стул напротив Виктора. — За ваше здоровье! Какими судьбами оказались у нас?
Виктор, с набитым ртом, судорожно прожевал и постарался объяснить с максимальной любезностью:
— Ваше кафе неудержимо привлекает внимание. Однако честность заставляет меня признаться вам, что…
— Та-та-та, я вас умоляю…
Судьба, судьба, о роза в грязи!
— пропела она
— Я журналист, я пишу статью про убитого Шарля Таллара, который, как вы наверняка читали, был убит!
— Бедный паренек! И что его понесло на Монмартр?
Когда покидает тело душа,
Она улетает, крылами шурша,
И шепчет: о бедное тело,
Покидать я тебя не хотела!
— Один из его учеников был настолько любезен, что указал мне ваше заведение и рассказал, что здесь частенько бывает некий Вилфред Фронваль.
Каролина Монтуар возмущенно вскочила. Лицо ее было искажено от гнева.
— Он не солгал вам! Сколько я ни старалась показать ему свое недовольство, сколько ни смотрела на него волком, на этого филателиста на пенсии, а он все таскается к нам и таскается! Извращенец несчастный! Позор для всего мужского рода! — проорала она.
Корнелиус изобразил на своем инструменте легкомысленный мотивчик, и по его игривой физиономии было понятно, что г-н Фронваль ему скорее симпатичен.
— Тем не менее, мне надо с ним увидеться.
— Тут я ничем не могу вам помочь, знать не знаю, где он живет. Растворяется, понимаешь, в природе — верный знак, что совесть нечиста! Kenavo
[1025], все это домино. Terminado
[1026], ужин окончен, я закрываюсь, чпок! Рассчитайтесь с Корнелиусом.
Виктор вконец растерялся, но на всякий случай все-таки положил свою визитку на стойку на случай, если Вилфред Фронваль все же заглянет сюда. Корнелиус, впечатленный размером чаевых, заговорщицки подмигнул ему.
— Я-то знаю, где залег мсье Фронваль, — шепнул он. — 17, улица Ампер, второй этаж направо.
Виктор незаметно кивнул в знак благодарности.
Никогда Вилфред Фронваль не чувствовал такого бессилия. Только голод смог вытащить его из дома, он вышел и незаметно, по стеночке, обошел ближайшие магазины, а потом поскорее вернулся в свою берлогу. И если у него хватило сил положить овощи в ящик, хлеб и яйца он оставил валяться в авоське.
Это дело стоило ему таких усилий, что он на полчаса завалился на диван и изучал серию испанских марок c изображением Изабеллы II 1851 года. Он был очень и очень рад, что ему удалось заполучить эти шесть голубых прямоугольников, но мечтой его была редчайшая серия с ошибкой — два изображения королевы попали на одну марку.
Но радостное возбуждение от любимого дела быстро прошло, как только он вспомнил об ужасной судьбе Шарля Таллара. Ну почему он не был откровеннее в своих намерениях! Он чувствовал, что у него нет шансов соблазнить молодого учителя, но все равно следовало довериться ему, быть яснее в выражении, хотя и рискуя получить прямой отказ. Вместо того чтобы отойти на второй план, он должен был быть настойчивей, поговорить с ним, рассказать о своих бедах и трудностях. Его возмущала мысль о том, что человек, которого он так любил, так и не узнал перед смертью, сколь дорог он был для старика, сколь высоко тот возносил его, сколь много он для него значил.
Перерезали горло, как зверю на бойне, в каком-то темном закоулке! Что за гнусная тварь могла совершить это чудовищное злодеяние? А вдруг начнут обвинять его, Вилфреда Фронваля? Если на него укажут полиции, памятуя о его пагубных пристрастиях? Хозяйка «Фасоли» терпеть его не может, она на все способна. Слава Богу, Корнелиус к нему благоволит, не исключено, что они одного поля ягоды. Но сможет ли он перечить хозяйке?
В дверь постучали. Он вздрогнул. Уже так скоро карающая рука правосудия? Приоткрыл дверь и увидел там приветливое лицо незнакомца, который приподнял в знак приветствия бесформенную шляпу. Он улыбнулся в ответ.
— Мсье Фронваль?
Вилфред утвердительно кивнул.
— Официант из «Фасоли» дал мне ваш адрес. Меня зовут Виктор Легри, я журналист, и я интересуюсь окружением Шарля Таллара. Вы ведь дружили с ним? Можете ли уделить мне несколько минут?
Хозяин на мгновение заколебался, но затем освободил проход для гостя. Виктору предложили присесть на диван, заваленный подушками. Он с трудом пристроился и вытянул ноги, сохраняя для себя максимум личного пространства.
Вилфред Фронваль изящно откинул серебряную прядь со лба и застегнул жилет.
— Боюсь, что я немногим смогу вам помочь. Шарль Таллар жил рядом, потому мы и начали общаться, порой играли в домино в кафе, и когда его работа — скорее, даже служение — давала ему передышку, мы вместе просматривали мои альбомы с марками.
— Вы коллекционер? — спросил Виктор, изображая живой интерес к хобби хозяина, которое на самом деле внушало ему глубочайшую скуку.
— Я долгое время занимался торговлей на Елисейских полях, но самые выдающиеся экземпляры я сохранил. Хотите посмотреть мои альбомы?
— Охотно, но как-нибудь в другой раз. Как вы считаете, какие основания могли быть у Шарля Таллара для того, чтобы ночью отправиться на Монмартр?
Вилфред Фронваль почесал щеку и воспользовался паузой для того, чтобы оценить прелести гостя. Какие глубокие черные глаза! Какие элегантные усики! И до чего же эти морщины на лбу, свидетельство глубоких мыслей, ему к лицу! Прелесть!
— Да я больше всех удивился, с какой стати он оказался в этом беспутном месте! Я сначала подумал, что он навещал любовницу. Потом мне в голову пришла мысль, что тут замешен его невинный грешок: лошадиные бега, и я решил, что некий таинственный информатор предложил ему встречу в этой дыре, чтобы сообщить секретные сведения о будущем забеге. Он часто ездил в Лоншан.
Виктор вздрогнул. Лошадиные бега! Он совершенно забыл об информации о секретном советчике. Может, он ему поднес решение на блюдечке, как можно быть таким рассеянным!
— Что случилось, мсье Легри, — забеспокоился Вилфред Фронваль, — Вам нехорошо?
Виктор перевел дух и ответил:
— Да я просто… Жена будет волноваться… А Шарль Таллар делал большие ставки?
— Ох нет, в основном по мелочам, надеялся, что повезет и удастся спокойно дожить до следующей зарплаты в конце месяца, она у него была совсем невелика. Не кажется ли вам несправедливым, что все эти учителя, которым поручают воспитывать подрастающее поколение, так мало зарабатывают?
— Это уж точно. А помимо лошадиных бегов, какие у него были увлечения?
— Вы начинаете задавать нескромные вопросы, мсье Легри, — возмутился Вилфред Фронваль.
Следует ли зацепиться за этот вопрос и одарить гостя внезапным признанием? Ну чем он рискует? Получить пощечину? Он в молодости, бывало, получал. С возрастом стал больше робеть, утратил веру в себя. Он довольствовался тем, что передвинулся на край стула и легонько погладил Виктора по коленке.
Тот весь сжался и вдавился в подушки. Он был в курсе пагубных пристрастий филателиста, и хотя старик внушал ему симпатию, хотел избежать двусмысленных положений. Первый раз в жизни мужчина проявлял к нему внимание такого рода столь активно, и, хотя Виктор не испытывал никакой склонности к представителям своего пола, он все же невольно почувствовал, что польщен. Чтобы разрешить ситуацию, он поспешно встал:
— Весьма вам признателен за прием, я обязательно уведомлю вас, если история с лошадиными бегами поможет прояснить обстоятельства трагической смерти мсье Таллара. Но моя жена уже изнывает от нетерпения, мы договорились пойти в кондитерскую Глоппа, а если этим женщинам что-то взбрело в голову…
Вилфред Фронваль заставил себя посмеяться вместе с гостем, словно человек, который знает толк в противоположном поле. Он проводил Виктора до двери и пожал ему руку, испытывая при этом смесь удовольствия и сожаления.
Оставшись в одиночестве, он вновь погрузился в апатию. Если бы смерть настигла его сейчас внезапно, без объявления войны, он только протянул бы ей руку. Как же он устал, смертельно устал!
Виктор и Жозеф, как и было условлено, обедали в пивной на площади Клиши.
— Раньше в этом тупике стояли солнечные часы. Вы меня слушаете, Виктор?
— Да, я забыл показать вам одну вещь. Эту запись мне дал несколько дней назад инспектор Вальми, она была у Робера Доманси в кармане, прочитайте:
Оплатить услуги «советчика» за октябрьский выигрыш в Лоншане. РДВ Бистро на Холме.
— Вальми дал вам такую важную улику, а вы мне даже ничего не сказали! Браво.
— Мне пришло это в голову, когда я расспрашивал Вилфреда Фронваля о Талларе.
— Ну вы и правда легкомысленно поступили. А вдруг этот продавец секретных сведений и есть Луи Барнав? Я уверен, что этот тип что-то скрывает. Те речи, которые я услышал от него вчера, не лишены некоего смысла, хотя и так двусмысленны, что я даже как-то встревожился. И еще эта неприятная манера поигрывать ножичком, глядя на меня исподлобья, и угрозы на все случаи жизни! Ну, вас-то такие вещи не пугают…
— Жозеф, вы мне это уже рассказывали, — заметил Виктор, сражаясь с пережаренным бифштексом.
— Ну, скажите еще, что у меня бред. Сами поймете, когда через полчаса мы увидим этого типа.
— Пока не доказано обратное, преступник сидит под замком и зовут его Фермен Кабриер, так что я сомневаюсь, стоит ли нам гнаться за двумя зайцами.
— Лишнее добро никогда не помешает. Два зайца лучше, чем ни одного, — проворчал Жозеф, рассматривая проезжающий мимо автомобиль. — А что такое, кстати, «советчик»?
— Я и сам не знаю. Кажется, нам уже пора в «Небытие». Официант, счет!
Ночь спускалась на город, в витринах трепетали желтые отсветы газовых ламп.
Они вышли на бульвар Клиши, заполненный зеваками. Дорогу им преградил музыкант с волынкой. Потом они лавировали в шумном потоке повозок и авто, кучера шумно орали и ругались на них, а автомобили гоготали, как разъяренные гуси.
— Придет день, и эти отвратительные механизмы заполонят улицы! — проворчал Жозеф. — О, вот и наш герой с палочкой наперевес! Собирается поучить нас уму-разуму!
Полицейский в бело-черно-желтой треуголке, чтобы призвать их к порядку, извлек оглушительную трель из своего свистка.
Поднявшись на тротуар, они натолкнулись на столы, заставленные пивными кружками.
— Попутного ветра, мастер подноса!
Запыхавшийся официант, балансирующий огромным
блюдом, мотнул головой: мол, убирайтесь подобру-поздорову. Они прошли ряд мансард, принадлежащих художникам, и вышли к бывшему Белому Барьеру. Там, между двумя зданиями с окнами, украшенными витражами, пламенели крылья «Мулен Руж». Гуляки толпились в дверях этого языческого храма, изнутри неслись возгласы пьяниц и визг духовых. Жозеф остановился было, желая примкнуть к празднующим, но Виктор утянул его в сторону, где сидели любители дешевой еды и дамы полусвета. Им еще встретились группы военных, продавцы кокосовых орехов и многочисленные гуляющие семейства — и вот наконец они подошли к дверям кабаре «Небытие».
— Надо бы нам составить завещания, как вам эта идея?
Виктор озадаченно взглянул на своего зятя.
Тревожат ли его опасные повороты нового расследования, или он озабочен перспективой общаться с мертвецами в грошовом подвале?
— Не вижу поводов для спешки.
— Ну а представьте, что 13-го и правда произойдет столкновение с кометой?
— В этом случае бесполезно заботиться о наследниках.
Не успел Виктор произнести эти слова, как перед ними возник Луи Барнав собственной персоной.
— Если вы возьмете меня под руки и мы попытаемся слиться со стеной, эти болваны нас не заметят.
Виктор и Жозеф недовольно просунули руки под рукава его плаща, хотя у обоих руки были в перчатках, и решительно двинулись к двум могильщикам, охраняющим двери.
— Эге! Если ты думаешь, что опять будешь мне пакостить, Барнав, ты глубоко ошибаешься. — проревел Рене Кадейлан.
Чаевые мгновенно умерили и его претензии, и возможные вопросы его напарника.
Странная троица вошла внутрь, но тут вновь объявился Рене Кадейлан.
— Ты, Барнав, держись в сторонке, от твоей вони тараканы передохнут.
— Чего такого, это просто естественный человеческий запах! Жизнь у меня такая!
— Охотно верю, но это отпугивает клиентов и плохо отражается на выручке. А сегодня зал отравлений полнехонек. Иди вон присядь на ту бочку, что под похоронным светильником.
— Ну у вас здесь и обстановочка. Хуже, чем катакомбы, — взвыл Жозеф. — Гробы вместо столов, и эти кости, свисающие с люстры, ну прелесть что за освещение, похоже, что у всех присутствующих бубонная чума. Посмотрите на Барнава, он весь зеленый.
— Добро пожаловать, выбирайте себе саркофаг. Вот этот, рядом с дамами, вполне подойдет, располагайтесь, — доверительно сообщил им Рене Кадейлан, бросив заговорщицкий взгляд своей подружке Катрин Лувье.
Та прыснула и подтолкнула локтем подружку:
— Подвинься ко мне, Колетт, в тесноте, да не в обиде.
Жозеф приподнял шляпу.
— Дорогие дамы, я уже раньше имел счастье с вами познакомиться.
— Это еще где?
— Вы очень любезно ответили на мои вопросы в бакалее вдовы Фулон. А вот и мой коллега, мсье Виктор Легри.
— Да, я помню вас, и вас, мсье Легри, я тоже помню. Рада вновь встретиться, меня зовут Колетт Роман, — сказала блондинка. — А это моя подруга, Катрин Лувье. Нам вообще-то это заведение не нравится, но Рене так настаивал… Рене — это охранник, который вас направил за столик, они с Катрин обручены… А кстати, расшифровали ли вы смысл послания, которое оставил Фермен Кабриер на пороге нашего магазина?
— Нет, мадемуазель, мы…
— А чем мы обязаны присутствием журналиста «Эко де Пари» в кафе с такой дурной репутацией? Вы напали на след? — иронически прищурилась Колетт, разглядывая Виктора. — А вы, господин коллега, вы тоже репортер?
— Ну, не совсем, я фельетонист, вы читали…
— Жозеф, не забивайте голову мадемуазель Колетт своими рассказами., — вмешался Виктор и непринужденно поинтересовался: — А вы знакомы вон с тем типом, который сидит вон там в сторонке, на бочке?
— Луи Барнав? Да кто его не знает! Он славный малый, но слегка того, честно говоря. Раньше он был водителем фиакра, работал на улице Орденер на омнибусовую компанию, но не повезло бедолаге, уволили. И с тех пор он зарабатывает на хлеб ремеслом «ангела-хранителя», для пьянчуги самое оно! Он любит рассказывать, что конец света произойдет в следующий понедельник. Его можно понять, он убит горем и обижен на весь белый свет, его жена и дочурка померли от ботулизма, так что он не особо расположен к бакалейщикам. Сперва я его побаивалась, он целыми днями торчал возле магазина и отваживал таким образом клиентов, торговля терпела убыток. Ох, сколько раз я ходила в участок и просила легавых его куда-нибудь убрать! Но как-то вечером я увидела его на тротуаре, он уронил голову в колени и плакал. Я расчувствовалась. Ну, и в конце концов мне удалось его приручить. Когда удается, я даю ему что-нибудь вкусненькое: колечко колбасы, ломтик ветчины, кусочек сыра, всего ничего… Это и не воровство даже, то, что пропадало, все равно выкинули бы в помойку или котам отдали. Только тсс, молчок, мадам Фулон ни о чем не догадывается, а если узнает, устроет бучу и выгонит меня.
— А вы давно у нее работаете?
— Три года. А к чему вы спрашиваете?
— Полиция подозревает, что Луи Барнав — сообщник Фермена Кабриера, все из-за рисунков на асфальте.
— Никто не видел, как он делал это, нет? Никто так за здорово живешь не может обвинить человека!
— А Фермена Кабриера вы знаете?
— Ну как же, поскольку ходишь мимо, видишь, как он тротуары раскрашивает, ну и подружились с ним. Иногда он заходил купить что-то для матушки Ансельм, это пожилая женщина, которая живет на шестом этаже, и ей трудно выходить на улицу. Он рассказывал мне про войну в Тонкине. Он такой вежливый парень, обходительный…
— Цыц! Молчите. Спектакль начинается! — сказала Катрин. — Прежде всего, мсье, не пугайтесь, это всего лишь иллюзии, своего рода трюки, похожие на те, что я видала в театре Робер-Удена
[1027], когда меня туда матушка водила, я еще пигалицей была! — шепнула им Катрин.
Они с отвращением выдержали первое испытание — попытались проглотить по напитку, в который, как их предупредили, плюнул туберкулезный кухарь. Жозефа чуть не вырвало, и он не смог даже пригубить. Виктор мужественно глотнул, а Луи Барнав в два приема заглотил и свой гренаш, и бокал Жозефа заодно.
Потом они встали и пошли поглядеть подвальчик, где обнаружили несколько посетителей и кучу скелетов. Священник в сутане присоединился к ним и мотонно забубнил что-то о смерти.
— Дорогие сестры, дорогие братья, однажды настанет ваш последний час, и вы предстанете пред Божьим Судом. Одинокая, напуганная, несчастная, душа ваша будет отчитываться за свою прошлую жизнь. Горе грешникам!
Один из скелетов клацнул зубами (ему помог Жозеф).
— Да, там, наверху, я думаю, справедливости не больше, чем здесь, внизу. Везде царит несправедливость! Вот пожалуюсь Создателю. Его судьи ничем не лучше тех, что меня здесь упекли! — прорычал Луи Барнав.
Раздались смешки. Священник, оскорбившись, что какой-то псих прерывает его действо, повысил голос и стал описывать тысячу и одну муку, ожидающую проклятых. Таким образом он старался насытить жажду жуткого и ужасного, которую испытывали посетители.
— Ох, милок, что-то ты заговариваешься. Коли мы подохнем, тел-то у нас больше не будет, так как же мучиться? Нет, ну ты прямо какой-то инквизитор, ох, а я не в ладах с фанатиками!
— Заткнись или убирайся, — в ярости прошипел ему священник.
Жозеф и Виктор постарались как-то успокоить Луи Барнава.
— В гробу я видел его брехню! Людишки помирают каждую секунду. У великого архитектора годы уйдут, если с каждым разбираться по закону!
Трясясь от гнева, служитель культа ткнул пальцем в стену, где, управляемая каким-то искусным мастером, постепенно в фосфорическом свете вырисовывалась батальная сцена. Тут картина ожила, бойцы воздели вверх мечи, полились моря крови. Жозеф тихонько охнул. Отблески пожара осветили это зрелище, и стало ясно: сражаются уже не солдаты, а скелеты. Они окружили гильотину, возле которой палач заставлял королеву в диадеме встать на колени. Один из скелетов привел в действие рычаг, нож со свистом разрезал воздух, голова с диадемой скатилась в корзину. Скелеты затеяли зловещую пляску, а за ними последовали крестьяне, дворяне, воины, и все быстрей, и быстрей, и быстрей. Жозеф больше не мог выдержать это зрелище и сломя голову вылетел из подвала.
— Ну что такое, что за муха вас укусила? Вас же предупреждали, это всего лишь миражи, картинки с волшебного фонаря, подобного тому, каким пользовался Робертсон
1! Жорж Мельес
[1028] в своей студии в Монтрёе добивается результатов, гораздо более впечатляющих, чем этот маскарад.
[1029]
Виктор, запыхавшись, догнал своего зятя на бульваре. Он бежал прямо по проезжей части, рискуя быть задавленным.
— Это было ужасно.
— А ведь и не подумаешь, что вы пишете фантастические истории, которые вертятся вокруг убийств и преступлений! А наш дружок куда подевался? Обидно как, мы ведь терпели все эти лишения лишь затем, чтобы его расколоть! Лучше бы поволновались о том, что будете объяснять дома по поводу сегодняшнего вечера. А мне какую небылицу сочинить для Таша?
Спрятавшись за экипажами на противоположной стороне, Луи Барнав наблюдал за своими новыми знакомцами. Они поймали фиакр. Блондинчик, который сидел с ним в «Бускара», забрался и уехал, а брюнет в мягкой шляпе направился пешком в сторону бульвара Клиши. Луи Барнав стиснул рукоятку ножа в кармане.
— До скорого-прескорого, дружочки, мой поклон тем, кто вас прислал, скоро им тоже каюк настанет, этим сволочам из омнибусной компании. Ну, чему быть, того не миновать!
Виктор, насвистывая, направлялся в сторону дома. Он был в целом доволен той информацией, которую получил от продавщицы бакалеи Фулон. Ну, например: Луи Барнава уволили с работы в омнибусной компании. По какому поводу? Было это до или после того, как в его семье случилась та трагедия? Не хотел ли он свести счеты с обидчиками?
Придя на оконечность улицы Пигаль, слабо освещенной редкими фонарями, некий человек небольшого роста скользил вдоль домов ловко, как кошка. Его стремительную походку явно сковывало слишком широкое пальто. Он поравнялся с Виктором в тот момент, когда тот хотел повернуть на улицу Фонтен. Внезапно незнакомец обернулся, вытащил из рукава платок, схватил его за два кончика и накинул на шею жертве. А потом быстро побежал в противоположную сторону. Виктор, не ожидавший атаки, замолотил по воздуху руками. Платок душил его, он пытался его стянуть, но только царапал себя ногтями, и закричать не получалось — было сдавлено горло. Чем больше он сопротивлялся, тем сильнее не хватало воздуху. Он потерял равновесие и почти в беспамятстве рухнул на тротуар, почувствовав лишь, как ловкие руки обыскивают его.
Булочник, сложенный, как ярмарочный силач, увидел всю сцену из-за стойки своего магазина и вмешался:
— Эй! Эй вы там! Ну-ка, стойте!
Незнакомец мгновенно выпрямился, мощно врезал в живот лежащему коротким военным ударом зуава
[1030] и мгновенно скрылся.
Булочник подобрал шляпу Виктора и помог ему встать.
— Он сделал вам очень больно, мсье?
Виктор в полусознании шатался. Горло саднило.
— Вы ранены?
— Нет-нет, вроде все нормально.
— Кровь вот у вас, на горле. Обопритесь на меня. Он у вас что-нибудь украл? Бумажник на месте? — спросил булочник и повел Виктора в сторону своего магазина.
Виктор ощупал карманы.
— Бумажник на месте.
— Ох, это вы, мсье Легри? Ну конечно! Он вас чуть не задушил, этот негодник! Удавить хотел платком, как Арпен-душитель, слыхали небось? Дайте руку и пойдемте полечимся.
— Спасибо, — сказал Виктор.
— Да уж не за что! А вы видели его лицо?
— Нет, все произошло так быстро! Мне показалось бы, что это был кошмарный сон, кабы так горло не болело, — хрипло выдавил Виктор.
— Ну пошли, выпьем глоток сливовицы, которую готовит моя тетя Аньес, вы тут же в себя придете. И потом — к врачу!
— Я хотел бы пойти домой, — отказался Виктор.
— Ну, я мальчика-посыльного позову, он посмотрит за лавкой, а я вас провожу.
— Нет-нет, мсье Барнье, моя супруга… Она будет волноваться… Давайте, это останется между нами, договорились?
— Понимаю, это мужское дело… Но в любом случае нужно подать заявление в полицию, район стал совсем бандитским, проходу нет! От Сант-Уэна до Сан-Лазара это отродье шарится, как у себя дома!
— Непременно схожу в полицию, мсье Барнье.
Виктор обернул носовой платок вокруг ладони. Он был обеспокоен и одновременно чувствовал облегчение. Это неожиданное нападение могло быть предлогом, чтобы оправдать позднее возвращение домой.
Виктор бесшумно зашел в квартиру. Таша читала, сидя, скрестив ноги, на кресле. Он подумал, что любит ее больше всего на свете и что опять придется ей соврать.
Она подняла голову, и улыбка сползла с ее лица.
— Виктор! Что с тобой стряслось? Ты такой бледный!
Bojemoï, твоя рука! У тебя кровь!
— Я упал, когда заходил во двор, не видно было ни зги.
«Лишь бы булочник помалкивал!» — подумал он при этом.
— Куртка порвана. И на горле, смотри, царапины…
— Я ударился о фонтан. Мне нужно что-нибудь выпить.
Ей тоже было от чего тревожиться. Она с отвращением вспоминала мерзкие домогательства Бони де Пон-Жубера. А если его жена Валентина расскажет про эту попытку изнасилования? Если Виктор узнает… Она промыла его рану, он шутил, балагурил, как всегда, но она заметила в его голосе какой-то странный отзвук, которого не было прежде, но не поняла, с чем это связано. Она достаточно хорошо знала мужа: долго держать что-то в тайне он не способен. Рано или поздно она все выяснит.
Она наложила ему повязку и решила, что не стоит больше тревожиться.
— А теперь, милый, что тебе угодно? Давай я что-нибудь тебе принесу.
— Принеси мне свою страсть, да заверни в ночную рубашку с кружавчиками, да лучше попрозрачней.
Ей удалось засмеяться, и она принялась расстегивать на нем одежду.
Глава двенадцатая
Вторник, 7 ноября
Порой ход жизни может зависеть от последовательности совершенно ничтожных событий. Если бы этим утром консьерж дома 28 на бульваре Бурдон, который болел в течение целой недели, не почувствовал себя достаточно здоровым, чтобы открыть дверь своей привратницкой курьеру, который принес почту… Если бы Кларисса Лостанж не встала ни свет ни заря, чтобы перебрать свои сокровища, расставленные в витрине, и не обнаружила бы отсутствие скромной глиняной статуэтки… Если бы она не обвинила в краже новую служанку и тотчас же ее не уволила… Если бы не было этой последовательности событий, то некоторое время карающая рука судьбы не трогала бы Эзеба Турвиля.
Он проснулся с приятным ощущением, что как следует выспался, что последнее время случалось не часто, и притом сон ему снился какой-то волнительный, с элементами эротики, причем он был главным героем, но вот только черт избранницы и деталей приключения он не запомнил. Но тут он услышал крики сестры и плач девушки-служанки. Его блаженство тотчас испарилось, он нехотя оделся и отправился на место казни, как скот на бойню.
— Вы уволены, моя милая! Я сейчас скажу консьержу, у вас есть четверть часа, чтобы он поднялся и вынес ваш чемодан!
— Погоди, Кларисса, может быть, сперва вынесешь ей предупреждение?
«Это уже рекорд, — хихикнул он про себя, — она и дня не продержалась!»
— Предупреждение? Воровке? Да ты бредишь! А, ну я понимаю, мсье же у нас агитатор, он хочет изменить мир, как будто мир и так не изменяется непрерывно!
— А что она стащила-то? — спросил он, бросив взгляд на рыженькую пухлую девчонку, сотрясающуюся в рыданиях!
— Мою фарфоровую пастушку с посохом!
— Это не я, мадам, могу на распятии вам поклясться!
— Несчастная, не произносите этого слова всуе, будете прокляты во веки веков! Покиньте мой кров и радуйтесь, что я не обратилась в полицию.
Эзеб кашлянул. Нет, невозможно признаться ей, что пастушка с посохом мирно покоится в кармане его пиджака в клетку и он намерен ее на днях продать, поскольку накануне решил, что не стоит идти на улицу Алигр.
Лишившись единственного защитника, служанка запихнула свой утлый скарб в чемодан, и буквально пятнадцать минут спустя консьерж вынес его на плече на улицу. Он приготовился было последовать за девушкой, как вдруг вспомнил о письме.
— Ох, мсье Турвиль, я забыл отдать его мадам Лостанж, а она задержалась внизу с мадам Вержуа, как не рассказать о всех напастях, так-то я бы только в полдень отправил его вам с курьером, потому же вы сами понимаете, этот проклятущий ишиас
[1031], по этажам не очень-то побегаешь, но раз такая оказия приключилась…
Вот так и получилось, что Эзеб Турвиль получил письмо, приглашающее его на свидание, которое изменило весь ход его жизни.
Он прочитал послание и перечитал его еще и еще. Вот он счастливчик! По сути, все это результат его хищения, из-за которого прогнали бонну. Если бы консьерж проваландался до полудня, Кларисса распечатала бы братцев конверт, и тогда, как мило написал господин Лафонтен, «прощайте, курочка, и свинка, и коровка»! Какой очаровательный текст письма, и так мило, что время и место такие необычные, в этом точно что-то есть…
Эзеб Турвиль застегнул свой пиджак и надел на голову шляпу дынькой. Куда сестра задевала его перчатки? Ну что делать, обойдется без них.
Он выудил ключи из китайской вазы, положил их в карман и воинственно прошагал к двери, которую в этот момент с другой стороны потянула сестра. Она разинула рот и сурово воззрилась на него, готовясь к атаке.
— И ты осмеливаешься бросить меня в такой ситуации! Я требую, чтобы ты остался, твоя роль состоит в том, чтобы поддержать меня и помочь мне в расследовании преступления этой соплячки так, как подобает брату!
— Моя роль? Я достаточно был на вторых ролях! Хочется быть звездой. Я здесь задыхаюсь, мне не хватает кислорода, я тут сдохну на твоем паркете, харкая кровью! И кто будет это убирать? Ты, дорогая, потому что рабов у тебя уже не будет!
— Эзеб! Да ты с ума сошел!
— Отвали, или я тебя пристукну!
— Ты мне угрожаешь, а между тем мы с тобой одной крови!
— Ты хочешь, чтобы я проверил это с помощью ланцета? А на паркете опять пятна останутся?
— Неблагодарный брат!
— Сестра Анна, я вернусь лишь на заре.
— Ты можешь ерзать у входа сколько влезет, но я тебя на порог не пущу!
— За меня не волнуйся, я теперь обладатель горы сокровищ!
Когда Кларисса Лостанж опустила руку в китайскую вазу и нащупала там пустоту, Эзеб Турвиль уже был в пути. Доехав до улицы Фобур-Сент-Антуан, он решил дойти до улицы Алигр пешком. Если, как он предполагал, старьевщик откроет лавку только после полудня, он поболтается по крытому рынку Бово. Спешить нет смысла, надо как-то провести время до полуночи.
Он прошел прачечную. Натолкнулся на надпись: «Проезд закрыт», поскольку там вели ремонт дороги. Странный и эксцентричный народ появился на мостовых и заполнил путь, закрытый для транспорта. Это была возможность, которую никогда не упускали уличные торговцы. Мелкие разносчики выставили прилавки, перед которыми роилась всякая голытьба. Эзеб, активно работая локтями, оказался перед торговцем, который расхваливал преимущества народной медицины.
— Мадам и мсье, зачем тратить ваши денежки у доктора или аптекаря? Я не собираюсь потчевать вас россказнями, нет, я обращаюсь к умным, образованным людям и говорю им: если вы страдаете от ревматизма, от болей в суставах, от проблем с желудком, если вы ушиблись и покрыты синяками? Попробуйте полечить ваши болячки моим чудодейственным снадобьем. Подходите, смотрите, за это я денег не беру! Вот очень мощное лекарство, тамус обыкновенный из Альп. Я — единственный в Париже владелец рассады этого необыкновенного растения!
Тут сосед справа заорал:
— А что это у вас зубы такие гнилые, может, у вас кариес или зубная невралгия?
Знахарь испепелил его взглядом. Эзеб Турвиль пробрался в первый ряд, не замечая, что какой-то человек следует за ним по пятам.
— Мой товар — не ловушка для простофиль, он действительно обладает даром исцеления. Два су пакет.
Эзеба Турвиля замутило, он (а незнакомец все следовал за ним по пятам) направился к кружку, образованному вокруг человека, сидящего на соломенном стуле, с повязкой на глазах. Рядом со стулом стоял человек в цилиндре.
— Подходите спросить ясновидящего о будущем, он может предсказать все о ваших делах. Готовьте четыре су, сдачи у нас нет. Давайте вы, мсье.
Эзеб Турвиль, на которого указывал спутник ясновидца, не смог устоять перед искушением. Смущенно улыбаясь, он сел возле ясновидящего. Тот прогнусавил:
— У вас благородный дух и чистое сердце. Вас изводят завистники, но вы сумеете справиться с их происками. Вскоре вам предстоит путешествие, которое будет следствием полученного вами письма.
Эзеба воодушевили эти оптимистические предсказания, и он протянул свои двадцать сантимов.
Когда он вышел от старьевщика, торговцы на рынке уже сворачивали свои дела. Он аккуратно сложил купюру в десять франков, которую выручил за продажу севрской статуэтки, и двинулся в сторону улицы Фобур-Сент-Антуан, когда услышал голос:
— Эзеб! Какими судьбами!
— Альфред! А что это у тебя за машина? Ты получил наследство?
— Да нет, болван, это мое новое снаряжение, садись, подвезу тебя!
Преследователь остановился, заметив, что Эзеб залезает в автомобиль. Альфред повысил голос, чтобы перекрыть уличный шум:
— Я заканчиваю движение, куда тебя надо отвезти?
— На Монмартр, мне надо кое-кого увидеть.
Незнакомец с явным облегчением привалился к фонарю.
— Страшно рад, что повстречал тебя на улице Алигр, благодаря тебе я точно знаю, что такое прогресс, — заявил Эзеб Турвиль.
Он сидел в кафе на улице Стейнкерк напротив Альфреда, одного из своих бывших коллег, который ныне выполнял функции почтальона с помощью автомобиля, работающего на бензине. Это новшество ввел мсье Мужо, и, хотя заместитель секретаря почтового ведомства был одним из инициаторов его увольнения, Эзеб был согласен, что идея эта была великолепной. Да и вообще, ведь этот Мужо изобрел коробки для писем, которые называли «мужотты», и они здорово облегчали работу.
— Люди могут положить почту в коробки на двадцать минут позже, чем раньше, это важное преимущество, существенное для служащих почты. Не возникает очереди, мы можем немного расслабиться, жаль только, что ты уже не можешь воспользоваться этим новшеством, — заметил водитель авто. — Если бы ты извинился как следует, они могли бы дать тебе велосипед для работы.
Когда Альфред ушел, бывший почтальон, прежде чем взобраться на Холм, взглянул на город и впал в экстаз: как прекрасен Париж! Он пощупал карман, убедился, что десять франков, полученные у старьевщика, на месте. Он почувствовал себя богатым и свободным. Перехватить что-нибудь в кафе, поглазеть на прохожих, полюбоваться витринами и, наконец, с наступлением ночи прийти в тупик, где его мечта станет реальностью.
Это был час, когда после тяжелого рабочего дня из учреждений и мастерских вылетала толпа школьников, подмастерьев, рабочих, которые заходили в маленькие кафе, чтобы что-нибудь попить и перекинуться в картишки.
В одном из таких мест толпа окружила трио музыкантов. Кто-то проорал:
— Заказывайте последнюю новинку, десять сантимов. Кто хочет? Спешите, мадемуазель, не будем тянуть резину и задерживать собравшееся общество! Ну, все готовы? Да? Ну тогда первый куплет, давайте все вместе!
Скрипка вступила, за ней гитара, и потом раздался голос солиста:
Мой ангел белокурый,
О, сколь же вы прекрасны.
Влюбленными губами
Ваш лоб целую страстно.
Эзеб Турвиль напевал романс Поля Дельме, у него было ощущение, что он попал в далекую страну, где ему следует разузнать обычаи и нравы. Потом он вновь тронулся в путь. В конце улицы Норвинс он прошел Мулен де ла Галетт, с ее деревянными лошадками, качелями и каруселями, с дешевыми забегаловками, и вышел на Мулен-Нёф, откуда ему открылся совершенно удивительный вид на город. На юге он любовался Парижем из камня, бронзы и золота в красно-коричневой охристой дымке. На севере, обрамленные тяжелыми столбами дыма над заводами, поднимались Клинанкур и индустриальные предместья, тянущиеся от Клиши до Обервилье. Он стоял бездвижно, его охватил абсолютный покой. Ночь спустилась на город, фонарщики принялись за работу. Медленными шагами, почти нехотя, он спустился к сияющему огнями бульвару Рошшуар, где его ждал Часовой тупик.
Уже некоторое время Рафаэль Субран чувствовал, что его кто-то преследует. Краем глаза он всматривался в витрины, надеясь увидеть там отражение таинственного преследователя. Все эти попытки, однако, потерпели неудачу — хотя он был уверен, что это не плод его воображения, доказательств найти не удавалось. В конце концов, он начал ходить по стенке, постоянно оборачиваться, рискуя свернуть шею, и вынужден был изменить свой обычный маршрут. Время от времени он натыкался то на фонарный столб, то на дерево.
В этот вечер он ринулся в холл дома, где снимал комнату, как заблудившийся в лесу кидается к первому попавшемуся жилью. Не поздоровавшись с консьержем, который считал его симпатягой, хотя и с придурью, он побежал вверх по лестнице, уступив дорогу сочинителю трехгрошовых романов, который никогда не упускал возможности пуститься во все тяжкие, чтобы потом сочинять сладкоречивые мелодрамы для ленивых служанок, которым, чем бы ни занять себя, лишь бы не работать.
Антуанетта еще не освободилась от своих обязательств на первом этаже, где она пыталась удовлетворить все капризы и прихоти депрессивной мещанки, муж которой двадцать четыре часа в сутки пропадал в недрах какого-то министерства. Жаль, эротическая прелюдия его миновала. Он вытянулся на кровати прямо в ботинках — слишком устал и закрыл глаза. Репетиция, сопровождающаяся бурными страстями, совсем его вымотала. Режиссер орал как резаный, автор дико извинялся, костюмерша рыдала, актеры допускали ляп за ляпом, хотя директор уже предупредил их, что отменит премьеру. Выйдя из театра «Жимназ», Рафаэль вдруг затаил дыхание: ему показалось, что в переулке мелькнул силуэт Шарлины Понти. Он устремился за обворожительной кокеткой, словно две полученные пощечины его нисколько не смутили. Похоже, он совсем потерял рассудок.
Узкая улочка, на которой теснились мансарды, сворачивала налево к общественным уборным. Именно там, как хищный паук, таилась хиромантка. Она обрушилась на него, он только и успел слабо вскрикнуть. Хоть и стара, и сгорблена была мамаша Фаталитас, она редко упускала свою добычу.
— Три су, блондинчик, и я тебе все расскажу о твоем будущем. Ох, какая славная ручонка! Ох, я помню одно только хорошее, но лучше я и не видала, ну давай, расслабься, я тебя не изнасилую, стара я уже для этих утех. Давай-ка посмотрим.
Она вцепилась в левую руку Рафаэля.
— Ох. Странная у тебя линия счастья, редко такая встречается. Перерезана ровно пополам. Видишь здесь этот крест? Тебя преследуют неприятности, мой цыпленок. Комедия, трагедия. Будь поосторожнее.
— Да идите к черту уже, старая ведьма! — воскликнул он, освобождаясь от нее.
Он побежал в сторону дома, отодвинул щеколду, влетел в коридор.
— А где мои три су? — проревела мамаша Фаталитас, долбясь в дверь.
— Получишь на исходе греческих календ, старая Пифия
[1032]!
Вконец истерзанный, он закинул две картофелины — свой скромный ужин — в кастрюлю с водой. Успокоил себя сигариллой, которую выкурил в проеме двери. Нужно было прийти в себя, переодеться и вернуться в театр. Вечер обещал быть долгим, дел было невпроворот.
Перед тем как лечь спать, Пелажи Фулон поручила Колетт Роман составить список закупок, которые нужно было заказать поставщикам.
— И не забудьте потушить свет, когда будете уходить, газ нынче дорог!
Колетт обожала оставаться в магазине одна. Это напоминало ей детство, старый родительский дом, ангар в глубине сада, возле которого журчал ручей, а мать стирала в нем белье на всю семью. Мыльная пена плыла по воде сероватыми хлопьями. Колетт считала, что они похожи на взбитый яичный мусс. Она придумывала разные истории, воображала себя продавщицей волшебных пирожных, которые помогали в жизни тем, кто был добр к детям бедняков и не жалел для них игрушек. В этот период она мечтала не о кукле, а о деревянном обруче, обтянутом кожей, с бубенчиками по окружности. «Сколько можно ворон ловить? Иди-ка помоги мне развесить простыни!» — ругалась мать. Она бежала ей на помощь и утыкалась лицом в пахнувшее свежестью белье.
Она заметила большой флакон одеколона, понюхала, капнула немного на указательный палец и смочила виски, потом прошлась вдоль полок с проверкой. Хорошо разобрали банки с овощами, она занесла их в список: зеленый горошек, кислая капуста, спаржа, стручковая фасоль. Пять пакетов сахара, соль, какао, тапиока, детское питание, кофе, мед. Банки с клубничным вареньем также пользовались спросом, как и бутылки с фруктовым сиропом. Еще нужно пополнить запасы картошки, морковки и капусты. И еще этот напиток, который ввели в моду англичане, — чай. Только ни в коем случае не покупать сухие листики марки «Ганпаудер», они добавляют туда экскременты тутового шелкопряда!
Она недавно прочла в журнале высказывание Альфонса Карра
[1033]: «Бакалейщик, который травит клиентов, отделается штрафом, а клиент, который отравит бакалейщика, непременно попадет на гильотину».
Она услышала, как в дверь кто-то поскребся. Тень ангела-хранителя возникла на пороге.
— Входите, только тихо.
Луи Барнав скользнул в магазин. Плащ не спас его от холода, он весь заледенел и держался поближе к печке, к ее живительному огню. Колетт ушла в кладовку, а когда вернулась, сунула ему полотняный мешок.
— Вот ты умница-красавица! Я на голяках, похмелили меня в кредит, но я умираю с голоду.
— Ну, вы могли приберечь ваши денежки на то, чтобы поесть, вместо того, чтобы их пропивать.
— Даже если бы я этого хотел, ничего бы не вышло. Эта дурная привычка пристала ко мне с тех пор, как мои любимые девочки погибли. Хорошо, что не у вас они купили эту проклятую жратву, иначе я бы здесь все разнес! Ох, в желудке только и плещется белое вино, аж кровь свертывается, так хочется пожрать.
— Не орите так! Наверху спит моя хозяйка. Я принесла вам ветчины, две копченые селедки и кусок камамбера.
— От селедок всегда такая жажда!
— Берите, что дают, у мамаши Фулон каждый грамм на учете.
— Ничего, через недельку придется подвести финальную черту в ее приходно-расходной книге, каюк всему настанет. И жизни, и кассовому аппарату! Ну при этом, будь я набобом
[1034], отпраздновал бы конец света бутылкой шампанского!
— Хватит глупости болтать. Всё, идите уже. Подождите, прежде чем выходить на бульвар, она иногда шпионит в окошко, как-то раз я видела, как она вылила ночную вазу на головы пацанят, играющих в чехарду.
— Вот старая коза… Ух, неудобно в этом признаться, но мне кажется, что я подхватил зверушек, — пробормотал он, почесывая бороду. — У тебя нет какого-нибудь средства, чтобы их вывести?
— О господи, блохи! — взвизгнула она. — Этого еще не хватало! По поводу этих тварей нужно идти к аптекарю. Здесь есть только бычий шампунь «Бобеф», на всякий случай помойте им голову, это средство от насекомых. И не подходите ко мне близко!
Луи Барнав удалился, нагруженный, как мул. Колетт выждала несколько минут, затем закрыла ставни в магазине и исчезла в направлении бульвара Клиши. Внезапно она сделала шаг в сторону. Спрятавшись под тентом мясной лавки, она проводила взглядом Луи Барнава. Улыбка тронула ее губы: она знала, где у него заначка, куда он прячет алкоголь.
Тот, не подозревая, что за ним наблюдают, достал бутылку и отпил большой глоток.
«Свезло мне, что я нашел местечко, где утолить жажду, а то от ее копченых селедок горло живо пересохнет. Там, где я заныкал мои баклажки, ни одна собака их не раскопает».
И он двинулся дальше, напевая «Равашоллу» на мотив «Карманьолы».
Эзеб Турвиль искал свою коробку с сигариллами, когда вдруг услышал тихое похрустывание со стороны кучи гравия в глубине тупика. Растерявшись, он отпрянул назад и стал пристально всматриваться во тьму. Вряд ли дама, которая назначила ему свидание, пришла бы так рано. Он повернул голову в сторону бульвара Рошшуар, где царило бурное веселье, затем подошел к четырехэтажному дому, возле которого мерцал тусклый фонарь. Ему показалось, что кто-то стучит во входную дверь изнутри. Жилец не может выйти из дома?
— Вас заперли? — закричал он, но ответа не последовало.
Тишина начала его пугать, и он протянул руку к засову. Ровно в этот момент стук возобновился, превратился в непрерывный долбеж, который также неожиданно прекратился.
В привратницкой света не было, но в коридоре трепетал свет от слабенькой газовой лампы. Стеклянная дверь, ведущая на лестницу, была приоткрыта. На облупившихся стенах отражался сложный силуэт какой-то конструкции. Эзеб понял, что это тень железной платформы.
В глубине тупика раздался жуткий грохот, сопровождаемый потоком ругательств. Эзеб выскочил из парадного и устремился туда. Человек, большой и неуклюжий, как медведь, сидел на холмике и глядел на осколки разбитого стекла.
— Проклятие! Адский потрох! Полпинты славного напитка, достойного Прусского короля! Все этот проклятый мешок и кретинский бычий шампунь, у меня же не три руки, в конце концов, упустил, вот незадача!
Кода Эзеб подошел поближе к этому странному гражданину, он уже завалился на спину и лежал без движения. От его засаленного плаща поднимался тяжелый дух дешевого пойла. Красная одутловатая физиономия незнакомца тонула во взъерошенной бороде. По всей видимости, он был пьян в стельку.
В порыве гнева Эзеб встряхнул неподвижное тело. Нет, проще полено разбудить. Он обыскал карманы пьянчуги, пальцы нащупали холодный металлический предмет. Нож. Слава богу, закрытый. Не выпуская нож из рук, Эзеб обошел вокруг лежащего тела. Уже почти полночь, это чучело может испортить его свидание! Вообще, не самая лучшая идея позвать его в эту трущобу. Не посмеялась ли над ним очаровательная хромоножка? Эх, ну и не везет ему! Горькая ирония быстро перешла в праведный гнев. Эзеб пнул ногой пьяницу, который только и пробурчал что-то невнятное.
— Ты уберешься, наконец, отсюда, пьяная морда?
Эзеб замолотил кулаками по рукам и могучей груди спящего.
— Чаво? Что ты тут жужжишь, комар?
— Немедленно идите пить ваш алкоголь в другое место! Я жду даму, а вы мне здесь картину портите, — взвился Эзеб и, подхватив пьянчугу под мышки, поволок его и привалил к стенке.
От этих передвижений человек немного пришел в себя. Он посмотрел на Эзеба и прорычал:
— Не вздумай стырить баклажки Барнава, проклятие, это мой винный погреб!
Эзеб предусмотрительно отодвинулся, тип явно впал в ярость. Тут Луи Барнав заметил, что находится у незнакомца в руке.
— Это мое шильце, ей-богу! Ты спер мое шило, земляной червь! А ну верни!
Грозно сдвинув брови, старикан стал медленно подниматься, тыча в Эзеба обвиняющим перстом. Тот, не на шутку перепугавшись, отдал нож. Уходя, Барнав вцепился ему в запястье.
— Что, я здесь вид порчу, да? Ну и пейзажик, скажу я вам! Руины, кишащие крысами, и на это скоро станет похож весь ваш проклятущий Париж, и вся Франция, и весь мир в придачу! Но внутри, в глубине, под оболочкой мира, если ты понимаешь, о чем я, все уже прогнило насквозь! И твоя потаскушка тоже прогнила!
— Это не… Это девушка из хорошей семьи.
Луи Барнав смачно харкнул на ботинки Эзеба.
— Угу, а я Римский папа. Подвиньтесь, мсье, я освобождаю вас от своего не самого блестящего общества. И кстати, я грамотный человек, книги разные читал! И я не презираю несчастных, раздавленных безжалостным колесом Фортуны!
Он вывернул запястье Эзеба, тот зашатался, а жуткий старик неверным шагом направился прочь из тупика и растворился во тьме.
Несколько секунд спустя, еще под воздействием шока, Эзеб услышал какое-то всхлипывание, вроде как плач, который несся из того самого парадного четырехэтажного дома. Он помедлил несколько мгновений, прежде чем решиться вновь туда зайти. На этот раз в вестибюле света не было, лампа потухла. Он на ощупь двинулся к двери на лестницу и различил фигуру, скорчившуюся на нижних ступеньках.
— Вы кто? Вам плохо? — прошептал он.
Фигура выпрямилась и двинулась ему навстречу, в руке у нее был какой-то предмет цилиндрической формы, похожий на дубинку. Вдруг палка распалась на две части, и в одной из них сверкнуло заточенное лезвие. Эзеб едва успел увидеть этот блеск и услышать, как глухой голос произносит:
— Настало время отправиться в последний путь.
Глава тринадцатая
Среда, 8 ноября
Раковина устрицы, стуча, как кастаньета, летела по тротуару, уносимая холодным дыханием ветра. Топот тяжелых копыт першерона гулко отдавался в тишине, ему вторил скрип колес телеги, доверху груженной досками, но ничто при этом не нарушало покой кучера, дремавшего на козлах, он лишь вяло шевелил повисшими вожжами. Водонос тащил в сторону Холма коромысло с двумя бряцающими ведрами, сгибаясь под весом своей ноши. Торговка яблоками, стекольщик, дворник небрежно здоровались друг с другом, каждый думал о том, как бы заколотить деньжат, но при этом не работать. Ученик булочника, руки в карманы, показывал язык разносчику, нагруженному брелоками с изображением собора, открытками и четками. Оба вслед за этим едва улизнули от фонтана воды из шланга городского поливальщика. Город медленно выплывал из забытья и пытался разогреть застывшие вены, запуская в них точильщиков; их крики и лязганье ножей о точильный круг разгоняли по углам призраки ночи.
До конца еще не проснувшись, Илер Люнель открывал ставни, закрывающие витрины бакалеи вдовы Фулон, и тут у него зачесалось в бороде. Несмотря на боль, появившуюся в крестце, он все-таки выпрямился и заметил на мостовой неумелый рисунок — повешенный на перекладине и надпись белым мелом:
У сердца моего нет времени отмеривать без счета меру времени. Тотальная ликвидация.
Он ворвался в магазин, где хозяйка и Колетт Роман заканчивали складывать товары, которые на заре завезли в магазин.
— Мадам Фу… Мадам Фу… лон! — проблеял он. — Там еще одна!
— Кто еще одна? — строго спросила хозяйка.
— Еще одна угроза!
— Боже правый! — завопила бакалейщица. — Это сам дьявол во плоти преследует меня! Колетт, принесите скорее мои соли! Я сейчас в обморок упаду!
Колетт помчалась за флаконом с водкой, спрятанным под кассой. Мадам Фулон резко выпила глоток, утерла губы обшлагом рукава и заорала:
— Сотрите немедленно эту пакость! Но прежде перепишите надпись, я хочу, чтобы полиция поняла, что меня преследует какой-то свихнутый!
Колетт отправилась выполнять приказ: скопировала рисунок и надпись в блокнот, а затем, встав на четвереньки, стала губкой оттирать безобразие.
— Я скоро с ума сойду, — проворчала вдова, усаживаясь за кассу.
Тут она заметила Илера Люнеля, который торопливо пожирал финики.
— Ну ни стыда ни совести! Вот наглый бездельник! Лучше бы занялись покупками мадемуазель Самбатель! Нет, ну вообще, это заговор, тотальная ликвидация, воровство продуктов, все смерти моей хотят!
Приказчик неторопливо положил в рот последнюю горсть фиников и взял список, лежащий на кассе. Набрал полную корзину овощей и фруктов и вышел, даже не взглянув на свою работодательницу.
По бульвару Клиши катили несколько омнибусов, почтенные домохозяйки обменивались неодобрительными взглядами с кокотками, истомленными после бурной ночи. Илер наклонился, поднял смятый номер «Отей-Лоншан» и положил в карман своего редингота. На бульваре Рошшуар он показал кулак Туту, мошеннику, который воровал собак: он всегда боялся, что тот покусится на Аристотеля, пса Рене Кадейлана. Вошел в будочную, купил батон для мадемуазель Самбатель и не смог отказать себе в возвышенном наслаждении — золотистом хрустящем круассане. Наконец он дошел до Часового тупика.
Припав к окну, Од Самбатель некоторое время наблюдала за ним, обеспокоенная, что он все не идет да не идет, поскольку этим утром он должен был доставить ей не только заказ у бакалейщицы, но и свежий батон. У нее слюнки текли в предвкушении чашечки кофе с зажаристой тартинкой.
— Ну что он там застрял? Я же видела, что он прошел под фонарем!
Илер осторожными шагами, не веря глазам своим, приближался к странному видению. То ли он утром цикорию перепил, то ли, правда, из подъезда соседнего дома торчат желтые ботинки. Но когда он подошел ближе к фонарю, видение окончательно обрело реальность. Сношенные подметки, потрескавшаяся кожа, облупившийся лак. Однако если бы только ботинки! Из ботинок торчали ноги в коричневых брюках, переходящие в торс, одетый в клетчатый пиджак. Тело лежало на плитке вестибюля, а шляпа дыней откатилась к стеклянной двери, за которой виднелась лестница. Странное место для сна вообще-то. Поддатый он, что ли? Так сразу не поймешь. Он лежал вполоборота. Лицо было закрыто рукой.
— Эй, мсье… Вам помочь? — едва слышно произнес Илер.
Потом нагнулся и заметил темный ручеек вокруг головы незнакомца.
Он бросил свою корзину, содержимое вывалилось на землю. Преодолевая тошноту, опустился на колени. Химический запах исходил от тела, пахло вроде бы каким-то дезинфицирующим средством. Сквозь эту вонь пробивался еще душок сладковато-приторный, который он тотчас же определил, едва отодвинул окоченевшую руку и обнаружил зияющую рану на горле.
— Кровь! Да его зарезали!
Первой реакцией Илера было бежать куда глаза глядят. Любопытство боролось в нем со страхом, позволило ему заметить, что в зловещей картине убийства присутствуют странно знакомые предметы. Поддельная миниатюра была прислонена к груди покойника. Рядом лежали три больших камня, завернутые в белую ткань, и клепсидра. Плюшевый крокодил и пакетик с зернами пшеницы и черным гравием венчали дело.
Илер напряг ноги, чтобы не завалиться назад. Сжимая батон как талисман, он с трудом поднялся. Этот пиджак в клетку он уже где-то видел. Где же, о господи?
Не сводя глаз с трупа, он медленно вышел в переулок. Колесики и шестеренки в его голове
постепенно начали вращаться нормальным образом, к нему вернулась способность думать. Представителей власти он, конечно, терпеть не может. Но тут и думать нечего о том, чтобы сбежать, нужно предупредить легавых. А не станут ли они его подозревать? Да и неважно. Надо иметь сострадание к жертве. Порядочность. Долг. Все эти принципы, которые добрые сестры и кюре в приюте для беспризорных детей вбивали в его голову кувалдой, развеяли его сомнения. Но, единственно, Илер не хотел нести груз этого поступка в одиночку, в конце концов он только помощник бакалейщицы, которая гордится тем, что у нее закупаются два депутата. Вот пусть она и берет на себя эту неприятную миссию.
Мысли, роящиеся в его голове, отступили перед четкой картинкой. Он вспомнил. Это был брат-близнец того типа, который провожал Катрин Лувье до дома.
По-прежнему приникшая к своему окну Од Самбатель с ужасом увидела, как Илер Люнель очертя голову несется к бульвару, прижимая к груди батон так крепко, словно от этого зависела его жизнь.
— А как же мои покупки? — заорала она вслед.
Рено Клюзель полировал ногти, спрашивая себя о причине своего прихода в комиссариат XVIII округа. В этот утренний час он мог еще нежиться в постели, вместо того чтобы ерзать на жесткой деревянной скамейке. Накануне он попытался убедить родителей в правильности выбранного им жизненного пути. Отец слушал его вполуха, вертя в руках очки. Мать интересовали только манишка и галстук ее отпрыска, и пока он рассказывал ей о преимуществах журналистики, она по-своему поправляла это сложное сооружение. Безнадежно махнув рукой, он ушел в свою комнату и покинул ее на заре.
На что он надеялся, наблюдая в течение долгих часов за движением проституток и воришек? Неужели все это стоило стольких бессонных ночей? Он уже хотел было отказаться от своей идеи, когда хмурая дама в съехавшей набок шляпе и престарелый приказчик с пергаментным лицом, которого он уже видел у мадемуазель Самбатель, ворвались в узкий прокуренный коридор.
— Комиссара позовите, — отрывисто приказала дама.
— Господина комиссара нет в участке, я его секретарь, что вам угодно? — сонно пробормотал молодой человек с напомаженными волосами, клевавший носом за письменным столом.
— Боевая тревога! Безумец с крокодилом опять прирезал человека! А вам ведь платят за то, чтобы вы обеспечивали безопасность парижан, разве нет? — обрезала его дама.
Рено Клюзель обрадованно устремился к ней.
— Мадам, мое почтение! Что, в Часовом произошло еще одно преступление?
— В самую точку, молодой человек. Мой приказчик, вот этот вот самый, на него и напоролся. Ну давайте, Илер, рассказывайте, эти господа желают знать, что случилось. И отдайте уже мне этот батон!
— Погодите, не спешите! Мне нужно записать ваши фамилии, возраст, профессию и т. д. и т. п.
— Фулон Пелажи, вдова, бакалейщица с бульвара Клиши, 42. Возраст записывать не обязательно. Люнель Илер, шестьдесят два года, холостяк, посыльный, на зарплате в бакалее Фулон, хотя он и рассыпал овощи, которые полагались мадемуазель Самбатель, цену которых я собираюсь удержать из его зарплаты.
— Люнель Илер… он уже приходил свидетельствовать об убийстве, — констатировал секретарь, листая свой реестр. — Вот, я вижу, здесь записано по поводу рисунка мелом на пороге вашей бакалеи, мадам Фулон.
— А что, два раза подряд нельзя заявлять в полицию? — взвилась Пелажи Фулон. Вы что, туговаты на ухо? Вам говорят, что найден труп в Часовом.
— Если я правильно понял, мсье Люнель, вы присутствовали при преступлении?
— Да нет же! Он нашел труп уже остывшим. Вы же не станете подозревать эту старую развалину Илера? Жена вашего комиссара, между прочим, моя клиентка!
Она воинственно вгрызлась в батон и начала его сосредоточенно жевать, чтобы унять свое возмущение.
— Дайте вашему приказчику самому рассказать, прошу вас!
— У входа в дом… Лежал… Коса, кроко… крокодил. Белые ка… камни… и еще какие-то гнусные штуки, про них в прошлый раз в газетах писали.
Осилив невероятно долгую для себя речь, Илер Люнель бросил несчастный взгляд на надкушенный батон и погладил спутанную бороду.
Пелажи Фулон дожевала и яростно завопила:
— У моего приказчика в голове смородинное желе, когда он двигает головой, оно хлюпает. Лучше сходить на место и самому удостовериться.
Дверь хлопнула — это пришел комиссар. Его ввели в курс дела, и он в ужасе закатил глаза. Что он такого натворил в прошлой жизни, что судьба так ополчилась на него? Ему надо уведомить префектуру, встретиться с этим маньяком — главным инспектором. Как там его зовут? А, ну да, наполеоновская битва, но какая из всех? Он угрожающе воззрился на Рено Клюзеля.
— Вы, репортеришка, вам мало писать о раздавленных собаках, заткнитесь уже! Кстати, точно, берем вас с собой.
Спустя час в телефонной кабине бистро на площади Пигаль Рено Клюзель надиктовывал результаты своих наблюдений секретарше редакции «Паспарту». К концу каждой фразы секретарша повторяла:
— Не так быстро, не так быстро!
— Повторяю: третий зарезанный в Часовом, молодой человек двадцати пяти — тридцати лет. Так же, как и у остальных покойных, его тело было окружено атрибутами Сатурна, то есть времени. У него нет бумажника, так что определить его личность очень трудно…
Только связка ключей, на которой была этикетка: «К. Лостанж, бульвар Бурдон, 28». Это третье убийство повергло полицию в ужас. Неужели комиссар Вальми посадил в тюрьму невинного? Если только заключенный не обладает даром вездесущности, он никак не может одновременно находиться в камере и на месте преступления. Надеемся, что наши полицейские ищейки сумеют схватить преступника, который наводит ужас на весь XVIII округ.
Жозеф сложил газету. Он только что прочитал статью своему зятю, который въехал в магазин прямо на велосипеде. Виктор был весь мокрый: на улице шел дождь.
— Трах-тарарах! Все умозаключения нашего дорогого главного комиссара Вальми рухнули в один миг. А я знал, знал, я оказался прав, настоящий-то виновник гуляет на свободе, Фермена Кабриера теперь не обвинишь! Это Луи Барнав убил! И ведь мы могли положить конец его злодеяниям, если бы схватили его тогда в кабаре «Небытие»!
— Вы удирали быстрей, чем заяц.
— Ну скажите, что я трусишка, от вас всего можно ожидать.
— Да ладно, Жозеф, пошутить, что ли, уже нельзя… Очевидно, этот раб божественной бутылки вас загипнотизировал.
— Продолжаете в том же духе… Может, это он на вас напал. Кстати, как рука? — проворчал Жозеф, указывая на повязку Виктора.
— Да ничего, спасибо.
Жозеф нахмурился. Виктор воспользовался отсутствием Кэндзи, который запрещал ему курить, и достал сигарету. Жозеф посмотрел на него с укоризной и демонстративно распахнул дверь.
— Персонаж, конечно, подозрительный, — начал Виктор, — тут я с вами согласен. Но у нас нет никаких доказательств его вины. Я не разглядел черт лица того, кто на меня напал, но я помню, что он был меньше и худее, чем Барнав.
— И что же вы? Могли бы повалить его!
— Он напал сзади, я ничего не видел. Ох, и потом, о боже! Подозреваемых у нас хватает: Шарлина Понти, Рафаэль Субран, Арно Шерак… Наше предыдущее расследование мы вели наспех, и наши выводы оказались необоснованными, поэтому мы и должны узнать хоть что-то наверняка. Можно, кстати, предположить, что Фермен Кабриер и Луи Барнав сообщники: один специально прикончил третью жертву для того, чтобы оправдать того, кто заточен в камеру. Нужно было только выбрать такое же время и место и создать похожие обстоятельства смерти.
Жозеф только собирался что-то возразить, как в магазин вошел Ихиро Ватанабе.
— Здравствуйте. Мори-сана можно увидеть?
— Нет. Он на книжном аукционе в отеле «Дрюо».
— Как жаль! Я собирался сообщить ему кое-какие статистические данные, весьма интересные. Недавно вот выяснил, что мы подкорачиваем свои волосы в среднем на сантиметр в месяц в возрасте между пятью и шестьюдесятью годами. В целом это составляет шесть метров шестьдесят сантиметров. В конце концов я очень доволен, что не приходится каждое утро расчесывать всю эту волосяную массу. Представьте вашу супругу, Легри-сан, или вашу, Пиньо-сан, вот это могучие шиньоны! А вы что, поранились, Легри-сан?
— Поскользнулся у ворот собственного дома! — рявкнул Жозеф. — Мсье Ватанабе, вы окажете нам огромнейшую услугу, последив за лавкой. Мы с Легри-сан пойдем искать редчайшее издание, зарытое в подвале.
— С радостью, к вашим услугам. Извините мою дерзость, Легри-сан, вы укорачиваете свою жизнь, вдыхая этот дым, человеческое существо не имеет ничего общего с локомотивом.
Но тот, к кому обращался Ихиро Ватанабе, уже скрылся, спускаясь по лестнице, ведущей в подвал, и Жозеф бессильно развел руками, взглянув на японца.
— Вот зануда, — пробормотал Виктор. — Думаю, нет смысла быстро мчаться на бульвар Бурдон, полиция и пресса сейчас терзают этого или эту К. Лостанж. Зато я охотно съездил бы на бульвар Клиши, я держу пари, что мне удастся что-то вытянуть неизвестное из бакалейного посыльного.
— Вы же обещали! Нет, ни за что! Этот чокнутый Ихиро будет мне полоскать мозги все утро, вот уж подарочек! Вы неплохо держитесь для раненого, надо сказать!
— Ваш черед придет, уверяю вас, визит к К. Лостанж зарезервирован за вами. Заранее благодарю, что спасли меня от лекции о вреде табака.
Они не сомневались, что любитель статистики, втихомолку спустившись на лестничный пролет, не упускает ни слова из их диалога.
— Потушите вашу сигарету, — забеспокоился Жозеф: он опасался, что начнется пожар и сгорят редкие издания.
— Ну что, вы нашли этот редкий экземпляр? — поинтересовался Ихиро Ватанабе, опершись руками на очаг.
Виктор помчался к выходу. Поскольку дождь усилился, он отказался от идеи ехать на велосипеде. Жозеф тем временем ответил:
— Увы, нет. Я могу процитировать вам Мори-сана: «Книга среди своих собратьев прячется лучше, чем яйцо среди снежной равнины».
Бакалейный магазин, словно курятник, наполнился дружным кудахтаньем. Местные кумушки с авоськами в руках смаковали сладостные слова и фразы: преступление, вскрыта сонная артерия, маньяк-убийца, — и наблюдали за реакцией вдовы Фулон, которую считали в какой-то мере связанной с автором этих ужасных деяний.
— Долго они меня так будут разглядывать, эти сплетницы? — пробормотала Пелажи Фулон, очень недовольная, что события приняли такой оборот.
А уж когда она заметила Виктора, окончательно впала в угрюмство.
— Вот уж сюрприз, господин книготорговец! Уже полдень, через полчаса мы закрываемся.
— Я прочитал газету и хотел бы переговорить с мсье Люнелем.
— Илер, представьте себе, заболел. Эта история ударила по его нервам, ноги у него словно ватные, и все внутренности узлом скрутило. И кстати, о чем вы хотели бы с ним поговорить?
— Я книготорговец, но к тому же частный детектив, — шепнул он в ухо бакалейщице, которая с натянутой улыбкой пробивала заказ мадам Бобуа, записной сплетницы.
Пелажи Фулон аж рот раскрыла от удивления. Виктор снова вырос в ее глазах. Она шепнула в ответ:
— Погодите, вот все эти тарахтелки уберутся, тогда поговорим.
Вскоре булочная опустела. Колетт Роман закрыла дверь на щеколду. Виктор заметил, что второй девушки нигде не видно.
— А не было ли здесь второй молодой особы, брюнетки, если мне не изменяет память?
— Браво, у вас рысьи глаза! — похвалила его Пелажи Фулон. — Тут давеча Катрин вышла из фиакра в сопровождении какого-то суетливого поклонника, одетого в клетчатый пиджак. Ну и эта кривляка попросила у меня отпуск, дескать, по семейным обстоятельствам. А Илер Люнель, который столь же наблюдателен, как вы, — «но вовсе не столь очарователен», добавила она про себя, — рассказал мне, что тот покойник в Часовом тупике был одет в такой же клетчатый пиджак.
— Вы рассказали это полиции?
— Еще чего. Я держусь за свое дело, а если узнают, что одна из моих работниц скомпрометировала себя встречей с будущей жертвой преступления… Вы-то не станете болтать, надеюсь?
— Клянусь вам держать это в тайне.
— А еще какой-то обормот пишет мерзкие надписи перед моим магазином, и тут уж точно не заподозришь того уличного художника, что рисует мелками, поскольку он в каталажке! Кто-то хочет бросить тень на мое честное имя!
Она горестно заломила руки. Колетт рванулась было к ней утешить, но так и не решилась. Виктор заключил из этого, что хозяйка не особенно ласкова со своими служащими.
— В котором часу приехали Катрин Лувье с этим человеком?
— Ну, ближе к вечеру, уже горели фонари, ставни были закрыты. Я видела ее только со спины на противоположной стороне улицы, но я узнала ее походку, мне-то не знать! На ней была шляпка с цветами и длинный мешковатый жакет, который подарил ее дружок Рене. Кстати, я в тот момент болтала с моим посыльным и матушкой Ансельм, они могут подтвердить мои слова. Уже пробило восемь, это точно, потому что я немного задержалась в магазине, искала для мадам Жиле средство от запора Каскара Александра, у меня всегда в запасе.
— Забавно, в понедельник Катрин и мадемуазель Роман встретились нам в кабаре «Небытие», — заметил Виктор.
Пелажи Фулон потянула носом и шумно высморкалась.
— Ну, вы разочаровываете меня, милая Колетт. Посещать подобные низкопробные заведения, да еще в день, когда вы заболели и я отпустила вас домой отдохнуть!
— Я выпила грогу, немного поспала и мне стало легче. И не хотелось подводить Катрин, с которой мы договорились встретиться в восемь тридцать. Рене ведь там работает охранником, он нас бесплатно впустил. Вы обознались, мадам Фулон, это же со всяким может случиться, особенно в темноте и на таком расстоянии.
— Я только что объяснила вам, что все фонари были включены! И я не маразматичка, в конце концов! Если это была не Катрин, то ее точная копия, такая же шляпка, такой же пиджачок, и она собиралась подняться к себе домой. Столько совпадений разом не бывает, это уже перебор. И потом, зачем вы меня путаете? Я и не говорю про понедельник. Какой еще понедельник, я ничего такого не говорила! Катрин я видела в воскресенье.
— Вы уверены? Разве магазин открыт по воскресеньям? — удивился Виктор.
— Мое дело отнимает все мое время, в том числе воскресные дни. Нет такого закона, чтобы запрещал торговать по воскресеньям! Спросите хотя бы у Илера и матушки Ансельм, и у мадам Жиле, кстати.
— А где сейчас Катрин? — спросил Виктор.
— Переезжает, теперь она будет жить у мсье Кадейлана. Не хочу больше видеть ее у себя, пока вся эта суматоха не уляжется. Посоветовала ей отсидеться у дружка. Прежде чем вернуть ее сюда, я должна убедиться, что мне это ничем не грозит.
— А как ее можно найти, скажите, пожалуйста?
— Да проще не придумаешь: дом напротив, пятая квартира справа.
Виктор попрощался и вышел. Он уже был на бульваре, когда его нагнала Колетт.
— Мсье, в конце концов, вы все-таки журналист из «Эко де Пари» или полицейский?
— По правде говоря, я книготорговец. Но если мне предоставляется такая возможность, я, поскольку люблю всякие тайны, для развлечения решаю криминальные загадки — я, по-моему, вам уже это говорил, мадемуазель.
— Только не причиняйте никакого вреда Катрин, она хорошая девушка и ни при каких обстоятельствах не обманет своего Рене.
Они воспользовались передышкой в движении транспорта и перешли на другую сторону.
— Я ее успокою. Мадам Фулон и правда хочет ее уволить?
— Боюсь, что так, уж очень хозяйка боится сплетен. Что касается матушки Ансельм, она очень славная старушка, но слепа как крот, так что как она могла что-то увидеть? В любом случае Катрин лучше некоторое время не появляться на людях.
— А Илеру Люнелю можно верить?
— Без сомнения. Вот только он раним до ужаса и склонен принимать желаемое за действительное.
Виктор поблагодарил Колетт и подумал, что девушка, пожалуй, не врет: ее бледное личико с острым подбородком внушало ему доверие.
Катрин Лувье посмотрела на Виктора с недоверием, но все же пригласила войти. Усадила его в плетеное кресло, сама села в такое же, но усидеть не смогла, сразу вскочила: ее распирало от ярости и волнения. Она кружилась вокруг гостя, раздражаясь все больше, время от времени останавливаясь возле клетки с двумя попугаями и подсыпая им несколько зернышек.
— Да этот жмурик не из нашего муравейника, в глаза его не видела! Меня в воскресенье в Париже вообще не было!
— Я ездила чмокнуть моего Зеферена в Жуанвиль-ле-Пон, он там живет у кормилицы, чтобы я могла здесь работать. И Рене Кадейлан ездил со мной, это же естественно, он отец этого ребенка. Скоро он женится на мне и ребенок получит его фамилию. Мы взяли билеты на поезд в субботу вечером и поспали в гостинице для рыбаков на берегу Марны, называется она «Аблетт и Гужон», вы можете это легко проверить.
Виктор только кусал губы и оглядывал бедно обставленную комнатку, которую, впрочем, оживляли горшки с цветами и мясистыми растениями. Изобилие наброшенных на спинки стула платьев напомнило ему небрежную систему хозяйствования его жены. Он представил себе крошечную спаленку, закрытую ширмой, из-за которой виден только маленький кусочек ковра, где царил такой же беспорядок, разобранную кровать, заваленную чулками и юбками.
— И куда вы отправились после возвращения?
— Вверх и вверх, пятая направо. Ну сюда же и вернулась, черт подери, а куда еще? Мы с Рене давно вместе, но до свадьбы жили каждый у себя, чтобы никаких разговоров не было. Но пришлось нарушить эту договоренность, поскольку я оказалась без крыши над головой, эта старая корова Фулониха меня предупредила, что я должна свалить в течение двух часов. Это она мне сдает этот курятничек. Просто струстила тетка.
— Почему?
— А я знаю? Матушка Ансельм и Илер способны во что хочешь поверить, они почему-то убеждены, что видели, как я выскакивала из фиакра в объятиях типа, которого я в жизни не видала, а поскольку Фулониха не стала доносить легавым, она боится неприятностей. И вся эта катавасия только из-за пиджака в клеточку! Пакость какая! Мало того, что мне приходится жить с Аристотелем, а у меня от этого все чешется!
— Кто такой Аристотель?
— Да это пес Рене, он линяет и спит в бочке, которая воняет уксусом. Ой, скажите, а вы не против оказать мне дружескую помощь? Мне нужно собрать кое-какую одежду и перетащить ее к моему жениху, он живет недалеко от Часового тупика, остальное он сам перенесет, но если вы мне поможете осуществить первую ходку, это будет просто шикарно.
Не дожидаясь согласия Виктора, она начала заталкивать в мешки, даже не удосуживаясь складывать, выхваченные наугад предметы своего гардероба.
Спустя четверть часа они, кряхтя, тащили мешки по бульвару Клиши, а затем по бульвару Рошшуар. Радостный лай предупредил, что Аристотель ожидает их появления. Виктор чуть не рухнул, когда в его грудь уперлись две могучие лапы, и поспешил вслед за Катрин вскочить в прихожую квартиры Рене Кадейлана. Сам хозяин покуривал трубочку в небольшой закрытой гостиной, где смешивались запахи табака, псины, пота и свинины с яблоками. Вокруг были десятки альбомов: на полках, на этажерках, на полу — они заполняли все жизненное пространство.
— Вы коллекционируете марки?
— Нет, семейные фотографии. Я сирота, у меня никаких родственников даже в третьем колене. Ну и поэтому мне становится как-то легче. Когда я листаю семейную историю совершенно незнакомых мне людей, я придумываю им имена и думаю, что они связаны со мной кровными узами.
Виктор, уже собиравшийся признаться, что он фотограф, прикусил язык. Он лишь понадеялся, что Катрин достанется другая комната, не такая закупоренная со всех сторон.
— Ну да, можешь сделать портрет Зеферена и собрать альбом с фотографиями только нас троих, — заявила Катрин и добавила: — Кстати, скажи, мы были в Жуанвиле в конце недели? Этот мсье интересуется по поводу Клетчатого пиджака, того покойничка из тупика. Эта дуреха Фулониха считает, что он обхаживал меня в воскресенье возле моего дома.
— О, а ведь я вас знаю! Все-таки вы легавый, как же я мог сразу этого не понять!
— Я журналист, а не полицейский, — уточнил Виктор.
— Ну, вы ведете расследование, один черт. Да, в воскресенье мы были в Жуанвиле, и я могу это доказать. Мы уехали назад на поезде в семь часов пять минут, потому что мне нужно было на работу в «Небытие». У меня остались билеты. Моя Катрин забралась на свой чердачок без пятнадцати двенадцать, я провожал ее, так что непонятно, как вдова Фулон могла видеть, как она в восемь вылезает из городской колымаги! Да я этой облезлой курице шею сверну!
Аристотель сурово гавкнул. Виктор вжался в кресло. Рене Кадейлан мог совершить убийство, используя собаку. Что до Катрин, была ли у нее возможность между семью сорока пятью и восемью пересечься где-то с любовником, например на остановке фиакров? И с какой целью она задумала такой план? Внутренний голос подсказывал ему, что эти умозаключения не имеют смысла. Эти двое тут ни при чем.
Терзаемый вопросами, на которые нет ответа, он оставил влюбленную пару, смущенный потоком благодарностей, которые они на него обрушили. Пошел в тумане, толкая прохожих, которые вяло ругались вслед. Остановился под городскими часами и вернулся к повороту на Часовой тупик. Слово «часы» билось и трепетало в нем. Он смутно вспомнил изыскания Жозефа на эту тему, на которые он тогда не обратил внимания. Часы… Время… Только человек, помешанный на идее времени, мог мыслить так извращенно, чтобы раз от разу выбирать место с таким названием для своих преступлений. Бесноватый, одержимый течением минут. Жозеф был прав, Луи Барнав подходит под это определение.
— Эти три жертвы ведь были выбраны не случайно, полагаю? — заметил Жозеф, который только успел избавиться от Ихиро Ватанабе.
— Я не знаю, нужно попытаться установить связь между Робером Доманси, Шарлем Талларом и последним убитым.
— Но как?
Жозеф погладил себя по животу: ужин, приготовленный Мели Беллак — сосиски с горохом и капустой, — не пошел ему впрок.
— Что касается убийцы, ваша гипотеза кажется очень правдоподобной. Луи Барнав подходит, он совершенно ненормальный. Но не слишком ли мы обольщаемся по поводу его интеллекта, и потом, не нужно ли поискать мотив? Трое мужчин убиты наугад, тщательная постановка убийства, аналогии с Сатурном, месть идее времени.
Жозеф покачал головой, сдерживая отрыжку.
— Три чокнутых один за другим, потому что только ненормальные полезли бы в этот чертов тупик посреди ночи! Я подозреваю, что какая-то нить Ариадны их связывает. Ну что делать, придется мне взять на себя риск и отправиться сегодня после обеда на бульвар Бурдон, 28. Представьте, что К. Лостанж держит в руках ниточку от всей этой путаницы, кто тогда скажет: «Спасибо, Жозеф»?
Виктор разрывался между восхищением, которое ему внушал зять, и возмущением, вызванным его безудержным хвастовством. Поэтому он просто промолчал. В животе урчало от голода, и он направился на кухню. Сбегая по винтовой лестнице, он услышал несущийся вслед голос Жозефа:
— Ну конечно, сбежали! Прямо кусок от вас отвалится меня похвалить! Приятного аппетита, вас ждет легкий ужин! Сосиски с горохом а-ля Мели Беллак. Наслаждайтесь, приятного аппетита!
Утро для Клариссы Лостанж выдалось прямо-таки невыносимым. Она закрылась в своей квартире, прилегла на кушетку и стала припоминать все испытания, выпавшие на ее долю с тех пор, как в девять часов услышала удары в дверь. Приход полиции, установление личности, сообщение о смерти Эзеба, допрос, приказ не покидать пределов Парижа, пока не будут выяснены все обстоятельства дела. А потом самое ужасное — морг.
Когда Эзеб ушел, первоначальная ярость сменилась беспокойством — почему он не возвращается. Потом опять яростью. Но известие о том, что его зарезали, было для Клариссы шоком. Горе было перемешано со страхом и с жалостью к самой себе: как же она теперь без единственного брата? Вид его тела привел ее в ужас. А теперь она чувствовала только пустоту и страшное бессилие, и к тому же в душе поднималась горькая обида на Эзеба, который исхитрился сделать ей по-настоящему больно. Было жаль, что он умер, но то, что его зарезали — вот это была просто катастрофа. Теперь полиция и журналисты сожрут ее с потрохами. Сплетен не оберешься, теперь ее будут избегать, как прокаженную, сначала узнают все в доме, потом весь район. Придется, что ли, прятаться от людей?
В дверь позвонили. Она сжала зубы: опять один из тех стервятников, что кружат над ней с утра. Постучали настойчивей. Она крадучись подошла к двери. Одиночество уже начало ее угнетать. И зачем она вчера уволила бонну!
— Кто там? — спросила она.
— Жозеф Пиньо, к вашим услугам, я частный детектив, занимаюсь убийствами в Часовом тупике. Ничто из того, что я от вас узнаю, не будет передано ни полиции, ни прессе, торжественно вам в этом клянусь.
Кларисса Лостанж помолчала. Она не очень-то хотела изливать душу постороннему человеку. На площадке Жозеф скрестил пальцы, надеясь, что говорил достаточно убедительно.
Дверь скрипнула, они оказались лицом к лицу. Кларисса Лостанж взглянула на молодого человека с приветливым лицом, вздохнула с облегчением и посторонилась, пропуская гостя. Жозеф поцеловал руку малосимпатичной, как ему показалось, дамы и прошел вслед за ней в столовую, где они сели на стулья друг напротив друга.
— Я буду краток, поскольку представляю, каким напряженным был для вас сегодняшний день. «Паспарту» опубликовало ваше имя, поскольку оно было написано на этикетке, прикрепленной к связке ключей, которые были найдены в кармане жертвы в последнюю ночь на Монмартре. Вы родственница убитого?
Кларисса Лостанж утвердительно кивнула. Она явно не слишком страдала — глаза ее были сухи, голос не дрожал.
— Я вдова, зовут меня Кларисса Лостанж, я его сестра — ну, в смысле, была сестра… Его звали Эзеб Турвиль, это и моя девичья фамилия, — уточнила она, — он почтальон (ну, был почтальоном). Я все это уже рассказывала полицейским и репортерам, которые меня о нем расспрашивали, это скоро будет в газетах.
— О! Мне так жаль!
— Очень мило с вашей стороны. Но можно было ожидать, что Эзеб плохо кончит. Ничего бы такого не произошло, если бы он не участвовал в мае в этой треклятой социалистической забастовке, из-за которой его уволили. С тех пор, как он потерял работу и я приютила его по доброте душевной, невзирая на весьма и весьма скромные доходы, он стал сам на себя не похож. Отказывался выходить на улицу, вечно сидел взаперти в своей комнате. А потом внезапно, пф-ф, ускакал вчера, как заяц, и утащил ключи, хорошо еще у меня есть дубликат. И с тех пор я его не видала, бедного братца.
Жозеф заметил, что горе ее было наигранным и обстановка тоже не слишком свидетельствовала о бедности.
— А как он объяснял свое поведение?
— Да никак. Толкнул меня безжалостно да и ускакал. Видимо, хотел встретиться со своей бывшей любовницей или с этими чокнутыми любителями бегов, развращенными типами, которые раньше подбивали его ставить на лошадей и проматывать всю зарплату на ипподроме в Лоншан.
— Может, их звали Робер Доманси и Шарль Таллар?
Жозефу показалось, что он у цели. Тем бо́льшим было его разочарование, — когда он понял, что эти имена ни о чем не говорят вдове.
— Он никогда ни с кем меня не знакомил. Увы и ах, вы осведомлены об этом лучше, чем я, мсье. Как подумаю, что мне замки менять предстоит…
Он оставил ей визитную карточку магазина, на случай, если она вдруг припомнит важные подробности. Она проводила его до двери, поджав губы, и не произнесла ни звука.
Вернувшись на улицу Сен-Пер, Жозеф рассказал Виктору, что ему удалось выведать у Клариссы Лостанж.
— Ничего особенного! Поскольку нам не удается установить связь между покойными, нужно дальше разрабатывать линию Луи Барнава, — заявил Жозеф.
— Ну одна ниточка все же есть. Робер Доманси, Шарль Таллар и Эзеб Турвиль посещали бега, в частности, ипподром в Лоншан.
— Да, хорошо. Вы пытаетесь меня сбить с панталыку, а я доверяю своему чутью. Я уверен, что Барнав играет важную роль во всей этой катавасии с трупами.
— Вы сейчас говорите об ощущениях, а мне нужны доказательства.
— Ну конечно, поговорив с теми, кто общался с ним раньше, я докажу вам, что прав. Возьму на себя эту опасную задачу.
— И кто же предоставит вам эти сведения?
— Да его бывшие коллеги, конечно!
— Его бывшие коллеги по какой профессии?
— Вы что, меня за любителя принимаете? Колетт Роман говорила вам давеча в кабаре «Небытие», что он был извозчиком, работал на улице Орденер, его вышвырнули за дверь. Я записывал в блокнот на коленке, пока вы там ворковали, как голубок.
— Один-ноль в вашу пользу! И как вы собираетесь это осуществить?
— Вы хотите, чтобы я испортил вам сюрприз?
Виктор улыбнулся, показывая, что его на мякине не проведешь.
— У вас крепкий череп, да?
— Когда мы пороемся в его прошлом, возможно, мы выйдем на след. Этот тип внушает мне страх.
— Страх? Вам, Жозеф?
— Ничего не могу с этим поделать. Даже не его самого я боюсь, а того, что он что-нибудь еще подобное совершит, он пышет злобой! А я дал ему нашу визитку… Черт!
— Это было умно, браво! Если вас это не обидит, можно я отправлюсь на улицу Орденер и проверю вашу теорию.
— Да вы надо мной смеетесь!.
— Каждый развлекается, как может, — ответил Виктор.
Среди сорока пяти контор Генеральной компании омнибусов та, что находилась на улице Орденер, состояла из нескольких зданий, в них находились лошади и конюхи, погонщики пристяжных и шорники, делающие сбрую, уборщики навоза и мойщики повозок. Здесь пахло машинным маслом и конским навозом. Как только омнибус отвозили на место, его осматривал каретник, передавал его мойщикам, и можно было заняться питанием и отдыхом лошадей. Все работы выполнялись в течение ночи. На заре транспорт и сбруя были вымыты и начищены, подушки взбиты, стекла протерты. Так что между шестью и семью утра кучер, готовый к работе, и кондуктор с путевым листом поднимались на борт своего экипажа, который, трясясь на ухабах, отправлялся в путь.
Рабочий день подходил к концу, начальник депо в сопровождении конюхов следил за тем, как распрягают лошадей. Кузнецы отмечали соломинками хвосты тех лошадей, которых надо подковать, ветеринар проверял, здоровы ли животные.
Виктор бродил посреди всего этого бурления жизни, и никто не обращал на него внимания. Он заметил старика, станционного смотрителя, который сосредоточенно жевал табак.
— Пардон, мсье, я ищу некоего Луи Барнава.
Старикан сплюнул коричневатую жижу и почесал в затылке.
— Нет, что-то не видал его. Сходите к начальнику службы, мсье Нервену, это павильон возле мастерской по ремонту сёдел, он в своих книгах пороется, глядишь, что и найдет.
Виктор долго стучал, но никто не ответил. Он зашел и увидел комнату, заваленную папками. Телефон на стене и печатная машинка вносили в это бумажное царство элемент прогресса. Помимо этих современных изобретений, на столе вытянулись в ряд перьевая ручка, чернильница, карандаш и точилка. Мсье Нервен, спиной к посетителю, занимался очень странным делом: через равные промежутки времени вытягивал руку и сжимал кулак на горле воображаемого противника.
Виктор кашлянул, начальник службы в растерянности подскочил.
— Извините, я вас не слышал.
— Это новый вид борьбы?
— Никому не рассказывайте, я тренируюсь ловить мух. Зимой-то полегче, но весной начинается сущий ад. Все депо заполнено этими насекомыми — все из-за лошадей. Настоящее стихийное бедствие. Я и сетку на окна повесил, все равно одолевают. Ничего не помогает: ни мухобойки, ни яды-опрыскиватели, ни ловушки — муха приспосабливается ко всему! А по какому вы, собственно, вопросу?
— Я хотел бы спросить, фигурирует ли в ваших записях некий Луи Барнав, он был кучером омнибуса. Я клерк нотариуса, мне поручили вручить ему завещание.
— Барнав, говорите? Сейчас посмотрю папку на «Б». Бакль, Бадине, Багасс… Барнав, Луи, вам повезло, я нашел! Этого парня уволили четыре года назад после аварии на линии АQ, там человек погиб. Ну, ясное дело, проводили расследование. А Барнав был сильно выпимши. Кондуктор и пассажиры омнибуса подтверждают, их свидетельство фигурирует в протоколе полиции.
— Я предполагаю, что копии протокола у вас нет?
— Правильно предполагаете!
— А где произошла эта авария?
— Поглядим, поглядим, — пробормотал мсье Нервен, водружая на нос очки, — на углу Елисейских полей и улицы Пьер-Шаррон.
— Значит, дело вел комиссариат на площади Этуаль?
— Видимо, да. Ну вы проверьте на всякий случай, — ответил мсье Нервен, которому уже невтерпеж было вновь предаться любимому делу.
Виктор уже опаздывал.
— Извозчик, скорее, на Северный вокзал!
«Он, должно быть, заметно постарел, — думал он. — Когда я его видел последний раз? В 91-м? Нет, в 92-м, у меня был как раз тяжелый период».
Он пощупал старый шрам на правом боку, потом взял сигарету. Но он так нервничал, что скурил ее в несколько затяжек и закашлялся. Потом открыл окно в фиакре и выбросил окурок.
«Узнаю ли я его? За семь лет он наверняка изменился. Сколько ему, интересно? Лет шестьдесят? Ах! Это просто невероятно! Вот он выбрал момент, чтобы вновь объявиться! Как же выпросить этот отчет об аварии у полицейских? Без аккредитации меня к нему не допустят. Привлечь Вальми? И речи быть не может».
Фиакр остановился.
Виктор сквозь бурлящую и шумную толпу ринулся в огромный вестибюль. Поезд уже стоял у перрона, последние пассажиры выходили из вагонов. Возле колонны вокзала он заметил мужчину, обвешанного сумками, который пытался договориться с носильщиком. Он посмотрел на фотографию, которую ему дала Таша, и сравнил ее с этим человеком.
Гость столицы выглядел молодо, одет был спортивно, на голове была кепка, из-под которой выбивались серебряные пряди. Никаких сомнений, это он, только на семь лет старше и безо всяких усов. Виктор подошел поближе.
Мужчина посмотрел на него с беспокойством, но и с интересом.
— Господин Пинхас Херсон? — поинтересовался Виктор.
— Мсье Легри? Это вы мой зять?
— Да. Добро пожаловать, — сказал Виктор и пожал ему руку. Таша не смогла вас встретить из-за малышки. Я нанял фиакр. Джина ждет нас на улице Сен-Пер, затем мы пойдем к нам, на улицу Фонтен.
* * *
Кэндзи сидел за своим письменным столом и бережно рассматривал атлас Индокитая, составленный миссией Пави 1879 года, дополненный «Изысканиями в области литературы Камбоджи, Лаоса и Сиама».
В салоне прозвонил телефон. Он услышал, как Джина взяла трубку, ответила и потом почему-то замолчала. Он встал и тихонько подкрался к полураскрытой двери в комнату. Джина стояла к нему спиной. Она вдруг сказала в трубку:
— Через десять минут.
Он едва успел домчаться до стола и сесть. Она вошла и принялась рыться в гардеробе.
— Кто это был? — небрежно поинтересовался он.
— Виктор. Он зовет меня в «Потерянное время». Заедет за мной.
Он крутанулся на стуле.
— Что-то случилось?
— Да нет, это Таша зовет, она хочет со мной поговорить, это очень срочно.
— Таша? Интересно мне знать, что ей от тебя надо, она не могла перенести разговор на завтра? Сейчас не время, уже дело к ночи.
— Ну зачем ты так говоришь, это нечестно, сейчас всего семь часов, и потом, мой зять — отличная дуэнья, ни на шаг меня не отпустит.
Она стремительно заскочила в ванну, полы ее пеньюара вздымались в воздух.
— А почему Виктор не хочет подняться?
— Он внизу, держит фиакр, — ответила она, явившись уже в полном парадном убранстве.
Поцеловала его в лоб.
— Ложись, любовь моя, что-то ты скверно выглядишь.
— Если вы вернетесь пораньше, дорогая, знайте, что я никуда не собираюсь.
Он досчитал до двадцати и ринулся к окну. Сердце упало камнем: с Виктором и Джиной был кто-то третий, он обернулся, и Кэндзи тотчас же понял, кто это такой. Вот только этой беды ему и не хватало… «Отсутствующие всегда присутствуют слишком явно», — подумал он с горечью.
Джина долго, внимательно смотрела на Пинхаса, давая волю воспоминаниям, желая пресытиться ими, чтобы спокойно потом воспринимать его как старого приятеля, которого давно не видела. Она вздрогнула и побледнела, увидев знакомый силуэт на тротуаре. Судорожно сглотнула, едва удержалась на ногах — закружилась голова. Он неподвижно стоял возле Виктора, а тот, казалось, чувствовал себя не в своей тарелке. В свете газовых горелок его лицо казалось осунувшимся, волосы поседели, вид у него был усталый, но он держался так же прямо, как прежде.
— Здравствуй, Джина, — проговорил он. — Я вот вчера приехал.
— А почему ты мне не написал, почему надо было связываться через Таша?
— Я хотел, чтобы она подготовила тебя.
— Ну, ты смел, как всегда. А сколько лет твоему ребенку?
— Три года… Я долго колебался, прежде чем рассказать тебе, нужно было, конечно, как-то обсудить с тобой, чтобы ты мне дала добро.
Джина натянуто рассмеялась.
— Добро на то, чтобы он появился на свет? Наконец родился детеныш мужского пола, ты наконец счастлив?
— Не будь такой жестокой, Джина, я не это хотел сказать… Я узнал, что ты сожительствуешь с мсье Мори.
— Ну, мы не просто сожительствуем.
— И давно это?
— Слушай. Ты нас бросил семнадцать лет назад, меня и девочек. И тебе вовсе не обязательно все знать о моей жизни, я-то уж точно не в курсе многих эпизодов из твоей. Я не против того, чтобы развестись, это совершенно не трудно сделать, Таша уже занялась формальностями. А где ты остановился?
— Он останется у нас, — вмешался Виктор. — Извозчик ждет, залезайте в фиакр.
Кэндзи приник лицом к окну. В душе его бушевала буря. Вернулся Пинхас. Хотелось завыть в голос. Что с ним будет, если Джина его бросит? Он не понимал, на каком он свете. Какой же он был дурак, когда считал, что эта идиллия продлится во веки вечные! Тут его злость обратилась на Виктора. Ну какой лицемер! Они отправились ужинать на улицу Фонтен. Пинхас будет восторгаться своей внучкой. Что он ей, интересно, подарит, чтобы завоевать ее сердце? Куклу? Игрушки, привезенные из Нью-Йорка?
«А я? Кто я для этой девочки? Приемный отец Виктора, то есть никто!»
Он поднял крышку пианино. Это был каприз Джины, она хотела учить внучку музыке. Он умел играть только одним пальцем. Принялся наугад нажимать на черные клавиши. Музыкальные реминисценции возникали в голове, простая, монотонная мелодия, странный запев далекой страны… Он унесся мыслями в места, запрятанные в укромных уголках его памяти. Как же он был молод! Лет двадцать, ну, может быть, двадцать один. Он вспомнил, как работал переводчиком в экспедиции, которую возглавлял английский ботаник Джон Кавендиш. Вспомнил китайское кладбище, утопающее в роскошной зелени, на одном из островов Тихого океана, туземный праздник в местной деревушке и появление прекрасной яванки, которая соблазнила его. О, Пати, ее пышная шевелюра, украшенная цветами, ее смех, родинка на ее коже, журчание реки у подножия вулкана Лаву-Кукусан… Когда прощался с Пати, он обещал ей вернуться, заранее зная, что не сдержит свое слово.
Кэндзи отодвинулся от инструмента. Его ярость прошла, развеялась в воздухе.
Виктор проснулся на заре и не мог больше заснуть. Пинхас лег в ателье, и, опасаясь с ним встретиться, он не решался пройти через двор, чтобы попасть в лабораторию. Мысли вихрем проносились в его голове, прогоняя сон. Он встал и пошел на кухню, где успел закрыться до того, как прибежит Кошка и затянет свою утреннюю песнь голода. Как же добраться до этого отчета об аварии омнибуса, которая произошла четыре года назад? И как приспособить свои отлучки ко всей этой ситуации с тестем? Как перевести на другой берег волка, козла и капусту и при этом еще сохранить толику свободы? Он заглотил три чашки кофе, выкурил пять сигарет и внезапно, озаренный чудесным светом, в его мозгу возник ответ. Вернувшись в хорошее состояние духа, он с наслаждением потянулся. Нет, Рауль Перо не откажет ему в этом одолжении.
Глава четырнадцатая
Четверг, 9 ноября
Рауль Перо снял крышки со своих коробок безо всякого энтузиазма. Набухшее дождем небо нависало над набережной Вольтера. Он был первым открытым букинистом и, может быть, сегодня рисковал остаться в единственном числе. Он выложил в ряд содержимое зеленого мешка, который тащил с улицы Невер, где делил со своей черепахой Камиллой комнатку в мансарде и кое-какую утлую мебелишку. Накануне он купил трактаты по философии: труды Эразма, Спинозы и Декарта. Рауль Перо сделал вид, что погружен в чтение «Проповедей» Боссюэ, чтобы прошествовал мимо исландец в монокле и бесформенной шляпе, который целыми днями напролет ходил по улицам и просил подписать петицию о независимости его страны.
Помимо клиентов, которых не было в поле зрения, Рауль Перо надеялся повидать некую барышню с зелеными глазами. Она прогуливалась с белой кошечкой на плече и иногда останавливалась возле его лотка, чтобы поговорить с ним о его коллекции кофейников. Он хорошо изучил эту тему и теперь блистал знаниями, демонстрируя кофеварку, изобретенную в 1802 году Франсуа-Антуаном Декруазилем, и кофейник из фарфора, созданный химиком Антуаном Каде-де-Во.
— О! Лишь бы это сочеталось с интерьером! — каждый раз восклицала она.
Пока он размышлял, как бы ее охмурить, омнибус Клиши — Одеон, который тянули три флегматичные серые в яблоках клячи, на углу улицы Бак изрыгнул пассажира. Рауль узнал Виктора Легри лишь тогда, когда тот перешел улицу.
— Какой приятный сюрприз! Не представляете, какой скучный денек нынче выдался, — приветствовал его Рауль Перо.
— Сейчас мне нужен не букинист и не поэт, который публикует свои стихи под псевдонимом Изис, а бывший комиссар XIV округа, — объявил Виктор, у которого сразу потеплело на сердце, едва он заметил нескладную, небрежно одетую фигуру со здоровенными ступнями и усами а-ля Верцингеторикс
[1035]. С этим человеком он дружил уже девять лет.
— Вы не упомянули мои предыдущие места работы: VI округ, а потом Ла Шапель. Но все это было давно, я отказался от общения с нарушителями общественного спокойствия.
— Вы тем не менее окажете мне огромную услугу, если в течение нескольких часов вновь свяжетесь с этой профессией.
Он рассказал ему про расследование, в которое они с Жозефом впутались по собственной воле, и объяснил, что ему надо от Рауля Перо. Тот
читал в газетах об этой истории, и его, как и многих, заинтриговали предметы, разложенные вокруг трупов. Но когда он узнал, что его друг занимается этими преступлениями, он скорчил гримасу.
— Ясно, вы обожаете трудности. Чур-чура, я больше не играю. В прошлом году вы чуть не скомпрометировали мой дебют на новом поприще, втянув меня в опасное расследование. Если Огюстен Вальми узнает, что я связался с вами, пощады не жди!
Виктор стоял на своем:
— Всего-то одно утро потратите на эти дела, и потом обещаю исчезнуть бесследно.
Рауль Перо некоторое время отнекивался, но потом согласился помочь. Без сожаления он собрал свой лоток, на который все равно никто не обращал внимания.
— Вы очень упрямы, Виктор, и вы к тому же правы. Я тут вспомнил, что Антенор Бюшроль, один из моих бывших подчиненных, был назначен секретарем комиссара на площади Этуаль.
Антенор Бюшроль был ростом около двух метров. Даже если на это не обратить внимание, он все равно выделялся бы из толпы огненно-рыжей шевелюрой. Он стеснялся своей яркой внешности и потому сутулился, сгибаясь почти пополам, а волосы прятал под шляпу. И все равно несколько непокорных прядей выбивались на волю.
Удостоверившись, что комиссар за ним не шпионит, он набросился на кучу папок, сложенных в глубине его тесного кабинета. С торжествующим возгласом он извлек папку, датированную 1895 годом.
— Я нашел, мсье Перо! Вот оно: 10 апреля вечером, в пять часов десять минут, малыш пяти лет выпал из транспортного средства омнибусной компании, линия AQ, и разбился насмерть. Карета только остановилась на Елисейских полях на уровне улицы Пьер-Шаррон, тронулась, и тут произошел несчастный случай.
— А как звали жертву?
— Флорестан Ноле, он жил на улице Пон-Нёф, 18. Кажется, внезапная остановка омнибуса, произошедшая оттого, что кучер был в состоянии алкогольного опьянения, послужила причиной падения мальчика на тротуар: он сидел, наполовину высунувшись из окна.
— Позвольте, я перепишу список пассажиров? — спросил Виктор, который читал текст протокола, заглядывая через его плечо.
Он записал в блокнот: Беноде Франсуа, Ватан Юбер, Доманси Робер, Фрепийон Берта, Крайоле Надя, Трувиль Эзеб, Вернь Жан, Самюэль Жак, Таллар Шарль, Мопраль Дениз, Дурути Лина, Натье Нисефор, Тирсон Одиль, Корсини Эдмон.
— А личность кучера установили?
— Барнав Луи.
— И что говорят свидетели?
— Что малыш весь извертелся, чуть ли не сальто крутил, а тот человек, что за ним присматривал — тут не указывается, кто, — должен был бы вмешаться, но ничего бы в общем не случилось, если бы кучер внезапно не стеганул лошадей. У мадам Тирсон Одиль от неожиданности даже произошел непрекращающийся приступ икоты.
Кафе «Взад-вперед» было переполнено, и Жозеф то и дело отгонял клиентов, которые хотели забрать стул, предназначавшийся для его зятя.
— Он мне нужен, на нем висит мое пальто! — восклицал он, вырывая стул из рук какого-то хлыща с закрученными кверху усами.
— Ты, болонка, слушай, тут есть вешалки!
— Бойтесь болонок, у них острые зубы! О! Кого мы видим, Виктор, а еще попозже нельзя было прийти? Садитесь скорее на этот стул, а то мсье у нас его хочет украсть!
Хлыщ окинул их презрительным взглядом и удалился, выпятив грудь.
Когда Жозеф довершил расшифровку каракулей в блокноте Виктора, он заметил:
— Ну конечно, имеется в виду не Трувиль, а Турвиль. Признаю, вы были абсолютно правы: между тремя убитыми существует связь, поэтому-то они и находились вместе в омнибусе линии AQ.
— Можно предположить, что они возвращались с бегов в Лоншане. Что касается Шарля Таллара, мне рассказал об этой его слабости Вилфред Фронваль. Кларисса Лостанж тоже упоминала о таком увлечении своего брата Эзеба.
— А Робер Доманси? Ну да, бумажка, которую дал Огюстен Вальми.
— Вот именно. «
Оплатить услуги “советчика” за октябрьский выигрыш в Лоншане. РДВ Бистро на Холме». Основная тема этого непонятного ребуса постепенно вырисовывается. Три любителя скачек, судьба которых каким-то образом связана с извозчиком, помешанном на теме времени. Он потерял свою работу вследствие несчастного случая, повлекшего за собой смерть ребенка. Может быть, показания этих трех игроков и явились поводом их убить? Луи Барнав, если он и правда виновен, решил прирезать пассажиров омнибуса AQ, чтобы отомстить?
— А «советчик», возможно, так и не получил свой гонорар? И захотел восстановить справедливость… Наши главные задачи: найти этого типа и проверить бистро на Холме. Но еще более важно встретиться с родителями малыша, семьей Ноле, если они никуда не переехали. К моему большому сожалению, эту миссию предстоит выполнить вам, Виктор. Я сломя голову лечу домой, меня отпустил Кэндзи: я обещал сводить детей в Ботанический сад, мама тоже примет участие в мероприятии, радости нет границ. Черт! Мне внушают ужас галереи со всякими костями, камнями и экзотическими растениями с латинскими названиями. Терпеть не могу природу! Да здравствует город!
— Болонка! — уронил хлыщ, когда они проходили мимо.
Жозеф оскалил зубы.
Когда Виктор вошел в квартиру, он сразу с сожалением вспомнил о свежем ветре на улице Пон-Нёф. Жилище это было расположено на первом этаже османовского особняка и соседствовало с магазином рыболовных товаров, где покупателю предлагались удочки, спиннинги, пробковые поплавки, лески на деревянных дощечках, блесны и крючки высокого качества, рекомендуемые Германом Ноле.
Сухопарая гувернантка провела его в небольшую столовую в розовато-лиловых тонах, занавески были закрыты, хотя на дворе светило солнце. Друг напротив друга стояли два камина, на каждом было зеркало, которое венчали бронзовые часы. Они словно шпионили за незваным гостем, который, не решившись сесть на один из диванчиков с широкими подлокотниками, стоял посреди комнаты, и переговаривались с помощью морзянки:
— Кто этот проныра, тик-так.
— Да какой-то зануда, тик-так.
Виктор отважно решил не поддаваться запугиванию часов и тут заметил свое лицо, бесконечное число раз отраженное в трюмо. У него закружилась голова, словно он заглянул в бездну. Он поскорее забился в уголок, где стоял круглый столик, чтобы избежать столь активного размножения своего образа.
Стрелки медленно ползли по циферблатам: одиннадцать часов пять минут, одиннадцать часов семь минут… В одиннадцать часов тридцать две минуты гувернантка вошла в комнату, шаркая подметками плоских подошв по паркету.
— Мадам Ноле примет вас в гостиной для приемов, — объявила она.
Комната в конце коридора оказалась точной копией той, где Виктор томился ожиданием. Там тоже стояли два камина, двое бронзовых часов, окна были занавешены вышитым дамастом
[1036], вокруг круглого столика, накрытого бархатной скатертью, стояли кресла. На стенах, обитых фиолетовой тканью, висели фотографии всех членов семьи. Отец щеголял закрученными усами и пальто в полоску. Его достойная половина, солидная дама в шерстяном платье с бледным, помятым лицом, сверлила Виктора глубоко посаженными глазами, черными, как виноградины. Под портретами родителей их потомство тоже изучающе взирало на незнакомца. Девочка-переросток, худенькая и изнеженная, с двумя косичками, за ней другая, покороче и потолще, вся в кружавчиках и оборочках, явно любимица мамаши. Мальчик с неприветливым лицом, с серсо в руках и в неизбежном матросском костюмчике. Третья девочка, вся в лентах на английский манер, с презрительной улыбкой на губах; похоже, она дернулась в момент съемки и получилась немного размытой.
«Какая приятная обстановочка! — подумал Виктор. — Похоже, что они всей семьей возвращаются с похорон. Они воплощают в себе все, что я ненавижу: респектабельность, отсутствие чувства юмора, ощущение собственной важности и правильности выбранного пути, отсутствие фантазии, скуку».
Тут же нахлынули воспоминания о собственном отце. Сжав зубы, он глубоко вздохнул, отгоняя тень своего нерадостного, жестокого детства, полного ограничений и запретов, которое он старался изгнать из памяти, обернулся и застыл в недоумении перед овальной рамкой с черным крепом. Ребенок, глядящий с этой фотографии, был не похож на остальных. У него были довольно длинные волосы, светлые и кудрявые, как у девочки. На нем была вышитая жилетка и короткие штанишки. И он улыбался во весь рот. Виктор не мог оторваться от этого портрета, настолько тот был живым и естественным.
— Сейчас прямо заговорит, — пробормотал он.
— Так что вам, в конце концов, надо? — рявкнула мадам Ноле. — Из вашей визитки ясно, что вы книготорговец. Мы с моим супругом книг не читаем, у нас на это времени нет. Нашим детям для развития мозгов вполне достаточно школьных учебников.
— Простите, я повел себя невежливо, но я собирался представиться при встрече. Дело в том, что я у вас не в качестве книготорговца. Я помогаю в расследовании моему другу, он работает в префектуре полиции, был убит его брат, и в ходе следствия мы обнаружили, что этот молодой человек ехал в том же омнибусе, из которого выпал ваш сын четыре года назад.
— Четыре года и семь месяцев, да хранит Господь его душу, — уточнила мадам Ноле, перекрестившись. — Его звали Флорестан. Если бы он был жив, ему было бы девять лет, он был бы здесь, между нашей младшенькой, Жозефиной, и его старшим братом, Аженором. Вы как раз на него сейчас смотрели. Так какова цель вашего визита?
— Я хочу выяснить, есть ли связь между убийством брата моего друга и смертью вашего сына?
— Да это смешно! Это был несчастный случай, трагично, конечно, но не более чем несчастный случай. Флорестан был у нас тем, что в простонародье называют «белая ворона», он был наглый, вздорный, бил тарелки. Мы с мужем хотели поместить его в закрытое заведение. Он доставлял мне одни лишь неприятности. Тяжелые роды, тогда как все остальные… Ах, мои крошки! — вздохнула она, поворачиваясь к фотографиям своих отпрысков. — Он был очень плаксивым младенцем. От него было больше суеты, чем от колонии блох. Вечно носился, не слушался, выскальзывал из рук, как мыло. Ох, я так разволновалась, но я согласна с вами поговорить, присаживайтесь, так нам будет удобнее.
Виктор покорно опустился в кресло, его собеседница села напротив.
— Так что случилось на втором этаже омнибуса?
— Он валял дурака, как обычно! Залез на перила и опрокинулся, нас с его отцом это нисколько не удивило, мы предчувствовали, что он плохо кончит. Если бы он выжил, попал бы на эшафот, мне это цыганка по руке предсказала.
— Ну он же не один ехал, я полагаю?
— Конечно нет, с ним была отправлена его няня, которая должна была за ним следить. Представляете, в какие расходы он нас вводил! Если его брату и сестрам достаточно было одного наставника, то ему требовалась отдельная няня! У него их сменилось шесть, пока мы не наняли в январе 1894 года эту девицу. Уж не знаю почему, но она умудрилась понравиться Флорестану. Ну или знаю: она отпускала поводья и позволяла ему творить все, что он пожелает!
— Ее имя?
— Оно впечатано у меня вот здесь, — процедила мадам Ноле, сверля пальцем висок. — Лина Дурути.
— Лина Дурути — странное имя.
— Ну да, она баскского происхождения, какая-то Богом забытая дыра в Наварре или Беарне. Я колебалась, брать ли ее, она казалась слишком молодой и не обладала нужными умениями, до этого она была медицинской сестрой или санитаркой в Бисетре, больнице для отбросов общества. Она призналась нам, что ей надоело возиться с больными. Но, добавила она, среди них было много детишек, поэтому она решила, что могла бы повозиться с нашим. Мой муж проглотил ее доводы и не поморщился, смазливая мордашка ему пришлась по нраву, что вы хотите — мужчина, — произнесла она так, словно ставила неизлечимый диагноз.
— И что с ней стало?
— Само собой, мы ее уволили. А какую работу мы могли ей предложить? И потом, если бы не ее нерадивость, наш сын был бы жив. Когда я думаю о том, что она в тот день повезла его гулять в Ботанический сад и даже нас не предупредила! — она повернулась к блондинчику, с иронией глядящему на нее из черного крепа.
— Гадкий озорник, ты разбил сердце своей мамочки, очень мило с вашей стороны, мсье, вся семья подтвердит, смерть Флорестана принесла мне три морщины на лбу и прядь седых волос, а я ведь была в расцвете лет!
Виктор некоторое время безуспешно сражался с креслом, которое засасывало его, но потом, ценой невероятных усилий, высвободился, почувствовав при этом ощутимую боль. «Надо бы сходить к доктору Рейно, у меня начинается ревматизм».
— Мадам, простите, что я злоупотребил вашим гостеприимством, видимо, действительно, присутствие в одном омнибусе вашего сына и молодого человека, убитого в Часовом тупике, было всего лишь совпадением.
— Очевидно лишь одно — обоих с интервалом в четыре года постигла одна и та же участь. Ах! Мы так мало значим в этом мире! Простите, мне нужно пойти подменить мужа в магазине. Вы рыбу любите?
— Есть люблю, а так нет.
— Жаль, у нас самый прекрасный выбор блесен и сачков для рыбы во всем Париже.
Она удовлетворенно хихикнула, когда он поцеловал ей руку.
Как только Виктор вновь оказался на улице, он с наслаждением вдохнул парижский воздух, пахнущий пылью, вытащил из кармана блокнот и записал:
Лина Дурути. Бисетр.
Неужели ему с Жозефом придется копошиться в мрачных архивах психиатрической больницы, чтобы найти в каком-нибудь журнале имя санитарки баскского происхождения? Он вышел на набережную Лувра.
Ощущение дежа вю заставило его притормозить у антикварного магазина, где в витрине был выставлен бюст Генриха IV. Пришла на ум песенка, которую он слышал в детстве:
Жил-был Анри IV,
Он славный был король,
Любил вино до черта,
Но трезв бывал порой.
Король-беарнец… Виктор выхватил блокнот и судорожно перелистал его в поисках списка пассажиров омнибуса. Вот, написано черным по белому.
Дурути Лина, няня.
Потом он подумал: Шарлина, Лина, звучит похоже, не одна ли и та же эта женщина?
Попробовал разобраться в воспоминаниях.
«С какого времени Шарлина в театре? Этот несчастный случай произошол в апреле 1885 года. Жизнь за четыре года может сильно измениться. Нужно вернуться и расспросить пылкого любовника. У меня полно времени, я успею заехать в “Комеди-Франсез” и поговорить с Арно Шераком».
Благодаря пропуску, выписанному Огюстеном Вальми, Виктор легко прошел в здание «Комеди-Франсез», где ему сказали, что Арно Шерак сейчас или в гримерке, или в фойе. Он поднялся по громадной, величественной лестнице. Каждый этаж носил имя какого-нибудь прославленного в веках актера — Тальма, Рашель. Лестничные клетки были украшены бюстами знаменитых исполнителей, а галерея была посвящена жизни и творчеству драматургов: Бомарше, Альфреда де Мюссе, Жорж Санд. «Надо же, Скриб
[1037] при жизни пользовался бешеной популярностью, а беднягу Нерваля
[1038] публика освистывала», — подумал Виктор, заходя в главное фойе. Здесь напротив друг друга стояли два огромных камина. Вдоль стен были расставлены двенадцать бюстов, представляющих Мольера, Корнеля, Вольтера и других великих драматургов, а между ними на стенах висели двенадцать овальных гравюр по голубому камню на золотом фоне, представлявших знаменитые сцены из классического репертуара. Виктор осмотрел их, но не слишком задерживался, поскольку Арно Шерака в поле зрения не было. Вновь выйдя на лестницу, он попросил пробегающего мимо молодого человека показать ему, где фойе для артистов.
— Увы, мсье, вход в это фойе закрыт для непосвященных.
Пришлось спуститься, побродить внизу, заблудиться в лабиринте коридоров — лишь тогда удалось обнаружить комнатку, где Арно Шерак заканчивал накладывать грим перед представлением «Фру-Фру».
Актер сидел, погруженный в глубокую медитацию, глаза его были неподвижно устремлены в одну точку на его довольно объемистом животике. Он жалел, что он не женщина, не потому, что готов был расстаться со своей мужественностью, но лишь поскольку эти создания могли скрыть свою полноту с помощью корсета. Он сожалел о своем гурманстве, но извинял себя тем, что меренги и ромовые бабы служат отличным утешением от любовных неудач. Он приплюснул живот ладонью, пытаясь придать своему профилю необходимую утонченность, которая еще так недавно была ему вполне свойственна, и подумал, что ему будет ужасно жать узкий сценический костюм. Тихий шорох отвлек его от размышлений, он повернулся и, оказавшись нос к носу с Виктором, застыл с разинутым ртом.
— Извините мое вторжение. Я постучал, но вы не ответили.
— Это потому, что я повторял про себя свою роль.
— Мне крайне необходимо уточнить одну деталь, которая касается Шарлины Понти. Но если я вам мешаю, то могу прийти в другой раз.
Но упоминание этого имени задело чувствительную струнку в душе актера. Кроме того, Арно Шерак белой завистью завидовал стройности Виктора. Поэтому он ответил:
— Нет-нет, останьтесь, у меня еще полно времени. Так что же за вопрос вас донимает?
— Я хотел бы знать, играла ли она в театре четыре года назад.
— В 1885 году? Она тогда дебютировала. Играла субретку без речей в «Жиголетт» Тарбе и Декурселя во время нескольких чрезвычайно шикарных вечеров в «Амбигю-комик»
[1039]. Я тоже участвовал в этом спектакле. Когда я увидел эту кокетку, Амур пронзил меня своей стрелой. Но увы, она хотела соблазнить Робера Доманси, который тоже мелькал в этом театре. Он надеялся получить роль в «Радостях эскадрона».
— А до 95-го года она где работала?
— Вы слишком многого от меня хотите.
Арно Шерак посмотрел на свои туфли и, не поднимая головы, прошептал:
— То, что вы говорили мне давеча в саду Пале-Рояль, — это была правда?
— Напомните, пожалуйста, о чем речь.
— Что она испытывает ко мне какие-то чувства.
— Ну, я немного преувеличил…
— Рассказывали мне сказки, чтобы вытянуть нужную информацию, а? Ну полно, я не сержусь на вас, цель в конце концов оправдывает средства.
— Мне очень жаль…
— Нечего меня жалеть, такова уж моя доля. Женщина мне мельком улыбнулась, а я сразу решил, что она ко мне неравнодушна. Набитый дурак! Но у меня есть собственная гордость, Шарлине ее никак не отнять.
— Вы, кажется, на нее в обиде. Может, вы скрыли от меня что-то важное?
— Я вам солгал. Я подтвердил историю с ссорой в гримерке Робера Доманси. Но на самом деле, это сама Шарлина крепко огребла, поскольку скандалила и требовала денег.
— Минуточку, я утерял нить вашего рассказа. Кто осмелился поднять на нее руку?
— Я был в коридоре, когда услышал шум голосов, узнал ее голос и решил сыграть в благородного рыцаря. Она ссорилась с каким-то мужчиной. Я рванул дверь, какой-то человек вылетел из гримерки, толкнув меня, и убежал. Шарлина лежала на полу и истошно рыдала. На лбу у нее набухла шишка. Я ее успокоил и стал расспрашивать, что к чему. Она призналась про свои темные делишки с Робером, этот фат околдовал ее до такой степени, что она во всем ему подчинялась. Ну, я настолько был ею пленен, что поклялся держать язык за зубами. А напал на нее этот беспутный Рафаэль Субран, он довольно давно узнал об их махинациях и принялся их шантажировать. Если вы ищете убийцу, присмотритесь к нему, я подозреваю, что это он прикончил Доманси.
— А что за махинации?
— Они подделывали ведомости учреждений, в которых работали. Позвольте, мне уже пора одеваться для выхода на сцену.
Арно Шерак скрылся за ширмой с вышитыми журавлями.
— Каким это образом? — спросил Виктор. Он был слегка обеспокоен видом деталей туалета, падающих к его ногам из-за ширмы.
Не испытывает ли Арно Шерак таких же тайных пристрастий, как и Вилфред Фронваль?
— Каждый вечер служащие органов Государственного призрения, ответственные за так называемый «сбор с публичных увеселений», инспектируют выручку всех театров. Они просматривают ведомости, проверяют билетную кассу, фиксируют непроданные билеты и определяют сумму, которая должна пойти в качестве налога.
— Я этого не знал, — пробормотал Виктор, поднимая с пола одежду и набрасывая ее на стул.
— Налогоплательщики вообще обычно понятия не имеют о фокусах администрации, но налоги так или иначе нужно собирать, ведь так? В начале века этот процент взимали напрямую: зрители платили в отдельное окошко рядом с кассой десять сантимов с франка, нечто вроде ящика для сбора пожертвований. Я храню старинную афишу «Комеди-Франсез», где можно прочитать следующее:
Первые ложи, 6 франков 60 сантимов.
6 франков в пользу театра.
60 сантимов в пользу бедных.
Партер, 2 франка 20 сантимов.
2 франка в пользу театра.
20 сантимов в пользу бедных.
А сейчас два окошка слились в одно.
Не переставая рассказывать, Арно Шерак безуспешно пытался застегнуть редингот.
— Теперь я понял. Так в чем состоял подлог?
— О, он был организован по короткой шкале, но доход приносило по длинной шкале. Им достаточно было оплатить десяток билетов из-под полы, чтобы с каждого представления иметь 4–5 франков. Умножьте это на триста дней и два театра и получите представление о прибыли, которую они получали. Косвенный налог они клали себе в карман. Робер Доманси воровал билеты из-под носа у кассирши, а Шарлина их распространяла.
Арно Шерак лег на спину, вдохнул, задержал дыхание и все-таки застегнул серые саржевые брюки, которые на нем не сходились.
— Я говорил с Рафаэлем Субраном, и он поведал мне версию, которая чуть-чуть расходится с вашей. Он уверял меня, что Робера Доманси застали за воровством денег из кассы.
— Какая ерунда! Да никогда в жизни, он врет. Это из-за него пришлось прекратить это жульничество, поскольку он требовал бо́льшую часть пирога в обмен на свое молчание. А выигрыши он все проигрывал в Лоншане, он фанатик скачек.
— Как! И он тоже?
— Почему вы сказали «и он тоже?» — воскликнул Арно Шерак, наконец решившись показаться.
Виктор прыснул со смеху.
— Да так, к слову пришлось… Простите, вы забыли застегнуть…
Актер посмотрел вниз и покраснел.
— Ширинку. Одно из двух: либо я слишком много набрал в рекордно короткий срок, либо этот костюм шили на карлика.
* * *
Ночь обволокла район тьмой, рассеять которую тщетно пытались два или три газовых фонаря. Виктор ломал голову над откровениями Арно Шерака, забыв о маршруте. Когда он заметил, что сошел с проспекта Опера, он уже был на улице Пти-Шан. Он ублажил себя сигареткой и пошел вдоль Национальной библиотеки до остановки фиакров на площади.
Сзади раздался какой-то неясный шум, который сперва его совсем не встревожил. Он не смог объяснить, почему внезапно он осознал: этот шелест подошв по мостовой означает, что его преследуют. Он выбрал самую простую тактику: остановиться и вновь пойти вперед, оставаясь при этом начеку. Шаги повторили его ритм, они затихли и послышались вновь одновременно с ним. Он похолодел от ужаса. Сейчас на него нападут. Если он выживет, может быть, он, весь израненный, в крови, сумеет добраться до улицы Фонтен. Ужас Таша уступит место гневу, когда она поймет, что он вновь начал расследование. То, что было всего лишь подозрением, перерастет в уверенность. Она потребует развода, увезет Алису. А он зачахнет в одиночестве. Это нагромождение катастроф, которое он вообразил себе в тот самый миг, когда выбрасывал окурок и давил его каблуком, разбудило в нем бойца. Лучше самому пойти навстречу опасности. Он рванулся к незнакомцу, который прятался под аркой, и схватил его за грудки.
— Если вы взялись за старое, я вовсе не собираюсь терпеть насилие, я клянусь, так вас растрясу, что костей не соберете, и пусть это будет для вас уроком.
— За старое? Уроком? — оторопел незнакомец. — Вы меня с кем-то путаете.
— А с какой стати вы следите за мной?
— Я жду подходящего момента, чтобы с вами поговорить.
— Вы, собственно, кто?
— Рафаэль Субран.
Виктор вцепился покрепче.
— Вы собираетесь поступить со мной так же, как с Шарлиной Понти!
— Черт, вот этого я и боялся, — пробормотал Рафаэль Субран, тщетно пытаясь высвободиться. — Этот дурак Шерак вам порассказал всяких небылиц. И вы ему поверили!
— Чему мне верить — это мое дело. Из его рассказа понятно, что вы если не преступник, то точно шантажист! И уж точно не самая достойная личность. Вот вам совет: если хотите продолжать преступную деятельность, лучше поезжайте отдохните в деревню, да подольше. Или же целиком и полностью посвятите себя искусству, а не то многообещающая карьера молодого дарования оборвется в сырой и холодной тюремной камере.
Рафаэль Субран наконец сумел высвободиться и кубарем помчался в направлении галерей Пале-Рояля.
Глава пятнадцатая
Пятница, 10 ноября
Хельга Беккер переживала свою вторую молодость. Под ее увядающей оболочкой таились чувства, которые прежде ей были вовсе не свойственны, — если не считать краткого периода романтической юности, когда она мечтала о прекрасном принце. На этот раз все было иначе. На этот раз тело заявляло свои права. Физическая любовь преобразила ее. «Интересно, это я благодаря велосипеду стала такой резвой? — мысленно вопрошала она себя. — Или, правда, Вильгельм — тот, кого я ждала всю жизнь в сердце своем?»
Своим восторгом необходимо было поделиться с близкими по духу людьми. Кто лучше Виктора Легри, другого адепта велосипедного спорта, способен разделить с ней радость, даже если она — поскольку стыдливость не позволяет — не может открыть ее причины. «Ведь мы же еще не женаты с Вилли… К счастью, осталось ждать только три недели».
Каково же было ее разочарование, когда она столкнулась с Мишлин Баллю, которая стоически выслушивала излияния бывшего профессора Мандоля!
— А мсье Легри сегодня нет? — огорченно спросила Хельга.
— Он разговаривает с Жозефом в служебной комнате, — сухо ответила консьержка.
Она не испытывала особой симпатии к велосипедистке, и потому, изобразив недовольство — как же, ее потревожили посреди такого интересного разговора, — вновь обернулась к собеседнику.
— Ну что, поскольку нам осталось всего три дня до катастрофы, должны ли мы в самом деле опасаться столкновения с кометой? Потому что я что-то не чувствую себя вполне в силах покинуть мою привратницкую, хотя это и источник непосильного труда, ни даже Альфонса, хотя он и Бог знает как надоел мне со своим бельем, которое то и дело приходится чинить! — пробубнила Мишлин Баллю.
— О моя бедная мадам, представим себе комету, масса которой вместе с хвостом в два раза больше массы Солнца, — как та, что мы наблюдали в 1811 году. Бац, она врезается в нашу планету! Пожар, который последует за этим, будет таким огромным фейерверком, что вам уже не нужно будет открывать двери или латать рубашки вашего кузена. Но можете быть уверены: 13 ноября наша старая добрая планета всего-навсего пройдет через кольцо небольших астероидов, она уже выпутывалась из подобных ситуаций в 1799, в 1833 и в 1866 годах. Если повезет, мы будем присутствовать при самом великолепном (и совершенно безопасном) зрелище множества падающих звезд, которое только можно себе представить, — объяснил бывший профессор Мандоль.
— А нет вероятности, что они повалятся на Париж?
— Никакой. Мы выживем. Зато вот нашим потомкам придется несладко: через десять миллионов лет они увидят, как погаснет Солнце. Возможно, что примерно в 2167 году земной шар будут населять больше двенадцати миллионов жителей, и тогда ужасный голод погубит род людской. Так что спите спокойно, у вас в запасе еще двести семьдесят лет.
— А вот у меня сегодня утром не так много времени. А нельзя ли как-то прервать их междусобойчик? — Хельга Беккер показала на Виктора и его зятя.
— Попробуйте, на ваш страх и риск, — пожала плечами Мишлин Баллю.
Двое заговорщиков, заметив, что на них обращено всеобщее внимание, отошли подальше.
— Рафаэль Субран — лицемер и обманщик, — заметил Жозеф.
— Вы меняете мнения, как перчатки. То у вас подозреваемый Луи Барнав, то первый попавшийся тип.
— После того, что вы мне рассказали… Признайтесь: тут есть о чем призадуматься. Все одно к одному! Субран играет на скачках, трое убитых тоже этим увлекаются. Они связаны между собой, и Барнав тоже при деле, поскольку он кучер омнибуса линии AQ, который возил весь этот бомонд.
— Но фамилии Субрана нет в списке свидетелей.
— Наверняка смылся до прихода полиции.
— Он не слишком-то похож на убийцу, типичный шантажист, да к тому же еще и трус. Дело это непростое, слишком много веревочек связано в узел. Неоспоримый факт: смерть Флорестана Ноле. Имя его няни: Лина Дурути. Лина, Шарлина, не одна и та же ли это женщина? Тогда устанавливается связь между ней и Субраном. Единственный способ раскопать что-то из прошлого Лины Дурути — отправиться в Бисетр.
— А как проникнуть в эту крепость?
— Тревога! — шепнул Виктор, хватая первую попавшуюся книгу. — А что вы думаете, Жозеф, об этом издании «Мемуаров мессира Роже де Рабютена, графа де Бюсси?» 1704 года? Не был ли он кузеном мадам де Севиньи?
— Какая муха вас… Ох, — выдохнул Жозеф, заметив Ихиро Ватанабе. Как только он зашел в магазин, бывший профессор Мандоль и Мишлин Баллю немедленно бежали с поля боя.
Хельга Беккер поздоровалась с ним: в каком-то смысле он не хуже книготорговца подходил для того, чтобы выплеснуть на него избыток эмоций.
— У меня есть новая информация, с которой я хотел бы поделиться с мсье Мори, — сказал он.
— Его что-то не видно. А вот расскажите этим двум господам, они будут в восторге, — посоветовала Хельга.
Ихиро Ватанабе посмотрел на парочку в подсобке и помотал головой:
— Они презирают статистику, им лишь бы поразглагольствовать. Жалко. Один английский экономист вычислил, что за двенадцать месяцев он произнес одиннадцать миллионов восемьсот тысяч слов. Сколько среди них лишних! Он еще к тому же насчитал 12 сотен рукопожатий, хотя эта практика совсем не так распространена в Великобритании, как здесь. Скольким идиотам он только не сказал «Здравствуйте!» Это еще одна деталь, которую необходимо отметить в книге, которая станет открытием для публики! Scripta manent
[1040], как говорили римляне.
Хельга Беккер попыталась выйти на улицу, но Ихиро Ватанабе преградил ей путь и аккуратно оттеснил ее к центральному столу. И там безжалостно продолжал свою волынку:
— Человеческое тело содержит железо в таком количестве, что, выделив его отдельно, можно выковать семь вполне приличного размера гвоздей. Оно содержит при этом столько жира, чтобы отлить шесть с половиной свечей, достаточно угля, чтобы изготовить около десяти тысяч карандашей, и такое количество фосфора, чтобы приготовить 80 тысяч спичек. Это еще не все: в нас содержится двадцать кофейных ложек соли, пятьдесят кусочков сахара и 42 литра воды. Феликсу Потену пора закрывать лавочку!
— Вы какие-то ужасы рассказываете: ведь не станут же уничтожать таких же, как мы, людей для того, чтобы добыть продовольственные товары! — обомлев, выдавила Хельга Беккер.
— А почему нет? Ведь убивают же миллионы животных, чтобы мы могли набить себе желудки! Увы, рыба и мясо продолжают оставаться нашими любимыми блюдами, никто не в силах отказаться от котлет.
Это слово напомнило что-то Жозефу, у него в мыслях возник образ человека, который компенсировал лысину на макушке пышными бакенбардами в виде котлет.
— А если обратиться к Исидору Гувье? Он нам посоветует, — прошептал он в ухо своему зятю.
— Прекрасная идея! Бегите, позвоните ему с улицы, а я пока займусь этими буйными.
Жозеф, не мешкая, подчинился, едва не нарвавшись по дороге на Мели Беллак, которая возвращалась с покупками и громогласно приветствовала его:
— О! Сколько лет, сколько зим!
Виктор ринулся вперед и, ухватив обеих дам за талии, отвернул их от входной двери.
— Какое счастье видеть здесь такие цветущие розаны! Мадам, вы обе прелестны, как колибри!
Не привыкшая к такому обращению, Мели Беллак с негодованием оттолкнула нахала. Что касается Хельги Беккер, она порозовела от удовольствия и с радостью приняла комплимент, доказывающий то, что она интуитивно ощущала: любовь делает женщину прекрасной. Лишь Ихиро Ватанабе приуныл.
— А куда делся ваш собеседник?
— Помчался к любимой женщине!
Исидор Гувье назначил Жозефу свидание в полицейской префектуре с утра, ближе к полудню. Хотя он больше официально и не работал в «Паспарту», его пригласили туда, так же, как и других журналистов, на вручение медалей шести плотникам — жертвам несчастного случая на строительстве будущей Всемирной выставки, произошедшего в октябре этого года.
Жозеф бросил огрызок яблока в водосток, прежде чем зайти в место, где он бывал последнее время так часто. Повернув в коридоре, он натолкнулся на щеголя, который стал раздраженно поправлять складочки своего шевиотового костюма.
— О, господин Пиньо! Вы меня искали?
— Нет, мсье Вальми, я приглашен на второй этаж Исидором Гувье.
— Гувье, Гувье… А! Этот, хромой, с вечной сигарой во рту. Не выношу этот запах, одежда им пропитывается насквозь! Значит, этот тип зачем-то сюда приперся. Ведь он вообще-то на пенсии, что он здесь забыл?
— Он председательствует на вручении медалей рабочим.
— А, ну да, вспомнил, прославление рабочего класса. Гувье еще работал в газетке, которая печатала ваши романы, если мне не изменяет память.
— Время от времени Антонен Клюзель заказывает ему статьи, чтобы тот мог сводить концы с концами. Прежде он был агентом государственной безопасности. Хромает он оттого, что его ударил ногой карманник и перебил ему берцовую кость. Его перевели в Бюро исследования семейных интересов, потом он стал работать в редакции «Паспарту», это старый мой друг, я его знаю с 1889 года.
— Ваша верность старым друзьям делает вам честь. И ваше вошедшее в поговорку любопытство тоже. Ваш шурин должен был рассказать вам о моих проблемах.
— Конечно, господин главный комиссар, поскольку мне уж посчастливилось встретить вас, не сочтите за труд прояснить мне ситуацию. На каком этапе следствие? Каково ваше мнение по поводу убийства Эзеба Турвиля? Как минимум, загадочным представляется сходство этого преступления с убийствами Робера Доманси и Шарля Таллара.
— Я еще не просматривал выводы этого расследования, так что у меня не сложилось конкретного мнения.
— Но этот факт снимает вину с Фермена Кабриера. Вы собираетесь его отпустить?
— Он выйдет на свободу завтра, после осуществления необходимых формальностей.
Огюстена Вальми явно раздражала настырность Жозефа, и он сосредоточился на одной из своих перчаток из желтой замши.
— Я был несколько холоден с мсье Легри при нашей последней встрече, — заключил он. — Его умение разгадывать самые запутанные преступления, несомненно, заслуживает уважения, и, может быть, появление третьей жертвы в этом деле вынудит меня прибегнуть к его помощи. Я предполагаю, что он рассказал вам, что Робер Доманси, которого я предпочитаю указывать в качестве первой жертвы, был моим…
Тут Огюстен Вальми закашлялся и выдержал паузу, более долгую, чем того требовала ситуация.
— Знаю, очень вам сочувствую. Тяжело потерять близкого родственника и особенно при таких обстоятельствах.
— Я был бы вам очень благодарен, если бы вы не афишировали мои родственные связи с … И… Я… Могли бы вы выступить моим посланником к мсье Легри?
— Правильно ли я понял, что вы хотите, чтобы он продолжил расследование?
— Скажите ему просто, что он может рассчитывать на любую мою помощь, но только пусть никому об этом не рассказывает.
— Ну, это само собой разумеется, господин комиссар, мы не станем распространяться на эту тему. Мы с мсье Легри будем держать вас в курсе наших выводов и версий.
Огюстен Вальми кивнул. Чтобы показать, что заметил и оценил это «мы».
— Этого разговора, понятное дело, не было, — процедил он, глядя в сторону.
«Ну и голосок, — подумал Жозеф, — словно отбрасывает собеседника на дистанцию в двадцать шагов».
— Конечно-конечно. Мое почтение, господин комиссар.
Сидя в стороне от своих собратьев, Исидор Гувье с беззаботной иронией наблюдал за сценой, которая происходила в заваленном бумагами офисе. Жозеф пробрался к нему поближе. Друг его постарел, обрюзг и уже, похоже, ни на миг не расставался с поношенной шляпой, маскирующей лысину. Он как-то привел в порядок растительность на лице, оставив лишь бакенбарды котлетами, окаймляющие его щеки. В левой руке он сжимал носовой платок в крупную клетку (то был верный спутник его хронического насморка), правая лежала на блокноте с карандашом, которыми он пока не считал нужным воспользоваться.
— Здравствуйте, мсье Пиньо. Мне больше нравится таскаться по бездарным выставкам современной живописи, чем получать предательские пендели в зад. Как будто их почетная лента поправит мне здоровье! — проговорил он свистящим шопотом.
На них стали оборачиваться. Исидор Гувье подтолкнул Жозефа к выходу.
— Хватит, мне уже есть о чем черкнуть в моей рубрике. Эти бедняги вкалывают на строительстве Дворца сухопутных и морских войск, между Йенским мостом и мостом Альма. Шестнадцать деревянных платформ уже были установлены, и строились еще другие с помощью современных подъемных механизмов, как вдруг все обрушилось. В результате — девять раненых, из них трое — очень серьезно. Плотник — опасная профессия, да недорого ценится…
Он основательно высморкался и поднял руку, чтобы остановить фиакр, который повез их на юго-восток Парижа.
Когда Жозеф рассказал ему о расследовании, в которое втянулись они с Виктором, и истинную цель их визита в Бисетр, Исидор Гувье чихнул и пробормотал сквозь свой вечный платок:
— Ну, мне не шибко приятно туда возвращаться, давненько я там не был. С самой истории об исчезновении я тогда еще прохлаждался в Бюро исследований, грязная история о присвоении наследства, человека поместили в психиатрическую больницу с помощью подкупленного врача. Ох, как летят годы! Человек стареет, машина ржавеет, и только дух пока бодр и свеж. Спасибо, вы подарили мне глоток кислорода, я уже совсем захирел в аквариуме со стоячей водой у себя там в Мотрёе. Иногда выберусь на улицу Лафит или в префектуру, и все.
Жозеф почувствовал, как его желудок сжимает спазм ужаса при мысли, что и ему вдруг придется вести жизнь золотой рыбки.
— А как вы собираетесь организовать, чтобы мы туда проникли?
— Да это просто, у меня там знакомый однорукий садовник, он присматривает за психами и при этом занимается растениями в парке. В свое время был моим осведомителем. На нем висели какие-то незначительные проступки, я попросил, чтобы его взяли на службу, потому что даже здесь нужна волосатая лапа, очень часто людям с совсем незначительными судимостями отказывают в работе. Уберег его, как говорится, от сумы да от голодной смерти. Так что за ним должок. Всё, мы пришли.
Взглянув в окно, Жозеф увидел могучие стены, возвышающиеся над Парижем.
— Прямо-таки крепость.
— Да уж, крепость нищеты и безумия. К счастью, ее все же хоть как-то осовременили и благоустроили, потому что, уверяю вас, еще несколько десятилетий назад это заведение было весьма похоже на Бисетр, описанный Мишле, мало чем отличалось от тюрьмы, одним словом. Семь человек на одну постель, все перемешаны в одну кучу — больные, сумасшедшие, воры, сутенеры, бродяги. Отсюда отправляли по этапу каторжников, закованных в цепи. Вы читали «Последний день приговоренного к смерти» Виктора Гюго? Знаете, что он писал об этих беднягах? «Они начинают жизнь в больнице, а заканчивают в ночлежке». И самая ужасная несправедливость состоит в том, что дети с отставанием развития и эпилептики содержатся там наравне с сумасшедшими.
Жозеф вздрогнул, мысленно возблагодарил небо за то, что даровало ему здравый рассудок, и взмолился к Всевышнему, чтобы тот уберег от этого Айрис, Дафну и Артура. «И еще маму», — добавил он про себя.
— Я недавно узнал, что это именно в Бисетре испытывали гильотину в 1792 году на человеческих останках, — тихо сказал он вслух.
— Если даже палач Сансон вскричал: «Какое прекрасное изобретение! Лишь бы не злоупотребляли его удобством».
Фиакр высадил их у входа. Они вошли в Полевой двор, окруженный мрачными постройками. Хромая и сморкаясь на ходу, Гувье объяснил:
— Здесь гуляют старики и молодые калеки. Сибирский двор — вотчина паралитиков, маразматиков и безногих. Общее собрание происходит в Церковном дворе — там расположены приемный покой, аптека и парикмахерская. В Торговом дворе расположено кафе, где обитатели дурдома могут почитать книгу, покурить, поиграть в карты и выпить чашечку кофе. Если идет дождь, пациенты могут погулять под аркадой на Аллее бронхитов.
— Издайте путеводитель, туристы с ума сойдут от счастья.
— Смелая идея, я подумаю. Глядите, вот и наш друг.
В кафе перед чашкой с травяным настоем сидел старик и дрожащими пальцами сворачивал самокрутку.
Они уселись напротив.
— Ну что, дружище Буржю, нет работы в саду?
— Да не сезон.
— Ты уже здесь почти десять лет. Тебе уж семьдесят два годочка стукнуло. Ну, ты доволен, я полагаю. Можешь ли ты оказать мне услугу?
— Конечно, мсье Гувье.
— Ты об этом не пожалеешь, — продолжал Гувье, сделав знак Жозефу, который тут же выложил на стол пять монет по два франка.
Буржю живенько переправил их в карман и вопрошающе воззрился на Гувье.
— Не дергайся, мне нужно только, чтоб ты покопался в своей памяти. Знал ли ты женщину, санитарку или медсестру, которую звали Лина Дурути? Она здесь работала.
Лицо Буржю прояснилось.
— А, ну это мне по нраву, а то я боялся… Потому что в моем возрасте уже следить за кем-то плохо получается. А Лину я не забыл, бутончик, всего-то двадцать лет. Она была санитаркой и сиделкой. Благодаря ей у нас всегда было вдосталь выпивки и сладостей. Она рассказывала нам про Иова и все его мытарства, про Навуфея с его виноградником, про Лота и его дочерей, про Даниила и львов. Мне больше всего нравилась история про Гавроша и двух потерянных детей, которые жили в животе слона в Бастилии, это был такой роман. Мы все ее обожали. Вспоминали былые времена, когда мамуля укрывала нас на ночь. Меня она любила расчесывать, как домашнего пса. Она еще старалась как-то облегчить жизнь умственно отсталым детишкам, в общем,
очень хорошая девушка. И потом она рассказывала наизусть кучу стихов с выражением, как настоящая актриса. «Волк и Ягненок» читала, прям до слез пробирало.
— Виктор Гюго, Лафонтен — она, видать, была образованная девушка, эта ваша санитарка, — отметил Жозеф, окуная губы в вербеновый чай, который молчаливый юноша поставил перед ним на мраморный столик.
Созвучие «Лина-Шарлина» мимолетно мелькнуло в его голове.
— Мы все были расстроены, когда она уволилась, — продолжал Буржю.
— И когда это было?
— Ох, не вспомнить… В 93-м или 94-м… Да, в 94-м, я запомнил этот год.
— Почему?
— Потому что был убит президент Сади Карно.
— Да, но почему она ушла с работы?
— Она была очень хорошенькой, да к тому же молоденькой, доктора ее слишком уж атаковали своим вниманием, всё норовили зажать где-нибудь в уголочке. Однажды она дала одному из них пощечину. Вот был скандал! Очень жаль, что не довелось с тех пор ее увидеть.
— Она хотела тебя навестить, но сюда же невозможно вернуться, сам же говоришь. Она попросила одного друга связаться со мной. Но я же человек недоверчивый, я хотел проверить, действительно ли она здесь работала. Так что теперь со спокойной душой я передаю тебе от нее подарок.
Гувье открыл бумажник, достал десятифранковую купюру и вложил ее в ладонь Буржю.
— Ладно-ладно, хорошо, — сказал старик. — А это кто? — спросил он, показав подбородком на Жозефа.
— Это мой племянник, я хочу научить его азам своего ремесла, но поверь мне, Буржю, никто не может тягаться с тобой, Буржю, в умении ловко нарушить закон и уйти от ответственности.
Они попрощались с Буржю и поспешили покинуть пропахшее лекарствами кафе.
— Вы не будете допивать? — крикнул им вслед старик.
Не дождавшись ответа, он допил напитки за ними обоими.
— Ну, теперь ваша душенька довольна? Лина Дурути — та самая женщина, которую вы ищете с Виктором? — спросил Гувье.
— Несомненно, и я вам весьма признателен, теперь наше расследование получило солидную фактическую базу, — сказал Жозеф, стараясь скрыть свою неуверенность.
«Лина Дурути работала в Бисетре, мадам Ноле не соврала, ура. Но кто такая Лина Дурути? Шарлина, актриса, помешанная на декламации? И где она сейчас? Вот уж тайна, покрытая мраком!»
— Держите, — сказал он, протягивая другу десятифранковую купюру, компенсирующую его подарок Буржю.
— Не откажусь, это большая редкость. На самом деле, спасибо, что взяли на себя все расходы, даже лишние, и фиакр к тому же.
— Не за что. Приглашаю вас таким же образом отправиться в обратный путь.
— Охотно. Монтрёй у черта на куличках. Особенно, если шкандыбать туда на хромой ноге.
Жозеф мысленно составил список расходов и обещал себе половину стребовать с Виктора.
«А не то это расследование сделает меня банкротом!»
Кэндзи было ничто не мило. Никогда ему не было свойственно уныние, а тут оно его настигло. Круг тех, кого он любил, который создавал защитный слой между внешними опасностями и его внутренней жизнью, распался. Джина помчалась к бывшему мужу, стоило ему поманить ее пальцем. Виктора и Жозефа как ветром сдуло. Айрис и дети заняты своей жизнью. Таша тоже целиком загружена заботами о дочери и живописью. Хоть бы красотка мадемуазель Миранда как-то оценила его заигрывания! Или его прежняя симпатия, бывшая эрцгерцогиня Максимова, прежде более известная под именем Фифи Ба-Рен, вспомнила бы своего дорогого микадо
[1041] и появилась бы в поле зрения, чтобы его приласкать и утешить.
Что касается магазина, то тихая гавань, утешающая его в былые годы во всех бедах, внезапно превратилась в ужасно скучное место. Брошенный на письменном столе каталог покрывался толстым слоем пыли. Книги тосковали на полках, где их перебирала, хихикая, пара студентов из Школы мостов и дорог, пытаясь найти что-нибудь скабрезное, книги стопками грустили у прилавка; не было у них больше власти над душой своего владельца. Он раскаивался в своих поступках, сожалел, что вновь не отправился путешествовать, что сам себя сделал затворником в этих четырех стенах.
Даже неполная серия гравюр «53 станции дороги Токайдо» Утагавы Хиросигэ, купленная накануне в салоне Самюэля Бинга, не радовала его в должной мере. А как это приобретение осчастливило бы его всего неделю назад!
«Я не менее одинок, чем человек, попавший на необитаемый остров. Вот если я умру сейчас, сию же минуту, кого это озаботит? О, самоубийство, кстати, хорошая идея».
Он придумал на этот случай пословицу «Долгая жизнь — долгая мука» (аналогичную, правда, народной мудрости «Старость — не радость») и принялся фантазировать, каким же образом он сведет счеты с жизнью.
В разгар подобных мыслей появление в магазине «торговца достойной смертью» заставило Кэндзи вздрогнуть. Случайно ли так получилось или это мистический ответ на его вопрос, тайный зов, несущийся из мира мертвых?
Он враждебно молчал, зная наперед, что соплеменник явился, чтобы терзать его статистикой.
— Мори-сан, — прошелестел Ихиро Ватанабе, — я сознаю невежливость моего внезапного вторжения. Однако я чувствую, что не имею морального права скрывать от вас то, что меня гнетет. Я, совершенно непреднамеренно, явился свидетелем разговора между вашими сотрудниками. Они загадочным тоном рассуждали на тему некоей или некоего К. Лостанж и о необходимости съездить на бульвар Бурдон и бульвар Клиши. Выражение лиц у них было при этом заговорщицкое, это меня насторожило, поскольку, почитав парижские газеты, которые, кстати, я считаю средоточием всяческих мерзостей, я заметил, что это имя и эти топографические наименования встречаются в связи с серией убийств.
Кэндзи стиснул ему руку:
— Вы уверены в том, что мне сказали?
— Вы, кажется, хотите оскорбить меня, подвергая сомнению правдивость моих слов?
Кэндзи тряхнул головой. У него она еще сильнее закружилась, и он вынужден был сесть.
— Дайте слово, что это останется между нами. Их жизнь в опасности. Вот идиоты, они опять взялись за старое!
От волнения он говорил громче, чем ему хотелось бы. Двое студентов обернулись на него с недоумением.
— Что вам еще? Ну-ка дуйте в свой институт на лекции, а то глупости всякие выискиваете здесь, только время тратите!
Оскорбленные юноши с негодованием покинули магазин.
— Ну что вы, Мори-сан, вы же наносите ущерб своей деятельности!
— К черту мою деятельность! Они опять принялись расследовать!
Кэндзи был в такой ярости, что даже не заметил, как его тоска сама собой рассеялась.
— Не двигайтесь, пожалуйста.
— А муж разрешает вам рисовать? — спросила Валентина де Пон-Жубер.
— Попробовал бы он запретить! Это неотъемлемое условие нашей счастливой совместной жизни.
— Завидую вам, вы вышли замуж за терпимого человека, вы рождены под счастливой звездой.
— И он тоже! В конце концов, я терплю все его детективные похождения, даже притом, что он подвергает свою жизнь опасности. Представляете, сейчас он со своим зятем опять пустился в расследование! Думают, что я слепая и ничего не замечаю.
— Вы намекаете на мсье Пиньо? Иногда я так жалею…
Валентина отвернула покрасневшее лицо.
— Вы любили его?
— Я им восхищалась. Несомненно, я была бы с ним счастлива, но как преодолеть классовые предрассудки? Это был бы мезальянс. Тетя Олимпия следила за мной пуще, чем тюремщик за заключенным, я была словно в клетке.
— Само собой. Мадам Салиньяк побагровеет от злости, если кто-то покусится на ее голубую кровь.
Таша пропитала тряпочку скипидаром и протерла кисточки, потом сложила их в банку и улыбнулась Валентине.
— Прошлое уже умерло, нужно вдыхать воздух полной грудью и жить настоящим, а будущее зависит от вас. Я уверена, что вы найдете правильные решения. Не нужно себя обманывать, иначе зачахнешь и умрешь во цвете лет. То же самое и с живописью: либо ты идешь на компромисс и добиваешься мимолетной славы и денег, либо идешь той дорогой, которую сам для себя наметил. И часто эта дорога лежит вдалеке от основного тракта. Не так много людей способны понять, что такое фантазия. Но некоторые создают чудесные пейзажи, в которых светит солнце, они гонят прочь тень, ночь, зиму, старость, они чувствуют нужды и чаяния своей публики и убеждены, что нашли выход из своего заурядного существования. Просто надо следовать за своим вдохновением, вот и все.
— Вы такая энергичная! А я разбита, я устала, я вся такая вялая и апатичная, утомляюсь от самых простых вещей. Даже сыновья не способны меня как-то развлечь.
— Это все потому, что вы никогда сами не зарабатывали себе на хлеб и у вас нет никаких планов на будущую жизнь. Вам надо как-то изменить ситуацию, я поддержу вас, если будет нужно.
— Очень мило с вашей стороны.
— Нет, я просто реально смотрю на вещи. Если ты опускаешь руки перед трудностями, ничего не получается. Сидите ровно, пожалуйста, не двигайтесь, будьте естественны, я хочу перенести на холст то, что кроется в глубине ваших глаз.
* * *
— Это ваши последние фотографии? — спросил Жозеф, рассеянно изучая распечатки с портретом Одера, букиниста с набережной Вольтера.
— Прекратите хватать их руками, они еще не высохли.
— Вот этот человек очень удачно получился. Похож на верблюда после перехода через пустыню.
Сидя на пороге лаборатории, Виктор смотрел на мастерскую Таша.
— Она сейчас рисует что-то?
— Да, ее нельзя беспокоить, она пишет портрет…
Виктор вовремя остановился. Да и вообще, ему не нравилась идея, что Валентина де Пон-Жубер позирует его жене.
— А кстати, любезный мой шурин, у меня сегодня вечером еще полно дел. Можем мы закончить нашу беседу так, чтобы нас при этом еще не продуло? А то тут сквозняк.
Виктор закрыл дверь и подошел к стоящему у печки зятю.
— Я весь внимание.
— Я мог бы отправиться в пригород и кое-что разузнать. Ведь что, по сути, значит тот факт, что Лина Дурути была отправлена в Бисетр в 94 году? Я так ничего и не узнал о ее остальной жизни.
— Вы же рассказывали, что она читала стихи как настоящая актриса!
— И что с этого? Это не значит, что она действительно работала в театре.
— Шарлина Понти знала законы органов Государственного призрения, касающиеся налога на зрелища. А Лина Дурути работала в системе Государственного призрения. Это вас не настораживает? И вспомните, она неделю была на юге Франции, когда убили Робера Доманси. Юг, Жозеф, там как раз живут баски. Шарлина вполне может быть Линой Дурути.
— То есть вы полагаете, что эта двуличная особа может быть убийцей? Но свидетельница Од Самбатель утверждает, что это был мужчина.
— Судя по описанию журналиста Рено Клюзеля, мадам Самбатель — женщина пожилая и больная, ночью она вполне могла обознаться.
— Знаете, что я думаю, Виктор? Ваш мозг требует отдыха.
В дверь постучали. Таша, которая уже сменила измазанную краской рабочую блузу, проскользнула внутрь. Она подозрительно взглянула на обоих мужчин.
— Что вы тут замышляете?
— Виктор показывал мне новые фотографии.
— А твоя натурщица еще здесь? — с показной беспечностью осведомился Виктор.
— Ушла, — ответила Таша, внимательно посмотрев на Жозефа.
Фермену Кабриеру сообщили, что обвинения, которые ему предъявлялись, сняты, и его освободят из-под стражи, как только будут выполнены необходимые формальности.
Он не особенно взволновался, простая душа: такие люди всегда совершенно уверены, что их невиновность, сколь ни трудно ее доказать, всегда в конце концов станет очевидной.
Хотя ему не рассказали никаких подробностей о причинах такого поворота расследования, он логично предположил, что было совершено третье убийство. Его мучила боль, которая возвращалась через равные промежутки времени. История эта началась, когда он вернулся из Тонкина. Утром он с непокрытой головой вышел на палубу и стоял, прислонившись к заднему лееру
[1042], как вдруг почувствовал, что солнце больно давит ему на голову. Красные пятна поплыли перед глазами, все вокруг закружилось и завертелось, сплетаясь в изогнутые линии и причудливые рисунки. Ему показалось, что гигантский спрут тянет к нему змеистые щупальца, россыпь разноцветных искр вспыхнула в набежавшей волне, с левого борта на него надвигался грохочущий паровоз, а по правому перекатывались в воздухе огромные искрящиеся алмазы. Он потерял сознание и очнулся через двое суток на своей койке весь в поту.
С тех самых пор он стал жертвой галлюцинаций, особенно когда в спокойное течение повседневной жизни вторгались какие-то неожиданности.
Как только он понял, что бледная с косой вновь нагрянула в Часовой тупик, он знал, что крокодил уже близко. Поэтому его не слишком удивляла его тень, вначале робко, а потом более решительно скользящая по стенам камеры.
Но крокодил явился не один. В паре с ним выступал вихляющийся скелет с глумливой улыбкой и всклокоченный старик, которых с саблями наголо преследовали солдаты в пестрых костюмах, на ходу превращающиеся в арлекинов.
Крокодил в упор смотрел на него. Его зеленая чешуйчатая кожа бледно фосфоресцировала в темноте, освещая камеру. Он разговаривал с Ферменом, не разжимая челюстей. Звуки грубого, резкого голоса отдавались в голове, и хотя никак не удавалось вычленить отдельные слоги, смысл послания был ясен. Как только он будет на свободе, ему нужно найти старого бродягу и помочь ему бежать от карающей руки правосудия.
Фермен Кабриер согласно кивнул, поднес руки ко лбу, звенящему, как бубен, и повалился на цемент.
Таша убирала со стола. Она приготовила любимые кушанья Пинхаса: борщ, драники и штрудель с яблоками. Алиса спала, Таша мыла посуду. Оставшись наедине с Пинхасом, Виктор решил приготовить кофе. Он злился на Джину, что она не уведомила Кэндзи, что ее муж приехал в Париж, но ее было не убедить. «Я не собираюсь давить на него. Хочет жениться, как сам говорит, значит, пусть официально делает мне предложение после того, как я получу развод».
Виктор чувствовал себя не в своей тарелке с этим непонятным, едва знакомым ему тестем. День выдался очень насыщенным, и он чувствовал себя измотанным, соображал и двигался медленно.
— И когда вы собираетесь назад?
Пинхас поморщился.
— Спасибо, мой мальчик, очень мило с вашей стороны.
— Я вовсе не хотел вас…
— Учтите, Виктор, мне нужно решить несколько вопросов, и я хотел бы, чтобы ко мне попривыкла моя внучка. Не волнуйтесь, я согласен быть на вторых ролях. Еще я хотел бы вернуть вам те деньги, которые вы потратили в 92 году на мою дорогу до Америки.
— Забудьте, прошу вас. Тогда было вполне естественно поддержать вас. Чувствуйте себя как дома, — сказал он и сам почувствовал, что его голос прозвучал неубедительно.
— О, не волнуйтесь, молодой человек, это временное неудобство.
Виктор, все меньше и меньше владеющий ситуацией, краем глаза взглянул на Пинхаса и понял, что тот явно решил помалкивать, поскольку все разговоры получались какие-то двусмысленные. Он встал, открыл окно и закурил сигарету.
— Что вы тут делаете, мужчины? — поинтересовалась Таша, усаживаясь в кресло.
— Мы обсуждаем разные вопросы. В конце концов, дорогая, я был прав.
— В чем прав?
— В обстоятельствах дела Дрейфуса. Я предупредил тебя, что может произойти все что угодно. Хоть бы нам не пришлось однажды переживать еще более драматические моменты, чем этот!
— Папа, ты пессимист. Мы все-таки не живем под кнутом царизма.
— Зато под кнутом армии, клики отъявленных антисемитов и ксенофобов, — ответил Пинхас. — Цитирую Жоржа Клемансо в связи с делом Дрейфуса: «Военное правосудие имеет такое же отношение к правосудию, как военная музыка — к музыке».
— Вечно ты со своими метафорами! — взъерепенилась Таша. — О чем-нибудь другом нельзя поговорить? Семь лет не виделись и снова здорово! Политика, вечно разговоры о политике!
Пинхас посмотрел на нее, на его губах играла насмешливая улыбка. В голосе тоже прозвучала ирония.
— Успокойся, птичка моя. Я хотел бы погулять с Алисой, сводить ее в цирк на Елисейских полях, там бывают в воскресенье детские утренники.
— Да она маловата для того, чтобы оценить мастерство акробатов и конные номера.
— А театр марионеток? В конце концов, балаган Петрушки не менее благороден, чем колесница Мельпомены с Талией, получится отличная прелюдия к пьесам Шекспира, Мольера и Бомарше.
Виктор посмотрел на тестя. Какие имена он перечислил? Тут же перед глазами встала картина: Шарлина Понти в саду Пале-Рояль. Она не знала об этих античных божествах, которые покровительствовали искусствам. Не странно ли это для актрисы? Он тогда объяснил ей: Мельпомена и Талия, одна — муза трагедии, а другая — комедии.
Щелчком он выбросил окурок прямо во двор.
— Виктор, ты нас заморозишь, — сказала Таша.
Погруженный в свои мысли, он закрыл окно, и тут его посетило озарение. Ему не хватало слова, одного-единственного слова…
Едва он сел в кресло, слово возникло само собой.
Глава шестнадцатая
Суббота, 11 ноября
Айрис притворялась, что спит. Сквозь ресницы она глядела, как Жозеф застегивает длинный дождевик, как надевает на голову кепку.
— Опять наряжается Шерлоком Холмсом, ну хуже ребенка, ей-богу.
На кухне Жозеф стащил со стола горбушку хлеба и столкнулся с матерью, которая уже хлопотала у плиты.
— Ты не слышал, как звонил телефон? Хватает же совести звонить в такую рань, ведь детей перебудит! — проворчала она.
— И кто это был?
— Виктор Легри. Не мог уж дождаться открытия магазина! Но вроде там что-то важное. Вот тоже такой же, дурака валяет вместо того, чтоб делом заниматься! Неудивительно, ведь он в рубашке родился! Кстати, ну и видок у тебя! Хорош гусь! Ты так же похож на книготорговца, как я на балерину! — возмутилась она утробным басом.
Жозеф пережидал бурю, украдкой запихивая в рот кусочки хлеба.
— Прекрати витать в облаках, когда я с тобой разговариваю! — рявкнула она, встряхивая детскую бутылочку. — И будь добр, пожалуйста, возвратиться точно к ужину! — крикнула она вслед, а он уже опрометью сбегал по лестнице.
* * *
В этот утренний час в кафе «Взад-вперед» сидели только двое дворников из городской службы и пьянчужка, ночующая под мостами.
— Что за срочность? — спросил Жозеф, усаживаясь напротив Виктора.
— Со вчерашнего дня одно слово буравит мне мозг, я потерял сон и аппетит.
— Я так подозреваю, что это слово изменит ход нашего расследования. Ну все, молчу, рассказывайте дальше.
— А-ли-би. Мы должны были начать с того, чтобы проверить алиби всех подозреваемых. Где находилась Шарлина Понти, когда происходили убийства? Где был Рафаэль Субран? Где был Барнав? Вы следите за моей мыслью? Если у них есть алиби, они вне игры.
Раздавленный очевидностью этой истины, которая даже не пришла ему в голову, Жозеф потерял дар речи.
— В общем, рассчитывая на одну только интуицию, мы отложили наши проблемы в долгий ящик, — продолжал Виктор.
— Увы, да, такова участь дилетантов, они делают, что могут, с тем, с чем могут. И все же вот невезуха, только маячит какое-нибудь решение, как все снова-здорово. Но главное, все эти темные личности будут нам молоть всякую чушь — они все отъявленные лжецы.
— Нужно прощупать их окружение. Костюмерши, гримерши, коллеги, официанты в ресторанах, расположенных возле театра. Мне нужны надежные свидетели. Если нам удастся установить, что у них у всех есть алиби на три вечера… м-м-м… минуточку.
Он заглянул в блокнот.
— 29 октября, 2 ноября и 7 ноября. Тогда нам станет гораздо легче разобраться, в чем дело.
— У вас как-то лучше получается проникать в это царство сцены, так вот вы и поговорите со всеми его жителями, чтобы выяснить, где и когда были наши подозреваемые, любезный зять, и все это после закрытия магазина, а я пойду после обеда займусь Барнавом. Вот вам совет: избегайте шитых белыми нитками оправданий, которые эти фигляры бросят вам, как кость облезлой собаке. И кстати, я тоже нуждаюсь в алиби, и главное, уже нельзя сослаться на экспертизу в библиотеке и на кашель у ребенка, так что постарайтесь придумать что-нибудь позамысловатей, чтобы умилостивить Кэндзи.
Таша под большим секретом рассказала Айрис, а та не удержалась и разболтала Эфросинье, попросив ее не распространять это дальше. Каким образом такой ревнивец, как Виктор, может отреагировать на приставания Пон-Жубера к любимой жене? А если он вызовет этого хама на дуэль, то, не ходи к гадалке, помрет посреди леса с пулей в груди, оставив безутешную вдову и рыдающую сиротку. Так что рот на замок.
Эфросинья, поскольку не смогла дать выход возмущению, решила сама заняться очищением замаранной репутации. Она возле рынка Ле-Аль провела совещание с прежними товарками, торговками овощами и фруктами, потом раньше обычного вышла с улицы Сены. Она зашла к себе, упихнула свой внушительный бюст в корсет и еще усугубила эту муку, натянув лиловый костюмчик, подарок Джины Херсон, который жал ей немилосердно. Отдышавшись, она пригладила волосы и надела серый бархатный чепец на завязочках. С помощью зубной щетки она загнула кончики ресниц, обнаружив, к своему ужасному огорчению, седые волоски. Затем открыла баночку из-под корнишонов, которую использовала как копилку, и разорила свою заначку на несколько монет, которые понадобятся на фиакр на улицу Ремюза и обратно.
Всю дорогу она разговаривала сама с собой. «Если конец света будет послезавтра, нужно успеть сказать все, что я думаю об этих достойных господах, которые гордятся своими дворянскими частицами “де” в фамилиях! Они проследуют прямиком в ад. Конец света, ишь ты, конец света, ну надо же!»
Когда лакей в ливрее открыл ей дверь, он с подозрением воззрился на незнакомую ему физиономию. Эфросинья не смутилась:
— Объявите, пожалуйста, мадам Эфросинья де Пиньо-Курлак.
Она следовала за ним по пятам до самой двери и проскользнула в коридор за его спиной — туда, откуда слышался гул голосов. Прежде чем он мог ее удержать, она влетела в гостиную. Ее вторжение на чинное собрание, где стояли гости небольшими группками и мило чирикали с бокалами вина в руке, ожидая приглашения к столу, произвело сенсацию. Все уставились на нее, некоторые даже — с ужасом — узнали. Она увидела нескольких дам, которых Жозеф именовал «клушами»: Рафаэль де Гувелен, которая на этот раз обошлась без своих вечных собачек, Матильда де Флавиньоль, Олимпия де Салиньяк и ее племянница Валентина. Но интересовал Эфросинью не кто-нибудь, а муж этой последней, вертлявый денди с губами алыми, как у картонного паяца. Она величественно направилась к нему.
— Вы тут хозяин?
Он с удивлением поднял дымящуюся трубку, приветствуя ее.
— С кем имею честь?
— Мадам де Пиньо-Курлак, — прогнусавил лакей.
Мадильда де Флавиньоль нервно хмыкнула в платочек.
— Пардон, мадам, вы случайно не мать Жозефа, который работает с Виктором Легри? — выдавила Рафаэль де Гувелин.
Мадам де Салиньяк так и подскочила.
— Этот книготорговец-дрейфусар? Он публично оскорбил меня! Запретить ему заниматься торговлей — наилегчайшее из наказаний, которые он заслуживает! — взвизгнула она.
— С какой стати я, простушка, сюда явилась? Да это вас нужно запретить! Вас, ревностную католичку, прыскающую злобой, ненавистницу Золя. Да пусть эта злоба обернется против вас одной, себе пожелайте всех бед и злосчастий, которые желаете другим!
Олимпия де Салиньяк покраснела как рак и выронила лорнет.
Но не она была целью Эфросиньи. Бони де Пон-Жубер не изменился в лице, но украдкой сделал слуге знак, означающий: гони! Он не успел опустить руку, как разъяренная фурия уже взывала к высокому собранию:
— Только посмотрите на него, на этого очаровательного представителя благородного декаданса, на похотливого сатира, который нападает на беззащитных женщин! Это типичное проявление мужской трусости! Принуждать женщину к соитию и при этом чувствовать себя безнаказанным! Надеюсь, в конце жизни он получит по заслугам, сгниет от сифилиса! Рука правосудия не осмелится наказать такого знатного вельможу. Ну что поделаешь, есть моя собственная рука, и я покажу вам, что она не подведет меня, когда я захочу прибегнуть к ее помощи!
Эфросинья кинулась на Пон-Жубера и влепила ему две звонкие пощечины. Он в бешенстве пытался стукнуть ее своей трубкой, но она уже выбежала из комнаты, чуть не сбив с ног лакея, который попытался преградить ей путь.
Матильда де Флавиньоль была вынуждена удалиться с поля боя, по ее лицу градом катились слезы, но то были не слезы ужаса, а слезы смеха. Оскорбленная в лучших чувствах Олимпия де Салиньяк кричала, обращаясь ко всем подряд, что всему виной этот гнусный Дрейфус, которого надо было обезглавить, и что полное собрание сочинений этого отвратительного Золя следует отправить в топку локомотива. Рафаэль де Гувелин воспользовалась всеобщим замешательством, чтобы проведать своих ненаглядных Билинду и Керубина, брошенных в раздевалке, и накормить их птифурами. Что касается Валентины, она была взволнована удивительным поворотом ситуации: за нее отомстила мать человека, за которого она мечтала выйти замуж. Она притворно жалела Бони, убежденного в том, что дьяволица подломила ему передний зуб, а сама думала, что нужно как можно скорее сходить и поблагодарить Жозефа Пиньо.
Жозеф доехал на фиакре до собора Сакре-Кёр, а до площади Тертр дошел пешком.
Он сразу увидел Луи Барнава, который заходил в «Бускара». Он устремился за ним и тут заметил знакомый силуэт, входящий в забегаловку.
— Барсук! Его выпустили из кутузки!
Жозеф надвинул на нос кепку, поднял воротник плаща, тихо, по стеночке, подошел к окну и незаметно заглянул внутрь. Два героя поздоровались друг с другом, а завсегдатаи бара приветствовали их овациями. Патрон, который явно рад был их видеть, наполнил им стаканы. Официант открыл дверь, уселся на пороге, закурил сигарету и прошептал: «Ну вообще!» Жозеф просочился в помещение, уселся у стойки. Таким образом он мог слышать, о чем говорил Луи Барнав с Ферменом Кабриером.
— Я что-то не понял, Барнав, но ты точно чокнутый. Третьего-то зачем было гасить? Ищейки поняли, что обознались. Ты не светись лучше, дружище, потому что они тебя все равно накроют, и тебе кранты настанут, такое, знаешь, не прощается.
— Ты с коня упал, что ли, я невинен как ягненок. С чего им валить на меня всю эту мокруху?
— А у тебя что, есть алиби?
— А ты что, меня подозреваешь? Ну, ни хрена себе! Я был бы последним из психов, чтобы зарезать трех человек подряд, когда прилетит комета и преспокойно уничтожит человечество в полном составе!
— Да хватит бредить, Барнав. Тебе никто не поверит. Я могу показать тебе местечко, откуда очень красиво можно будет наблюдать апокалипсис.
Они вышли из бара. Жозеф шел за ними, сокрушаясь на ходу: что за дурацкая идея вырядиться в английского детектива, его на улице за километр видно. Единственный выход — изображать, что он турист. Лишь эта роль пришлась ему кстати, но все равно оба типа исчезли, словно испарились, как только они дошли до Сакре-Кёр.
Жозеф, ругаясь на чем свет стоит, встал возле самого большого колокола во Франции — Савояра. Вот уже четыре года он стоял отдельно, на специальном возвышении, ожидая окончания работ в церкви национальных чаяний, окруженной лесами, по которым сновали рабочие, похожие на канатоходцев.
— Купите подушечку для булавок, мсье, вам это принесет удачу, она сшита в форме сердца Иисуса, всего десять су, мсье, — взвыл какой-то малыш, от горшка два вершка.
Протягивая малышу монетку, Жозеф увидел, как Фермен Кабриер выходил из собора. А куда делся Барнав? Он замешкался, а потом, под влиянием порыва, рванул за уличным художником в гущу торговых рядов. Тот безжалостно расталкивал всех, кто оказывался у него на пути. Устремился по улице Ла-Барр. Жозефу с трудом удавалось не терять его из виду в толпе гуляющих, которые теснились возле прилавков с тарелками, чашками, пресс-папье, ножиками для разрезания бумаг, причем на всех товарах было изображено пылающее сердце Иисуса в терниях и всполохах огня — необходимое украшение, без которого эти безделушки не представляли никакой духовной ценности.
Они прошли «Трапезную пилигримов», большую столовую, где можно было заказать несколько блюд на выбор. Возле «Ватер-клозетов для пилигримов» Жозеф остановился в недоумении: Фермен Кабриер как сквозь землю провалился.
Жозеф растерянно заметался: что же делать? Нет, все нормально! Кабриер вскоре вышел из туалета. Он продолжил путь, направившись к трухлявой деревянной лесенке, бегом преодолел все восемьдесят пять ее ступенек. В переулке Коттен он открыл своим ключом дверь полуразвалившейся лачуги, присоседившейся к лавке угольщика.
— Вот это хорошая новость! Матушка Ансельм сказала мне, что у него нет постоянного жилья! Кому же верить? Интересно, он еще появится?
Жозеф для виду заинтересовался игрой в шарики, которую затеяли оборванные местные мальчишки, а одновременно снял свой слишком бросающийся в глаза плащ и сунул его под мышку.
Через четверть часа из хибарки вышел свежевыбритый мужчина в сером костюме, пальто такого же цвета, в шляпе и с тросточкой.
Жозеф не верил своим глазам: это был Фермен Кабриер.
«Барсук-то как преобразился! Ишь ты! К чему бы это?»
Фермен Кабриер надел перчатки из палевой замши и, оглядевшись по сторонам, направился на улицу Рамей, где свернул к остановке омнибусов на улице Клинанкур.
Фермен Кабриер сел на самую близкую к кучеру скамейку. Жозеф притулился на сиденье возле подножки. Сбоку его загораживала импозантная дама, так что была надежда, что его не узнают. Омнибус свернул к площади Согласия и выехал на Елисейские поля, запруженные каретами, бричками, повозками и другими колесными средствами. Внутри этого потока сновали отважные велосипедисты обоих полов, словно лисы, преследуемые сворой гончих. Иногда какой-нибудь першерон пугался, начинал фыркать и упрямиться, и кучер на чем свет стоит бранил адскую машину, чихающую дымом.
— Ух эти мне бензиновые моторы! И так дышать в городе нечем!
Они прошли мимо ресторана «Ледуайен» между облетевшими деревьями: он и сам явно переживал закат былой славы, когда художники и скульпторы приходили сюда полакомиться форелью с зеленым соусом. Строительные леса — последнее, что удалось увидеть Жозефу, поскольку его соседка, внезапно озлившись, надулась так, что заслонила все стекло. Жозеф запаниковал, тем паче что он уже сидел на одной ягодице и мог свалиться с сиденья. Он закрыл лицо руками, опасаясь, что Барсук его узнает, и при этом боясь упустить его. Он, скорее, почувствовал, чем увидел, как тот выскользнул из омнибуса на остановке «Ворота Майо». Едва успел выскочить за ним. Уличный художник бодро шагал по направлению к Булонскому лесу. Надвинув на глаза кепку, Жозеф последовал за ним.
Они прошли мимо ресторана «Пре-Кателан», затем двинулись по дороге Сюрен до Большого каскада и дошли до ипподрома Лоншан. Жозеф ковылял, пытаясь при этом соблюдать осторожность. Накануне ночью прошел сильный дождь, и на ботинках налип толстый слой грязи. Он останавливался каждые десять минут, чтобы очистить подошвы, но это было бесполезно, и он только посылал проклятья свинцовому небу.
«Хоть бы еще был июнь, время Гранпри! Я был бы не так одинок и не так заметен на дороге и мог бы попросить какого-нибудь извозчика подвести меня вместо того, чтобы пробираться по этой клоаке! Ох, еще ведь придется платить! И все это за какой-то скромный забег! Пять франков павильон, а престижные места вообще по двадцать! Шикарная жизнь — дорогая штука!»
За его спиной человек в черном рединготе и черном блестящем цилиндре под ручку с дамой в ботиночках и очень длинной юбке явно начал проявлять признаки нетерпения. Жозеф был вынужден внести свою лепту.
— Целый пятак отвалил! Пусть Виктор мне компенсирует расходы как можно скорее!
Фермен Кабриер обогнул площадку, где взвешивались жокеи, такие нарядные в своих курточках с золотыми пуговицами, голубых, оранжево-черных, зеленых в красный горошек. Он ходил взад-вперед перед мокрой от дождя лужайкой. Через равные промежутки он останавливался и подходил к кому-нибудь из игроков, стоящих неподалеку. На табло в форме фонариков завершилась презентация участников первого забега. Прозвонил колокол. Лошади упругим шагом дефилировали по дорожкам, но после сигнала собрались на полоске старта, возле барьера из протянутых эластичных лент.
Барьер поднялся. Толпа зашевелилась, зашумела. Разноцветная группа всадников ринулась вперед.
Лошади свернули на один из четырех кругов. Скрылись за кустом, появились вновь, побежали по прямой. Фаворит, серый в яблоках полукровка по имени Бостон, несся во главе кавалькады. Но тут из группы вырвалась буланая лошадка, она мчалась по пятам Бостона, а затем поравнялась с ним. Обе лошади ринулись к финишу. Зрители скандировали:
— Бостон! Йеллоу Куин!
Земля задрожала, смерч пролетел мимо. Бостон, по виду даже не утомленный, заржал, тряхнув гривой.
Фермен Кабриер подошел к немолодому человеку с лисьим личиком, который сидел в отдалении от других завсегдатаев на железном стуле и посасывал потухшую сигару. Протянул ему конверт, который тот засунул во внутренний карман. После чего тут же смылся.
«Милый мой Жожо, вот повод доказать, что ты не хуже своего шурина!» — сказал себе Жозеф, твердо решив подойти к странному персонажу.
— Пардон, мсье. Я вот первый раз на скачках, каким образом я могу поместить свои средства, чтобы избежать чувствительных для моего благосостояния потерь?
Мужчина внимательно оглядел его, вынул изо рта сигару и выдавил:
— Этот спорт — азартная игра. Некоторые игроки осторожны, ставят только на фаворитов. И теряют десять — двадцать су. А другие кидаются, как в воду, выбирают самую завалящую лошадку и частенько проигрываются в пух и прах.
— Но если вдруг случится, что лошадь типа Йеллоу Куин обгонит такого, как Бостон?
— Ну, все просто, им достанется большой выигрыш. Я знаю оборотную сторону игры, мсье. Такие удачи бывают нечасто, но тем не менее случаются, вы вот сами видели. Помимо знаменитых конных клубов, которые честно занимаются тренировкой лошадей, попадаются мелкие жуликоватые собственники, недостойные тренеры, не до конца честные жокеи, которые держат одну-две клячи. Месяцами лошадка бегает кое-как, приходит к финишу среди последних, и вдруг в одно прекрасное воскресенье эта вроде бы как кляча, которую просто перестали морить голодом, побеждает в гонках, опередив всех на десять корпусов.
— Странно, я не стал бы плотно кушать перед забегом, меня бы в сон клонило.
— Ох, а еще есть другой вариант — подстава. Великолепный чистокровный конь, которого аккуратно красят в нужный цвет, участвует в забеге — а никто из игроков не знает об этом — вместо дрянной клячонки. Могу рассказать вам анекдот на эту тему: Буцефал был всем известен как «телок», это термин, который придумали жокеи. Боялся облаков, мух, собственной тени. И вдруг в один прекрасный день случается чудо: Буцефал выигрывает забег, выигрывает буквально играючи, пританцовывая на ходу, весь такой летящий, хвост трубой. Потом посмотрели на него внимательнее: это был загримированный под Буцефала совершенно не Буцефал.
Сдавленным голосом Жозеф все-таки осмелился спросить:
— А вот мне рассказывали про каких-то «советчиков». Чем они, по сути, занимаются?
Старик сотрясся в беззвучном смехе.
— Они продают сведения, а если быть точным, распространяют лживые слухи. Ключ к тайне — точные сведения. Представьте себе всех этих мелких буржуа, усталых рабочих и служащих, вкалывающих за копейки, безработных, хромых старушек, трясущихся стариков — эти несчастные создания, как мошкара, летят на пламя неожиданной прибыли. Они на грани разорения, их будущее зависит от удачной ставки. Они ездят в Лоншан или в Отей не за ради любви к лошадям, они читают и перечитывают газеты и пытаются математически вычислить возможность выигрыша. И вот тут-то и появляется «советчик».
— А дальше что? Друзья не прощают добрых советов, как сформулировал один мой сослуживец.
— Мсье, как вы наивны, право же! Лжецы — это драгоценнейший источник, и каждый использует его так, как ему удобно. Одновременно дезинформировать владельцев конюшен и публику о возможностях какого-нибудь Росинанта — вот вам роль «советчика». Он бродит по трибунам и аллеям ипподрома, делится некими секретами. Якобы какой-то коняка, на которого бы ломаного гроша никто не поставил, находится в потрясающей форме. Якобы любимица публики кашляла всю ночь подряд.
— А еще говорят — здоров как лошадь, — вставил Жозеф.
— Ну, и слух распространяется. Никто не ставит на простудившуюся кобылку. И однако же этот Росинант, надлежащим образом подгоняемый жокеем, ее легко обгоняет. Картина маслом, не правда ли?
— А как узнать среди всех этого «советчика»?
— Их невозможно узнать, поскольку их никто не знает. Он сеет слухи, которые проползают, ум и сердце наполняют и из уст в уста летают, как клевета в «Севильском цирюльнике».
— Погодите, зачем на скачках испанский парикмахер?
— Вы что, не помните арию про клевету? Ох, сами не знаете, чего себя лишаете… В общем, опознать продавца сведений так же маловероятно, как найти луидор в ямке от лошадиного копыта.
— Хотелось бы все же познакомиться с кем-то из этих людей, ух, понимаете, я собираюсь жениться, и мне бы не помешало немного подзаработать. Жермена была бы в восторге! Жермена — это моя невеста, она флористка.
— Ох, любовь, любовь! Ну ладно, юноша, Так получилось, что я сейчас должен встретиться с одним из этих пресловутых «советчиков», так что вам полагается цветочек, это будет мой подарок на свадьбу вашей Жермене, которая занимается тем, что продает их. Она хоть хорошенькая?
— Просто розочка без шипов.
— Вот вы везунчик! Прежде всего желаю, чтобы ее грудь была настолько щедра, чтобы как можно дольше дарить вам радость. Я-то, старый хитрюга, знаю толк в этом деле. Вы видите человека в сером костюме, в шляпе дыней, который болтает с толстушкой в платье с лиловыми лентами? Вот это один из них.
Мужчина огляделся по сторонам и добавил:
— А она — сторонница свободной торговли, она бывает здесь три раза в неделю Ее окрестили Афродитой Ангенской. Но я сам не участвую. То, что я вам рассказал, останется между нами.
— Клянусь здоровьем Жермены.
— Этот щеголь в шляпе мне уже помог прикарманить кругленькую сумму. Ему полагается двадцать процентов.
Каждый, кто не знал бы о хитрости Жозефа, простил бы ему все грехи. А он, сложив губы сердечком, поднял правую руку.
— Ставьте на Каламбредена, в третьем забеге, юноша, не пожалеете. И мой поклон мадемуазель Жермене.
На обратной дороге пробки стали еще больше. Коляски перекрывали путь друг другу, сигналили и гудели. Люди целыми семьями бродили по лесу, торговцы вафлями, жареными каштанами пользовались бешеной популярностью, так же, как торговцы напитками. Потом все гуляющие усаживались на травку в окрестных кустах, оставляя за собой кучи бумажек и хлебных корочек.
«Все трое убитых ходили на скачки. Они общались с Ферменом Кабриером, который явно ведет двойную жизнь. Может, они отваливали ему его долю? Может, у него и правда рыльце в пушку? Сейчас голова лопнет. Надо было и вправду рискнуть, поставить парочку франков на этого Каламбредена. Так, спокойствие… Думай, Жозеф. Может, Барнав покрывал Кабриера и поэтому нарисовал труп и воткнутую в него косу и написал всякие гадости на пороге бакалеи? Если это так, вполне возможно, что он и зарезал третью жертву! Тогда при чем тут Шарлина?»
Рассуждения так захватили Жозефа, что он поскользнулся на куриной косточке и рухнул на траву. Тут неприятное воспоминание отвлекло его, и он даже забыл отряхнуться и поправить костюм. Ведь профессор Фальб правильно произвел расчеты: конец света наступит послезавтра.
Закрепив на запястье подушечку с иголками, костюмерша билась над сценическим костюмом, который не сходился на Арно Шераке.
— Это же надо в таком юном возрасте такое брюхо-то отрастить! Если так будет продолжаться, он сможет завязывать шнурки только перед зеркалом, да еще, не дай господь, сцена под ним провалится!
Стук в дверь прервал ее гневную филиппику. Костюмерша сделала вид, что не расслышала. Но, не слыша реакции, незнакомец толкнул дверь и вошел. Немедленная выдача синенькой купюры тотчас же прервала поток проклятий. Булавки веером упали на ковер.
— Не уколитесь, — посоветовал Виктор. — Я к вам ненадолго. Вы наверняка знаете всех актеров как облупленных. Меня интересует мадемуазель Понти, я ее преданный поклонник. Где она обычно ужинает после спектакля?
Костюмерша мельком взглянула на его отражение в зеркале и поправила выбившуюся из прически прядку. Везет же этой кривляке Шарлине, такого любезного, обаятельного мужчину охмурила! Ну, в конце концов, ей ничего не мешает тоже попытать счастья.
— По вечерам она никогда не отступает от правила: нужно пойти и расслабиться после рабочего дня с другими актерами в одном не слишком дорогом, но известном ресторанчике под названием «Модный бык» на улице Валуа, при выходе из галереи «Орлеан».
— Как жаль, что я не знал этого в четверг, 2-го числа! Я в этот вечер принес ей большой букет, но зал был полон, мест не было, и я не стал высиживать в кафе до конца спектакля со своими гардениями!
Костюмерша, виляя бедрами, прошлась по комнате, наклонилась, подобрала нитку и подошла к Виктору.
— О! Я что-то припоминаю: нет, правильно вы ее не стали ждать! В четверг 2 ноября пьеса началась с двадцатиминутным опозданием, произошел один неприятный случай. У нас в театре дамы допускаются в партер только с непокрытой головой, запрещены шляпы и любые другие головные уборы. А второго одна зрительница отказалась снять шляпу, такой у нее был шелковый капот и на нем целый фруктовый сад — и яблоки, и виноград, и сливы. Произошел скандал, пришлось поправлять всей труппе макияж. Кстати сказать, мадемуазель Понти такая бездарность! Ну, публика разнервничалась, тем более что в четверг много зрителей по абонементам. Точно-точно, припоминаю, что, поскольку было поздно, мадемуазель Понти прямиком отправилась домой.
— А седьмого? Я тоже все ноги оттоптал, ожидая ее.
— Я вам не почтовый календарь! Вы думаете, вы один такой за ней приударяете? Седьмого она усвистела с капитаном стрелков, вся грудь в орденах, ну а дальше не
знаю, я свечку не держала.
Виктор, хоть весь и кипел от любопытства, флегматично заметил:
— А она что, недавно болела? До меня дошли слухи, что ее не было в театре… Вечно ходишь, ходишь, пытаешься ее застать… Вот 29 октября я столько времени потерял напрасно!
Костюмерша огорченно скривила губы, что означало: жалко, вам не пришло в голову прибегнуть к моим услугам, я была тогда совершенно свободна!
— Да, мадемуазель Понти отсутствовала целую неделю, ездила на похороны бабушки. Вот уж ее дублерша радовалась! Ну, непростое дело съездить на юг и обратно!
— На юг? Какой еще юг?
— Юг Франции, какой же еще! Не в Антарктиду же, это как-то слишком далековато! Ну даете! Похоже, вы не семи пядей во лбу, а?
Виктор нахмурился, пытаясь нащупать в памяти воспоминание о какой-то чрезвычайно важной детали. Что же ему такое сказала мадам Ноле, мама бедного маленького Флорестана, по поводу Лины Дурути?… «Она баскского происхождения». Не означает ли поездка на юг Франции к родне, что Шарлина и Лина — одно и то же лицо?
Он не без труда освободился от заигрываний костюмерши, обещав ей, что будет ее навещать каждый свой приход в театр.
— Меня зовут Амандина, — игриво обронила она на прощание.
* * *
Он собирался поужинать в «Модном быке», но там не было свободных мест. Пытаться договориться с официантом в длинном белом фартуке было бесполезно: ему надо было накормить слишком много народу. Тот, которого Виктору все же удалось поймать, грубовато ответил:
— Зря вы думаете, что нам как-нибудь удается отмечать завсегдатаев, да еще когда они все вместе собрались!
— Актриса «Комеди-Франсез», хорошенькая и развязная.
— Короче говоря, три четверти нашей клиентуры. Ох! Если бы вы искали рябую хромую скромницу, я бы такую точно не позабыл!
Восемь тридцать вечера! Жозеф вошел. Эфросинья, с поджатыми губами, убирала со стола. Не взглянув на него, она бросила:
— Мы тебя и не ждали. Айрис твоих детишек положила. Если хочешь поужинать, в кухне есть суп, а я устала, я ухожу, завтра на меня не рассчитывайте.
Когда Айрис вернулась в столовую, она сделала над собой усилие, чтобы сохранить серьезное лицо: такой уж виноватый вид был у Жозефа, прямо как у школьника, которого наказал учитель.
Входная дверь хлопнула.
— Успокойся, милый, присядь, в печке есть кусочек ростбифа и немного десерта.
— Печь потушили? Дети легли?
Она погладила его по голове.
— Да. Я почти закончила сказку. Я тебе рассказывала, «Злоключения Мочалки», история бессонной овчарки, которая считала овец, чтобы заснуть. И потом быстро дуй в кровать, нам же не обязательно подражать ей.
* * *
Все кафе на Больших бульварах были переполнены. Приказчики из магазинов растрачивали свои деньги на аперитивы. Вереница фиакров ожидала клиентов у кафе «Маргери». Виктор кинул взгляд на театр «Жимназ» и решил, что заходить внутрь не стоит: спектакль уже начался. Сделав несколько кругов вокруг театра, он обнаружил маленькую будку возле служебного входа. Постучался в окошко. Какой-то толстячок с важным видом высунулся из будки, явно нарочно заставив посетителя подождать.
— Вы консьерж? — спросил Виктор.
— Нет, мсье, я портье, это большая разница. Вход запрещен.
— У меня есть разрешение, — сказал Виктор, показывая письмо с печатью и подписью Огюстена Вальми.
— А кто мне может поручиться, что оно не фальшивое? Такое уже случалось.
— Но я к тому же друг Рафаэля Субрана. У нас назначена была встреча на 29 октября, потом на 2 ноября, но я зря волновался. Я оставлял ему записку, вы, по всей вероятности, забыли ему передать? Мы должны были встретиться седьмого, но он не пришел.
— Что вы такое несете, господин не-имею-честь-знать? Я уже тридцать лет наблюдаю, как сюда приходят и отсюда уходят артисты, я знаю их всех в лицо и лично, ни разу меня никто ни в чем не упрекнул! Может, вы за какой-нибудь бабенкой гоняетесь? Тогда вы ошиблись адресом. Здесь театр «Жимназ», а не дом терпимости. Здесь не место темным делишкам, завлеканию клиентов, тайному разврату! Здесь люди творят и работают, воплощают в жизнь персонажей пьес! Идите прочь, вон отсюда, запрещаю вам тревожить артистов, которым необходимо войти в образ!
Портье, видимо, принадлежал к категории старых искренних пуритан-фанатиков, таких немало встречается.
— Но пропустите же меня! — стоял на своем Виктор.
— Нет, говорю вам. Вот уже две недели после каждого спектакля по пьесе «Дегенераты!» труппа репетирует «Горюшко», комедию в трех актах Мориса Вокера, которую покажут тринадцатого числа. Закончат они только в час ночи.
— Тринадцатого? В день конца света? Это, скорее, большое, настоящее горе.
— Мсье, я не готов оценить ваше остроумие. Вы издеваетесь над автором пьесы.
— Да боже меня упаси. Но вы берете на себя ответственность отказать мне в моем намерении. Комиссар Вальми будет в ярости, если только вы не позволите мне изучить вашу книгу, где отмечены приходы и уходы.
Портье явно не знал, что делать. Он почесал затылок и внезапно выпалил:
— Это будет стоить сто су.
Виктор сунул руку в карман, но пока не доставал деньги.
— Я хотел бы удостовериться, что вы скажете мне все как есть.
— Да покажу я вам мой журнал, там все отмечено. Вот же, читать умеете? 29 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и сегодня, 11 ноября: начало представления в семь тридцать, конец в десять тридцать, конец репетиции в час ночи, вы довольны? Видите, ваш друг занят. Я уж не говорю о воскресеньях, когда все эти господа и дамы еще и утром на сцене.
Виктор пробежал глазами имена актеров, присутствовавших на репетициях. Рафаэль Субран не пропустил ни одной.
Глава семнадцатая
Воскресенье, 12 ноября
По общему соглашению Кэндзи, Виктор и Жозеф решили, что ввиду предстоящих рождественских и новогодних праздников две витрины книжного магазина «Эльзевир» будут посвящены литературе для юношества. Оба молодых отца, привыкшие к феминистическим выпадам своих жен, воспротивились решению Кэндзи выставить в одной литературу для мальчиков, а в другой — литературу для девочек. И весело перемешали яркие золоченые обложки романов Жюля Верна и произведений графини де Сегюр, «Семьи Фенуйар» Кристофа и «Ундины» Фридриха де ла Мотт-Фуке, сказок мадам д’Онуа и Андерсена. Это было выше понимания Кэндзи, который терпеть не мог эти басни, которые написаны исключительно для того, чтобы убедить читателей всех возрастов, что в жизни больше от мечты и приключения, чем от реальной действительности. Поэтому он придумал себе повод, чтобы пойти проветриться и хотя бы ненадолго насладиться одиночеством.
— Какая муха его укусила? Не он ли ездил по разным странам, путешествовал по диковинным краям? Он все детство рассказывал мне удивительные легенды и истории. Просто не узнаю его! — пробормотал Виктор.
— Подарочки-то больше чем через месяц посыпятся, можно предположить, что великий Маниту
[1043] не особенно жалует все эти детские забавы, — ответил Жозеф, ставя на самое видное место сборники сказок, написанные Айрис и иллюстрированные Таша.
— Ну пожалуйста, побольше уважения. Кэндзи обожает своих внуков, и Алиса тоже дорога его сердцу. Я подозреваю, что его что-то гнетет.
— Если завтра случится конец света, мы не успеем выполнить заказы большинства клиентов, — предположил Жозеф.
— А какую легенду вы придумали для Айрис?
— А какую вы для Таша?
— Она обо всем догадалась, но молчит.
— Айрис тоже, я почти в том уверен. Однако она что-то сболтнула матери. Вчера, когда я вернулся, Эфросинья со мной сквозь зубы разговаривала. И конечно, жаловалась, как тяжел ее крест!
— Я звонил в «Комеди-Франсез», там сегодня нет спектакля. Я предложил Шарлине Понти сегодня отправиться с нами на концерт в кабаре «Небытие». Она с радостью согласилась. Что-нибудь сымпровизируем, я еще не придумал, как себя вести. Хочу проверить ее алиби на 7 ноября, когда она ушла с военным.
— Думаете, она замешана во всей этой афере со скачками?
— Луи Барнав был кучером. А я вспоминаю, что она мне как-то рассказала, что работала в цирке Фернандо и занималась вольтижировкой
[1044], так что хорошо разбирается в лошадях. Нюхом чую, что-то связывает две эти темные личности.
— Вполне достойная гипотеза. Либо она старается подороже продать вам свои прелести, либо надеется обернуть ситуацию в свою пользу. То, как она вломилась к вам домой, доказывает, что она не робкого десятка. А почему кабаре «Небытие», лучше ничего нельзя было придумать?
— Потому что это заведение играет важную роль во всей истории. У нашего убийцы, помните, пунктик на времени.
— Ох, и боюсь я этого спектакля! Надо как-то отговориться на вечер, на этот раз мне спуску не дадут, — пожаловался Жозеф.
Перед витринами прошелся Кэндзи, критически осмотрел экспозицию. Вошел в магазин, ни слова не говоря, сел на свое рабочее место и положил перед собой только что купленный блок бумаги верже. Звякнул колокольчик.
— Гляди-ка, самурай явился — не запылился, — прошептал Жозеф. — Этот Ихиро мне на нервы действует, тоже мне, специалист по последнему пути!
Ихиро сухо поздоровался с ними и завел тихую уединенную беседу со своим другом. Быстрые яростные взгляды, которые метал Кэндзи на Виктора, убедительно показывали, что сейчас на него обрушится град упреков. Но он решил не обращать внимания на надвигающуюся грозу.
Сверху спустилась Джина в оливково-зеленом атласном платье, накинула черную бархатную мантилью, надела на голову кремовую фетровую шляпу с широкими полями и вышла, не говоря ни слова.
Обрадованный уходом своей недоброжелательницы Ихиро Ватанабе, похоже, решил еще крепче окопаться в магазине. Он встал и во всеуслышание произнес:
— Тратить две трети своей жизни на сон — незавидная участь, и однако именно так мы, человеческие существа, тратим наше ночное время. Когда люди жалуются на бессонницу, я улыбаюсь, поскольку считаю, что им крупно повезло…
Кэндзи, уже едва сдерживаясь, ринулся в служебное помещение. Ихиро был безмерно огорчен таким категорическим отказом уделить ему внимание, но не подал виду и перенес свое внимание на Виктора и Жозефа, которые беседовали между собой на другом конце магазина. Ему удалось поймать на лету обрывок разговора и понять, что речь идет о каком-то свидании в кабаре «Небытие», хотя заговорщики внезапно замолчали и сморщились при его приближении.
Жозеф крикнул Кэндзи, что они пойдут обедать домой, но вскоре вернутся на работу. И оба скрылись, даже не попрощавшись с Ихиро, который с хитрым видом посмотрел им вслед, поглаживая подбородок.
Поскольку квартира на улице Фонтен была предоставлена Пинхасу, Таша с Алисой, так же как и Кошка, переместились в мастерскую. Виктор несколько прохладно относился к своему тестю, который взялся играть роль духовного наставника для всей семьи. Его раздражало, что человек, проживший всю жизнь вдали от семьи и нисколько о ней не заботившийся, считал для себя возможным лезть со своими мудрыми советами. Но любопытство по поводу новых кинематографических веяний пересилило.
— А какие ленты у вас сейчас в прокате? — поинтересовался он у Пинхаса, который сидел на кухне, развалившись в кресле с газеткой и методично поедая маринованные огурчики.
Пинхас опустил мятые листы и приступил к рассказу на единственную тему, которая его интересовала: о себе любимом.
— Я по дешевке отхватил «Разорвем испанский флаг», пропагандистскую фильму о войне на Кубе. Еще первую японскую фильму «Уличные сценки и танцы кабуки», еще картины «Регата Хенли» и «Визит в Барселону королевы матери и ее сына Альфонса XIII»
1. Не считая того, что у меня заказ на «Водружение aнглийского флaгa нa пaрлaменте в Претории» Диксона и Кокса.
[1045]
Виктор пожалел, что люди не изобрели катапульту, с помощью которой можно было немедленно отправиться в любую точку света. Он бы полетел в Нью-Йорк.
— К тому же я счастливый обладатель посеребреного экрана, изобретенного Джорджем Истменом, который дает намного лучшее качество изображения, чем обычный белый экран. Я использую аккомпанемент на фортепьяно, это чертовски оживляет и драматизирует представление. Когда показывали «Разорвем испанский флаг», тапер играл «Боже, храни королеву», и вся публика в зале встала, как один человек. Зрители потом рассказывают о моих представлениях и сами возвращаются на другие фильмы, я прокручиваю такие дела! Кинематографические залы — это наше будущее, это то, чем надо заниматься. Очень хорошо, что вас это заинтересовало.
Виктор чуть было не ляпнул, что как-то не думал о такой форме приложения своих сил, но его остановил легкий храп из-за газеты, закрывающей лицо Пинхаса: тот внезапно задремал.
Входная дверь скрипнула, ножки протопали в сторону спальни. Виктор с нежностью взглянул на дочку, держащую в руке корзинку с кукольной одеждой.
— Милая, ты не должна бегать по двору в такой холод.
— Мама разрешила. Мне кое-что нужно было взять.
Она сосредоточенно пыталась напялить мамину кружевную перчатку на голову плюшевого крокодила. Виктор вздрогнул.
— Откуда у тебя эта игрушка, детка? — произнес он сдавленным голосом.
— Это мистер Кроко, он ужасно хитренький.
— Не сомневаюсь, но кто тебе его подарил?
— Кроко прячется в реке, и видны только его глаза, потому что он поджидает зверей, пришедших на водопой, чтобы съесть их на ужин. Это мне деда рассказал, но наш мистер Кроко ест только рыбу.
Виктор схватил крокодила, кубарем влетел в кухню и безапелляционно потряс Пинхаса за плечо.
— Вы подарили девочке игрушку?
— Что? А! Крокодила! Вы что, недолюбливаете этих животных?
— Вы его купили для нее, просто ответьте, да или нет?
— Вовсе незачем кричать. Я тут ни при чем, пакет принесли сегодня утром на имя мадемуазель Алисы Легри. Я позволил себе его открыть и отнес на другой конец двора. Таша работала. А Алиса была в восторге.
— С пакетом было какое-нибудь письмо?
— Нет, только записочка: «Славной маленькой девочке».
— Вы сохранили записку?
— Нет, выбросил вместе с пакетом, где лежала игрушка.
Виктор помчался к мусорным бачкам, стоящим на тротуаре. Их уже забрали старьевщики. Вернувшись в дом, он отказался вернуть крокодила Алисе, и та начала хныкать. Виктор обрушил всю свою ярость на тестя:
— Да как вы могли дать моей дочери предмет, происхождение которого вам неизвестно!
— Происхождение вполне мне известно, это базар на площади Отель-де-Виль. Игрушка была в запечатанной коробке. Да отдайте же ее Алисе, видите, она расстроилась!
— Вот и успокойте ее!
Виктор нависал над тестем, взгляд у него был пустой, как у призрака. Глаза его были устремлены на булавку на галстуке Пинхаса, но в реальности он смотрел внутрь себя, пытаясь разобраться в хаосе, царящем в его мыслях. Огненными буквами сквозь всю сумятицу проступала фраза: «Это не он купил подарок».
Внезапно он схватил Алису на руки и подскочил к раковине.
— Сейчас мы с тобой будем играть в то, что тщательно помоем ручки, — отрывисто приказал он.
— Да вы с ума сошли! — воскликнул Пинхас. — Вода же ледяная!
— Спокойно, без паники! А ты, детка, намыливай, намыливай ручки. Вот, смотри, как здорово, какие пузырьки! А теперь посушим ручки, и ты пойдешь искать твоего медведя. Медведи гораздо симпатичнее, чем крокодилы. Посмотрите за ней, — приказал он ошеломленному Пинхасу.
Уже не заботясь об ужине, который он обещал разделить с Таша и Алисой в мастерской, Виктор натянул пальто, сунул в карман крокодила, оседлал велосипед и порулил в сторону улицы Сен-Пер.
Жозеф натирал бархоткой витрины к Рождеству. Он гордился своей инициативой: в каждой из них был выставлен «Конец света» Камиля Фламмариона.
Виктор резко затормозил и, скорее желая добраться до зятя, рулем врезался в дверной наличник. Он тотчас же извлек из кармана крокодила и потряс им перед носом у Жозефа.
— Это еще что такое?
— Сегодня утром его прислали моей дочери.
— Черт возьми! Вы думаете, это какое-то предупреждение? У кого есть ваш адрес?
— Да у всех наших подозреваемых есть, мы же им давали визитные карточки!
— Не берите в голову, это была всего лишь попытка нас запугать. Если вдруг посылку отправила Шарлина Понти, это означает, что она точно замешана в этой истории. Мы все равно увидимся сегодня вечером, вы же пригласили ее. Давайте, успокойтесь, это безобидная игрушка, сейчас же не эпоха Медичи или Борджиа.
— Вот именно! Крокодил ведь может быть пропитан ядом, а у детей дурацкая привычка тянуть все в рот. Я завидую вашему спокойствию, вы мне навязываете вашу убежденность, как кучер нахлестывает свою клячу. Что с вами? Вы смертельно побледнели.
— Да всему виной это слово — кучер! Барнав был рабочим омнибусной компании, Фермен Кабриер ночевал на заводе по сбору омнибусов. Неизвестно, кто выдал его местопребывание полиции?
— Служащий омни… Луи Барнав?
— Либо два этих типа заодно, то есть вы были правы, либо Фермена Кабриера подставили. Какой вариант изберем?
— Будем придерживаться первоначального плана. И подумаем. Крепко подумаем.
— Да, еще крепче, чем обычно. А что за шум?
— Это мое брюхо протестует против голода.
— Поднимитесь и положите себе что-нибудь поесть. Кэндзи пошел в ресторан, он ненавидит треску по-провансальски.
— Я тоже, — грустно сказал Виктор, ставя в угол велосипед.
День тянулся медленно, его едва-едва оживили только несколько посетителей, купивших книги, да обсуждения по поводу расследования. Когда они уже закрывали ставни, Жозеф придумал сценарий, как ему незаметно скрыться, чтобы не идти в это ужасное «Небытие». Он скажет шурину, что забыл ключи, но вместо того, чтобы идти домой, прыгнет в фиакр, доедет до вокзала — все равно какого. Прыгнет в первый попавшийся поезд, который навсегда увезет его от Айрис, Артура, Дафны и Эфросиньи. Жизнь его превратится в ад. Он долго еще мурыжил в голове эту тему, пока не понял, что это какие-то болезненные фантазии. Что до Виктора, он вообще предпочел не думать о грядущем развитии событий и радовался только отсутствию в магазине Кэндзи. Поэтому когда тот в сопровождении Ихиро ворвался в магазин, он был ужасно разочарован.
— Как удачно, что я сцапал вас до вашего ухода в кабаре «Небытие» — заметил Кэндзи. — Подождите меня, я пойду переоденусь.
— Как вы узнали? — начал Жозеф и осекся. — Как он, черт подери, это узнал? — повторил он, в упор глядя на Ихиро.
Тот невозмутимо ответил:
— А я услышал, как вы сегодня обсуждали эту идею. Я хотел бы поближе познакомиться с западными ритуалами, представляющими смерть.
— Но мы вас не приглашали! — возмутился Виктор.
— Конечно, это несколько бесцеремонно. Но вы уж извините, что мы навязываемся, считайте, что мы вас пригласили, — бросил на ходу Кэндзи, спускаясь по винтовой лестнице. — И еще, Жозеф, будьте так любезны, снимите с витрин это произведение Камиля Фламмариона. Невзирая на все мое уважение к этому ученому, сейчас не самое время выставлять напоказ его глупости, могут не так понять.
— Если мир завтра взлетит на воздух, мнения о литературном достоинстве книг также канут в небытие! Не будет больше ни книг, ни читателей, ни критиков! Аллилуйя! — ответствовал Жозеф.
— И авторов тоже не будет, подумайте об этом, вроде же вы решили посвятить себя писательству? — заметил Кэндзи и так же флегматично добавил: — Айрис и Таша в курсе нашей ночной прогулки, так что можете не волноваться.
Во время дороги в фиакре Жозеф копил обиду на Кэндзи, а Виктор мысленно негодовал по поводу Ихиро. Абсолютно индифферентные к злобным взглядам, японцы обменивались сведениями по поводу количества кресел в каждом из парижских театров. Кэндзи, правда, больше помалкивал, было видно, что цифры, которые веером разворачивал перед ним Ихиро, мало его волнуют, но видно было, что он слушает и поддакивает из благодарности: все-таки тот предупредил его о намерениях злоумышленников.
Как только они сошли на асфальт, Виктор сказал, что они с Жозефом слегка проголодались и хотели бы где-нибудь подкрепиться.
— Давайте встретимся с вами уже внутри.
— Ну уж нет, дорогой, вы наши гости, мы от вас ни ногой, Ихиро заплатит за билеты, а после спектакля я угощу вас ужином в любом ресторане по вашему выбору.
Кэндзи одной рукой обнял за плечи Жозефа, другой — Виктора и подтолкнул их к окошечку кассы, внутренне ликуя, что удалось разрушить их планы.
— Дело в том… что мы обещали одной нашей знакомой взять ее с собой.
— Если ваша знакомая обладает хоть каплей здравого смысла, она догадается спросить в кассе, мы оставим ей записку и билет, и она нас найдет.
Виктор вынужден был подчиниться. Кляня про себя Кэндзи на чем свет стоит, он отошел за угол, чтобы неумолимый надзиратель не видел его, и нацарапал записку Шарлине Понти.
Когда Ихиро повел всех в первый зал, Жозеф затаил дыхание и горестно всплеснул руками, как утопающий в поисках соломинки.
Им предложили сесть вокруг гроба, стоящего на козлах, использующегося в качестве стола, и отведать напиток, якобы зараженный опасными микробами. Официанты, одетые в черное, суетились возле какой-то веселой компании. Виктор узнал коллектив бакалейного магазина.
— Мсье Легри! Присоединяйтесь к нам! — позвал его Рене Кадейлан, — мы тут справляем нашу помолвку! Тут есть место под нашим катафалком!
Хор служащих похоронного бюро исполнил куплет на мотив «Табачок хороший в моей табакерке»:
У меня в анисовке вирус отличный,
Вирус у меня, у тебя его нет!
Есть и тубика микроб,
Спирохет — хоть сразу в гроб…
Илер Люнель с беспокойством оглядел двух японцев, уверенный, что сюда явились китайские бандиты. Пелажи Фулон непрерывно проверяла содержимое своей кошелки, в которую она предусмотрительно положила две фляжки коньяка в целях предохранения от инфекции. Колетт Роман поглядывала на Жозефа, который маскировал свое смятение преувеличенной любезностью по отношению к матушке Ансельм.
— О, как я рад вас здесь увидеть! Съели ли вы те продукты, которые я помог отнести в вашу квартиру?
— Вы — посланник Провидения, воплощение доброты!
— А не будет ли Провидение настолько любезно, что наполнит мой стакан этим прекрасным агуардиенте
[1046]? — насмешливо спросил Виктор.
Под столом раздалось приглушенное ворчание.
— Лежать, Аристотель! — приказал Рене Кадейлан.
— Только не говорите мне, что привели с собой этого зверя, я ненавижу блох! — вскричала вдова Фулон.
— Мы сегодня вымыли Аристотеля в лохани, выскребли его с головы до пят, так что опасность никому не грозит, — кислым голосом ответила Катрин.
Она пригласила вдову Фулон на свою помолвку только ради своего будущего супруга, убежденного, что дела с вдовой нужно решать дипломатией.
— А почему вы его так назвали?
— Потому что из книг, которые о нем прочитал, я выяснил, что этот греческий философ утверждал реальность конкретного мира, а мой пес как раз любитель всего конкретного! — объяснил Рене Кадейлан.
В этот момент в зал вошла Шарлина Понти. Не заметить ее было трудно. На ней было облегающее платье из тюля с пайетками, такое же декольтированное, как и все ее предыдущие туалеты, а на плечах меховое боа, которым она изящно поигрывала. Виктор пошел ей навстречу и пригласил к столу, освещенному лампами в виде берцовых костей.
— Прелестный декор, чувствуешь себя как в последней сцене «Дамы с камелиями», не хватает только комнаты со свечами для последнего прощания. Обожаю играть Маргариту Готье, у меня замечательно получается кашлять, особенно зимой.
— Вы желаете стаканчик азиатской холеры или сертификат на похороны, о очаровательная смертная? — поинтересовался один из коллег Рене Кадейлана.
— Ни того ни другого, можно портвейна на два пальца.
— У нас имеются отличные фаланги, отрезанные у живых людей, — сообщил официант.
— Предложите их одной из этих дам, — ответила Шарлина, показывая рукой на Катрин и Колетт.
Все, кроме Ихиро Ватанабе, который подозрительно оглядывал всю честную компанию и воздерживался от алкоголя, выпили за здоровье молодых.
Затем служащий похоронного бюро предложил им перейти в соседний зал.
— Но собаку здесь оставьте, — предупредил он.
В соседнем зале предлагались, как обычно, пляски мертвецов и жуткие казни с комментариями все того же подставного схоластика. На этот раз привыкший к иллюзиям Жозеф хранил гордое спокойствие, наслаждаясь ужасом и отвращением, охватившими двух японцев. Кэндзи аж подпрыгнул, когда прохладная рука погладила его руку и голос прошептал:
— О, мой микадо здесь, какая удача! Жаль, я не одна, со мной мой нынешний обожатель. Это высокопоставленный английский джентльмен, который путешествует инкогнито. Но как только он вернется в отель «Мальборо», я свяжусь с вами. В ваших интересах быть со мною нежным, нас ждет славный тет-а-тет, господин теперь уже почти окольцованный книготорговец, Какая глупость надевать себе удавку на шею, когда вокруг столько женщин, достойных вашего внимания!
Кэндзи скорее обрадовали, чем шокировали такие откровения, но он призвал красавицу к молчанию, поскольку опасался нескромного любопытства со стороны своего японского знакомца. Тот явно был потрясен пышными прелестями эрцгерцогини Максимовой, близким друзьям более известной, как Фифи Ба-Рен.
— До свидания, мой микадо, Берти уже волнуется, — прошелестела она на ухо бывшему любовнику.
— Какое великолепное создание, — восхитился специалист в области статистики. — Мори-сан, представьте меня ей.
Кэндзи не удостоил его ответом и повернулся в другую сторону.
Там распорядитель церемонии раздавал свечки клиентам и отправлял их по коридору, ведущему в комнату смерти, последнему приюту этого путешествия. Бледный свет свечей сливался с огнями светильников на стенах и придавал лицам какой-то болезненный вид. Кости и черепа по стенам усугубляли тягостное впечатление от этого похода. Тут уже стало не до шуток. Сердце Жозефа сжалось от страха.
— Злосчастные отбросы человечества, приготовьтесь открыть для себя то, что не удостаивали раньше своим вниманием!
Произнеся эти слова хриплым, страшным голосом, гид повернул в замочной скважине огромный ключ, который висел у него на большой цепи. Дверь со скрипом отворилась.
— Надо принести им немного масла, смазать замки и петли, — заметил Жозеф.
— Молчи, несчастный! Вот бездна, откуда нет возврата!
Отсветы массивных свечей на затянутых темной тканью перегородки — вот и все, что любопытные увидели в таинственной комнате. Распорядитель церемонии приказал всем присутствующим рассесться на табуретах и не сводить глаз с амбразуры в форме гроба. После чего смылся.
— До чего же тут свет зловещий! Явно добра не жди, — заметил Жозеф. Соседи на него зашикали.
В проеме появился стоящий вертикально гроб, а в нем — грациозная молодая женщина, задрапированная в белый саван, черты ее дышали живостью и довольством, словно ей очень нравилось ее обиталище. Жозеф закрыл глаза. И пожалел, что приоткрыл их, поскольку, как он и предполагал, перед ними развернулась кошмарная сцена. В мгновение ока молодая женщина смертельно побледнела и словно окоченела, у нее выпали волосы и зубы, глазницы ее опустели. Вскоре от нее осталась лишь красноватая масса, не имеющая ничего общего с очаровательной барышней. Но и этот пурпур растаял, как дым, и перед зрителями предстал скелет, явно очень довольный произведенным эффектом.
Колетт Роман встала, прошептала в ухо Катрин несколько слов извинения и ушла по коридору в сторону первого зала.
— Она решила нас покинуть? — удивился Жозеф.
— Она не выносит подобных зрелищ, и я ее понимаю, — ответила мадам Фулон.
Виктор воспользовался моментом, потянул за руку Шарлину Понти и продемонстрировал ей плюшевого крокодила.
— Вам должно быть стыдно! Разве можно так пугать маленькую девочку и угрожать мне через нее!
— Да вы бредите! — воскликнула актриса, гневно выпрямившись. — Вы свихнулись на тему этой зеленой нечисти? Фу, какой мерзкий зверь!
Пытаясь высвободиться, она нечаянно толкнула Пелажи Фулон. Вдова покачнулась и задела уходящую Колетт Роман, и та уронила на землю ридикюль. Она поспешно собрала рассыпавшиеся по полу вещи и упорхнула, на прощание бросив Жозефу:
— Я вернусь через пять минут, хочу подышать свежим воздухом.
Не отпуская руки Шарлины Понти, Виктор наклонился, подобрал с пола картонный прямоугольник и мельком взглянул на него. Это была фотография, но в сумраке плохо было видно, что на ней изображено. Он машинально перевернул карточку. На обороте было нацарапано несколько слов. Он отпустил Шарлину Понти и прочитал: Бульвар Бурдон. Лицей Карно. Потрясенный, он опять уставился на фотографию.
— Жозеф, посветите мне вашей свечой, пожалуйста.
Он различил силуэт улыбающегося блондинчика, наряженного в вышитый жилет и панталоны, зауженные на щиколотках. Сердце его заколотилось. Он застыл, как вкопанный, с фотографией в руке.
— Черт подери!
Он поднял голову. Колетт Роман стояла в дверном проеме. Через секунду их взгляды встретились, она развернулась и бросилась бежать.
— Эй! Постойте! — закричал он.
Он отодвинул в сторону Шарлину и ринулся вслед за Колетт. Догнал ее уже в последний момент у выхода.
— Мадемуазель Роман, вам нехорошо? Я могу вам помочь?
Она взглянула ему в глаза.
— Спасибо, сойдет, мне просто не нравятся такие зрелища. Мы встречаемся третий раз за эту неделю, что вы такое ищете, мсье Легри? Вы вечно оказываетесь там, где вас меньше всего ожидаешь застать.
— Это не случайность.
— Какой вы упорный! А что это у вас в руках? Вы впали в детство?
— Вы прекрасно знаете, что это за вещь. Это крокодил, — ответил он, сунув ей под нос игрушку.
— Вижу, вижу, а дальше что?
— Знаете ли вы молодую женщину по имени Лина Дурути?
— Она покупает продукты у нас в бакалее?
— Не знаю. Она была няней маленького мальчика, Флорестана Ноле.
— Вы думаете, я интересуюсь личной жизнью наших клиентов?
— Нет, конечно же нет, но только я нашел это под вашим столиком, и, поскольку вы уронили сумочку, я подумал…
Он показал ей фотографию. Она покачала головой:
— Никогда не видела этого мальчонку.
Заметив, как плотно Колетт стиснула челюсти, Виктор понял: она что-то скрывает. Он поинтересовался тихим, вкрадчивым голосом:
— А вы любите вашу работу, мадемуазель?
— Вы считаете себя остроумным?
Она выдавила подобие улыбки.
— В смысле, может, вам больше нравится заниматься с детьми? — продолжал он.
Она немедленно перешла к обороне. Улыбка превратилась в оскал.
— Издеваетесь надо мной? Как жестоко. А мне казалось, вы поддались моему обаянию…
Колетт Роман внимательно оглядела Виктора, пытаясь прощупать его взглядом, и отметила выражение напускной невинности на его лице.
— Я не издеваюсь, мадемуазель. Я знаю, что мой вопрос звучит как-то не очень логично…
— Да просто унизительный вопрос. Я интересую вас только в том плане, насколько из меня можно вытянуть информацию, господин журналист. Дайте мне это фото, я невнимательно на него посмотрела.
Он протянул ей фотографию, она взяла ее и разорвала на мелкие клочки, которые бросила в сточную канаву, и их унесло потоком воды.
— Что, довольны, мсье Легри? Было бы гораздо проще сказать мне, что вы от меня хотите услышать, гнусный проныра.
Она насмешливо смотрела на него. Он почувствовал внезапное облегчение, поскольку понял, что рассуждал верно.
— Это ведь вы, правда? Вы их всех убили.
Лицо Колетт потемнело. Она придвинулась к нему и почти закричала:
— Вы отдаете себе отчет в том, что говорите? Вы и правда думаете, что кто-нибудь поверит в подобную чепуху?
Одновременно она поглядывала на дорогу, выискивая возможность сбежать, но Виктор преградил ей путь, шаг за шагом тесня ее внутрь кабаре.
— Слушайте, — сказала она. — Начнем вот с чего. Докажите, что я виновна, и придумайте мне какой-никакой мотив.
— Докажу-докажу, мадемуазель Роман, — или лучше называть вас Лина Дурути?
— Зелина, мсье Легри, Зелина Дурути.
— Ну если вам так больше нравится. Что касается мотива, совершенно очевидно, что речь идет о сведении счетов, о хорошо выношенной мести. Что же на самом деле произошло в омнибусе AQ в апреле 1895 года?
Он схватил ее за запястья и потянул в первый зал.
— Оставьте меня! Как вы собираетесь доказать мою виновность, господин книготорговец?
Она застала Виктора врасплох, и он выдал первый же аргумент, который пришел ему в голову.
— А у вас нет никакого алиби на все вечера, когда происходили убийства.
— Это вы так думаете! Мой консьерж может подтвердить, что каждый вечер ровно в восемь, как штык, я возвращаюсь с работы.
— Так вы потом можете незаметно выскользнуть из дома, и никто не заметит.
— Он будет это отрицать — это поставит под сомнение его бдительность.
Он толкнул ногой дверь в зал, где стоял гроб с девушкой. Колетт уперлась, напряглась.
— Неприятно, наверное, раскрыть истину и не иметь возможности ее доказать. Вы жалеете эту троицу ничтожеств? Уверяю вас, они не страдали. А как вы все объясните в префектуре, мсье Легри? Что вы от них ожидаете? Ну давайте, наденьте на меня наручники!
— А это вы писали надписи у входа в бакалею?
— Я писала, признаюсь. Эта скупердяйка Пелажи Фулон заслужила и не такое, поверьте. А я зато получила колоссальное удовольствие.
— А зачем было создавать такие композиции вокруг трупов? Все эти таинственные предметы… Это ведь все символы времени?
— Какой у вас тонкий нюх, прямо ищейка! Но дознаватель из вас так себе. Вы прямо умираете от нетерпения, а? Ищете, к чему прицепиться?
Она расхохоталась.
— Так и быть, сделаю вам приятное. Их было четверо, так что остался один. В результате мне придется самой вершить правосудие, и какой-то мелкий шпик вроде вас мне не сможет помешать! На этом хватит! Отойдите, мне нужно завершить мое дело!
Ищущий ум Виктора лихорадочно анализировал все открывающиеся перед ним возможности. Если он ее отпустит, то станет сообщником преступницы. Если выдаст полиции, он станет участником травли загнанного зверя. Как здесь поступить? Это колебание оказалось роковым для него. Колетт Роман стукнула его ботинком по голени, толкнула, сбив с ног, и рванула в сторону гроба, где, раздвинув руки, стоял скелет. Затем резко повернула в сторону, нашла выход в другом конце зала, толкнула дверь, но дверь, на ее горе открывалась внутрь.
Она вновь ринулась в атаку, лицо ее было перекошено от гнева. Быстро достав из-под шали вырезанную из дерева палку, скрывающую в себе острие, с проклятиями она бросилась на Виктора, схватила его за волосы, притянула к себе и собиралась уже вонзить лезвие ему в горло. Виктор отскочил в сторону и потому отделался только глубоким порезом на шее. От боли он покачнулся, стукнулся о гроб. Услышал вопли зрителей и без сил повалился на колени, чувствуя, как по телу бежит теплая жидкость.
Зрители безмолвствовали, застыв на месте. Но вот раздался визг, и началась паника. Мужчины и женщины ринулись к единственному выходу. Шарлина Понти вцепилась в плечи Жозефа. Вдова Фулон упала на пол и надвинула на голову свою кошелку, носом ровнехонько между двумя фляжками коньяка, причем она преградила проход одновременно Жозефу и Кэндзи.
Колетт Роман вновь решилась на атаку и устремилась в сторону гроба. Она, может, и пронзила бы сонную артерию Виктора, но тут Ихиро Ватанабе обхватил ее сзади, приподнял и отбросил в сторону. Уверенный, что ему удалось расправиться с противницей, он протянул Виктору свой шарф, чтобы остановить льющуюся кровь, и не заметил, что она вновь схватила свою пику и направила на него. Кэндзи, перепрыгнув через вдову Фулон, вклинился между Колетт и Ихиро Ватанабе. Но неудачное вмешательство Илера Люнеля, который решил, что в кабаре орудуют китайские бандиты, свело на нет его усилия. Он не сумел схватить Колетт, но зато ему удалось помешать ей, так что, в ярости пригрозив оружием скелету, фурия скрылась из виду.
Виктора повели перевязывать в аптеку. Он, наполовину оглушенный, прикрыл глаза и произнес:
— Пить хочется.
— Выпейте большой стакан воды вместе с этим маленьким порошком. Это вам поможет. А потом домой, и нужно будет немного вздремнуть.
Голос аптекаря доносился откуда-то издалека. Виктора затрясло от нервного смеха. Перед глазами возникли искаженные черты Колетт Роман. Она шевелила губами, и в голове его возникали слова: «Их было четверо, так что остался один… придется самой вершить правосудие…»
Он встал, покачнулся и повалился на руки Кэндзи. От проглоченного порошка мутилось в голове, Виктор плыл в неизвестные дали, где невероятные фантазии принимали форму огромных песочных часов.
— Время… Барнав!
Пелажи Фулон посмотрела на него с недоверием, словно решила, что он потерял рассудок.
— Что вы хотите сказать? — спросила Катрин.
— Она хочет убить Барнава!
Он схватил свой редингот и бросился на улицу, Кэндзи и аптекарь побежали за ним.
— Он всегда так себя ведет? — поинтересовалась Шарлина Понти, которая за ними не поспевала.
Кэндзи скривился.
— Да, дорогая моя.
— Мсье, мсье, ваша повязка! — кричал аптекарь.
Виктор схватил Жозефа за обшлаг пиджака.
— Вы знаете, где найти Луи Барнава?
— Нет, но я знаю того, кто нам об этом расскажет.
— Кто это?
— Фермен Кабриер.
Виктор обернулся к вдове Фулон.
— Где он живет?
— Я с такими не общаюсь.
— А вы, Катрин?
— Он иногда заходил к нам в магазин, но разговаривал в основном с Колетт.
— Но у меня есть его адрес! Виктор, вы глухой, что ли? — вмешался Жозеф.
— Да что ж такое, времени же нет! Фиакр, нам нужен фиакр!
— Нам нужно два фиакра, — сказал Ихиро Ватанабе, — бакалейщики тоже едут с нами.
— Переулок Коттен! — закричал Жозеф и полез в фиакр на остановке, а за ним Виктор, Кэндзи, Ихиро Ватанабе и Рене Кадейлан.
Кучер заворчал, а потом и вовсе заругался, когда хозяин свистнул Аристотелю и тот занял свое место в экипаже.
— Мой фиакр не какой-нибудь фургон! Переулок Коттен? Я вас ссажу на углу улицы Клинанкур и улицы Рамей, потому что мой фиакрик к тому же не лифт. Там двадцать пять ступенек вверх!
— Быстренько, — отрезал Виктор, — не то будет поздно.
— Вы упрямей мула из Пуату, — заметил Кэндзи. — Вы хоть отдаете себе отчет, что в очередной раз были на волосок от смерти и что нас с Ватанабе тоже могли пропороть насквозь?
— Я тоже пострадал! Шарлина Понти так стиснула мне глотку, что у меня миндалины превратились в лепешки! — пожаловался Жозеф.
— А уж вы бы помалкивали! Часть ответственности за все это лежит на вас, господин горе-писатель!
— А вот это уже оскорбление, и я его надолго запомню! — с пафосом произнес Жозеф.
Аристотель залаял, не обращая внимания на окрики Рене Кадейлана.
— Полноте, друзья мои, не ссорьтесь. Вы знаете, что люди в среднем тратят на ссоры по двадцать минут в день, что за двадцать лет состав…
Ихиро Ватанабе замолк, заметив, что взгляды всех присутствующих направлены на него. Даже Аристотель смотрел на него как-то недобро.
— Приехали, все выходят! — закричал извозчик.
— И кстати, а с какой стати Колетт Роман захотела избавиться от Барнава? — задыхаясь, поинтересовался Жозеф, пока они гуськом поднимались по лестнице.
— Какой номер? — спросил на это Виктор.
— Темнело, да и мозги у меня были всмятку в тот момент. Это маленькая хибара возле лавки торговца углем. Клянусь жизнью, да там целая толпа!
Они зашли в коридор, посреди которого Фермен Кабриер, держась за горло, что-то втолковывал обступившим его соседям. Вид у него был совершенно растерзанный.
— Она с ума сбрендила! Заколола меня своей тростью-шпагой, я сейчас умру, зовите скорее доктора!
— У вас даже кровь не идет, — заметил тощий-претощий бородач с повязанной вокруг шеи салфеткой.
— Адриан, твой гратен
[1047] из салатного цикория остынет, — возмутилась кумушка в папильотках.
— Где она? Где та женщина, которая на вас напала? — спросил Виктор.
— В соборе Сакре-Кёр. Именно там отсиживается Барнав. Она жаждет его крови. Я был вынужден выдать его, иначе она бы меня прирезала.
— Потому что он ваш сообщник? Он помогал вам избавиться от ваших должников! — закричал Жозеф.
— От кого избавиться? Я никого не убивал. Я был в тюряге, когда почтальона грохнули. А вы, вы мерзкий шпик! — заревел уличный художник, узнав Жозефа. — Это Колетт, это все она! Я точно в этом уверен!
Виктор помчался в направлении собора.
— Подождите нас, ненормальный! — завопил Кэндзи.
Вся компания помчалась за Виктором, она росла на ходу, как снежный ком, катящийся с горы. К ней присоединились Фермен Кабриер, Катрин, Шарлина, какие-то зеваки и веселые девушки с бульвара, оборванные уличные ребятишки. Но не Виктор самым первым добежал до Сакре-Кёр: его обогнал Аристотель, который решил, что он борзая, и поставил личный рекорд в беге на длинные дистанции.
Сероватый огромный силуэт тянулся к небу. Из-за туч вышел месяц, и в его бледном свете можно было различить здание в византийском стиле: луковичные купола, полукруглые арки, треугольный фронтон. Эти разрозненные, не сочетающиеся между собой детали казались бредом безумного архитектора, пожелавшего объединить разные стили и эпохи в одном гигантском молочном суфле, украшенном горгульями
[1048] и фризами
[1049]. Повернув толстый черный нос к собору, Аристотель принюхался и жалобно завыл.
Церковь с одной стороны была окружена шпалерами
[1050], из которых она, казалось, хотела высвободиться. Перед связанными ригелями
[1051] балками ютилась какая-то деревянная халупа, откуда доносились приглушенные крики. Преследователи увидели два силуэта: один — мужчина с непокрытой головой, он вцепился в веревку, которая поднималась к порталу с нишей, в которой стояла статуя Христа. Иисус протянул руку к столице, поза его выражала умиротворение, сердце пылало золотыми лучами.
Второй силуэт, тонкий и гибкий, но при этом быстрый и яростный, ожесточенно тряс веревку. Человек вцепился в нее что было сил, но качало так сильно, что все усилия уходили лишь на то, чтобы удержаться на месте. Зеваки, собравшиеся под сваями, ахнули, кто-то завизжал: в руке второго силуэта оказалась палка, и он гневно потрясал ей в воздухе. И в этот момент луна зашла за тучи.
Через несколько минут толпа внизу заметила беглеца: ему удалось добраться до скоб, ведущих ярусом к основному куполу. Он пытался влезть на платформу под колокольней, но его неуклюжие усилия выглядели смехотворно на фоне ловких, отточенных жестов преследователя, который быстро карабкался наверх. Он уже почти догнал карабкающегося по сваям мужчину, но вдруг тот отцепился от стены и сумел выскочить на террасу, где и застыл, не в силах сдвинуться с места.
— Ну сделайте же что-нибудь, клянусь жизнью, помогите мне спустить его оттуда! — прорычал Жозеф, не сдвинувшись при этом ни на миллиметр.
Он вспомнил тот страшный день, когда ему пришлось сбросить человека с колонны на площади Бастилии.
Мужчина перекатился в сторону, увернувшись от брошенного орудия, которое упало рядом с ним. Как дальше разворачивалось сражение, зрителям было не видно — его участники передвинулись дальше от края платформы.
Мужчине, хоть он и казался неловким и неуклюжим, тем не менее удалось бежать. Зрители снизу увидели его силуэт, спускающийся по металлической лесенке неподалеку от портика. Женщина карабкалась вслед за ним, на ходу пытаясь ткнуть его своей пикой в голову.
— Ну чисто тарантул! — прошептал Жозеф, и тут его посетило озарение: он представил себе сюжет своего будущего романа об огромном пауке, терроризирующем Париж: он ткет огромную паутину, но отважный уличный художник, рисующий мелками, стирает этот кошмар с помощью волшебной губки, насаженной на пику с деревянной ручкой.
«Условно назову его “Паучье королевство”. Стоп,
“паучье” или
“паучиное”?
“Королевство паука”? Нет, вообще какое-то дурацкое название, и ритм неудачный,
“ка”-
“ка”. О, пусть будет
“Королевство тарантула”, так лучше».
Задыхаясь, Луи Барнав пролетел перед тройной аркой в испано-мавританском стиле. Женщина уже готова была схватить его, когда какой-то мощный вихрь налетел на нее и вцепился в ее юбку. Колетт заметалась, пытаясь вырваться, оступилась, потеряла равновесие и рухнула вниз.
— Аристотель! — заорал Рене Кадейлан.
Собака отступила на шаг и пронзительно завыла на луну.
— Это совершенно невероятно, он, когда видит зайца, закрывает морду лапами! — бормотал ошеломленный хозяин.
— Колетт Роман вам не заяц, — заметил Жозеф.
Толпа окружила лежащую ничком женщину. Ихиро Ватанабе нагнулся, с трудом перевернул ее и отпрянул назад. В рядах любопытных послышались возгласы ужаса. Виктор присел на корточки и показал рукой на пику, вонзившуюся в живот женщине, которая еще дышала. Он наклонился к ее лицу. Она смотрела на него не мигая.
— Не двигайтесь, — тихо сказал он.
— Он отомщен. Жалко только, четвертый ушел от возмездия. Вы должны знать… У них не было ничего святого… Они выиграли на скачках…
— Молчите, не тратьте силы, помощь уже в пути.
— Они считали, что им все дозволено… Сидели и хвастались… Эти два мерзавца, актер и учитель, удерживали меня за руки… А почтальон заставлял его сесть верхом на поручни, это их забавляло.
— Кого заставлял?
— Флорестана… А ему было пять лет… Я любила его.
Она бессильно откинула голову и затихла. Виктор закрыл ей глаза.
— Все кончено, — сказал он и встал.
— Ее напугал пес, — сказал Кэндзи. — Она запуталась в юбках и наткнулась на свое же оружие.
— Аристотель — не убийца, он спасал жизнь Барнава! — возразил Рене Кадейлан. — И я тут тоже ни при чем. Кабы не он, Барнав бы уже похмелялся с ангелами.
— С ангелами или с чертями? — пробурчал Кэндзи.
— О господи, как же это все ужасно! — простонала Катрин.
Ее сотрясали рыдания. Рене Кадейлан обнял ее, успокаивая, прижал к груди. Лицо его казалось смертельно бледным в зыбком свете фонарей. Шарлина Понти оперлась о забор, окружающий главный колокол. Ее начало рвать.
Виктор распустил галстук, расстегнул ворот рубашки и пощупал рану на шее. Все его догадки подтвердились, но никакого удовлетворения он не испытывал. Перед глазами вереницей пробегали сцены всей этой жуткой истории.
Вот Лоншан. Эзеб Турвиль, Робер Доманси, Шарль Таллар. Они поставили на темную лошадку — тонкого, хрупкого жеребца, который, ко всеобщему удивлению, выиграл забег. Опьяненные победой, счастливые сотоварищи разместились на втором этаже омнибуса, который плавно влился в океан повозок, направляющихся к Триумфальной арке. Это было настоящее возвращение с боя, побежденные и победители обменивались мечтами о будущем богатстве: «А вот в следующий раз, а вот в следующий раз!» Они еще не знают, что следующего раза не будет. Глупость, несчастный случай положит конец их зарождающемуся союзу, они больше никогда не увидятся. Уже Лина Дурути и Флорестан поднимаются в экипаж. Мальчик живой, непоседливый, он раздражает троих мужчин. Кто из них прошептал ему в ухо, подначивая: «А слабо тебе залезть на поручни?» И вот уже автобус трогается, пьяный кучер заносит свой кнут. Безрассудный мальчонка падает на проезжую часть. Смерть на месте. Полиция. Оформление документов. Пассажиры выдвигают свою версию происшедшего: трагедия произошла по вине пьяницы-кучера.
— О господи! — воскликнула Пелажи Фулон. — А то прямо на голову ей просилась корона из роз общества детей Богоматери. Такая всегда улыбчивая, предупредительная, работящая. Скрытная, это да. Она пыталась прослыть недотрогой, эдакая святая невинность, но я-то видела ее насквозь. Вот и хорошо, она получила по заслугам.
— Замолчите! — ледяным тоном приказал Виктор. — Когда придет день Страшного суда, с кем вы будете объясняться, мадам Фулон?
Пелажи Фулон недобро посмотрела на него, но промолчала. Она вздернула подбородок и подозвала к себе Катрин.
— Идите сюда, милая моя Катрин. Я была к вам несправедлива, но это не со зла.
— Я пойду домой с Рене, — предупредила ее Катрин.
Пелажи Фулон пожала плечами и взялась за Илера Лунеля.
— А вы? Будете ждать второго пришествия?
— Не знаю насчет второго пришествия, дорогуша, но конец света наступит завтра, — осклабился Луи Барнав. — А у меня вот в горле пересохло. Ни у кого нет с собой чего-нибудь общеукрепляющего?
Глава восемнадцатая
Ночь с 12 на 13 ноября
Все вынуждены были оставаться на месте и ждать приезда полиции. Когда Виктор толкнул входную дверь своего дома, он сразу увидел Таша. Выражение ее лица не предвещало ничего хорошего.
— Все в порядке, Таша? Ты не слишком волновалась?
Она ответила холодно, видно было, что его забота ее только раздражает.
— Нет, все нормально, только я чуть с ума не сошла от беспокойства, а так все нормально. Я не знаю, где ты шляешься, ты появляешься весь в бинтах…
— У тебя правда измученный вид.
— Ах, ну что ты, как ты мог подумать! Уже скоро полночь, я устала от твоих выходок. У тебя весь воротник испачкан. Э, да это кровь!
— Это не важно, дорогая, все пройдет. Я снял старую повязку и раскрылась рана, и врач надел мне вот этот новый модный галстук.
«Это не ложь, а всего лишь слегка подкорректированная правда».
— Когда ты куда-то уходишь, я каждый раз думаю, не принесут ли мне тебя по кусочкам.
Ее голос дрожал, ей было стыдно за свою неискренность, она изображала гнев, поскольку узнала от Валентины про великолепную эскападу Эфросиньи у Пон-Жуберов. Айрис ей проговорилась. Интересно, Виктор знает, что произошло? Может, он разбирался с этим развратником Бони?
— Виктор… Как тебе кажется, права ли я, что так привечаю племянницу мадам де Салиньяк? Мне не хотелось бы, чтобы ты сердился, ты ведь терпеть не можешь Пон-Жуберов.
— У тебя любой мелочный флирт превращается в государственное преступление. То меня завлекает в свои сети субретка из «Комеди-Франсез»! То тебе, как новый Казанова, не дает проходу комиссар Вальми! Может, ты попросишь свою любимую ищейку провести расследование?
— Этого еще не хватало, — сказала Таша. Она не сводила глаз с Виктора.
«Он ничего не знает, — подумала она, — или же он самый скрытный человек на свете!»
— Иди-ка ложись, это лучше всего сейчас, — сказала она вслух.
Виктор наконец смог вытянуться и расслабиться. Стареет, вот и все тело уже болеть начало. Таша лежала рядом и мерно дышала, но он не мог уснуть: перед глазами стояло застывшее лицо Колетт Роман.
Понедельник, 13 ноября
— Уф, уже пять часов прошло, и жизнь все продолжается, — отметил Жозеф.
— Вы о чем?
— О конце света.
— Бедный мой Жозеф, вы не умеете расставлять приоритеты, а мы между тем попали впросак. Как объяснить смерть Колетт Роман?
— Ну это и так ясно… Она же созналась вам во всех злодеяниях.
— Ну, не обольщайтесь, у нас недостаточно улик, чтобы что-то обоснованно доказать. Я — единственный свидетель. Она разорвала фотографию, на которой были адреса двух жертв, ее можно было бы использовать в качестве улики.
— Но есть другие факты, которые привлекли всеобщее внимание: она пыталась убить Барнава, она напала на вас с оружием.
— Но ей не могут приписать три смерти без всяких доказательств.
— Она жила под подставным именем! Она поступила на работу в магазин как Колетт Роман, а на самом деле…
— И что из этого? Вдова Фулон ведь не спрашивала у нее свидетельство о рождении.
— Ноле могут засвидетельствовать, что она у них работала.
— Ах, как приятно это слышать! — пробубнил Жозеф. — Вальми будет счастлив от такого убогого результата.
— Ну вы уж не беспокойтесь за состояние духа нашего комиссара, он все равно все переиначит на свой лад, как всегда. И как всегда, несколько дней пресса будет так и сяк ковыряться в этой путаной истории, а потом ее похоронят так же быстро, как выудили на свет божий.
— Вы думаете, этот желторотый юнец Рено Клюзель так легко сдастся? Ну вы оптимист!
Дверь магазина открылась, вошла Катрин Лувье.
— Ох, а я боялась, что у вас будет закрыто. Мне нужно с вами поговорить, я тут вспомнила одну вещь, это важно, на кону моя репутация. До того, как мадам Фулон, Илер и матушка Ансельм рассказали, что видели меня в компании типа в клетчатом пиджаке вечером в воскресенье…
— Эзеба Турвиля? Того, что нашли зарезанным в Часовом тупике?
— Его самого. Пожалуйста, не перебивайте, мне нужно сосредоточиться, иначе я потеряю нить. За неделю до этого Колетт меня попросила дать ей поносить мою шляпку с цветами и длинную свободную жакетку, она у меня считается «на выход». Ну, я поворчала, однако не смогла ей отказать, мы же с ней подруги! Вот сучка! Хотела, чтобы подозревали меня вместо нее.
Виктор с облегчением вздохнул. Еще один факт в копилку расследования. Жозеф ликовал: нашлось очень солидное подтверждение их теории.
— Мадемуазель Лувье, если вас вызовут в качестве свидетеля в префектуру, вы согласны будете прийти и повторить это?
— Ну а как же! Шмотки-то она мне не вернула! Если порыться в ее шкафу, они там наверняка найдутся, держу пари.
— Жозеф, я думаю, что хорошо будет воспользоваться предложением кабаре «Небытие». Вы помните, если катастрофа не произойдет, нам полагается бесплатный вход!
— Ну если вас туда так манит… Я бы воздержался, не нравится мне это место.
— Вот смотрите, Жозеф: никто в этот конец света на самом деле не верил. Ученые все опровергали, но простого обывателя хлебом не корми, дай чего-нибудь побояться. Вот что меня действительно пугает, так это здание, где каждый второй осужденный на самом деле невиновен, — сказал Виктор, показывая на префектуру полиции. — Вы вчера получили взбучку за позднее возвращение?
— Мне повезло, Эфросиньи не было дома! Айрис спала, и не пришлось травить ей всякие байки. А вы?
— О, я…
Огюстен Вальми был очень, очень недоволен. Надо бы как-нибудь наказать растяпу-рабочего с улицы Арколь, который нес ведро гудрона и испачкал жуткими черными пятнами брюки ни в чем не повинного прохожего. Огюстен Вальми и был тем прохожим. Конечно, отправить его в тюрьму — это было бы слишком, а вот основательный штраф научил бы этого болвана уму-разуму.
И к какому наказанию следует приговорить анонимного автора книги «Тысяча и один полезный совет по домоводству»? Он имел наглость утверждать, что лучшее средство от гудроновых пятен — сливочное масло. А потом достаточно просто промыть пятно горячей водой с мылом. В результате прекрасные полосатые брюки комиссара украсились коричневатым потеком, окруженным жирным ореолом. Видок был кошмарный.
Он засунул ноги под сиденье, надеясь, что никто не заметит это безобразие.
— Что нового? — безразлично поинтересовался он.
Жозеф зачарованно уставился на ухоженные руки комиссара.
— Мы разоблачили убийцу. Это женщина. Но, к сожалению, она мертва.
Огюстен Вальми достал носовой платок, прижал его ко рту и откинулся на спинку стула.
— Знаю, знаю. Мне нужен конкретный отчет, без всяких лишних подробностей.
Виктор начал свой рассказ, обойдя молчанием дополнительные обстоятельства вроде аферы, затеянной Шарлиной Понти и Рафаэлем Субраном, и участия в деле Фермена Кабриера. Огюстен Вальми слушал с непроницаемым лицом.
— Ну и вот, — заключил Виктор, — таковы были последние слова Колетт Роман.
— Для правосудия это все голословные утверждения и произвольные выводы, вопросы без ответов, какое ему дело, что имеется некая смутная связь между этой женщиной и тройным убийством? — резко возразил Вальми.
— Я прекрасно вас слышу, господин комиссар. При отсутствии вещественных доказательств мы с мсье Пиньо можем всего-навсего выдвинуть версию. Мы рассмотрели несколько вариантов и можем рассчитывать только на признание Зелины Дурути, она же Колетт Роман.
— Я вас слушаю, — сквозь зубы процедил Огюстен Вальми.
— Трагическая смерть Флорестана Ноле потрясла ее. Она замыслила идеальную месть. Неустанно выслеживала в парижских джунглях четверых негодяев, виновных в смерти ребенка. Обнаружить Луи Барнава было нетрудно. Что может быть элементарнее, чем навести справки в омнибусной компании? Можем даже предположить, что идея наказать его за прошлые преступления погнала ее в поисках работы в IX округ, где ее под именем Колетт Роман наняла на работу вдова Фулон.
— Да, ну хорошо, и что дальше, это все сплошные гипотезы, — пробормотал Огюстен Вальми. — Мне нужны вещественные доказательства!
— Позвольте мне дальше развить нашу аргументацию. Зелина-Колетт завязала дружеские отношения с бывшим извозчиком, заметила его одержимость темой времени и замыслила убийство в декорациях, связанных с Сатурном. Оттуда, несомненно, родился ее план зазвать трех остальных негодяев в Часовой переулок. Она знала, кто они по профессии, они это указали во время допроса в комиссариате VIII округа. Зелина-Колетт прошлась по театрам столицы и вычислила Робера Доманси. Так же она нашла Шарля Таллара, хотя список школ был подлиннее. Эзеб Турвиль был почтальоном, но его уволили после забастовки. Коллеги дали ей его адрес, но он оттуда съехал — нечем было платить. Но консьерж, наверное, рассказал, что он переехал к своей сестре Клариссе Лостанж.
— Ваш рассказ звучит убедительно, но, увы, он ничем не подкреплен. Сплошные «несомненно», «наверное». С помощью каких уловок она завлекла этих трех человек в Часовой тупик?
— Мы не знаем.
— Ваша романтическая история рассыпается как карточный домик. Слишком много «может быть» и «конечно же». Пойдите расскажите это прокурору! А к тому же основной свидетель, мадам Самбатель, утверждает, что убийца — парень.
— Зелина-Колетт убивала свои жертвы, переодевшись в мужское платье, с помощью баскской пастушьей палки, так называемой
макилы, выточенной из мушмулы и скрывающей в себе острие, разом вылетающее из рукоятки. Колетт знала, куда бить, поскольку до этого работала медсестрой.
— Она работала не медсестрой, а санитаркой. Однако могу с вами согласиться, что у нее могли быть кое-какие знания по анатомии. И это все? А те пресловутые рисунки мелом, стершиеся по мановению Святого духа, тоже ее рук дело?
— Да. Ей хотелось оправдать Фермена Кабриера и при этом свести счеты с вдовой Фулон, которую она недолюбливала. Единственное наше вещественное доказательство — оружие, которое и послужило причиной ее смерти.
— Ничто при этом не указывает, что именно им были убиты три жертвы.
Виктор и Жозеф застыли на месте.
— Я разочарован, Легри. Ваша теория притянута за волосы. Что касается свидетельства мадемуазель Катрин Лувье, отчасти явившейся жертвой манипуляций мадемуазель Роман, то оно, несомненно, указывает на участие последней в этом преступлении, но слишком неочевидно, чтобы обвинить ее напрямую. Всех эти косвенных улик недостаточно для осуждения покойной. У нас есть непочатый край разнообразных гипотез, помимо этой. Хорошенько все взвесив, Легри, я решил, что лучше будет упростить нам задачу…
— Но мсье комиссар… — пролепетал Жозеф.
— Никаких «но», мсье Пиньо. Я уже принял решение. Вы не забыли, что это я веду расследование, а, Легри?
— Если вы настаиваете, господин комиссар, мы отойдем от дел. Но лишь потому, что ваше положение в этой ситуации более прочно, нежели наше. Дальнейшее развитие событий на вашей совести, мы удаляемся. Однако я совершенно уверен, что мы правы.
— Не нужно тут мне этих похоронных физиономий. У меня тут был молодой журналист из «Паспарту» Рено Клюзель, упрямый такой малый, его никогда не убедить подобными объяснениями без подходящего мотива.
Огюстен Вальми наклонился вперед.
— Мсье Пиньо, я хотел бы использовать ваши умения, мне понадобится ваш литературный талант, — сказал он, улыбнувшись.
Жозеф улыбнулся в ответ, но улыбка вышла нерадостной.
— Я плохо понимаю, господин комиссар, вы хотите замять дело, что ли?
Огюстен Вальми кивнул головой.
— Придется лжесвидельствовать, — пробурчал Жозеф, — теперь-то мне все понятно.
Виктор посмотрел на Огюстена Вальми. Комиссар хотел любой ценой поскорей избавиться от этого неудобного, компрометирующего дела и пресечь в зародыше любое журналистское вмешательство: ведь папарацци могут разнюхать его родство с Робером Доманси. То есть придется сотрудничать с врагом.
— Не имеет ли тут место использование служебного положения в личных целях? — воскликнул он. — Постойте, Жозеф, вас что, подводит память? Колетт-Зелина призналась мне во всех своих преступлениях, она напала на меня в кабаре «Нибытие», на глазах у многих свидетелей, используя свою
макилу, у меня до сих пор отметина от нее на горле, я мог умереть от потери крови! Аптекарь, который меня перевязывал, об этом вряд ли забудет. Потом была эта сумасшедшая гонка с преследованием до собора Сакре-Кёр, в ходе которой она угрожала оружием Фермену Кабриеру и пыталась убить Луи Барнава. Многочисленным зрителям этой величественной сцены есть что порассказать. И ведь еще существуют Ноле, вы забыли про Ноле — они опознают ее в два счета, даже спустя столько лет.
— Браво, Легри, вы просто читаете мои мысли! — неожиданно поддакнул комиссар. — Я думаю, нам удастся договориться, в особенности если мсье Пиньо нам поможет!
— Поможет в чем?
Комиссар Вальми пригладил рукой бювар и произнес медовым голосом:
— Вам достаточно будет изложить на бумаге все факты, точно так, как вы мне рассказали, но только с одним небольшим изменением.
— Каким?
— Будьте четче, определеннее. Уберите все «может быть», все «несомненно», все «возможно» и вообще все ваши наречия, выражающие неуверенность. Не забудьте отметить важнейшую роль, которую я сыграл в раскрытии этой тайны, не указывая при этом, конечно, что Робер Доманси был моим сводным братом, вы следите за ходом моей мысли? Талантливый литератор ведь может создать для меня соответствующий этой схеме сценарий?
— Господин комиссар прав, — подтвердил Виктор. Лицо его было серьезно, но в голосе сквозила ирония. — Было бы весьма прискорбно, если бы пресса начала издеваться над нерадивостью полицейских.
— А мне заплатят построчно или фиксированную сумму? — заволновался Жозеф.
— Никак, молодой человек! Замечу мимоходом, я высоко ценю ваше чувство юмора. Но зато о вашем участии и об участии мсье Легри в расследовании никто не узнает, так что ваши уважаемые супруги не смогут вас ни в чем упрекнуть. Скажите мне за это спасибо. У вас есть двадцать четыре часа, чтобы передать мне отчет.
Выйдя на набережную Орфевр, Жозеф воинственно посмотрел на часовых у входа и скрестил руки на груди.
— Какой же он манипулятор! Надо было ему отказать. Мне необходимо что-нибудь выпить, этот легавый меня довел до ручки. Двадцать четыре часа!.. А вот между нами, Виктор, что бы вы сделали на месте Колетт?
— Если честно, даже не знаю. Кэндзи сказал бы так: «Как вода не останется на вершине горы, так и месть не удержится в большом сердце». За работу, Жозеф!
Раздосадованный нежеланием шурина хоть как-то подбодрить его и утешить, Жозеф шел и дулся. До самой площади Сен-Мишель они с Виктором не обменялись ни единым словом. Лишь когда подошло время расстаться, он вслух высказал свое возмущение.
— Признайте все-таки, это несправедливо! Мы же все распутали — в конце концов, где справедливость, вот оно какое, правосудие!
— Правосудие изображают с повязкой на глазах. Воспользуйтесь случаем, Жозеф, благодаря этому отчету Вальми станет вашим должником.
— Собственно, вы правы, я наваляю ему образцово-показательный отчет, этому леговому, пусть распускает хвост перед прессой. Скажите, а что станется с Шарлиной Понти?
— Ничего ей не будет, мы ведь специально опустили в рассказе упоминания о ее темных делишках. Держу пари, что через несколько дней она наконец проявит благосклонность к ухаживаниям Арно Шерака.
— А он, соответственно, сядет на диету и похудеет. А что Рафаэль Субран?
— Я уже объяснил ему, что шантаж — не самое достойное занятие. И предупредил, чтобы играл себе на сцене и вел себя прилично, а не то хуже будет.
Так что расстались они мирно, вполне довольные друг другом. Жозеф двинулся в сторону набережной Вольтер, к Раулю Перо, которому хотел поведать всю историю, а Виктор отправился на улицу Сен-Пер.
В нескольких метрах от книжного магазина он заметил стройный силуэт, смутно ему знакомый. Желтое платье из шелкового муслина, соболья накидка, шляпка из тафты, украшенная перьями и фиалками, подбитые мехом башмачки — этот наряд очень шел его хозяйке, гибкой сильфиде с пышными бедрами. Виктор узнал ее вальяжную походку от бедра: это была Эдокси Аллар, она же Фифи Ба-Рен, она же Фьямметта, она же бывшая герцогиня Максимова. Он благоразумно отошел в сторонку, поскольку вовсе не жаждал потока любезностей от этой роковой женщины, самки богомола, пожирающей с равным успехом и соболей, и хахалей. Пусть Кэндзи отдувается.
Но Кэндзи на месте не оказалось. На его стуле восседал Ихиро Ватанабе, с наслаждением выписывая колонки статистических данных, которыми он надеялся осчастливить парижан, стоит лишь его будущей книге увидеть свет. Он обернулся на звон колокольчика.
— Мой микадо! — воскликнула Эдокси. — Ох, нет, это не ты, это кто-то другой… Позвольте поинтересоваться, вы не мандарин?
— Дорогая мадам, — ответил Ихиро Ватанабе, кланяясь, — знайте, что мандарины — всего лишь высокопоставленные служащие Поднебесной империи, а вот микадо — император Страны восходящего солнца. Мы с Мори-сан родом как раз оттуда.
— Не шутите? А, ну да, я припоминаю, мы встречались в этом отвратительном месте, где плясали трупы.
— Память вам не изменяет, — подтвердил Ихиро Ватанабе. — В этот вечер я восхищался вашей красотой, сравнимой с прелестью гейши, сбившейся с пути прекрасной женщины. В моей стране декларируют преклонение перед женщиной, но на самом деле ее низводят до уровня архитектурного излишества, обычной виньетки в книге.
— О, меня еще никогда в жизни не сравнивали с виньеткой и архитектурным излишеством! Вы так необычно выражаетесь, мсье! А ведете вы себя так же эксцентрично?
Ихиро просиял и поклонился ей еще раз.
— Мадам, вы мне льстите. Я люблю цифры, выписываю их в столбик, сравниваю, произвожу с ними различные действия, и они открывают мне свои секреты.
— О, я тоже люблю вычитать и делить. Вот моя визитная карточка, я принимаю после семи часов вечера, только мужчин, у каждого свой день. Мы разделяем удовольствие от встречи, затем вычитаем все лишнее, что, как правило, относится к одежде, и потом я гашу свечи. Ну это я для красного словца добавила, у меня в отеле газовое освещение. Ну, договорились, мой микадо? Готовы постучаться в мою дверку?
Ихиро поклонился еще ниже, а когда выпрямился, обнаружил, что Эдокси уже упорхнула.
* * *
Рауль Перо терпеливо ждал, когда какой-то бесноватый в шляпе с пером альбатроса оставит в покое воображаемого противника, которого он пытался поразить острием зонтика, изображающего, в его понимании, шпагу.
— К бою, жалкий хлыщ! И вот — великолепный переход из четвертой позиции в третью, выпад — вы убиты!
Он радостно загоготал, опустил свое оружие и потрусил дальше, цокая на ходу языком.
— Невероятно, сколько психов бродит на воле, — проворчал Жозеф.
— Ну, большинство из них безобидны. Вот этот тип раньше был булочником. Однажды фиакр влетел в стекло витрины и развалил все в его лавке. Он был разорен. С тех пор воображает себя то королевским мушкетером, то его лошадью.
— А у вас как дела?
— Сегодня как-то не блестяще, но вчера я продал неслыханно много книг, клиенты даже купили у меня малоинтересное старье, которое я хотел выкинуть. Уже сто лет такого не было. А как идет творческий процесс, пишете?
— У меня было внезапное озарение: роман про огромного тарантула, который таится в чреве Парижа. Жаль, мой крестный сегодня не вышел торговать, я бы рассказал ему свой план.
— Ваш крестный Фульбер стареет, этой зимой он предпочитает сидеть без покупателей в теплой комнате, а не на продуваемой всеми ветрами набережной. Ваш тарантул замечательно символизирует универсальную выставку, которая хочет раздавить нас своими металлическими лапами. Я предсказываю вам успех в 1900 году. Но, если позволите спросить, почему именно тарантул? Почему не гигантская черепаха, у нее такой внушительный панцирь…
Жозеф попрощался с приятелем, пробормотав на прощание, что подумает над его предложением.
«Черепаха… Еще бы сказал улитка! А кстати…» — он задумчиво смотрел на прохожих. Туман расползался по берегам Сены, в нем, подвывая страшными голосами, как плавучие призраки, двигались баржи и лодки. Да и люди тоже напоминали привидения. «О, идея: никаких тарантулов, никаких черепах, эпидемия некоей неизвестной болезни, парижане делаются прозрачными, как под воздействием рентгеновских лучей и постепенно тают, отправляясь прямым ходом в загробный мир. «“Замогильные жители” — очень даже броский заголовок!»
На улицу Сены ему идти не хотелось. Иногда рутина семейной жизни становилась для него обременительной. Он побродил по улочкам Латинского квартала, надеясь встретить там маститых писателей, и побаловал себя ужином в дешевом ресторанчике.
Лежа под одеялом, Айрис наслаждалась блаженным чувством — удовлетворением автора, завершившего свой труд. «Злоключения Мочалки, альпийской овчарки» были дописаны, оставалось только попросить Таша проиллюстрировать ее. Она попробовала, подобно своей четвероногой героине, посчитать баранов в стаде, пасущемся на зеленом склоне горы. Но сон все не шел. Почему Жозеф не приходит домой? С ним что-то случилось? Повздорил с комиссаром Вальми? Вперед наука, как играть в детектива, не обращая внимания на предостережения жены. Если только не… Она попыталась отогнать подозрение, которое зародилось в глубине души. Если только он не отправился на свидание с той, о которой грезил прежде, с Валентиной де Пон-Жубер, которая теперь стала подругой Таша! И так сильно она переживала и терзалась, и такое почувствовала облегчение, когда в замочной скважине провернулся ключ, что почувствовала себя совершенно без сил.
Жозеф зашел в детскую и долго смотрел на спящих детишек. Дафна обнимала во сне Фратуша, тряпичную куклу, которую Джина подарила ей на день рождения. Артур сосал палец и тихо посапывал.
Вдруг он остро почувствовал, как же должна была мучиться Колетт Роман. Видеть безжизненное тело своего обожаемого малыша на мостовой, знать, что виноваты в этом три злобных негодяя и пьяный извозчик! А стал бы он мстить, если бы оказался на ее месте? Если бы причинили зло его детям, как бы он себя повел?
Он бесшумно разделся и скользнул под одеяло к Айрис.
— Ты спишь?
— Уже нет. Какие у тебя ноги холодные!
— Ты меня любишь?
— Что с тобой? Ты заболел?
— Я спрашиваю, любишь ли ты меня, это разве симптом какого-то заболевания?
— Я до безумия тебя люблю! Но только с трудом переношу твои чудачества!
— Любимая, когда я подумаю, что кто-то может тебя обидеть, я голову теряю!
Она обвилась вокруг него, удивленно улыбнулась.
— Дорогой, уже давно ты не проявлял ко мне такого интереса. Мне это льстит, но будь, пожалуйста, осмотрителен, двое детей — это уже не так мало.
Он воспользовался долгим поцелуем, чтобы скользнуть рукой под тонкую льняную рубашку.
Спустя некоторое время, когда они пошли на кухню, он рассказал ей сюжеты, которые сочинил, пока ходил по улицам. Хотя Айрис и не слишком высоко ставила его романы, она всегда готова была дать ему ценный совет.
На улице Висконти Эфросинья, высунув язык от усердия, вписывала строчки в свой драгоценный кипсек
[1052], вечный наперсник всех ее бед и радостей. Она не преминула отметить свою важную роль в недавнем расследовании Виктора и Жозефа. Ведь лишь благодаря полученным от нее в наследство мужеству и стойкости сынок смог обуздать компанию разбушевавшихся скелетов!
Несколько строчек она посвятила очередному злодеянию Мели Беллак:
Эта раззява прочитала в рецепте пирога, что надо класть в тесто три целых яйца, и вот она кинула в миску три яйца вместе со скорлупой! Мсье Мори поцарапал себе небо, мне попало не в то горло, и я чуть не задохнулась! Ну, я ей показала, где раки зимуют, негодяйке! Она ревела как белуга, ну ничего, побольше поплачет, поменьше пописает!
Она перечитала и подумала, что эту забавную историю Жозеф может использовать в своих будущих романах, поскольку он прознал, где она прячет свой дневничок, где-где, в шкафу под стопкой простыней, и потихоньку его почитывал, чтобы расцветить свое повествование живыми деталями.
«Горе ему, если он нас с Айрис волновал ни за здорово живешь, бродил где-то до ночи! Иисус-Мария-Иосиф! Вечно тревожишься за этого вертопраха!»
Наспех подхватив волосы в узел на затылке, накинув блузу прямо на голое тело, Таша отважно набросилась на картину, изображающую Валентину де Пон-Жубер, сидящую в кресле с книгой в руке. Хотя глаза модели были опущены к раскрытой странице, лицо ее хранило заносчивое, упрямое выражение. Некоторое время назад Таша стала использовать в живописи не широкий мазок, а небольшие цветовые пятна, не совсем точки, как у пуантеллистов, но тем не менее без их влияния тут явно не обошлось. Она неустанно переделывала улыбку, линию щек, портрет ей не нравился, казался каким-то искусственным, жеманным. Подчеркнула очерк скул и тонкую линию носа, отошла, наклонила голову, окунула тонкую кисточку в черную краску, провела тоненькую темную линию вдоль одного виска, затем вдоль другого. Перед ней стояла сверхзадача: передать в портрете решимость своей новой подруги сбросить ярмо супружеского гнета и завоевать независимость. Несомненно, Таша таким образом подсознательно тоже старалась освободиться от слишком тесных для нее супружеских уз.
Она услышала, как дверь открылась и захлопнулась, но сделала вид, что не заметила прихода Виктора. Не зная, как начать разговор, он откашлялся, прочищая горло, потом подвинул кресло.
— Красивая работа, — в конце концов объявил он.
Она положила кисточку и палитру, крутанулась на месте.
— Я отказалась от идеи обсуждать с тобой твои подвиги. К чему тебя заклинать, все равно обещаешь, а потом не держишь слово. Обманываешь, что все эти дела неопасны, а в результате, если тебя не станет, что будет со мной и с Алисой?
— Я вообще-то не собираюсь исчезать, только если ты попросишь.
— Нечего ловить меня на слове. Это женская манера — переводить разговор на другую тему.
— В каждом мужчине есть частица женского. Поэтому, кстати, мне и хочется, чтобы ты сделала первый шаг.
— Первый шаг к чему?
— К примирению, когда движения говорят больше, чем слова.
Она не могла сдержать смех. Горбатого могила исправит. Виктор верен себе, и, возможно, поэтому она никогда не сможет с ним расстаться. Впрочем, не только поэтому.
Он избегает ссоры, уходит от выяснения отношений, ускользает от обвинений — и она в конце концов сдается. Она медленно сняла с него пиджак, потом жилет, потом рубашку. Он не двигался, только поднимал руки, помогая ей раздевать его. Когда он обнажился по пояс, она остановилась.
— А дальше?
— Останься так, только ботинки сними.
— А твоя блуза?
— Подними ее. Будем любить друг друга, как на тех эстампах, что обожает Кэндзи: на них интимные части тела появляются только после тщательного изучения.
Он не заставил себя упрашивать и принялся за исследование тайн ее тела, а она тем временем расстегивала ему брюки. Охваченные желанием, они двинулись в сторону алькова и уже готовы были повалиться на постель, как над детской кроваткой взметнулся звонкий голосок:
— Мама! Попить водиськи, позалуста!
Эпилог
Кэндзи в одиночестве ужинал на кухне, когда Джина наконец вернулась. Она прошла через соседний дом.
— Только тихо, — прошептала она.
— Вы что, боитесь, что я стану вас бранить? Так вы же совершенно свободны, дорогая.
Он сидел перед ней с салфеткой вокруг шеи, прямой как палка, и сурово смотрел на нее. Она подошла к нему еще на шаг. Он постарался всем своим видом изобразить безразличие — ни за что на свете он не признался бы ей, что жить без нее не может!
— Это правда, я действительно свободна. Пинхас уехал. А я — счастливая разведенка!
Невидимый зверь, который все эти дни выгрызал ему внутренности, разжал зубы и убрался восвояси. Ничем не выдав своего облегчения, он прикрыл глаза и сказал:
— Ну что ж, тем лучше.
— И все?
— Это отличная новость.
Кэндзи, казалось, хотел что-то добавить, но осекся.
— Я ожидала большего энтузиазма, — тихо сказала она.
Он хотел прижать ее к себе, поцеловать, но побоялся показаться смешным.
— Мы оба здесь иностранцы. Нужно собрать огромное количество всяких бумаг, потом разбираться с придирчивыми чиновниками. И кто будет всем этим заниматься? Конечно, я.
— Прежде вам нужно преодолеть в своем сознании предубеждение по поводу брака и сделать мне предложение по всем правилам. Засуньте хоть ненадолго куда-нибудь в шкаф ваше строгое воспитание, ваши невозмутимость и сдержанность, скорее даже британские, чем японские, станьте же вновь тем человеком, который так красиво за мной ухаживал! Или, может, вы тоже поддались всеобщей панике по поводу конца света? Джина Мори — звучит неплохо. И испанское
amor там явно читается… Все, как полагается!
Он подошел к ней и крепко обнял. Когда их губы соприкоснулись, у него из головы тут же улетучились все подозрения, все недовольство, которые были вызваны визитом Пинхаса. Он не был больше месье Мори, не был шестидесятилетним немолодым человеком, сомневающимся в своей мужской привлекательности. Он был только лишь влюбленным мужчиной.
Луи Барнав пригласил Фермена Кабриера пропустить после ужина по стаканчику красненького в «Бускара». Гарсон обслуживал их, брезгливо поджав губы и обмахиваясь веером, чтобы рассеять стойкую вонь от их одежды.
— Я ужасно разочарован. Конец света не состоялся. Что теперь с нами будет? Самое скучное во всей этой истории — что придется определяться со сроками, и потом еще куча невостребованных счетов, — проворчал Барнав.
— Ну может быть, на Земле и без кометы случится своя собственная катастрофа? — предположил Кабриер, потягивая вино.
— Как это? Я не понимаю, кто может быть ее причиной, уж явно не я.
— Я тут читал одну статейку про эксперименты в лабораториях. Представь себе полчища микробов, которых классифицируют по их вредоносности: холера, чума, сибирская язва, оспа, бешенство… Копнем поглубже, представим какого-нибудь рьяного профессора, который решит скрестить чуму с оспой, чтобы создать неизвестную напасть.
— А это возможно?
— А почему нет? Скрещивают же разных собак или коров для улучшения породы. Знаешь ли ты, как появился першерон? Я привожу в пример лошадей, поскольку в них разбираюсь.
— Да я тоже с ними имел дело, когда работал на компанию. Не хочу тебя обидеть, но мне глубочайшим образом наплевать на их генеалогическое древо.
— Он родом с Востока, вот так-то, мсье. Таких жеребцов выращивали много веков подряд арабы. Затем постарались животноводы-селекционеры, и в итоге это самая мощная в мире тягловая лошадь.
Барнав допил до дна и задумчиво посмотрел на стакан.
— А в общем-то ты прав, если люди производят оружие и взрывчатые вещества, от раза к разу все смертоносней, почему бы не заняться разведением микробов? Достаточно набрать полную пипетку этих тварей, забраться на Эйфелеву башню да и вывалить их на Париж! Заболеют все от моста Трокадеро аж до Томбукту!
— А ты как думаешь, пожалеем, что ли? Уже безжалостно были уничтожены краснокожие, африканцы и австралийские аборигены. Мы привыкли ни в чем себе не отказывать.
— Но ведь это может обернуться против нас самих!
— Да, и тогда откроется седьмая печать.
— И что будут печатать?
— Ты чего, это же из Библии, Апокалипсис!
— Да уже началось. У человека глаза завидущие, руки загребущие, он убивает, чтобы съесть, губит все на своем пути. Идет войной на брата, на зверей, на деревья. Это не конец света, это конец нашего мира, просто он произойдет не в одночасье.
— Ну тогда угощу тебя еще рюмашкой.
Кабриер сделал знак молчаливому официанту и встал перед стеклянной дверью.
— Ты видел, какие красивые звезды?
— Они прекрасны, как цветы в поле.
— А ведь есть люди, которые никогда не смотрят ни на звезды, ни на цветы.
— И на облака, на тучи, что клубятся на небе в бурю. Ветер стучит и завывает под крышей, а им хоть бы хны, они глухи как тетери.
— А еще сверчок, который поет в очаге. Он многое может поведать нам, тот сверчок.
— А запахи! Когда я вдыхаю запах тины под Новым мостом, вспоминаю море, корабли, дальные страны, куда я путешествовал в незапамятные времена и куда никогда уже не вернусь.
— Они не знают, откуда в Париже можно любоваться великолепными закатами. Они ненавидят гулять, они вечно торопятся. Их жизнь проходит, подобно душному летнему дню, и они умирают, даже не подозревая, что в мире столько совершенно бесплатных радостей! А все остальное — суета сует, наружный глянец.
— Это уж точно. Знаешь, пожалуй, пусть конец света подождет, на свете так много прекрасных вещей!
Они чокнулись и жадно выпили. Гарсон, случайно услышав глубокомысленный вывод Барнава, вынул из кармана фотографию и вгляделся в нее. Невеста улыбалась ему. Ее звали Филомена, и у нее были милые карие глазки. Парень залихватски присвистнул: будущее представлялось весьма многообещающим.
Виктор приготовил ужин. Он вернулся из глубины квартиры, неся блюдо сандвичей с паштетом, картофельный салат и бутылку вина. Поставил все это на круглый столик, подошел к Таша, которая стояла перед мольбертом.
— Мадам, кушать подано, — прошептал он ей в ухо.
— Пойду уложу Алису.
— Не надо, пусть пока поиграет.
Малышка перенесла все свои игрушки на кровать в альков. Она кормила их и укладывала спать, гладила по головке и бранила за провинности, как настоящая мамаша. Время от времени Алиса тыкала пальцем в портрет Кэндзи, висящий на противоположной стене, и строго говорила:
— Тисе! Кензи будет селдиться.
Виктор, глядя на нее, вдруг остро ощутил, что вчерашний младенец превращается в девочку. Какой она вырастет? Какое у взрослой Алисы будет лицо, какая фигура? Долго ли еще он и Таша смогут направлять ее жизнь, как быстро она станет самостоятельной и независимой?
Он глубоко вздохнул от нахлынувших чувств, откупорил бутылку Вальполичеллы
[1053], налил вина в бокал и вернулся к Таша.
— Дорогая, если кто-то причинит зло нашей дочке, ты станешь мстить или нет?
Она удивилась вопросу, положила кисточку в стаканчик и задумчиво ответила:
— Вот странно, представь себе, что я об этом думала совсем недавно. Воспоминание о погроме в Житомире меня преследует, мне до сих пор снятся кошмары. Не знаю, хватило бы мне смелости и физических сил, но скорей всего, я могла бы решиться даже на убийство.
Лицо Колетт Роман внезапно возникло пред глазами Виктора. Она улыбалась и кивала головой.
— Алиса, у меня для тебя подарочек. Угадай, что у меня в кармане?
Девочка подошла к нему, залезла пухленькой ручкой в карман. Вытащила пакет, перевязанный узенькой синей лентой, не церемонясь, сорвала обертку.
— Мистер Кроко!
Она прижала крокодила к сердцу и побежала знакомить с остальными плюшевыми домочадцами.
Послесловие
16 февраля 1899 года, в десять тридцать пять вечера директор префектуры полиции принял телеграфную депешу, подписанную Надо, офицером запаса.
Господин Президент Республики скончался от удара
Галантный Феликс Фор, прозванный «президент-Солнце», закончил свои дни на Елисейских полях, в маленькой голубой комнате, где он принимал свою любовницу, прелестную Маргерит Стенель.
Где-то часов в пять дня звон колокольчика поднял на ноги всех в доме. Охрана прибежала и обнаружила президента ничком на диване. Он хрипел, вцепившись одной рукой в волосы мадам Стенель, полуодетой, полуживой от страха. Ее тихонько выпроводили через заднюю дверь, выходящую на улицу Сент-Оноре. Прибыл врач. Легенда гласит,
что в дверях он спросил: «Президент еще в сознании?»
— Нет, доктор, он уже остался один
[1054].
Официальные заявления не содержали ни намека на присутствие мадам Стенель при кончине президента. Общепринятая версия такова: президент после продолжительной и мучительной агонии умер от кровоизлияния в мозг. Народная молва тем не менее тотчас окрестила мадам Стенель «мадам Катафалк». Разговоры постепенно унялись, дело было замято.
Жорж Клемансо, глава партии дрейфусаров, написал в газете «Заря»: «Я голосую за Лубе».
18 февраля Эмиль Лубе был избран президентом Республики. Этот шестидесятилетний осторожный человек, скорее консерватор по убеждениям, во время горячего обсуждения дела Дрейфуса никак не высказывался, но было ясно, что он осуждает позицию военных. Его приход к власти вызвал негодование националистов, особенно Поля Деруледа, ветерана войны 1870 года, рьяного антидрейфусара, который организовал вместе с Анри Мартеном «Лигу патриотов», девизом которой было: «Кто идет? Франция. Жива пока!» Этот прозаик был популярен среди школьников, которые переписывали на обложки тетрадок его воинственные реваншистские вирши, призванные пробудить в них боевой дух:
Да здравствует бомба!
Да здравствует бомба!
И пусть все разрушит, во веки веков!
Да здравствует бомба,
Да здравствует пушка!
Так начался первый день века.
Французы проявляли беспокойство. Власти собирались ввести подоходный налог. Народ считал, что это в духе старого режима. Богатые все равно найдут способ увильнуть. Рабочий класс и мелкие служащие страдали от уменьшения зарплат, роста цен — экономических последствий кризиса. Налог на собственность был окончательно введен только 15 июля 1914 года законом о финансах. Однако в 1899 году на вопрос: «Что такое француз?» журнал «Чтение для всех» дал ответ: «Это имущество, подлежащее обложению налогом».
В 1899 году государственные расходы дошли до трех миллиардов четырехсот семидесяти четырех миллионов золотых франков. Государственный долг возрос до тридцати трех миллиардов. Среднестатистический гражданин задавался вопросами: «Почему коммерческий экспорт немецких соседей выше, чем у нас? Как поднимать сельское хозяйство, промышленность и торговлю, если все ресурсы, вместо того, чтобы поступить в общее пользование, поглощаются бюджетом в пользу правящего класса за счет тех, кто работает и производит материальные ценности?»
В газете «Иллюстрасьон» за 3 июня появилась карикатура на тему экономического курса Отель-де-Виля: «Будущее? Будущее за нефтью!»
В ожидании светлого будущего прилавки заполонили два весьма востребованных товара: алкоголь и табак. Более четырех пятых потребления крепких напитков приходилось на рабочий класс. Продажа сигар, сигарет, курительного, нюхательного и жевательного табака принесла государственной казне более двухсот миллионов за первые шесть месяцев 1899 года.
23 февраля в Соборе Парижской Богоматери состоялись похороны Феликса Фора. После церемонии войска, прощавшиеся с президентом, возвращались в казармы Нейи. На площади Наций их поджидал Поль Дерулед. Он схватил за поводья лошадь генерала Роже, командира одной из частей, и закричал ему: «О мой генерал, двинемся на Елисейские поля!» Генерал Роже проигнорировал его слова. Тогда Поль Дерулед со своими товарищами проник во двор казармы и там продолжал взывать к солдатам. Его пытались прогнать, но он не уходил. Пришлось его арестовать.
31 мая трибунал департамента Сены вынес ему оправдательный приговор.
Но у сторонниов Дрейфуса тоже был свой повод ликовать. 3 июня кассационный суд опротестовал судебный приговор 1894 года и вынес решение репатриировать капитана Дрейфуса с острова Дьявола, чтобы он мог предстать перед новым военным советом. Большинство судебных служащих считали совершенно очевидным, что Дрейфус не писал той служебной записки, которая явилась причиной его осуждения.
Националисты были вне себя от ярости. Они организовали демонстрацию на ипподроме в Отёе, где Эмиль Лубе должен был присутствовать при скачках с препятствиями. На президента накинулись клубные джентльмены с бутоньерками из белых гвоздик в петлицах. Барон Кристиани ринулся на официальную трибуну и ударом тросточки сплющил в лепешку президентский цилиндр.
11 июня левые устроили свою демонстрацию, в которой приняли участие множество рабочих, которые несли красные знамена. Это знамя на многие годы стало символом ниспровержения старого мира.
Срочно требовалась сильная власть. 22 июня Пьеру Вальдеку-Руссо, блестящему адвокату пятидесяти трех лет от роду, сенатору департамента Луара, было поручено сформировать кабинет «республиканской защиты». Большинство левых сгруппировались вокруг Вальдека-Руссо, защищая прежнюю власть. В ответ националисты резко вильнули вправо.
Во главе военного министерства встал генерал маркиз Галифе, которому маневры генерального штаба вокруг капитана Дрейфуса казались полным абсурдом.
9 июня капитан Дрейфус на крейсере «Сфакс» покинул остров Дьявола и в ночь с 30 июня на 1 июля прибыл на Киберон. На специальном поезде, а затем в отдельном ландо его повезли с вокзала Орей в военную тюрьму в Ренне. Одет он был в синий костюм и черную мягкую фетровую шляпу, поседевшие волосы коротко стрижены. Обветренное лицо осунулось, рыжие усы повисли, плечи ссутулились, все говорило о смирении, лишь внимательный взгляд сквозь лорнет и решительная походка не вписывались в эту картину.
Одновременно с тем, как Дрейфус впервые предстал перед военным советом в Ренне, правительство в Париже отменило вердикт об освобождении Поля Деруледа. Сенат посредством Высокого трибунала вменил ему в вину заговор против государственной безопасности. Гонениям подверглись также руководители «Лиги патриотов», «Роялистского союза молодежи» и «Антисемитской лиги», возглавляемой Жюлем Гереном.
14 июля был ранен из огнестрельного оружия мэтр Лабори, который за год до этого был адвокатом Эмиля Золя, а теперь ассистировал мэтру Деманжу в защите капитана. Личность стрелявшего так и не была установлена. Рана оказалась не слишком серьезной, но адвокату потребовалось несколько дней отдыха.
Пока в Ренне роились генералы, политики, журналисты и фотографы, привлеченные судебным процессом, Жюль Герен с четырнадцатью соратниками забаррикадировались в здании «Лиги патриотов» на улице Шаброль, 51. Оккупанты назвали свое мероприятие «Великий закат Франции», пародируя франкмасонов с их «Великим восходом Франции». Так они надеялись избежать судьбы, уготованной Полю Деруледу. По сообщениям прессы, у заговорщиков были карабины Винчестер, револьверы, топорики, арсенал оружия и канистр с кипящим маслом, расположенный вдоль крыши. Префект полиции Лепин распорядился отключить воду и свет в их цитадели. Воители Герена на полном серьезе приготовились к осаде, они скудно подпитывались за счет припасов, которые им поставляли их сторонники, укладывая их на верхние этажи омнибусов, при этом скандируя: «Долой евреев! Да здравствует армия!». Они выдержали тридцативосьмидневную осаду голодом, а потом «Форт Шаброль» был сдан.
Свидетельница со стороны защиты, графиня де Мартель, писательница, известная под псевдонимом Жип, ответила президенту Высокого суда, который спросил, какова ее профессия: «Антисемитка!»
9 сентября трибунал в Ренне признал офицера Альфреда Дрейфуса виновным. Он был приговорен к десяти годам тюремного заключения. При этом судьи подписали прошение о помиловании. За границей отметили, что Франция «отреклась от человечности». Американцы объявили бойкот Всемирной выставке 1900 года.
Президент Лубе подписал прошение о помиловании 19 сентября. Дрейфус был освобожден, но не оправдан. Только в 1906 году кассационный суд подпишет его реабилитацию.
А Париж тем временем все обновлялся и хорошел. В январе была запущена семикилометровая линия трамвая на электрической тяге. Стартовал трамвай на площади Бастилии, до бульвара Дидро маршрут проходил под землей. У ворот Пикпус трамвай приходил на край Венсенского леса, а потом ехал на конечную, ворота Шарантон.
Воскресенье 9 июля — памятная дата для летописей общественной гигиены: окончательно была достроена система сточных вод, городская канализация, стоившая городу всего ничего — шестьдесят шесть миллионов.
Теперь было понятно, что метрополитен, соединяющий Венсенские ворота с воротами Майо, еще не будет пущен к моменту открытия выставки 1900. Тем не менее столица представляла собой сплошную стройку. На левом берегу Сены сооружали иноземные дворцы. Если смотреть с моста Альма, казалось, что перед тобой появляется огненный пасьянс, сияющие силуэты. Строительство итальянского павильона, турецкий павильон, строить который начали в сентябре, и американский, у которого строительные леса уже достигли второго этажа. На очереди были австрийский, боснийско-герцеговинский и венгерский павильоны.
Прокладка тоннеля на улице Данте (V округ) практически уничтожила старинный квартал Сен-Северин. Некоторые дома XIV и XV веков безжалостно стерли с карты города. Не пощадили и Шато-Руж, старинный отель «Гарансьер», ставший в 1840 году притоном, принимавшим клошаров и старьевщиков, которые выпивали вместе и валились спать.
19 ноября состоялась торжественная инаугурация «Триумфа Республики» Далу, заказанная Эмилем Лубе. Скульптурная группа, более соответсвующая духу XIX века, пришла на смену немалому количеству средневековых домиков! Возле Отель-де-Виля сформировался огромный кортеж и под торжественные марши дошел по улочкам и переулочкам до площади Наций. Процессия обогнула площадь, где была установлена официальная трибуна — сколько трибун Третьей республики не было построено в свое время — и памятник, затем спустилась в предместье Сент-Антуан до площади Бастилии по установленному отныне и во веки веков маршруту.
Школьники вернулись на занятия. Государственные служащие на каникулах добивали последних куропаточек. Бродячие торговцы жарили каштаны перед уличными кафе. Едва-едва начиналась осень, но после жаркого лета казалось, что зима уже на пороге. Трубочисты сбились с ног: все горожане одновременно захотели почистить свои очаги, трубадуи были нарасхват.
Трубадуи и прочие трубадуры из числа деятелей искусств пытались захватить музыкальные и театральные подмостки, и в том числе колонны Морриса! Среди этих людей можно назвать следующих известных личностей.
Вернувшись из английской ссылки, Эмиль Золя предложил своим читателям первое из «Четырех Евангелий», «Плодовитость», роман о рождении ребенка. Вышли в свет также «Сад пыток» Октава Мирбо, «Плохо прикованный Прометей» Андре Жида, «Земля умирает» Рене Базена, «Стихотворения» Стефана Малларме, «Мертвые говорят» виконта де Вогюэ, «Отблески на темной земле» Пьера Лоти, «И будем есть сено» Вилли. Появились также переводы на французский книг «Фома Гордеев» Максима Горького, «Воскресение» Льва Толстого, «Бремя белого человека» Редьярда Киплинга, «Ветер в камышах» У. Б. Йейтса.
В театре Сары Бернар представляли «Гамлета». В Опера-Комик можно было посмотреть «Золушку» Анри Каена, Поля Коллена и Жюля Массне. «Дама от Максима» Жоржа Фейдо прошла при полном аншлаге. В Комеди-Паризьен поставили водевиль Тристана Бернара «Что мы думаем об англичанах». Пьеса того же автора «Октав, или Планы супруга» была поставлена в театре ужасов «Гран-Гиньоль», а пьеса «Новобрачная из Туринг-клаба» угнездилась в «Атенее» Луи Жуве.
Во всем мире увеличилась смертность от рака. Например, в Англии в 1840 году от этой болезни умирал один человек из 5640, а в 1899 году уже из 518.
Как обычно, смерть делала свой выбор среди смертных. Вот кто удостоился посмертного некролога. Франсиск Сарсей (писатель, журналист, драматический критик), Анри Бек (драматург), Виктор Шербулье (писатель и критик), Эдуар Пейрон (драматург, поэт и журналист), Эмиль Эркман (писатель), Людвиг Бюхнер (немецкий философ и писатель), Роза Бонер (французская писательница), Альфред Сислей (английский художник-импрессионист, живший во Франции), композитор Эрнест Шоссон, Утагава Ёситаки (японский художник), а также Ла Кастильоне (Вирджиния Ольдоини, пьемонтская аристократка, которая была любовницей Наполеона III) и многие другие.
Один парижский гражданин потребовал спилить деревья в сквере за Собором Парижской Богоматери, поскольку, хотя они необыкновенно хороши, они скрывают абсиду памятника. К счастью, этот кощунственный акт запретили.
К вопросу о кощунственных актах: возник заговор против хирургов, их настоятельно принуждали брить бороды. Этот символ мужественности, считала общественность, представляет собой настоящее гнездо микробов, которые не может обуздать ни расческа, ни всякие антисептические присыпки. Хирурги сопротивлялись, вполне хватило, что им навязали обязательную чистку ногтей и ношение маски.
Общественное мнение стало гораздо меньше волноваться на тему бедствий, производимых разными видами оружия. «Пэлл-Мэлл газет» захлебывалась восторгом по поводу изобретения пули «дум-дум»:
«Дайте английским солдатам пулю, которая при малейшем ранении будет давать жесточайшие разрывы, и враги Англии дважды подумают, прежде чем столкнуться с английскими войсками».
На это газета «Иллюстрасьон» ответила:
«Иллюзорная надежда! Ведь ваши враги озаботятся, прежде чем вступить в сражение, разрывными снарядами, перед которыми ваши “дум-дум” — детский лепет на лужайке. Спросите лучше у папаши Крюгера, в Трансваале, позволит ли он застать себя врасплох. А буры-то хорошо стреляют!»
Буры — потомки голландских и французских колонистов, которые основали поселения в Южной Африке, первые в 1652 году, другие в 1685 году в связи с отменой Нантского эдикта. Англичане начали их угнетать и притеснять, а в 1795 году начали поселяться в этих местах с тем, чтобы в 1815 объявить себя хозяевами мыса. Буры в 1840 году отступили к Наталю, а три года спустя их выбили из города. Тогда они отступили к рекам Оранжевой и Вааль и организовали там свободную Оранжевую республику. Но англичане вновь победили их, и десять тысяч буров форсировали Вааль и основали Республику Трансвааль. В 1852 году англичане признали независимость двух бурских государств, но в обход всех договоренностей в 1877 году решили поместить Трансвааль под свой протекторат. Из этого ничего не вышло, и начиная с 1881 года Южно-Африканская Республика жила по своим законам.
Однако объектом британских притязаний стали золотые рудники, которые открывались и активно разрабатывались в этом районе. Опять бурам пришлось защищать свою территорию. Земледельцы и скотоводы, они при этом были неплохими стрелками и отличными солдатами. Они сохранили законы и обычаи своих предков, семья у них организовывалась по патриархальному принципу, они рано женились и рожали много детей.
Их глава, генерал Жубер, взял на себя управление военными делами. В Великобритании Джозеф Чемберлен и его сподвижник Сесил Родс, полновластный хозяин английской Южной Африки и огромных примыкающих к ней территорий (так называемой Родезии), формируют в общественном мнении представление об английских владениях в Африке от мыса Игольный до Каира. В деле был замешан меркантильный интерес: английские финансовые компании, созданные для эксплуатации трансваальского золота, стремились избавиться от арендной платы, которую приходилось выплачивать Южно-Африканской Республике.
Кабинет в Лондоне объявил, что их цивилизационный долг — противостоять тирании буров, угнетающих местных туземцев — зулусов и готтентотов. Среди иностранных эмигрантов (уитлендеров), живущих в Трансваале, стали разжигать возмущение режимом президента Поля Крюгера, прозванного Дядюшка Поль, смелого и упрямого крестьянина. Он принял решение присоединиться к свободной Оранжевой Республике.
В середине 1899 года переговоры между Трансваалем и Англией были прерваны. 11 октября Англия объявила войну двум южноафриканским государствам. Англичане маршировали по улицам, распевая во все горло «Правь, Британия!» и потрясая Юнион-Джеком
[1055]. Все были убеждены, что штурм Претории — это детские игрушки, и оставались глухи к словам некоторых пессимистов, утверждавших, что буры, хотя в их вооруженных силах всего шестьдесят тысяч солдат, отважны и хорошо тренированы, и что это только начало несправедливой войны…
Удастся ли англичанам вырвать этот, как они сами его называли, «гнилой зуб империи»? В любом случае научно-технический прогресс вдохновил одного американского дантиста на идею укреплять больные зубы, вгоняя в корень металлические штырьки и заливая вокруг цементом. За несколько минут зуб с дуплом преображался в монолит, стойкий к внешним воздействиям.
Но в каком бы состоянии ни находилась зубная эмаль жителей Земли, по мнению профессора астрономии Венского и Пражского университетов Рудольфа Фальба, им предстояло вскорости стать космической пылью. 13 ноября 1899 года между двумя и пятью часами дня комета Якобини должна была столкнуться с нашей планетой. Выброс тепла в результате этого удара должен был быть такой, что обоим небесным телам предстояло исчезнуть.
Но комета пощадила нашу старую добрую Землю, где возродился из пепла огромный диплодок
[1056], восстановленный благодаря исследованиям Музея естественной истории Карнеги.
В этом году родилось множество замечательных людей, среди которых американский танцор и певец Фред Астер, французские композиторы Жорж Орик и Франсис Пуленк. Американский пианист, композитор и руководитель оркестра Дюк Эллингтон. Американские актеры и актрисы Хамфри Богарт, Джеймс Кэгни, Глория Свенсон. Французские актеры Марсель Далио и Шарль Буайе. Аргентинский писатель Хорхе Луи Борхес. Бельгийский писатель и поэт Морис Карем. Французский художник и поэт бельгийского происхождения Анри Мишо. Писатель, поэт и литературный критик русского происхождения Владимир Набоков. Французский писатель-сюрреалист Бенжамен Пере. Английский писатель Невил Шют, живший в Австралии. Французский поэт Франсис Понж, писатель-сюрреалист Роже Витрак, писатель Луи Гийу. Британский драматург Ноэль Коуард. Американский писатель Эрнест Хемингуэй. Деятель французского Сопротивления Жан Мулен, убитый фашистами в 1943 году. Американский фотограф венгерского происхождения Артур Феллиг, прозванный Уиджи. Французский фотограф, художник и скульптор Дьюла Халас (Брассай), тоже по происхождению венгр. Самый знаменитый американский гангстер Аль Капоне, прозванный Крестным отцом, родом из Италии… И англо-американский режиссер Альфред Хичкок!
Родись он чуть пораньше, сумел бы в детстве насладиться первыми фильмами Жоржа Мельеса, братьев Люмьер и Шарля Пате.
Среди лент, выпущенных в 1899 году, можно отметить «Дело Дрейфуса» и «Спиритический сеанс» Жоржа Мельеса, «Последний день Помпеи» Роберта Уильяма Поля, «Скандал над чашкой чая» Джорджа Альберта Смита, «Злодеяния телячьей головы» Фернана Зекка, а также множество документальных фильмов. Кинематограф постепенно становился еще одним видом искусства, седьмым по счету.
Никакого сомнения, что будущий сэр Альфред в эти годы снял бы какой-нибудь концептуальный саспенс и назвал его «Последние дни телячьей головы над чашкой чая. Спиритическое дело», а вдохновляющим мотивом этого фильма стало бы обидное несовпадение конца века и конца света.
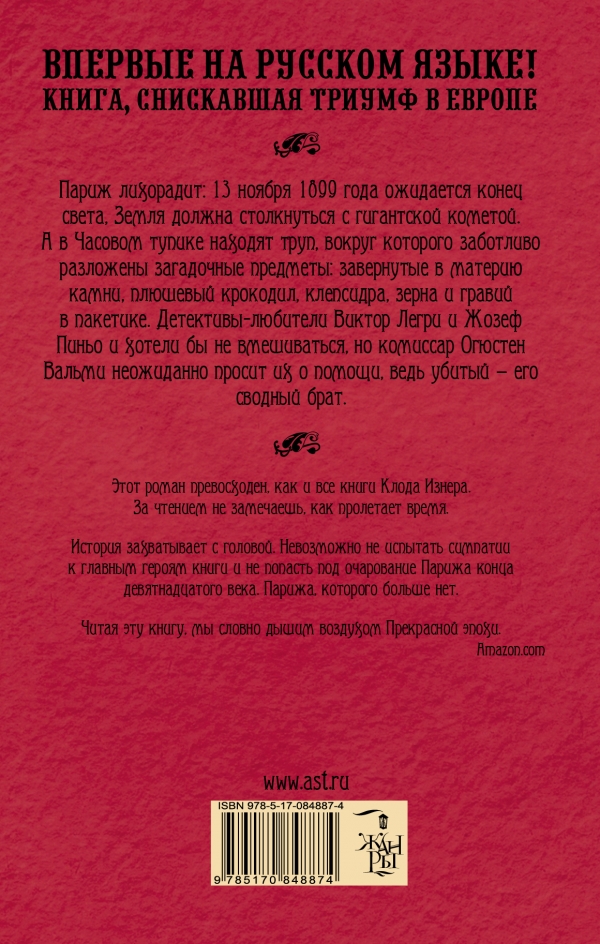
Клод Изнер
Дракон из Трокадеро
Посвящается нашей мамочке Этии, которая дала нам жизнь, подарила свою фамилию, научила любить и привила вкус к книгам
В приходе Всех Святых я с бабой жил своею.
Я мебельщиком был, модисткою – она.
Мы много долгих лет не знали горя с нею:
И полон дом добра, и толстая мошна.
Коль в воскресенье был денек пригожий,
Мы, приодевшись, шли рука к руке
Взглянуть, как в переулке Краснорожей
Буржуев будут тяпать по башке.
Там брызжут весело мозги,
Толпа гогочет: «Каково!»
Король Убю раздаст долги!
Альфред Жарри
Из пьесы «Убю рогоносец»
Перевод с французского осуществлен по изданию «Le dragon du Trocadéro»
Éditions 10/18, Département d’Univers Poche, 2014
© Éditions 10/18, Département d’Univers Poche, 2014
© Липка В., перевод, 2014
© ООО «Издательство АСТ», издание на русском языке, 2015
Глава первая
Пятница, 20 июля 1900 года
Они стояли на мосту Александра III. Ихиро Ватанабе страстно хотел, чтобы вид огромного города, возведенного в центре столицы и обреченного очень скоро исчезнуть с лица земли, с первого взгляда поразил кузена до глубины души.
В этом эфемерном городе заложили фундаменты дворцов, призванных превзойти серали из восточных сказок, построили целый квартал, в котором блеск прошлого чередовался с многообещающим будущим, затем произнесли с дюжину речей о славе нации и международном престиже и стали настойчиво вбивать в головы французам два слова, предназначенные отвлечь их от повседневных забот: Всемирная выставка.
По берегам Сены, на которой среди яхт и барж сновали прогулочные пароходики, выстроились в ряд каменные фасады всех размеров, оттенков и фактур. Ихиро показал на лес башенок, дозорных вышек и коньков крыш.
– Весь Старый Париж на участке в триста метров длиной. За пешеходным мостом Инвалидов
[1058] взору предстают оранжереи Дворца садоводства и огородничества, Дворец конгрессов, мост Альма, чуть дальше посетителям предлагается ряд захватывающих дух зрелищ: Большое колесо
[1059], Луна с расстояния всего один метр
[1060].
Исаму прилагал отчаянные усилия, чтобы не зевать. Ему было невыносимо скучно, донимала жара, хотелось пить. Все эти сооружения, плоды воображения амбициозных архитекторов, выросшие как грибы после дождя, напоминали ему немыслимых размеров базар. Цветовая гамма – да, никаких вопросов. Довольно удачная компоновка. Но такому человеку, как он, без конца бороздившему моря и океаны, побывавшему в самых разных уголках мира, от Сан-Франциско до Гонконга, и ходившему на судне вдоль берегов Западной Африки, коммерческие ярмарки, даже самые яркие и кричащие, были совершенно безразличны.
– Ну, что скажете, Исаму-
сан? – спросил Ихиро. – Чтобы увидеть все, никакого времени не хватит. Хотя сегодня вы ознакомились со значительной частью достопримечательностей.
Исаму хранил молчание. Ихиро с беспокойством поглядел на него. Неужели кузен не испытывает даже толики восторга?
– На набережной Орсе расположилась улица Наций, – продолжал он, – Мадрид, Копенгаген, Будапешт, Венеция, Нюрнберг! Кузен, пойдемте ко входу 24.
Исаму вовсю старался не выдать своей усталости. В конце концов, старик оказал ему самый радушный прием. Неожиданное везение, позволившее на время оставить у него товар, чтобы затем, не торопясь, надежно его спрятать. Ради этого можно было немного потерпеть неуемную склонность родственника скармливать собеседнику сведения, действующие почище любого снотворного. Ихиро упорно обращался к нему «Исаму-
сан», видимо, напрочь забыв о том, что этот кузен, будто свалившийся с неба, был американцем и от японца в нем остались лишь внешность да знание языка.
– Всего таких входов сорок пять, и это если не считать главного, монументальных ворот на площади Согласия – в них семьдесят шесть проходов, воспользоваться которыми могут шестьдесят тысяч человек. Выставка открыта с восьми утра до одиннадцати вечера. Семь почтовых отделений и… Куда я засунул список парижских ресторанов?
У Исаму было лишь одно желание: оградить себя от этого нескончаемого потока слов. Он вот уже две недели жил у кузена в крохотной двухкомнатной квартирке на улице Лекурб. Когда он поднимался по лестнице, его брал за горло тошнотворный запах ассенизационных бочек. Исаму не был чересчур изнежен, но такую вонь вынести не мог, это было выше его сил. Везде, с первого по седьмой этаж, царила немыслимая грязь. В квартирах, тесно сгрудившихся на лестничных клетках, он мельком видел детей, которые лежали в деревянных ящиках, набитых соломой и заплесневелым тряпьем. Картина напомнила ему плавание на борту «Токио Ши», который в феврале 1885 года доставил его, в числе девятисот пятидесяти эмигрантов, из Японии на Гавайи… Это было так давно – и будто бы вчера! Несколько недель назад Исаму совершил трудное и опасное путешествие, будущее рисовалось туманным и вселяло тревогу.
– Предполагается, что выставку увидят свыше пятнадцати миллионов посетителей. Могло бы быть и больше, если бы Англия из-за войны в Трансваале не была в трауре, а Франция не всполошилась после объявления о намерении послать войска в Китай. Иностранные дипломатические миссии в Пекине держат осаду… Исаму-
сан, вы меня слушаете?
Исаму часто щурил глаза. От неустанно жестикулировавшего кузена он будто пребывал в каком-то хмельном угаре, отделывался дежурными фразами и тщательно следил за тем, чтобы не допустить промаха.
– Прискорбно, – сказал он.
– Ага, нашел! Вот он, мой список. Исаму-
сан, вам известно, что в столице насчитывается две тысячи кафе и полторы тысячи ресторанов? «Прюнье», «Дюран», «Вебер», «Максим», «Ноэль Петерс», «Поккарди»…
Силуэты прохожих корчились в ослепительном сиянии солнца, напоминавшем собой дыхание невидимого дракона. Многие усиленно обмахивались газетами, веерами, кусками картона. За пеленой зноя Исаму разглядел господина в большой надвинутой на лоб панаме. Из-за обостренных до предела чувств ему показалось, что к сюртуку этого человека принайтовлены начищенные до блеска медные пуговицы. Мир вокруг поблек, как в тумане, внимание привлекали лишь эти пуговицы.
«Может, галлюцинация?» – спросил он себя.
Обзор перегородило многочисленное семейство. Мужчина с медными пуговицами испарился. Исаму напрягся, от ощущения опасности пульс забился быстрее. Все имеет свою цену. Передышку он получит только тогда, когда убедится, что товар в надежном месте. Сразу после захода в сенегальский порт Сен-Луи Исаму по множеству мелких признаков определил, что уверенность, которую он испытывал, вполне могла оказаться фикцией. Неужели за ним следили?
– Вы обязательно должны увидеть ночную иллюминацию во Дворце электричества. Ох уж этот прогресс, Исаму-
сан!
Чтобы справиться с волнением, Исаму отмахнулся, будто отгоняя воображаемую муху. В голове проносились случайные мысли: плантация сахарного тростника… Рыбный рынок… Дом терпимости, завсегдатаями которого были экипажи китобойных судов… Дружба с Робером Туреттом, обосновавшимся во Флориде французом, который зарабатывал на хлеб продажей рисунков экзотических птиц, выполненных гуашью. Когда Исаму сказал ему, что в Париже у него живет кузен, Туретт спросил его адрес: «Зайду передам от вас весточку. Через пару месяцев я как раз собираюсь в Париж, попытаюсь продать издателям эстампов мои орнитологические этюды».
За два года до этого Туретт предложил ему содействие и поддержку. Эта неожиданная помощь вдохнула в Исаму новые силы. Всем урокам, которые ему преподавал Робер, он придавал конкретное воплощение и был готов на все, лишь бы покончить со своим положением изгоя. А теперь, почти достигнув цели, был вынужден шляться по Парижу в компании совершенно незнакомого кузена, по вечерам маячившего у входа в театр в облачении самурая.
– Как-то мне досталась контрамарка в Музей истории армии, – продолжал Ихиро. – Раньше противники сражались с помощью одинакового оружия, но сейчас каждая военная кампания характеризуется каким-нибудь новым, доселе неведомым изобретением. Винтовки системы Шаспо, пулеметы, шрапнель, броненосцы, миноносцы, а завтра – даже аэростаты! Летать – это же мечта любой современной нации!
– Грань между мечтой и кошмаром порой бывает очень хрупкой, – ответил Исаму.
Он потому и оказался сегодня здесь, что верил в свою мечту. Исаму помнил изнуряющую рубку сахарного тростника, сдерживаемый гнев, бегство в Гонолулу, где он застрял в роскошном борделе под названием «Дом певчих птичек», свою покорность – и бунт, тщательно скрываемый за неизменной улыбкой. Мойщик посуды! Тысячи тарелок, бокалов, ножей и вилок ждали его в мыльной воде, пока все эти господа и дамы прохлаждались в любовных гнездышках, выдержанных в розовых или алых тонах и до самого потолка выложенных зеркалами. И единственная возможность убежать от действительности: уроки французского, которые ему преподавал Робер Туретт. Несколько месяцев спустя Исаму сделал для себя важное открытие: человек живет сегодняшним днем, и если ему представляется та или иная возможность, упускать ее нельзя. Вот так, при посредничестве Робера Туретта, капитан одной торговой шхуны и взял его на борт в качестве кока.
Бросив на какую-то женщину любвеобильный взгляд, Исаму с удовлетворением убедился в силе своей притягательности. Боцман клятвенно заверял его, что парижанки по достоинству оценят присущий ему восточный шарм. Но нужно было соблюдать осторожность, сейчас нельзя было ставить под угрозу успех всего предприятия, окунаясь в водоворот любовных приключений. Позже, когда товар обменяют на звонкую монету, он, перед тем как покинуть эту фривольную, недалекую страну, обильно вкусит плотских утех.
– Завтра я покажу вам метрополитен, – заявил Ихиро, – блестящее новшество.
– Я уже пользовался подобным видом транспорта. В Нью-Йорке он наземный. Что же касается подземных железных дорог, то в Лондоне они функционируют вот уже сорок лет, в Чикаго восемь, в Будапеште и Глазго четыре, в Бостоне три, в Вене – два, – равнодушно возразил Исаму.
Он был недоволен и взвинчен, для его оголенных нервов разглагольствования кузена были просто невыносимы.
– Вы прекрасно осведомлены, Исаму-
сан, – прошептал тот. – Если бы вы поделились со мной своими знаниями, они прекрасно дополнили бы собранные мной материалы. Видите ли, вместе с одним нашим соотечественником, который держит книжную лавку, я собираюсь написать книгу по статистике.
Исаму в знак одобрения кивнул, повернулся к кузену спиной и углубился в лабиринт турецких минаретов, венгерских донжонов и итальянских куполов, рядом с которыми высился и Толедский алькасар…
– Исаму-
сан, прошу вас, давайте держаться вместе, иначе мы заблудимся!
Ихиро вклинился в плотный человеческий поток, столпившийся у входов. Толпа, безостановочно двигаясь дальше, запротестовала:
– В очередь! В очередь!
– Назад! Вот прут, нахалы! Вы что, по-французски не понимаете?
Исаму, глубоко уязвленный, попятился было назад, но Ихиро потянул его за рукав. В этот самый момент он почувствовал, что кто-то сунул ему в ладонь какую-то бумажку, удивленно обернулся, но, увлекаемый толпой, был вынужден следовать за ней, расчищая вокруг себя свободное пространство.
– Ну, вот мы на месте! – воскликнул Ихиро. – Не зря этот самодвижущийся тротуар назвали «улицей Будущего»! Взгляните наверх, кузен, он имеет две скорости! Неподвижный настил обеспечивает доступ к подвижным платформам. Пойдемте, я вас приглашаю.
Исаму разжал кулак, развернул бумажку и прочел:
Safe and sound at home again
Let the water roar, Jack…
Don’t forget your old shipmate…
AND REMEMBER MARY CELESTE[1061]
В горле встал ком.
– Эй вы, косоглазые! Становитесь в очередь, вы что, лучше других? – возмутилась мамаша, все богатство которой составляли трое взбудораженных донельзя мальчишек.
Ихиро поклонился.
– Тысяча извинений, мадам, у меня и в мыслях не было…
– Смотри-ка, вы говорите на нашем языке! Не напирайте, малышей задавите.
– Не беспокойтесь, мадам, скорость способствует росту. Взгляните вон на тех юных девушек, прогуливающихся под сенью деревьев. Они такого же роста, как вы, метр шестьдесят, может, на пару сантиметров выше или ниже. Поскольку жара стоит просто невыносимая, они прохаживаются со скоростью двух километров в час. Но если бы эти мадемуазели воспользовались самой быстрой полосой самодвижущегося тротуара, то двигались бы уже со скоростью восемь километров в час. Реши вы их догнать, у вас ничего не получилось бы. Для этого вашим ногам нужно было бы стать в четыре раза длиннее, а вам вытянуться вверх до шести метров восьмидесяти сантиметров.
Мамаша была так ошарашена, что даже забыла достать деньги. Ее собеседник тем временем решил довести свою демонстрацию до логического завершения:
– Рассуждая подобным образом, можно придти к выводу, что тягаться в скорости перемещения с пассажиром поезда под силу лишь великану ростом в сто один метр. Улавливаете?
– Ну дела! Только этого мне еще не хватало! Бред какой-то! Правильно говорят – этим китайцам все нипочем. Пойдемте, ребятки, от этого малахольного надо держаться подальше.
Исаму пребывал в состоянии какой-то мучительной летаргии, тревога в его душе оспаривала пальму первенства у раздражения. Вместе с кузеном он подошел к неподвижной платформе, перепрыгнул медленный тротуар и сразу оказался на быстром.
– Исаму-
сан, вы так все кости переломаете! – крикнул ему Ихиро. – Встретимся у панорамы «Вокруг света», вход 18.
Его голос потонул в общем шуме.
Исаму казалось, что его всасывает какой-то колодец. Перед глазами промелькнуло мимолетное видение человека в сюртуке с медными пуговицами – тот стоял перед ангарами на причале порта Сен-Луи. Мимо проплывали творения архитекторов Италии, Соединенных Штатов, Мексики, французская экспозиция, Русский павильон, выстроенный из дерева и украшенный ажурными фризами, – но Исаму ничего этого не видел. Чтобы понять, что над ним нависла угроза, ему не нужно было еще раз читать зажатую в руке записку. В памяти всплыли слова Робера Туретта: «Действия можно предпринимать лишь тогда, когда есть уверенность в их результате».
За Марсовым полем в небо вонзался ажурный желто-оранжевый шпиль. Исаму увидел перрон, спрыгнул на платформу, скатился по лестнице и неподвижно, затаив дыхание, застыл перед пагодой с красно-синей крышей.
– Исаму-
сан! Вы заставили меня побегать. Я уж думал, что потерял вас! Знаете, сколько краски понадобилось, чтобы вернуть Эйфелевой башне молодость? Шестьдесят тысяч литров! Такое ощущение, что она сделана из золота, правда?
Исаму провел рукой по лбу и сделал глубокий вдох. Задумался. И вдруг бросился бежать.
– Исаму-
сан, подождите! Я…
– Мсье Ватаб! – прогремел чей-то баритон.
Ихиро Ватанабе резко обернулся. Так коверкать его фамилию мог только один человек, мать Жозефа Пиньо, партнера господ Мори и Легри. Японец хотел было раствориться в толпе, но было слишком поздно – дама, одетая во все зеленое, преградила ему путь к отступлению.
– Мадам Эфлосинья, – с поклоном сказал Ихиро.
Он прекрасно владел французским, но называя имя этой несносной дамы, способной человеку всю плешь проесть, вместо «р» преднамеренно произносил «л».
«Что это у нее на голове, – подумал Ватанабе, – сбежавший из клетки попугай?»
Эфросинья Пиньо стояла под руку с бочонком, разряженным не менее ужасно, чем она сама: консьержкой дома, в котором жил Мори-
сан, владелец книжной лавки. Завидев Ихиро, та надула губки в презрительной гримаске.
– Мсье Ватаб, вы тоже опробовали это дьявольское изобретение? – воскликнула Эфросинья. – Меня оно повергло в совершеннейшее изумление, даже живот прихватило. Впрочем, есть от чего. Что собрались смотреть?
– Пока не решил. Я должен встретиться с другом.
– А вот мы, несмотря на взбунтовавшиеся желудки, решили поиграть в храбрецов и отправиться в Мареораму, это рядом со станцией «Марсово поле». Говорят, там можно прокатиться на пароходе, который даже реальнее настоящего, – изрыгает клубы дыма, качается, будто на волнах, вокруг бушует буря, сверкают молнии, заходит солнце, а на небе видны звезды и луна! Запах йода и, если верить проспектам, рахат-лукум в виде поощрительного приза.
– Меня стошнит, – выдала прогноз консьержка.
– Да нет же, Мишлин, на самодвижущемся тротуаре было хуже! Мы же современные мореплавательницы! Вы только подумайте, моя дорогая, за один час нам предстоит пересечь все Средиземное море, зайти в порты Сфакса, Танжера, Неаполя, Венеции, Константинополя! Какое захватывающее путешествие!
– В таком случае счастливого пути, не опоздайте к отплытию, – проворчал Ихиро и приподнял шляпу. – Честь имею, мадам.
Чтобы сбить их с толку, он направился к панораме Альпийского клуба и сделал вид, что рассматривает рекламные объявления, восхваляющие горные вершины Франции. Затем бросился к панораме «Вокруг света». Исаму нигде не было видно. Ихиро присел на каменный столб, приложил руку козырьком ко лбу и увидел морскую фуражку, надетую поверх седых волос средней длины.
– Исаму-
сан! Вам плохо?
Залитое потом лицо кузена выражало растерянность.
– Жара стоит просто удушливая. Пойдемте домой.
– Конечно, конечно, я приготовлю вам чаю – в полном соответствии с традицией.
Им пришлось пропустить вереницу рикш, кативших перед собой разодетых в пух и прах апатичных созданий. Чтобы обогнуть Мареораму, Ихиро пришлось свернуть в сторону. Он был огорчен и очень сожалел, что не смог показать кузену театр Лои Фуллер
[1062], в котором работал билетером.
По мере того как они углублялись в квартал Дюпле, пестревший заросшими, незастроенными пустырями, Всемирная выставка, похожая на мечту большого города, уставшего зарабатывать на хлеб насущный, становилась все призрачнее. Реальность, порой весьма неприглядная, вновь вступала в свои права. Дорогу то и дело перегораживали изгороди. Огибая их, Ихиро и Исаму сталкивались с кирасирами, которые носили украшенные плюмажами шлемы и донимали своими приставаниями девушек на побегушках, отправившихся выполнять поручения хозяев. Изо всех сил лупил молотом по наковальне кузнец, в воздухе висел тошнотворный запах жженого рога и навоза, за обладание которым дралась кучка воробьев. Изможденный пес лежал, высунув язык. На размякшем асфальте площади Коммерс спали бродяги. Заточённые в зловонных стойлах, мычали коровы. Механические мастерские и фабрики по производству химикалий вели ожесточенное наступление на шеренгу огородов, вокруг которых бродили старьевщики.
Они миновали театр Гренель, затем газовый завод, оставили позади рабочий поселок с красивым названием Всемирный городок, больше похожий на трущобу, всех обитателей которого, за исключением прикорнувшей на табурете старухи, разогнало палящее, безжалостное солнце, и неспешно пошли дальше. Первым шел Ихиро. Его внимание отвлекла крыса, побежавшая к растрескавшейся стене. В этот момент рядом с ухом, почти коснувшись его, со свистом пролетело что-то темное и продолговатое. Послышался удар. Исаму рухнул навзничь. Подумав, что кузен упал в обморок, Ихиро подскочил к молодому человеку и склонился над ним.
Откинув голову назад, Исаму вытаращенными глазами созерцал небытие, из уголков его губ вытекали две струйки крови. В груди торчал какой-то стержень, снабженный оперением.
Ихиро сдавленно икнул. С трудом превозмогая тошноту, он упал на колени, из последних сил стараясь не терять сознания. Взгляд его был прикован к левой ладони кузена – из-под медленно разжимавшихся пальцев все явственнее проступал смятый клочок бумаги. Ихиро дрожащей рукой схватил его, будто какое-то омерзительное насекомое. Затем с трудом выпрямился на негнущихся ногах и оценил ситуацию. Стрела. Исаму убили стрелой, вонзившейся прямо в сердце. Ихиро в ужасе огляделся по сторонам, глубоко вздохнул и бросился наутек.
Глава вторая
Суббота, 21 июля
Облокотившись на прилавок книжной лавки «Эльзевир», Виктор Легри читал «Трое в лодке»
1.
[1063]Несмотря на ранний час, с улицы Сен-Пер через открытую дверь уже проникал обжигающий воздух. Накануне метеорологическая станция парка Монсури зарегистрировала температурный рекорд – 38,6°. От зноя в Париже и пригородах уже умерли четырнадцать человек.
Виктор снял сюртук. Поставив рядом стакан с водой, он наслаждался юмористическим описанием путешествия трех друзей по Темзе. В душу опять закралась ностальгия по Англии.
Легри взял два выходных, чтобы свозить в Ножан жену и дочь. Таша восстанавливала силы после реализации изнурительного проекта. Спустя нескольких недель упорных усилий она представила одно из своих полотен на Выставке десятилетия
*[1064]в Большом дворце. Они активно предавались ничегонеделанью на берегах Марны, посещали набитые до отказа ресторанчики, в которых польку можно было станцевать, лишь растолкав соседей локтями, и катались на лодке по реке. Эта импровизированная эскапада их сблизила, но не настолько, как хотелось Виктору. Он хоть и обожал их дочь Алису, но, к своему удивлению, сожалел о том, что ее присутствие не позволяло им с Таша предаться любовной неге. Когда-то еще ему и жене представится возможность побыть наедине и насладиться друг другом? Пару летних дней нужно будет употребить на то, чтобы совершить велосипедную прогулку по окрестностям Парижа. А еще сводить Алису на выставку и посвятить часть свободного времени фотографии, которую он в последние несколько месяцев основательно забросил. Виктор поклялся навести порядок в своей лаборатории на улице Фонтен.
«Что, старина, медлишь и покрываешься плесенью?»
Легри бросил взгляд на новые приобретения, сваленные в торговом зале у подножия стеллажей, но даже пальцем не пошевелил, чтобы расставить их. Что касается литературных новинок, Жозеф выставит их на витрине. Хотя шансы на то, что это барахло привлечет в лавку покупателей и заставит их толпиться в попытках купить «Смех» Бергсона
[1065] или «Дневник горничной» Мирбо
[1066], равны нулю.
Он улыбнулся, вернулся к чтению и не отказал себе в удовольствии перевести и записать
фразу специально для Жозефа, совершенно переставшего заниматься английским:
Я люблю работу: работа увлекает меня. Я часами могу сидеть и смотреть, как работают[1067].
«А если нам взять этот девиз на вооружение?»
В лавку проскользнула чья-то тень. Виктору стало неуютно – с мирной жизнью было покончено. Он поднял голову, но вместо клиента увидел перед собой моржовые усы.
– Господин Ватанабе! Каким попутным ветром вас к нам занесло? Как поживаете?
– Растворяюсь в декоре, Легри-
сан.
Любитель статистики пребывал в плену огромного замешательства. Костюм на нем был помят, шляпа съехала на бок, руки сжимали внушительное количество сумок и чемодан.
– Переезжаете?
– Я попал в беду, и если меня кто-то и может спасти, то только Мори-
сан, ваш почтеннейший компаньон.
– Он спит. Доверьтесь мне, я буду нем как могила.
Ихиро Ватанабе выронил из рук сумки и приложил к губам палец.
– Тсс! – прошептал он. – Никогда не произносите это слово, демоны не дремлют! Мы одни?
Ихиро дрожал, на щеках его проступили пунцовые пятна, от него, обычно ухоженного и аккуратного, несло, как от хорька. Он перегнулся через прилавок и едва слышно молвил:
– Мой кузен… Его убили. Он поселился у меня… В него выпустили стрелу. Убийца меня разыскивает…
– Полно вам, господин Ватанабе, полно. От этой жары у людей мозги плавятся. Вам просто приснился кошмар. Вы…
Виктор сделал паузу, мысленно пытаясь дать оценку столь нервному поведению собеседника.
– Вот, выпейте, вам сразу станет лучше.
Ихиро хватил стаканом о пол. Виктор подпрыгнул – этот яростный порыв маленького человечка его несказанно удивил. Выбежав из-за прилавка, чтобы собрать осколки, он заметил, что Ихиро судорожно сжимает и разжимает кулаки. Легри подвинул ему стул и заставил сесть.
– Стрела, стрела, – повторял Ихиро, разглядывая свои туфли, – я видел, это была стрела с красным оперением.
В его голосе чувствовалось тревожное безразличие.
– Господин Ватанабе, расскажите все по порядку.
– Мой кузен Исаму, я оставил его лежать там, на земле. Побежал. Похватал свою одежду и вещи…
– И что потом?
– Бесцельно бродил… А куда мне было идти? Ваша лавка была закрыта, я спрятался под навесом для мусорных контейнеров во дворе соседнего дома 18-бис и в конце концов уснул…
Ихиро раскачивался взад-вперед, плечи его дрожали.
– Простите меня, Легри-
сан, простите, я так испугался!
– Успокойтесь, господин Ватанабе, и расскажите все с самого начала.
И Ихиро монотонным голосом поведал обо всем, что произошло накануне.
– Стрела? – воскликнул Виктор. – Вы ничего не путаете?
– Никоим образом, я назубок знаю все без исключения орудия убийства, в том числе и стрелы. Кто я, как не торговец достойной смертью?
– Как это?
– Мне известен тысяча и один способ умерщвления себя и себе подобных, еще совсем недавно я преподавал эту науку другим.
– Почему вашего кузена убили стрелой?
Виктор вздохнул. Ихиро явно бредил.
– Нужно поставить в известность полицию, господин Ватанабе.
– Нет! Они во всем обвинят меня!
Ихиро вскочил и схватил чемодан, но тут же выпустил его из рук, будто получив ожог.
– Вы мне не верите!
– Да верю, верю. Но когда человек отказывается встречать лицом к лицу испытания, ниспосланные ему судьбой, последствия могут быть самыми что ни на есть плачевными.
Прибегая к подобным речам, Виктор надеялся, что Ихиро перестанет нести околесицу. Гость опустил взгляд на свои кулаки, разжал их и прошептал:
– Мне нужно где-то укрыться до тех пор, пока виновный не будет арестован. Я пришел к Мори-
сану с просьбой приютить меня. Легри-
сан, представьте, что вы стали тонуть, но некий человек вытащил вас из воды. Неужели вы, в свою очередь, не протянете ему руку помощи, когда с ним самим случится беда?
Виктор, в знак согласия, кивнул. Ихиро еще не окончательно сошел с ума, если тактично напомнил, как в прошлом году уберег его от печальной участи.
– Взгляните, Легри-
сан, это было в вещах моего кузена Исаму-
сана.
Виктор разгладил протянутую бумажку и прочел:
Safe and sound at home again
Let the water roar, Jack…
Don't forget your old shipmate…
И отделенную межстрочным интервалом приписку печатными буквами:
AND REMEMBER MARY SELESTE
В голове его всплыло воспоминание детства – человек-оркестр по имени Гораций, выступавший на Трафальгарской площади, у подножия памятника Нельсону. Облачившись в изодранный мундир и повесив на себя большой ящик для сбора денег, он, под аккомпанемент аккордеона и бубенчиков, наяривал эту матросскую песенку, очень популярную во времена правления Наполеона. Виктор замурлыкал ее мелодию и вдруг ощутил в душе жгучее желание вновь оказаться в Лондоне:
«Safe and sound at home again».
Но что означало это женское имя? В тексте песенки его и в помине не было…
Вдруг с грохотом распахнулась дверь, бешено зазвенел колокольчик. Ихиро запрыгнул за прилавок. На Виктора энергично двинулась Мишлин Баллю.
– Это уже ни в какие ворота не лезет! Да как они посмели в такую адскую жару! Это то же самое, что отобрать у верблюдов пустыни оазис! Взгляните какое объявление вывесили эти водопроводчики!
Виктор схватил извещение, но прочитать полустершийся текст не смог.
– Ну и что?
– Как это что! – взревела консьержка. – Неужели вас не возмущает, что воду будут отключать с шести вечера до одиннадцати утра, а также в обеденный час? И как, по-вашему, я буду мыть лестницы?
– Есть вопрос поважнее – что мы будем пить?
– А уборная? Провести канализацию, конечно же, было очень мило, но если слив не работает – бонжур, амбре! Кстати, здесь как-то странно пахнет! – добавила она, окидывая Ихиро подозрительным взглядом.
Виктор держал в руке таинственное послание, переданное японцем, и спрашивал себя, зачем Ихиро было выдумывать эту невероятную историю. Стрела!
Его мозг затрепетал от возбуждения.
«А если это правда? Он так потрясен».
– Не напускайте на себя такой похоронный вид, господин Легри, как-нибудь выкрутимся, нужно будет сделать запас минеральной воды…
Виктор в упор посмотрел на консьержку. Ему в голову пришла мысль – более чем заманчивая, хотя он противился ей изо всех сил. Если Ихиро измыслил свой рассказ после того, как его вышвырнули из квартиры, это будет пустой номер, но если вдруг…
«Кэндзи меня возненавидит. Что ж, тем хуже».
– Мадам Баллю, если не ошибаюсь, комната, которую я отдал вам после того, как ваш кузен Альфонс переехал на улицу Вьоле, сейчас свободна.
– Ну уж нет! О том, чтобы завалить ее до потолка этим антикварным хламом, и речи быть не может! Я сложила там посуду, в ней хранится старая мебель! К тому же, Альфонс оставил ее в весьма плачевном состоянии.
– Вам будет нужно лишь сложить компактнее свои вещи, и тогда мы сможем поставить там кровать, стул, круглый столик на одной ножке и умывальник.
– Вы собираетесь поселиться на шестом этаже? Это еще что за блажь! А как же ваша жена, мадам Таша? А дочурка Алиса? Ведь под крышей царит настоящее пекло, не говоря уж о том, что мадам Примолен, живущая этажом выше, теперь на улицу и носа не кажет и все время выбивает свои ковры. Совсем свихнулась!
– Если вы смиритесь с присутствием в этой комнате жильца, то получите ежемесячную надбавку.
Глаза Мишлин Баллю загорелись. Перед ее мысленным взором промелькнуло видение мусорного ящика, наполненного выщербленными тарелками и колченогими табуретами.
– Я не против, но кому-нибудь придется помочь мне выбросить накопившийся там хлам. Когда вы планируете туда вселиться?
– Речь не обо мне. В ней будет жить господин Ватанабе.
– Вы шутите! – взвилась консьержка.
– Если вы хотите воспользоваться этим удачным случаем, решайтесь. Комната понадобится нам уже сегодня.
– Плату за две квартиры я не потяну, – заныл Ихиро, устремив взгляд на дверь.
Порог книжной лавки переступила Эфросинья Пиньо. В руках у нее были две плетеные корзины, доверху набитые овощами.
– Это восстание боксеров в Китае
[1068] – просто ужас какой-то! Почему их так окрестили?
– Они практикуют боевые искусства, мадам Пиньо, а название их движения в буквальном переводе с китайского означает «Кулаки гармонии и справедливости».
– Если вам так больше нравится, господин Легри, будь по-вашему, хотя лично я предпочитаю «боксеров», так короче. Продавец газет рассказал мне, что они порвали европейцев на куски!
– А у нас воду отключили! – выдвинула свой аргумент Мишлин Баллю.
– Да есть у нас вода, я только что принимал ванну, – пролетел над головами собравшихся голос Кэндзи Мори, спускавшегося по винтовой лестнице со второго этажа. – Господин Ватанабе! Какой приятный сюрприз! – воскликнул Кэндзи.
А про себя подумал: «Вот черт! Этот зануда сейчас вновь станет изводить меня цифрами и клянчить деньги». Он вжался в стену, чтобы дать пройти Эфросинье.
– К счастью, я всегда начеку, – проворчала она, обращаясь к нему. – А то с этой тряпкой Мели Беллак вы явно промахнулись и вместо искусной поварихи взяли мадам «испорть-соус». Небось сейчас тушит вам рагу из древесных волокон!
И тихо-тихо, чтобы ее мог слышать только Кэндзи, добавила:
– На вашем месте я бы как-нибудь отделалась от господина Ватаба. Ваша дама сердца его на дух не переносит.
– Мадам Джине несвойственно жаловаться, – сухо ответил он.
– Уж кому как не мне это знать! Вечно вы мне противоречите! Ладно, будь по-вашему. Как же он тяжек, этот мой крест!
Эфросинья, само воплощение достоинства, поднялась на второй этаж. Консьержка вышла во двор, бормоча себе под нос, что ее все нещадно эксплуатируют, и все ради какого-то косоглазого чужеземца, который, может оказаться, даже не японец, а китаец.
– Что это с вами? – спросил Кэндзи. – У вас такие лица, будто вы на похоронах! Что, жара так действует?
Виктор отвел его в сторонку и все рассказал. Кэндзи вымученно улыбнулся и скорчил гримасу.
– У него какой-то одурманенный вид. Может, он опиума обкурился? Стрела! Мы что, в Аризоне? Его кузен был индеец из племени апачей? Или он помешался на романах Гюстава Эмара
[1069]?
– Обкурился? Ну уж нет. У него в кармане нет ни гроша, к тому же, вся его фантазия ограничивается одной лишь статистикой.
Кэндзи подошел к Ихиро, неподвижно стоявшему перед грудой своих пожитков.
– Послушайте, Ихиро, ваша история со стрелой – сущая ерунда!
– Никакая не ерунда! Вот господин Легри в курсе. Мори-
сан, друг мой, мой бесценнейший друг, умоляю – спасите меня!
– Может, вашего кузена только ранили… Вы обращались за помощью?
– Спасти его уже было нельзя, и любая помощь запоздала бы, он тут же отправился в мир наших предков.
– Вы самый большой выдумщик из всех, кого я когда-либо знал, – продолжал Кэндзи, с трудом скрывая раздражение. – Кто сказал, что его убили предумышленно? Вам в голову не пришло, что это мог быть несчастный случай? Вполне возможно, что какому-нибудь стрелку из лука, участвующему в летних Олимпийских играх на лужайке Венсеннского леса, пришла в голову нелепая мысль поупражняться неподалеку от вашего дома!
– Но соревнования по стрельбе из лука проводятся в мае, – возразил ему Виктор.
– Позволительно ли мне будет узнать, когда вы посчитаете нужным поставить в известность полицию? – допытывался Кэндзи, не обращая внимания на его замечание.
– Полицию?! – воскликнул Ихиро. – Ни за что! Я стану главным подозреваемым, меня бросят в тюрьму и подвергнут пыткам!
От уныния и подавленности черты лица Ихиро исказились. Он окинул Виктора и Кэндзи мрачным взглядом.
– Давайте не будем драматизировать, – сказал Легри. – У вашего кузена были знакомые в Париже?
– Не знаю. Он сошел с корабля две недели назад, раньше я о нем никогда даже не слышал.
– А кем работал этот ваш… Как его там?
– Ватанабе Исаму. Плавал матросом на торговом судне. Выхлопотав месячный отпуск, он приехал из Марселя. Тогда мы с ним и познакомились.
– Таким образом, вы приютили у себя совершенно незнакомого человека, который заявил, что является вашим кузеном, и не выказали по отношению к нему никакого недоверия?
– Он предъявил мне письмо своего покойного отца, моего дальнего родственника, в 1885 году эмигрировавшего на Гавайи на борту корабля «Токио-Ши».
– Но ведь оно вполне могло оказаться подделкой, а он – самозванцем.
– Зачем ему это? Денег у меня нет! И потом, он во всех подробностях воспроизвел генеалогию нашего клана. Исаму действительно жил на Гавайях и даже принял американское гражданство!
– Липа! – проворчал Кэндзи. – Этой привилегией могли воспользоваться лишь дети выходцев из Японии два года спустя после аннексии островов. Господин Ватанабе, я очень сожалею, но вынужден повторить: о смерти вашего кузена нужно сообщить в полицию.
– Нет! Нет! Заклинаю вас!
– Если бы не эта ваша трусость, вы бы немедленно исполнили свой долг и рассказали бы обо всем стражам порядка.
– Не кипятитесь, – произнес Виктор, – Ихиро-
сан, в вашем доме есть консьерж?
– Он в больнице. У меня осталась лишь соседка, пожилая и, к тому же, почти глухая дама. Остальные квартиры на этаже после пожара пустуют. Я же вижу, вы мне не верите.
– Неправда, верим. Мне просто хотелось проверить, на тот случай, если придется отправиться к вам домой. Запишите адрес квартиры и дайте мне ключи. Полагаю, у вашего кузена был с собой какой-то багаж?
– Да, матросская сумка. Легри-
сан, пожалуйста, мои постельные принадлежности.
– Ваши постельные принадлежности? О чем это вы?
– Не будете ли вы так любезны привезти их, раз уж я собрался здесь жить? Матрас, две подушки, валик, стеганое одеяло и простыни.
– Ну хорошо, возьму с собой Жозефа.
– А плата?
– Какая плата? Ах да, за мансарду! Не волнуйтесь, вознаграждение мадам Баллю я выплачу из собственного кармана.
Кэндзи ухмыльнулся.
– Браво, Виктор, это свидетельствует о том, что у тебя большое сердце. А где он будет столоваться?
– В своей комнате. Мели Беллак будет приносить ему еду туда.
Кэндзи просунул палец между шеей и воротником слишком туго накрахмаленной сорочки.
– Дурацкий план. Секундочку! Господин Ватанабе, почему я, как последний простак, должен верить вашим россказням? У вас есть доказательства того, что все это правда?
– Да, моя порядочность и искренность, – с вкрадчивой улыбкой на лице заверил его Ихиро, – да и потом, есть бумажка с написанными на английском словами, которую я отдал Легри-
сану.
От Виктора подтверждения его слов Кэндзи так и не дождался.
– Все правильно, прячьтесь! Но мне кажется, вы преувеличиваете! Неужели преступники объявили через газеты, что устроили на вас охоту?
Виктор тыльной стороной ладони отмел всякие комментарии.
– Можете остановиться здесь на несколько дней, господин Ватанабе, – продолжал Кэндзи, – органы следствия я проинформирую сам, если, конечно же, вы, Виктор, не обратитесь непосредственно к своему знакомому из префектуры – комиссару Вальми.
В этот момент на пороге, с зажатой в руке газетой, появился Жозеф.
– Привет честной компании! Не говорите мне о восстании в Китае и о нехватке воды, с которой столкнулся департамент Сены! У меня есть кое-что получше. Ночью неподалеку от театра Гренель был найден азиат лет тридцати – ему в брюхо всадили стрелу!
Глава третья
Воскресенье, 22 июля
Виктор возблагодарил судьбу за то, что она послала ему таких любезных и услужливых соседей, как семейство Бодуэнов. На рассвете его глава, столяр по профессии, без лишних разговоров одолжил свою двуколку и кобылу.
– Жозефина неплохая бабенка, но у нее, как у всех женщин, есть свои причуды. Чтобы заставить ее повернуть налево, нужно кричать «направо», а при повороте направо – вопить «налево»! Во всем виновата фермерша, которая нам ее продала, она вечно путала направления, так что… Самое главное, господин Легри, если ей придется долго ждать на солнце, не забудьте накинуть попону, ведь лошади от жары страдают не меньше, чем люди.
В настоящий момент Жозефина била копытом о землю на улице Фонтен, подергивая ушами и прислушиваясь к внутреннему голосу, предписывавшему ей досмотреть прерванный сон. Виктор мерно покачивал головой, сжимая в руках фотографический аппарат с мехами. Сзади послышались быстрые гулкие шаги, и рядом на сиденье плюхнулось чье-то тело.
– Знаете, порой кажется, что вы только о том и думаете, чтобы усложнить мне жизнь! Эх, не надо было мне вчера поддаваться этому мимолетному порыву! А все потому, что я рассказал вам об этом прискорбном происшествии!
– Жозеф, черт бы вас побрал, бросьте эту свою привычку брюзжать по поводу и без повода! Когда я поведал вам о просьбе Ихиро, равно как и о том, что с человеком, которого проткнули стрелой, его связывают родственные узы, вы даже не поморщились.
– Я же не думал, что эта конная прогулка в четыре часа утра окажется столь утомительной! Во всей округе ни намека на фиакр! И поскольку шансов отвертеться и увильнуть у меня уже сто лет нет, пришлось тащиться через весь Париж пешком…
Жозефина подчинилась только после того, как Виктор звучно щелкнул языком и громогласно заорал: «Но! Пошла, родимая!», что обошлось ему в целый поток ругательств, выплеснувшихся из окон.
– Дома и так адская жара, а тут еще какие-то придурки орут, как последние ослы!
Впоследствии у Виктора об этой поездке через дремлющий город сохранились лишь самые смутные воспоминания. Жозефина, по всей видимости, сама догадалась о конечном пункте их смелой вылазки. Порой, просыпаясь, он видел перед собой то площадь Звезды, ступицу гигантского колеса, от которой в разные стороны расходились двенадцать проспектов, то точную копию Афинского стадиона рядом с Триумфальной аркой, включая его километровую арену. Легри клевал носом. В полудреме перед ним проплывали сады Мюэт, освещенные желтым светом уличных фонарей. Какой-то рантье выгуливал бульдога, женщина вела за руку ребенка-калеку. Легри попытался проникнуть в мысли мальчика и почувствовал, что превращается в совсем юного, робкого и неуверенного в себе Виктора, осаждаемого сворой злобных собак. К действительности его вернул резкий толчок. Жозефина пробежала мимо «набережной Наций» – огромного пространства между авеню Версаль и Сеной, усеянного целым морем павильонов, – и мерным шагом миновала виадук Отей
[1070]. Река несла свои желтые воды, на которых покачивалась целая вереница барж и плоскодонных судов, окруженных нимбом красновато-коричневых, отливающих золотом отблесков.
«Будто очковая змея», – подумал Виктор.
Он крикнул Жозефине «налево», но безрезультатно. В памяти всплыл совет Бодуэна.
– Направо!
– Бриться пришлось насухо, и теперь у меня все щеки горят! – проворчал Жозеф. – Когда я проснулся, воды не было. Уму непостижимо! В такой-то зной!
Двуколка свернула на улицу Леблан и выехала на улицу Лекурб.
– Что вы наплели Таша на этот раз?
– Я еду, чтобы снять Выставку в выгодных ракурсах перед тем, как она откроется для посещения. Обещал вернуться пораньше, взять ее и малышку и вместе с ними провести день в каком-нибудь прохладном месте. Причем выбор богатством не отличается – либо канализационный коллектор, либо катакомбы.
– Ага, понимаю, фотографический аппарат – лишь хитрая уловка. А вот я сделал вид, что намереваюсь кое-что прикупить. Айрис не поверила ни единому слову, но промолчала. Маман метала громы и молнии, обзывала меня негодным отцом и осталась на ночь у нас, чтобы понянчиться с Артуром. У Дафны начинается отит, но маман клялась всеми своими богами, что это свинка. Доктор Рейно нас успокоил.
– Бедная малышка. Отит – это ведь больно.
– Ей уже лучше. Доктор Рейно облегчил ее страдания, промыв слуховой канал теплой водой с каким-то снадобьем на основе каломели
[1071]… Свинка! Не хватало еще свинку подхватить, я дорожу своей мужской силой.
Виктор пожал плечами.
Они выехали к Всемирному городку, который им описал Ихиро. Жозеф, спрыгнув на ходу, чуть было не растянулся на мостовой и тут же представил себе полицейских, склонившихся над его трупом. Интересно, если бы расследование причин его смерти поручили Огюстену Вальми, к каким выводам он бы пришел?
«Господа, этот молодой, плодовитый писатель был убит неуживчивой кобылой, нареченной Жозефиной Богарне
[1072]. Предумышленное убийство».
«Эту реплику надо запомнить. Использую ее в моем следующем романе».
– Жозеф, приехали. Это рядом.
– С сумасшедшим домом?
– Вот он, дом Ихиро.
Они оставили Жозефину у мастерской шорника, примыкавшей к сараю, в котором можно было взять напрокат тележку. Из-за деревянной перегородки донеслось ржание першерона. Жозефина ответила ему во всю мощь своих легких.
– Чем они здесь занимаются? Все вокруг дрыхнут без задних ног.
– Давайте-ка осмотримся, Жозеф. Если речь идет об убийстве, то место выбрано идеально – домов мало, повсюду хаос и запустение. Если же это несчастный случай, то кому могло придти в голову упражняться в стрельбе в подобной дыре? Булонский или Венсенский лес для этого подошли бы куда больше.
– Минуточку! Экий вы быстрый, я еще не дал своего согласия вам помогать. Мы же договаривались, что Часовой тупик положит конец нашим расследованиям
1.
[1073]
– А если предположить, что стрелок обитает где-нибудь поблизости, а?
Виктор облокотился на забор, ограждающий питомник, в котором смотритель высадил четыре ряда тщедушных яблонь, и задымил сигаретой. Он не курил со вчерашнего дня и проклинал себя за то, что пообещал Таша отказаться от табака.
– Надо дождаться, когда проснутся аборигены и допросить их. Мы же не сможем отказать этому несчастному Ихиро в помощи. Кэндзи нас в этом деле поддерживает.
– Как мило с его стороны. – проворчал Жозеф. – Сам-то он сейчас спит сном праведника. Что-то невесело глядят здесь окна. Не квартал, а какой-то разбойничий притон. Я…
В этот момент над их головами раздался какой-то гул, и взору Виктора с Жозефом предстал проплывавший между небом и землей продолговатый аэростат, снабженный седлом и велосипедными колесами.
– Это еще что за сигара с педалями? – воскликнул Жозеф.
– Я слышал, что какой-то бразилец, некий Альберто Сантос-Дюмон
[1074], проводит испытательные полеты сконструированной им машины в воздухоплавательном парке то ли Вожирара, то ли Сен-Клу. Но то, что мы видим, вполне может оказаться одним из его конкурентов, ведь у этого вида спорта сегодня много поклонников.
– Ну-ну… Если эти ребята полагают, что в один прекрасный день будут летать в облаках на этих своих аппаратах, то им явно пора в сумасшедший дом! Что вы думаете о словах, написанных на бумажке, которую дал Ихиро?
– Это отрывок из песни, в котором говорится о ностальгии по родному дому, плюс намек на какую-то женщину. Может, записка представляет собой прощальное письмо? Или зашифрованное послание? На эти вопросы у меня нет ответа.
Звезды на небе стали бледнеть. Вдали затянул свою утреннюю серенаду петушиный хор. Дом Ихиро приютился между двумя сенными сараями. Виктор с Жозефом пересекли зловонный двор и стали подниматься по темной шаткой лестнице.
– Бьюсь об заклад, что нам на самый верх. Я определенно обречен вечно куда-то взбираться. Как же мне все это надоело, боже, как же надоело!
– Ихиро уверял меня, что кроме старухи здесь нет ни одной живой души.
Ключ им не понадобился – дверь жилища Ихиро была приоткрыта. В свете зарождающейся зари взору Виктора и Жозефа предстали две смежные комнаты.
– Квартиру кто-то обыскал, – прошептал Виктор, – здесь все перевернуто вверх дном.
– А постель! Больше похожа на курятник, разоренный после битвы взбесившихся петухов!
Жозеф несколько раз чихнул, ударился о перевернутый табурет и выругался.
Виктор задумался. Либо Ихиро окончательно отказался от мысли заправлять постель, либо кто-то умудрился продырявить валик, одеяло, подушки и матрас, чтобы исследовать их содержимое.
– Жозеф, в глубине комнаты я видел висящее на железной проволоке нижнее белье.
– И что вы собираетесь в нем найти? Спрятанную в кальсонах карту сокровищ Билли Бонса
1?
[1075]
– Возьмите прищепки, с их помощью мы заделаем брешь в перине. А заодно внимательно посмотрите, нет ли где-нибудь матросской сумки.
– Приперлись, и дела никакого нет, что от них никому нет покоя! – прокурлыкал чей-то мелодичный голос. – Проваливайте отсюда, или я подниму на ноги весь квартал!
Виктор с Жозефом, не на шутку испугавшись, обернулись и увидели перед собой пожилую даму в кружевном чепце и ночной рубашке в цветочек. В руке она сжимала подсвечник.
– Кто вы? И что позабыли в квартире господина Ихиро?
Жозеф, по своему обыкновению, сделал вид, что он здесь ни при чем. Что касается Виктора, то он решил вступить в переговоры.
– Мы знакомые господина Ихиро. Ему пришлось неожиданно уехать. Какой-нибудь друг его, случаем, не искал?
– Что?
Свободной рукой старуха прислонила к уху акустический рожок.
– После отъезда господина Ихиро к нему кто-нибудь приходил? – отчетливо произнес Виктор, повышая голос.
– Не орите, молодой человек, у меня от вас барабанная перепонка лопается! Приходил ли кто-нибудь сюда?.. Да, был один господин, вчера, после обеда.
– Как он выглядел?
– На мой взгляд, либо русский, либо испанец, уж слишком раскатисто у него «р» выходило. Принес какие-то бумаги и хотел, чтобы господин Ихиро их подписал.
– У него был ключ?
– Вы обратили внимание, в каком здесь всё состоянии? Сплошное разорение. На ночь дверь закрывается лишь на задвижку, а днем и вовсе открыта. Сей господин был очень удивлен, обнаружив, что в квартиру могут зайти все кому не лень. Обещал придти еще раз. Настаивать я не стала и заперлась у себя.
– Вы не смогли бы описать нам этого русского или испанца?
– Он человек вежливый, опрятно одетый, с тростью, в шляпе и перчатках. Одним словом – джентльмен! Не исключено, что аристократ, потому как на жилете красовалась цепочка от часов, да и пахло от него хорошо.
– Лицо?
– Неброское. Усы…
Она вскрикнула – на руку упала капля горячего воска. Виктор выхватил у нее подсвечник.
– Борода была? Если да, то какая, большая, маленькая?
– Я не помню. Перед этим я выпила бенедиктина, чтобы уснуть. В моем возрасте сон сам не идет, ему надо помогать. Да и потом, мне нет никакого дела до других, хотя господин Ихиро человек очень даже приличный.
– Этот визитер вас о чем-то спрашивал? – вклинился в разговор Жозеф.
– Спросил, не знаю ли я родственников или знакомых господина Ихиро. Толковал то ли о завещании, то ли о чем еще. Я ответила, что господин Ихиро ведет уединенный образ жизни, но при этом часто бывает у продавца канцелярских товаров, который держит лавку где-то в районе больницы Шарите. Что до меня, то я из своего квартала – ни ногой.
– У продавца канцелярских товаров?
– Ну конечно, ведь господин Ихиро исписал множество блокнотов, внося в них свои наблюдения. Он очень образован. От него я узнала, что в 1868 году в Париже было семь тысяч шестьсот двадцать восемь сумасшедших, а в 1895 году – уже шестнадцать тысяч восемьсот девяносто семь. Боже, это невозможно – их количество почти удвоилось! А все ваш хваленый прогресс, изобретатели уже не знают, что еще придумать. Люди носятся как угорелые, сходят с ума, жизнь настолько дорога, что женщинам приходится вкалывать с утра до ночи, а кто воспитывает детей, а? Лично я…
– Не обладая зрительной памятью, вы прекрасно запоминаете цифры.
– Это настоящий дар. У монашек я лучше всех знала таблицу умножения и в цифрах разбираюсь прекрасно. Но самый ужас – это количество детей, находящихся на излечении в больницах: тридцать четыре тысячи девятьсот девяносто шесть. Господину Ихиро нужно будет внести эту цифру в блокнот.
– А как вам показался его жилец?
– Жилец? Какой еще жилец? Да за кого вы меня принимаете? Я, конечно, глухая как тетеря, но все же не шпионю за соседями весь день напропалую. Хотя, согласитесь, надо бы, особенно если учесть того старого маразматика, которому взбрело в голову развести в камине огонь. В результате с нашего этажа всех выселили – всех, кроме меня и господина Ихиро. Мы отказались уезжать. Куда? Господин Ихиро совсем один. Он возвращается домой, разогревает рис, готовит чай, вечно что-то строчит в своем блокноте, а при встрече отвешивает поклоны и рассыпается в любезностях. Надеюсь, он быстро вернется, а то мне одной здесь страшно до ужаса!
– Вас никто не навещает?
– Отчего же, внучка Мариетта каждое утро приносит мне еду. Но надолго не задерживается, сразу бежит, ей надо работать.
– Не волнуйтесь, – успокоил ее Виктор. – Господин Ихиро вернется на следующей неделе. Он попросил нас захватить его постельные принадлежности. Держите, это моя визитная карточка. Если кто-нибудь явится, попросите его зайти по этому адресу.
Согнувшись под тяжестью подушек, матраса и фотографического аппарата с мехами, Виктор и Жозеф начали дерзновенный спуск, оставляя за собой в фарватере белое облако, клубившееся белыми снежинками пуха. Жозеф, подрагивая ноздрями, без конца ворчал:
– Никакого уважения. А ведь вы знаете, что терпение не относится к числу моих добродетелей! Разве это жизнь, боже праведный! Разве это жизнь! Кстати, никакой матросской сумки не было и в помине.
Выйдя во двор и чуть было не столкнувшись с разносчицей хлеба, они свалили свою ношу в повозку. Солнце, поднимавшееся над фабричными крышами, обильно заливало город расплавленным золотом.
– Ихиро вернется на следующей неделе? – иронично заметил Жозеф. – А вы оптимист.
– Надо же мне было как-то успокоить его соседку.
– Послушайте-ка, а что за история с этим то ли испанцем, то ли славянином? Когда соседка забаррикадировалась у себя, он, скорее всего, вернулся и перевернул вверх дном всю квартиру, а она ровным счетом ничего не услышала. Что он мог искать?
– Если бы мы знали… У меня появились кое-какие вопросы, и я очень хотел бы осмотреть стрелу, которая убила Исаму.
– А мне больше всего хочется опять лечь в постель. Я так устал, а сил с каждым годом становится все меньше и меньше.
– Это, Жозеф, называется старением.
Жозефина закруглила свой диалог с собратом першероном и перестала ржать, затем, утомившись от кокетливых заигрываний шляпы Виктора с ее крупом, решила тронуться с места.
Вдоль дороги тянулся бледно-голубой фасад прачечной, примыкавшей к мастерской шорника. В ее окне приподнялся угол занавески и показалось измученное лицо юной девушки, которая внимательно посмотрела вслед медленно удалявшейся бричке.
Робер Туретт доедал завтрак, сидя в обеденном зале «Палас-отеля», в котором он остановился накануне вечером, сойдя с поезда на вокзале Сен-Лазар. Двумя днями раньше прибывший из Соединенных Штатов пакетбот бросил якорь в Шербуре.
Робер краешком салфетки промокнул губы. Мимо неспешно прошла молодая женщина в грежевом костюме. Он оценил все ее достоинства и поставил шесть баллов из десяти. Затем спросил себя, какую оценку она поставила бы ему.
Он был мужчина в теле. Загорелые щеки, пятна румянца на скулах, длинные ресницы и густые пряди волос с серебристой проседью, обрамлявшие лоб, придавали его облику несколько демонический вид, который еще больше подчеркивала ироническая складка губ. Робер Туретт очень любил повторять – он родился не вчера. Так что с ним лучше не связываться! И в Париж он приехал отнюдь не для того, чтобы повеселиться среди рабочих в картузах, националистов с моноклями, щеголей в цилиндрах и их болтливых подружек с походкой роковых красавиц. Официально он прибыл, чтобы обратить в звонкую монету несколько контрактов с издателями, заказавшими ему ряд работ гуашью, но истинная его цель заключалась в том, чтобы уладить одно очень важное дело. Потом Туретт быстренько вернется в свое убежище, где его, вдали от посторонних глаз, дожидались две дамы с матовой кожей да куча ребятишек, охранявших сокровище, которое он копил в течение долгих лет. Робер допил кофе и погрузился в чтение «Фигаро». Первая полоса была посвящена восстанию в Китае, события в Трансваале предшествовали отчету о пострадавших от солнечного удара в результате ужасающей жары.
Меры предосторожности, которые следует предпринимать против зноя: выходить из дому только вечером. Ужинать на свежем воздухе. Спать ложиться поздно, чтобы насладиться относительной ночной прохладой…
Робер Туретт не сдержал улыбки. «Ну и хлюпики же они, эти европейцы, – валятся с ног как мухи!»
Он с наслаждением углубился в рубрику происшествий:
Трамвай против омнибуса… Кредитор, с которым обошлись далеко не лучшим образом… Пожар на улице Труа-Борн… Воры, промышляющие по табачным лавкам… Еще одно печальное событие под мостом Александра III.
Робер уже собрался было отложить газету, но тут его взгляд зацепился за заголовок:
ЗАГАДОЧНАЯ СМЕРТЬ
Около пяти часов утра мадам Аделина Фише, разносчица хлеба, направлявшаяся на работу на улицу Круа-Нивер, обнаружила труп мужчины азиатской наружности. Он лежал на земле в паре сотен метров от театра Гренель, грудь его была пронзена стрелой.
Робер задумчиво достал из кармана записную книжку и полистал ее. Затем подозвал официанта и попросил принести карту Парижа.
Глава четвертая
Тот же день, ближе к вечеру
По мере приближения четыре строения, возведенные на бульваре Делессер и набережной Пасси, все больше напоминали Фредерику Даглану
1[1076]монументальные двери. Даруют ли они отдохновение, к которому он так страстно стремился? После отъезда из Парижа семь лет назад, он истоптал на улицах Лондона не одну пару туфель, ловко применяя на практике свои таланты карманника. Девушка, уехавшая вместе с ним в эту ссылку, устала от такой безалаберной жизни и бросила Фредерика сразу после того, как овладела английским в достаточной степени, чтобы встать на ноги и обрести самостоятельность. Воспоминания о Жозетте Фату в его памяти были столь живы, что увидь он ее в толпе – с копной черных волнистых волос и корзинкой цветов на руке, настойчиво предлагающей свой товар парочкам, ищущим прохлады под сенью деревьев, – то ничуть не удивился бы. «Может, букетик? Он принесет вам счастье!» Счастье? Вздор! Он пообещал себе держаться подальше от улицы Буле, где его сердце когда-то попало в ловушку. Порой разум Даглана затуманивался и у него возникало ощущение возврата в прошлое. Ему очень хотелось, чтобы Жозетта воспылала к нему нежными чувствами, но она лишь создала видимость любви и последовала за ним не потому, что питала чувства, а лишь потому, что страстно хотела выбраться из нищеты. Если бы она хотя бы бросила его ради другого – тогда он смог бы ее ненавидеть и мысленно похоронить. После этого он больше не делил кров ни с одной женщиной, предпочитая десерт, услаждавший его в течение нескольких ночей, основательным вторым блюдам, которые надо было бы переваривать несколько месяцев. Уставший, напрочь лишившийся иллюзий, он прибыл в этот огромный, радостный город на Сене в надежде забыться и окончательно отточить мастерство, доведя его до совершенства. Фредерик уже скопил приличную сумму и мог бы вполне обойтись без этого вояжа, но в дело вмешалась гордыня. Он покидал Париж дичью, а вернулся сюда хищником. Фредерик Даглан собирался продемонстрировать всему этому туристическому отродью, съехавшемуся со всего мира, что королем воров является не кто-нибудь, а именно он. И прозорливым будет тот, кто вовремя заметит впившиеся в его кошелек когти. Желания? Сожаления? Раскаяния? К черту! Фредерик расслабился, и буря в его душе тут же утихла. Здесь, по крайней мере, ему было все знакомо.
Он заказал номер в третьем корпусе «Отелей Трокадеро», стоивший сто тридцать пять франков в неделю. Эта грабительская цена включала в себя проживание, завтрак, обед и ужин, а также четырнадцать билетов на Выставку, предоставлявших, к тому же, скидки в целом ряде парижских магазинов. Бронирование осуществлялось в конторе «Общества спальных вагонов и скорых европейских поездов
[1077]» в доме 3 на площади Опера. Фредерик Даглан явился туда и внимательно изучил рекламный проспект, предварительно поселившись в первом попавшемся доме с меблированными комнатами, чтобы запутать следы на тот случай если, несмотря на все меры предосторожности, полиция все же выйдет на него.
На сей раз Даглан решил прибегнуть к тактике, уже использованной им два года назад во время проживания в одном из отелей Брайтона. В «Отеле Трокадеро» он предстал в личине Уильяма Финча, коммерсанта из Бристоля. Дежурный администратор попросил заполнить бланк, не удостоив даже взглядом предъявленное ему рекомендательное письмо, но озаботился багажом.
– У меня только эта сумка. Завтра я отправлюсь на вокзал, куда доставят мой чемодан, господин… Феликс Жодье, – закончил он свою мысль, прочитав на медной дощечке фамилию тучного человека с багровым лицом, сидевшего за стойкой.
– Отлично, господин Финч, на этом все. Сейчас Гедеон покажет вам дорогу.
Молодой коридорный, юноша внушительного роста и телосложения, проводил до номера этого роскошного клиента – красивого седеющего господина лет пятидесяти, судя по легкому акценту, британца.
– Мебель приобретена в сверхмодном магазине «Бон Марше», так что вы, сударь, будете чувствовать себя как дома.
Фредерик обошел номер. Кровать, стол, шкаф, кресло, к комнате примыкают ванная и туалетная комнаты. Затем наградил Гедеона поистине царскими чаевыми, тут же завоевав его симпатию.
Оставшись один, Даглан повернул к стене висевшую над диваном репродукцию «Джоконды». Он терпеть не мог ни ее взгляда, будто в чем-то его обвинявшего, ни загадочную, ироничную улыбку. Фредерик никак не мог понять, почему все превозносили до таких небес эту прославленную красоту, в то время как сам он считал ее пошлой и безвкусной. Он открыл окно. С узкого балкона можно было увидеть Сену. Слева, на набережной Дебийи
1,
[1078]у левой оконечности садов, на холме Шайо расположилась Андалузия мавританских времен – аванпост Дворца колоний. На его вершине над разноцветными крышами возвышался дворец Трокадеро. Противоположный берег, Марсово поле, был украшен пирогом с воткнутой в него гигантской свечой, вокруг которого расположился целый опереточный городок, привлекавший толпы зевак, тяжело нагруженных сотнями сувениров с Всемирной выставки, достойных всех сокровищ Британской короны.
Даглан закрыл балконную дверь и внимательно присмотрелся к полу, покрытому безвкусным ковром с цветочным узором. Внимательно изучил края, прибитые гвоздями к паркету, и бросил взгляд на свои огромные карманные часы. Пять минут седьмого. Нужно полежать пятнадцать минут, немного привести себя в порядок и поужинать.
В ресторане, набитом битком, ему было зарезервировано место за столиком на четверых, где обедали одинокие постояльцы, главным образом мужчины. Напротив сидел цветущего вида тип с округлым брюшком, который представился Арчибальдом Янгом из Глазго, после чего, без лишних фасонов, вновь уткнулся в свою тарелку. Справа расположился американец – по крайней мере, такой вывод можно было сделать из «о'кей», которое он пролаял официантке, почтительно называвшей его «господином Уолтером». Это был хмурый субъект с тяжелым взглядом, густыми каштановыми бакенбардами на щеках и круглой шкиперской бородкой. Манерный англичанин по левую руку от шотландца – набриолиненные волосы и тоненькие усики – привстал и словоохотливо заявил о своем присутствии.
–
Pleased to meet you, Энтони Форестер, из Лондона… Я плохо говорить французский,
but no problem с деньги и улыбки,
it’s very simple to amuse oneself in this wоnderful Paris[1079]!
– Уильям Финч, из Бристоля, – промолвил Фредерик Даглан, расстегивая пиджак.
Энтони Форестер удивленно вытаращился на него.
–
Sorry, I thought you were French[1080].
В меню предлагался стандартный набор блюд, подаваемых в ресторанах «Бульон Дюваль»
[1081]. Суп, мясо или рыба, овощи, сыр, десерт и фрукты. Энтони Форестер оказался быстрее всех. В тот момент, когда Фредерик Даглан, он же Уильям Финч, погрузил ложку в густой грибной суп, Форестер встал из-за стола, откланялся и удалился, оставив после себя запах фиалок, заставивший чихнуть американского ворчуна с бакенбардами, но ничуть не помешавший Арчибальду Янгу, который в этот момент как раз отрезал себе кусочек рокфора.
Фредерик Даглан лег спать рано, так как был подвержен неврастении, которая с каждым месяцем одолевала его все больше и больше. Все началось с незначительного приступа усталости, случившегося с ним во время прогулки по Национальной Галерее весной 1896 года. Тогда он надолго залюбовался полотнами Тернера
[1082]. Картины маслом и акварели этого мастера увлекли его во вселенную, озаряемую чередовавшимися сполохами молний, воскрешающую в памяти сцены из собственной жизни Фредерика и вызываюшую в душе острую ностальгию. Эти обострения, вначале довольно редкие, случались все чаще, пробивая брешь в его беззаботном отношении к тому, что будет завтра. Опасаясь обусловленных возрастом недугов, Даглан стал откладывать на черный день деньги, призванные поддержать его в старости, пряча их в надежных местах. Порой накатывала черная меланхолия, напрочь лишая его сил. Когда же она отступала, Фредерику приходилось долго восстанавливаться перед тем, как заняться чем-то новым.
Этим вечером, прежде чем встать, он битый час лежал в кровати, обессиленный и изнемогающий от жажды. Даглан направился в ванную и открыл кран, но обнаружил, что воды нет, и выругался. Выражать дирекции протест было нельзя – это могло воспрепятствовать воплощению в жизнь его плана. Фредерик сглотнул слюну, зажег лампу у изголовья кровати и подошел
к окну, чтобы убедиться, что шторы плотно задернуты.
Затем достал из дорожной сумки клещи и вытащил с их помощью шесть гвоздей, которыми был прибит к паркету угол ковра. Особый интерес у него вызвало расположение дощечек. Зубные щипцы, украденные у одного дантиста, оказались идеальным инструментом, чтобы их расшатать.
Стоя на коленях, он обливался потом и осторожно простукивал пол, представляя себя хирургом, рассекающим плоть пациента. Даглан предпочитал действовать медленно, лишь бы дощечки не издавали ни малейшего скрипа. Его усилия были вознаграждены в полночь, когда под паркетом обнаружилась полость. Фредерик снял брюки, скатал их в плотный ком, спрятал внутри и добавил к ним кошелек, не забыв предварительно вытащить из него все деньги.
Еле разогнув ноги, он перехватил в висевшем над камином зеркале свое отражение – смутный образ человека с голым торсом и в длинных кальсонах. Его решительное лицо приняло какой-то болезненный вид, в глазах стоял суровый блеск. Внезапно Даглана охватила неистовая тревога, и он спросил себя, не совершает ли безумия. Он кивнул головой своему двойнику, испытал в душе соблазн вновь улечься в постель, но устоял перед ним – работа была еще не закончена. Фредерик спрятал пачку банковских билетов и документы между стеной и трюмо, вновь вставил дощечки паркета в пазы, извлек из сумки кисть и баночку отдававшего смолой лака и покрыл им прямоугольный участок пола. Затем потянулся и выглянул на улицу. Было три часа ночи, во дворе царил кромешный мрак. Даглан открыл окно. Запах сосновой смолы улетучился. Страх прошел, дело сделано, теперь оставалось лишь следовать намеченному плану, и тогда все будет хорошо.
Фредерик прошел в ванную, прильнул ртом к крану и ухитрился проглотить пару капель ржавой воды. Затем присел на край биде, с удовольствием задымил сигарой, подождал, пока подсохнет лак, вернулся в комнату, придавил ладонью ковер и без труда вставил на место вытащенные ранее гвозди.
После чего отступил на шаг и залюбовался своим творением. Чистая работа. Даглан вытащил из дорожной сумки тиковый мешочек, сложил в него клещи, зубные щипцы, кисть и баночку с лаком, осторожно приоткрыл дверь и внимательно всмотрелся в коридор, освещенный тусклым светом ночников. Затем на цыпочках направился к лифту, примыкавшему к комнатенке, в которой хранились инструменты и хозяйственные принадлежности. Ключ от нее он позаимствовал в тот момент, когда коридорный провожал его до номера. Фредерик проскользнул внутрь и поставил баночку с лаком среди пакетов с моющими средствами. Клещи, зубные щипцы и кисть были спрятаны за мышеловками, а мешочек – под кучей тряпок.
Выйдя из кладовки, он заботливо вставил ключ в замочную скважину, затем тихонько прокрался к себе в номер и запер дверь изнутри. Вконец обессилев, страдая от жажды, он повалился на кровать, даже не сняв покрывала. В горле от пережитого стоял ком, Даглана окутала своими складками черная завеса, очередной приступ страха погрузил его в череду кошмаров, конец которых всегда был неизменным: идущие по пятам полицейские загоняют его на вершину скалы, с которой он падает в бушующее море.
Глава пятая
Понедельник, 23 июля
Воды по-прежнему не было. Накануне вечером Энтони Форестер предпринял необходимые меры и запасся двумя бутылками «Виши-Селестен»
[1083], которые обошлись ему в непомерные чаевые. Для бритья она была далеко не идеальным вариантом, но за неимением лучшего… С зеркала на него смотрело отражение стройного мужчины с правильными чертами лица. Рваный шрам на впадине левой щеки лишь подчеркивал его очарование, но при более внимательном рассмотрении можно было заметить морщинки вокруг глаз и складки в уголках губ.
– Еще один скучный, неинтересный день, – проворчал он, открывая ящик комода, в котором в идеальном порядке было сложено белье. – Быстрее бы покончить с этим делом, мое терпение на исходе.
Энтони надел белую сорочку прямо на голое тело, завязал с третьей попытки галстук, пригладил вихор на голове, проверил содержимое бумажника, надел пиджак и вышел из номера.
Прислонившись к тумбе Морриса
[1084], человек в панаме из последних сил боролся с сонливостью. Энтони Форестера он поджидал вот уже два часа. Увидев, что англичанин вышел из отеля, человек испытал в душе живейшее облегчение.
Он поправил головной убор и пошел следом, не сводя глаз с разноцветного деревянного йо-йо, раскручивая его и возвращая обратно гибкими движениями кисти.
«Заурядный моцион, говоришь? – думал он, не переставая вращать свое йо-йо. – Куда-то он меня приведет, этот субъект?»
Они подошли к станции самодвижущегося тротуара и, разделенные приличным расстоянием, шагнули на более быструю полосу.
Энтони Форестер сошел на авеню Сюффрен, но вместо того, чтобы пойти на Выставку, повернулся к ней спиной и двинулся в сторону ограды, за которой высилась груда гор и скал. Вдали над этим буколическим пейзажем, обильно украшенным сельскими домиками, мельницами и внушительной пасторалью, живописавшей крестьян, молочных коров и пастухов, возвышалось Большое Колесо.
– И везет же тебе, старина, – проворчал человек в панаме, – что рядом нет Вильгельма Телля с его яблоками!
Энтони Форестер боролся со скукой в Швейцарской деревне, тщетно пытаясь обратить на себя внимание дородной жительницы Оберланда
[1085], предлагающей гостям Выставки испить стакан теплого, пенного молока. Но врожденное отвращение к этому пойлу не позволило ему подойти к красавице. Засунув руки в карманы, англичанин сделал вид, что заинтересовался коровой с массивным ошейником, на котором болтался колокольчик. Утомившись от вида этого непрестанно жевавшего животного, он перешел к картине, изображавшей альпийский луг в окрестностях Берна, весь усеянный эдельвейсами. Он уже собрался расстаться с поющими пастухами в кожаных штанах, но тут рядом прошелестел женский голос:
– Горы мне надоели. Море надоело. Деревня тоже надоела. Я не знаю ничего более скучного, чем стадо скота на фоне вечных снегов. Я пришла сюда, чтобы отдохнуть от жары, обрести немного свежести и прохлады, но увы! Уж лучше асфальт, размягченный предвечерним зноем, да фонари, тускло освещающие раскаленные улицы! Вы не согласны?
Из ее тирады Энтони Форестер не понял ни единого слова, но вопросительный тон требовал ответа. Он наугад выдал оптимистичное «yes»
[1086], взглянул на собеседницу и тут же поддался чарам ее черных глаз, авантажной груди и иссиня-черной шевелюры.
Эдокси Аллар, бывшая великая княгиня Максимова, одно время водившая тесное знакомство с принцем Уэльским, овладела английским в достаточной степени для того, чтобы в весьма точных выражениях поведать о своем бурном прошлом. Поначалу она устроилась секретаршей в ежедневное издание «Паспарту», затем, в великую эпоху «Мулен Руж», стала танцевать канкан, взяв себе сценический псевдоним Фифи Ба-Рен. После развода с мужем, полковником конной гвардии Николая II, без сожалений променяла Санкт-Петербург на столь милый ее сердцу Париж, хотя по-прежнему очень любила белые ночи. К ее чувственности обращались театр, кинематограф и бесчисленные стареющие аристократы.
– Когда жизнь становится пресной, когда в ней больше нет ничего пикантного, я начинаю чахнуть. Я ведь еще молода и, к тому же, не замужем. Где он, мужчина, который устроит мне праздник жизни? Я обречена объедаться закусками, сидя дома напротив занудного старикашки! Вижу, вы человек состоятельный, и я уверена, что с вами скучно не будет!
Польщенный, очарованный изгибами тела и вульгарностью наивной простушки Эдокси Аллар, Энтони Форестер тут же повел ее подальше от швейцарских телушек, а заодно и их колокольчиков.
– Позволительно ли мне будет пригласить вас в одно место? У меня есть билеты на аттракцион, пользующийся огромным успехом.
– Да? Какой аттракцион?
– Дворец Сибири.
– Сибирь! Объятый морозом край изгнанников, ссыльных и каторжников! Вы что, смеетесь надо мной?
– Милая моя мадам, слово «Сибирь» в такую жару меня только бодрит. Мне будет очень интересно увидеть панораму железной дороги Москва – Пекин, по всей видимости, там нас ждут захватывающие зрелища. Не отказывайтесь, пересечь вместе с вами реку Амур для меня – преддверие нирваны.
Эдокси надула губки, взвесила все «за» и «против». Собеседник был мужчина привлекательный, предупредительный, элегантно одетый. Послать его куда подальше, если это знакомство станет ее слишком тяготить, она всегда успеет.
– Но ведь это черт знает где! – воскликнула дама.
– В Трокадеро, в паре кабельтовых от моего отеля. Я джентльмен и не стану утомлять вас марафоном под этим знойным солнцем – мы возьмем фиакр, который довезет нас до выхода. А потом пообедаем в русском ресторане и вы научите меня лакомиться их экзотическими фирменными блюдами.
Человек в панаме внимательно прислушивался к их разговору.
«Дворец Сибири, да еще в фиакре. Дело осложняется! Поторапливайся, дружок, и моли господа, чтобы эта милашка, более аппетитная, чем шербет, не передумала!»
Он проложил себе путь среди толпы жаждущих посетить дом Жан-Жака Руссо, обогнул хвост очереди в харчевню, где столовался Наполеон, когда стоял лагерем в Бург-Сен-Пьере, и бегом направился к ближайшей стоянке фиакров.
Осмотрев вагоны Транссибирской магистрали, в которых чередовались салоны, обеденные залы, курительные комнаты, буфеты и спальни с примыкавшими к ним туалетами, Энтони Форестер и Эдокси Аллар залюбовались просторами непроходимых лесов, степей и тундры, которые пробегали на нескончаемом, движущемся полотне за окнами, создавая полную иллюзию реальности. А поскольку неподвижный поезд раскачивался из стороны в сторону, им казалось, что они не стоят на месте, а в самом деле едут. Эдокси, которую стало слегка подташнивать, взмолилась и попросила услужливого кавалера отказаться от русского ресторана.
– Мне до смерти надоели картошка, капуста, свекла и лук! У меня болит голова, давит корсет, я поеду домой.
Энтони Форестер пошел ва-банк.
– Ну хорошо, моя дорогая. Но в таком случае позвольте пригласить вас вечером на ужин. Куда бы вы хотели пойти?
– А давайте поглазеем на бомонд, сходим в «Максим». Этот ресторан сегодня в моде, вы будете в восторге.
– Куда мне за вами заехать?
– В последнее время я живу в доме 14 на улице Сент-Огюстен, второй этаж налево.
Человек в панаме заметил их в тот самый момент, когда они вышли из Дворца Сибири. Он крутанул свое йо-йо, поправил на носу затемненные очки и лениво направился к парочке. Два балалаечника изливали на прохожих меланхоличный ритурнель:
Очи черные…
– Я ничего не понял, – прошептал Энтони Форестер на ушко своей спутнице.
Эдокси открыла влажный, чувственный рот.
– «Очи черные, очи страстные. Очи жгучие и прекрасные», – вполголоса молвила она, хлопая ресницами.
Йо-йо человека в панаме вновь легло в руку. Усиленно виляя задом, женщина уселась в коляску рикши.
Человек в панаме разжал ладонь, и йо-йо будто зависло в воздухе.
– Пора начинать, – прошептал он.
Затем нетвердой походкой двинулся вперед, столкнулся с Энтони Форестером, пошатнулся, схватил его за плечи, якобы чтобы не упасть, и ловким жестом опустил в карман его пиджака конверт.
По возвращении в отель Энтони Форестер, развалившись на диване в кальсонах и подвязках для носков, вновь и вновь прокручивал в голове скверную новость. Какая глупость – все шло как по маслу, и вдруг из-за какой-то жалкой песчинки хорошо смазанный механизм операции заклинило. Сначала он подумал, что это шутка, но подпись под письмом не оставляла никаких сомнений. Скорее всего, конверт ему подбросил сумасброд в затемненных очках. Кто этот тип? Сообщник, о существовании которого он ничего не знал? Или совершенно посторонний человек, которому поручили эту миссию за вознаграждение? Поди теперь узнай! Да и потом, зачем задействовать посредника, чтобы выйти на связь? Энтони несколько раз перечитал послание. Он не станет подчиняться – это слишком опасно. Может, патрон чокнулся? Зачем назначать встречу в месте, где за ними могут следить? Это же чистой воды безумие! Форестер сложил записку, сунул ее в бумажник и решил забыть об этой досадной неприятности.
«Не пойду. Свою часть контракта я выполнил. Я сыт этим делом по горло и в ближайшие дни…»
На узкой скамейке, пропахшей кожей и потом, фиалковый запах Энтони смешивался с ароматом парфюма от Любена, которым надушилась Эдокси Аллар. Не успел он страстно поцеловать куртизанку и заняться изучением ее корсета, как фиакр подъехал к тротуару на улице Руаяль и встал в длинном ряду автомобилей «Де Дион-Бутон» и «Клеман-Гладиатор».
У входа в «Максим» топтались полуночники, вовсю пользуясь возможностью вволю полюбоваться монументальным входом на Выставку на площади Согласия. Над золоченым шаром, опираясь на три арки, покрытые разноцветными кабошонами, возвышалась статуя «Парижанка». Со шляпой в виде символической парижской барки на голове, она напоминала собой богиню, которая сошла с Олимпа, чтобы повести за собой заблудших путников. По крайней мере, Энтони Форестеру показалось именно так. Но Эдокси остудила его восторг.
– Это вам не Роден. В крайнем случае – страшная, жирная потаскуха, да к тому же свихнувшаяся. Или Юнона, которую выгнали из публичного дома. Впрочем, этот ресторан стал подлинным пунктом сбора титулованных гостей как раз благодаря своему расположению у главного входа.
Прилагая отчаянные усилия, они проложили себе путь в толпе.
– Эй, Ирма, как жизнь, ничего? Привет, Лиана. Ой, Клео, прости, не признала тебя, здесь за места настоящая драка.
Эдокси надрывалась в гулком гомоне голосов, который перекрывали собой крещендо оркестра, наяривавшего «Две фиги Урсулы»
1.
[1087]Знакомые называли Эдокси Фифи или Фьяметтой и вовсю лорнировали ее кавалера, спрашивая себя, кто он такой. Шуршали юбки, то и дело входя в соприкосновение с фалдами фраков, трости с серебряными набалдашниками соседствовали с чесучовыми зонтиками, собравшиеся бурно приветствовали то принцессу Караман-Шиме, урожденную Клару Уорд, сохранившую, несмотря на развод с мужем, этот титул, то герцога Огюста де Морни.
Наконец они добрались до столика, который после обеда зарезервировал Энтони. Эдокси заметила ему, что столики 16 и 23 у буфета на возвышении, прозванного «Омнибусом», где их усадил вышколенный мэтр Жерар, предназначены для сливок общества. Форестер слушал ее вполуха, поражаясь вычурному декору, в котором зеркала в рамах из резного дерева чередовались с фресками, живописавшими резвящихся среди кувшинок наяд.
– Ну, что скажете, мон шер? – поинтересовалась Эдокси. – Это вам не показная добродетель Альбиона, не так ли? «Максим» – вотчина женской половины аристократии, хотя первенствуют здесь куртизанки и дамы полусвета. Взгляните вон на ту леди, чьи телеса буквально рвутся наружу из корсета – это Афродита д'Анген, а тощее нагромождение щипцов для спаржи чуть дальше, слева, – Мелузина де ла Пателин. Если вам нужны те или иные сведения, обратитесь к Жерару, он у нас лучший специалист по знаменитостям. Я буду называть тебя «Мой принц», «Ваше Высочество», «Господин герцог»… И он, если попросить, покажет вам всех тех, кто лелеет надежды на восстановление империи или королевства.
– Признаюсь, мне нечасто доводилось видеть столько жемчуга, перьев и сатина. А что это за тип с карандашом переходит от столика к столику?
– Близорукий коротышка в поношенном фрачишке? Это, с позволения сказать, местный Лотрек. Рисует шаржи на клиентов и называет себя Симом, сыном Ноя, ну, вы знаете, Великий потоп, Ковчег, голубь, пальмовая ветвь и прочая белиберда. Его буквально рвут на части. На самом деле этого субъекта зовут Жорж Гурса
[1088], он является отпрыском бакалейщика из Перигё. Выходцев из низов здесь полным-полно. Видите вон того штатского в шляпе-кронштадтке и галстуке в горошек? Это Годфруа де Бульон-младший, его отец был мясником.
– Что-что?
– Использование прозвищ свидетельствует об определенном чувстве юмора. Для вас, англикашек, это же конек, разве нет? Годфруа, он же Александр Дюваль, является наследником знаменитых бульонов.
– Бульонов? Супов?
– Да нет, я имею в виду недорогие рестораны, в которых подают сытные блюда. Из жалких грошей пролетариев Александр скопил целое состояние и теперь живет припеваючи!
Когда принесли меню, Энтони Форестер тут же оценил его дороговизну. Тридцать франков на человека его испугали, поэтому он попросил принести лишь бокал шампанского, сославшись на то, что уже ужинал.
«Вот крыса!» – подумала Эдокси и заказала, хоть и не была голодна, дюжину остендских устриц, морской язык а-ля Полиньяк, венский эскалоп и салат из шиншиллового кролика. Заказала – только чтобы увидеть, как ее покровитель побледнеет, и, тем самым, доставить себе удовольствие.
– Цены в «Максиме» умеренные – если ужинать до десяти часов, можно уложиться в луидор, – вероломно процедила она. – Но если нагрянуть сюда позже, это уже обойдется намного дороже.
Энтони Форестер поперхнулся. Слово «дорого» воскресило воспоминание об имени, давно похороненном в самых потайных закоулках памяти: Раймон Лакуто
[1089]. Соглашаясь принять участие в данном деле, Энтони предпочел не думать о зловещей участи, уготованной этому человеку. «Несведущий не видит даже того, что бросается в глаза», – сказал он себе тогда. Для очистки совести он превратил Лакуто в идеальный образчик дельца самого низкого пошиба: в грязного типа в колониальном костюме, с палкой в руке, который сидит под навесом бунгало в непроходимой сенегальской глуши, а рядом стоят двое предупредительных слуг-мальчишек – один из них подает ему лимонад, другой обмахивает веером из страусовых перьев. При мысли о том, что убийца Лакуто живет в Париже, его опалила внезапная вспышка страха – будто кто-то приставил к горлу холодный клинок.
– Что-то вы побледнели, мон шер. Это шампанское на вас так подействовало? Или загипнотизировал этот грубиян?
Эдокси показала на американского стального магната в кремовом костюме и бледно-зеленом жилете, на коленях которого сидели сразу две красотки, слишком вульгарно накрашенные.
– Нет-нет, я просто задумался.
– С вами все ясно! Даю руку на отсечение, что под занавес этого вечера вы собираетесь сводить меня в «Брассери дю Дерби» в предместье Монмартр. Блюда там будут подавать сомнамбулического вида дамы в жокейских костюмах.
– Вам, право, нелегко угодить!
– Да, я хочу пить! Гарсон! Смородинового ликера с водой.
– Может, вам, мадам, больше понравится нежное розовое вино из Прованса? Оно сохранило вкус винограда. Минеральной воды у нас почти не осталось, а сбои с водоснабжением могут затянуться надолго.
– В таком случае несите большую бутылку, литра на полтора-два. Так что вы говорили, мой дорогой друг? – спросила она у Энтони, в чьей душе боролись два чувства – беспокойство по поводу чрезмерных трат и восхищение Эдокси, которая никак не могла утолить свою жажду.
– Нет-нет, ничего.
– Когда часы пробьют полночь, придет время заглянуть в вашу берлогу, мой дорогой. Я сгораю от желания побыстрее оказаться в ваших объятиях.
Энтони уплатил по счету, на его взгляд чрезмерно завышенному, с одной стороны шокированный, с другой – очень довольный прямотой этой дамы. Он слегка дрожал и поэтому опрокинул на себя бокал, наполовину наполненный вином. Форестер приложил к карману пиджака салфетку, чтобы промокнуть жидкость, но все было тщетно – бумажник все равно намок, и он вновь вспомнил о записке с угрозами, которую ему передали в манере, позаимствованной из сочинений о Рокамболе
[1090]. Несмотря на влажную жару, Энтони вздрогнул. Почему патрон решил отступить, рискуя тем самым все испортить?
Глава шестая
Вторник, 24 июля
Фредерику Даглану с лихвой хватило бы денег прожить несколько месяцев в одном из «Отелей Трокадеро». Его поведение было продиктовано не жадностью или нуждой, но необходимостью доказать самому себе, что, несмотря на пятидесятилетний возраст, он еще вполне способен придумать ловкий и хитрый ход, чтобы оставить в дураках себе подобного.
В данном случае этим ему подобным был Ламбер Дутремон. До конца Выставки ему предстояло исполнять обязанности главного администратора одного из четырех отелей Трокадеро, после чего он рассчитывал получить должность директора в роскошном заведении на Больших бульварах.
Ламбера Дутремона известил дежурный администратор Феликс Жодье, который и сам был в шоке после того, как ему из номера позвонил Уильям Финч.
Они вдвоем постучали в дверь коммерсанта, который тут же открыл им в рубашке, жилете и обмотанном вокруг бедер банном полотенце.
– Это уже слишком! И вы называете это отелем? Ночью у меня украли брюки. В которые я накануне положил бумажник со всеми деньгами, документами и квитанцией из камеры хранения багажа на вокзале. Я требую немедленно известить полицию!
Фредерик Даглан говорил с легким британским акцентом. Слова хоть и произносились отчетливо, но, казалось, требовали тщательного обдумывания. Ламбер Дутремон напустил на себя огорченный вид.
– Невероятно. У нас в жизни не было краж. Полнейшая честность и порядочность…
– Разбойничий притон, вот что вы здесь устроили!
– К тому же, – добавил Феликс Жодье, не доверяя возмущенному клиенту, – мы несем ответственность только за то, что постояльцы хранят в нашем сейфе.
– Вы что, хотите, чтобы я оставлял на хранение в сейфе брюки?
– Узнаю иронию, в вашей стране она довольно своеобразна, – парировал дежурный администратор, деланно улыбаясь.
– В конце концов, это просто смешно! – воскликнул Ламбер Дутремон. – Вы что, не заперли дверь на ключ?
– Как это не запер? Вор воспользовался отмычкой, ведь следов взлома и в помине нет. Подумать только – в рекламном проспекте вы до небес превозносите безопасность вашего заведения!
– А почему вор довольствовался только брюками? Они что, были уникального покроя? – спросил дежурный администратор, показывая пальцем на лежавший в кресле пиджак.
– А мне почем знать? Этот грабитель явно действовал вслепую и, чтобы выиграть время, схватил что попалось под руку. Ну что, вызываем полицию?
Ламбер Дутремон и Феликс Жодье переглянулись. Им было совершенно ясно, что этот Уильям Финч проходимец. Вместе с тем они отчетливо сознавали, что он без колебаний подаст жалобу, устроит скандал и тем самым дискредитирует «Отели Трокадеро». Газеты этот скандал раздуют, клиенты соберут манатки, переедут в другие отели, и тогда – прощай, желанное повышение! Над карьерой двух администраторов нависла угроза.
– В кошельке была большая сумма?
– Три тысячи франков, – без запинки ответил Фредерик Даглан.
Ламбер Дутремон судорожно сглотнул ком в горле.
– Поскольку ничто не доказывает, что вы говорите правду, полностью возместить ущерб я не предлагаю, но частично убытки мы вам компенсируем. Кроме того, вы можете жить и питаться у нас сколько вам заблагорассудится, плюс к этому я пришлю портного, чтобы он сшил вам новый костюм.
Фредерик Даглан сделал вид, что обдумывает сделанное ему предложение.
– Такой вариант меня устраивает.
– При условии, что этот компромисс останется между нами, – добавил Феликс Жодье.
– А как же мой багаж?
– Мы заберем его сами, с квитанцией или без нее, – решительно отрубил дежурный администратор и злобно оскалился. – Ну что, договорились?
– Да. Из-за поломки водопровода я не могу даже умыться.
– Не вы один от этого страдаете. С учетом непомерного потребления горожанами воды в этот жаркий период, сегодня ночью мэрия Парижа отключила ее. Ставлю вас в известность, что гидравлический лифт не работает.
– Знаю. Вчера вечером я заметил, что двери в лифт приоткрыты, попытался их закрыть, но не смог. Что бы вы ни говорили, но на лифтера можно было раскошелиться!
– Подача воды будет возобновлена через полчаса. – ответил Ламбер Дутремон, не вступая в полемику. – И хотя она немного мутновата, инженеры заверили нас, что качество ее остается на высоте благодаря фильтрации в хранилищах Сен-Мора и Иври. На этом разрешите откланяться, сначала вам принесут завтрак, затем придет портной.
Вежливо обмениваясь прощальными фразами, они увидели, что в коридоре торчит человек.
– Здравствуйте, господин Уолтер. Все идет в полном соответствии с вашими желаниями?
– О’кей, о’кей.
Молчаливого американца Фредерик Даглан узнал по широким бакенбардам, мельком виденным в обеденном зале. Тот выстрелил в него взглядом, столь же неприветливым, как и накануне вечером, и тяжелой поступью удалился.
У Филаминты Демелан были два предмета особой ненависти: Великая французская революция и гидравлические лифты. Первая отняла у ее предков состояние, лишила частицы «де», указывавшей на знатное происхождение, и низвела до состояния простолюдинов, грозившего затянуться на несколько столетий. Вторые, недавнее появление которых было призвано облегчить ее страдания, вызванные хроническим флебитом, оказались лжедрузьями, склонными постоянно ломаться.
– Бедные мои ноги, как же им приходится страдать в такую невыносимую жару! Это не вены, это веревки какие-то, все дергают и дергают! Чтобы они не воспалялись еще больше, я за обедом лишь чуток поклюю, как какая-нибудь колибри, но все без толку! Ерунда все это. Вся беда в том, что лифт опять не работает, потому как нет воды.
Служанка, которую коллеги прозвали Черепахой из-за вынужденного голодания и апатичного вида, вот уже битый час изливала на кухне свои жалобы и стенания.
– Если хотите, я могу вместо вас взять подносы, подняться на третий этаж и разнести заказы клиентам в номера, – услужливо предложил Эмабль Курсон, рабочий кухни, нанятый временно в разгар сезона.
– Вы хотите сделать это за меня? Нет-нет, я не отказываюсь. Китайский чай и бутерброды с апельсиновым мармеладом господину Финчу в двадцать четвертый и чай с молоком, яйца, сваренные в кипящей воде без скорлупы, бекон и тосты господину Форестеру в двадцать шестой.
– Два подноса?
– По одному в каждой руке, наивный вы человек! Затем спуститесь за другими, а подносы из номеров 24 и 26 заберете. Уяснили своей головой?
Эмабль Курсон, в обязанности которого обычно входило лишь наполнять водой чайники и кофейники, а также раскладывать по блюдцам масло и конфитюр, тут же проклял Черепаху вплоть до седьмого колена.
– Постойте-ка, наденьте что-нибудь почище, а то ваша тужурка вся в пятнах.
Эмабль Курсон забаррикадировался в раздевалке, чтобы сменить одежду. Он принадлежал к категории людей, которые слишком рано взрослеют, но потом бросают вызов времени, больше не властвующему над их внешностью. И поскольку все считали его мужчиной лет сорока, он решил признавать за собой этот возраст до тех пор, пока новые морщины не заставят прибавить к этой цифре еще десяток годков.
В то же время его скелет всячески противился грузу этой лжи, а суставы похрустывали, свидетельствуя о том, что двигаются навстречу своей погибели.
Постоялец из двадцать четвертого номера встретил его в странном наряде – рубашка, жилет и банное полотенце, обмотанное вокруг бедер.
– Знаете, что-то этот ваш портной опаздывает.
Избавившись от подноса и пробормотав невнятный ответ, Эмабль Курсон поторопился в двадцать шестой.
Возобновление подачи воды полчаса спустя было встречено бурными аплодисментами.
– Филаминта, у нас нехватка персонала. Поскольку лифт вновь заработал, вы поможете горничной произвести в номерах уборку, – заявил Ламбер Дутремон, обходя с инспекцией помещения отеля. – Займетесь номером 26, в котором проживает Энтони Форестер. Полетта, скажете Филаминте, где взять простыни.
Юная Полетта, в восторге от того, что ее освободили от нелегкой работенки, адресовала милую улыбку старой Филаминте, которая решила спустя рукава убрать в номере, где проживал извечный враг Франции.
Вооружившись универсальным ключом, она вошла в номер, пропахший сигарами и фиалковой водой. Затем взяла поднос, переставила его на соломенный коврик, подошла к окну и открыла жалюзи. По дороге подняла подвязку и скривилась от отвращения. Вот оно что, значит, этот «бифштекс»
[1091] принимает у себя женщин! А раз так, то и вся постель перепачкана, в этом нет никаких сомнений. Какие же они все-таки грязнули, эти мужчины, она поступила мудро, что осталась в девицах! Филаминта пару раз махнула веником, смела пыль под ковер, вытащила из-под вазы кружевную салфетку, протерла ею, как тряпкой, плинтуса и спинки стульев, вытряхнула в окно и направилась в ванную.
Туалетная комната была немым свидетелем неопрятности человеческого рода. Хотя свет в нее проникал лишь через узкое окошко в дальней стене, прилипшие к эмали волосы можно было разглядеть и без лупы. Мыльные разводы, следы недавнего бритья насухо в отсутствие воды напоминали Филаминте водоросли, выброшенные на песчаную отмель в Барневиле, маленьком городишке на полуострове Котантен, где она в юности работала на ферме, не разгибая спины. Филаминта уныло взглянула в зеркало, все в маленьких точечках, оставленных по причине небрежного обращения с зубной щеткой. Она наклонилась к своему отражению, поправила шиньон, улыбнулась… и застыла как вкопанная. Кроме нее, в комнате был кто-то еще. За ее спиной страшным, набитым соломой чучелом, виднелась какая-то темная масса.
Филаминта была не в состоянии пошевельнуться, мышцы напрочь отказывались ей подчиняться. Она сделала над собой нечеловеческое усилие и повернулась.
Съежившись в промежутке между ванной и биде, на нее, оскалив рот, смотрел человек. На рубашке проступила алая полоса, из груди торчала стрела с красным оперением.
Филаминта поднесла руки к щекам, затем к замершему сердцу. Ее неистовые вопли, покатившиеся с этажа на этаж, привели к неоднозначным результатам.
Полетта в номере 22 остановилась, застыла на месте и констатировала, что мочевой пузырь сыграл с ней злую шутку.
Шавка, оставленная хозяином в номере 18, задрала нос к потолку и попыталась тявкнуть, но ее першившее горло смогло издать лишь немощное урчание.
Одна почтенная матрона запуталась в своих многочисленных юбках и упала вверх тормашками, взбрыкнув в воздухе ногами.
В номере 24 Фредерик Даглан, он же Уильям Финч, выскочил из туалетной комнаты, позабыв полотенце, служившее ему набедренной повязкой. Он выбежал на лестницу, вспомнил о своем недостойном виде, вернулся за полотенцем и вновь вылетел в коридор в тот самый момент, когда горничная рысцой неслась к ступенькам:
– Покойник! – голосила она. – Как же у меня болят ноги! Я сейчас умру!
Затем заперлась в лифте, который стал спускаться вниз.
Несколько шагов – и Фредерик оказался у открытой двери соседнего номера. Он вошел, не увидел ничего необычного и направился в ванную.
Поначалу вид трупа не оказал на него никакого влияния. Раньше Даглан уже смотрел в лицо смерти, и хотя равнодушным его назвать было нельзя, единственным чувством, которое он испытывал в данный момент, было опасение, что его заподозрят в причастности к этому делу.
В то же время руки Фредерика слегка задрожали, когда он похлопал по карманам пиджака убитого, узнав в нем приветливого британца, сидевшего с ним за одним столом в обеденном зале. Того самого англичанина, который ночью принимал у себя даму.
Не успела в голове Даглана забрезжить блестящая идея, как он тут же приступил к ее осуществлению. Он завладел бумажником Энтони Форестера, развязал шнурки на его туфлях, снял их, расстегнул пояс, приподнял тело и стащил брюки. Это дело, которое он провернул с необычайной ловкостью, отняло больше времени, чем предполагалось вначале. Прижав к груди штаны с бумажником, Фредерик поспешил вернуться к себе в номер, лишь чудом избежав встречи с толпой, галопом несущейся в покои убитого.
Внимательно прислушиваясь к шуму, который становился все громче и громче, Даглан подумал было смотать удочки, но тут вспомнил, что на нем нет брюк.
В дверь постучали. Фредерик спрятал добычу под матрас и увидел перед собой чопорного субъекта с отяжелевшими веками и кожаной сумкой в руках.
– Господин Финч? Я портной Морлан, пришел снять мерки. Меня попросили сшить вам костюм.
Фредерик Даглан сдался без боя. Покопавшись в своей сумке, портной потряс в воздухе сантиметром и опоясал им плечи нового клиента. Дверь вновь открыли и в номер ввалились сотрудники отеля, незадолго до этого удостоверившиеся в правдивости слов Филаминты.
– Господин Финч! Вы, случаем, не слышали? В 26 номере шума никакого не было?
– Еще как слышал! Позвольте заметить, что ваши рекламные проспекты лгут. Тишина? Здесь, в этом отеле? Смешно! Проходной двор какой-то! Вечно кто-то уходит, кто-то приходит, кричит как полоумный. Вы что, готовитесь к проведению карнавала?
– Вы это нарочно говорите?
Филаминта Демелан, со съехавшим набок шиньоном и еще не оправившаяся от страха, вызванного прикосновением к смерти, с выражением ярости на лице в упор смотрела на этого грубияна в жилетке и полотенце, обмотанном вокруг бедер.
– Попрошу вас не выходить из отеля, произошло… произошел несчастный случай, мы вызвали полицию, которая, несомненно, допросит как персонал, так и наших постояльцев, – заявил Ломбер Дутремон.
– Куда мне идти? – парировал Фредерик Даглан. – Если я выйду на улицу в таком виде, меня тут же возьмут под белы ручки и отведут в участок. Да и потом, мне кажется, не стоило ничего рассказывать… как это по-французски?.. ах да, фликам
[1092], чтобы не пятнать репутацию вашего заведения.
Он в гневе мерил шагами комнату, за ним по пятам следовал портной, отчаявшийся снять необходимые мерки.
– Никакой связи между нашей с вами историей, разве что… отсутствие штанов… Да, в сложившихся обстоятельствах мы вынуждены рассказать о причиненном вам ущербе.
– Из того, что вы говорите, я не понимаю ни единого слова.
– У нас украли уже вторые штаны, только на этот раз… их владелец умер насильственной смертью.
Чтобы изобразить на лице удивление, Фредерику понадобилось все его присутствие духа. Полотенце соскользнуло на пол, явив взорам собравшихся длинные кальсоны. Через ширинку проглядывал неизменный мужской атрибут, который деликатность запрещает демонстрировать по поводу и без повода.
Феликс Жодье подбородком указал на этот изъян в одежде. Фредерик Даглан недоуменно уставился на него и, наконец, замер на месте – к большому облегчению портного.
– Э-э-э… там, внизу, застегните вашу…
Мнимый негоциант из Бристоля увидел свою досадную оплошность и оставил без внимания кудахтанье Полетты.
– Как бы там ни было, вы же не собираетесь сказать, что организованная шайка злодеев выпускает кишки из мужчин, остановившихся в этом отеле, только ради того, чтобы стащить у них брюки?
– И бумажники тоже, – со значением сказал Ламбер Дутремон.
– В таком случае мне повезло, чертовски повезло! Из постояльцев больше никого не убили? – безразлично спросил он.
От волнения черты лица Ламбера Дутремона исказились.
– Шутка грубая и отдает дурным вкусом.
– Вот журналисты будут облизываться. Кстати, а каким образом моего соседа отправили на тот свет?
– Всадили стрелу прямо в яблочко! – воскликнул Гедеон.
– Ну вы остряк!
– Может, по ту сторону Ла-Манша и любят подобные развлечения, но у нас, во Франции, с убийцами не шутят, мы их преследуем и отрубаем им головы! – заявила Филаминта.
– Что касается нас, то мы в отношении их довольствуемся виселицей, – метко заметил Фредерик Даглан, – это служит доказательством того, что при отправлении правосудия и вы, и мы поступаем как варвары.
– Вот тебе раз! – дала ему отпор Филаминта. – Вы жалуетесь, что преступников казнят? Но ведь в противном случае людей, как сегодня, убивали бы пачками!
Ламбер Дутремон велел женщине замолчать.
– Господин Финч, у нас останавливаются лишь привилегированные постояльцы, – заявил Феликс Жодье, – бьюсь об заклад, что в этом отеле вы не встретите ни одной подозрительной личности.
– Вы правы, воры, охотящиеся за чужими штанами, отдают предпочтение роскошным отелям, но по зрелому размышлению я обратил внимание на некоего господина, чья физиономия совершенно не внушает мне доверия. Он носит густые бакенбарды, а глаза его – настоящие торпеды.
– Должно быть, вы имеете в виду господина Мэтью Уолтера, – вмешался в разговор дежурный администратор Феликс Жодье.
– Да он обходительнее монастырской привратницы, – добавил Гедеон.
– Вы наговорите! Этот отель не имеет с монастырем ничего общего, здесь кишмя кишат особы, торгующие своими прелестями. Около полуночи мой покойный сосед принимал у себя даму, мне пришлось слушать, как они предавались любовным утехам, стены-то ведь из бумаги.
– Господа, господа, как я могу работать, если вы без устали обрушиваетесь на этого господина с нападками? – заскулил портной, тщетно стараясь снять с торса Фредерика Даглана мерку.
– Полиция распутает этот клубок, – процедил сквозь зубы Ламбер Дутремон.
– Я буду разговаривать с инспекторами только в надлежащем костюме, так что дайте господину Морлану спокойно работать, – приказал Фредерик Даглан. – А заодно унесите поднос.
Номер опустел. Портной закончил снимать мерки и откланялся, пообещав через два часа прийти с готовым костюмом.
Фредерик Даглан выждал несколько минут, осторожно выглянул в коридор и направился в кладовку за своими инструментами. Он чуть было опять не потерял обернутое вокруг бедер полотенце. Обратный путь в номер неожиданно преградили две молодые женщины, дожидавшиеся лифта. Как только они оказались в кабине, Фредерик Даглан метнулся к себе. Затем в темпе разложил все необходимое, приподнял ковер, извлек несколько паркетных дощечек и добавил к собственным брюкам штаны Энтони Форестера. Если бы полицейские решили провести обыск по всем правилам, их ждал бы богатый улов. Поэтому бумажник Энтони Форестера перекочевал в тайник – вместе с деньгами и документами, до этого спрятанными за трюмо. Фредерик с сожалением заделал дыру в паркете, нанес слой лака и прибил обратно ковер. Быстрее, быстрее – здесь вот-вот будут флики. Отнести инструменты в кладовку, вернуться обратно, закурить гаванскую сигару – чтобы отбить запах лака – и выпить стакан воды. Подобная гимнастика была не для его возраста, и сердце Даглана отплясывало джигу. Тут он увидел у ножки кресла квадратик бумаги, забрызганный красными пятнами. Откуда он выпал? Фредерик вспомнил конверт, торчавший из бумажника Форестера.
Клапан, закрывавший его, был тут же отклеен. Фредерик извлек лист, исписанный неразборчивым почерком. Слова на нем читались с трудом, некоторые фразы были полностью залиты кровью. Он поднес письмо к лампе у изголовья кровати, но прочесть недостающие буквы так и не смог. Даглан сел за стол. Такого признанного специалиста по тайнописи подобная помеха остановить не могла.
Взяв в руки карандаш, он принялся за дело. По мере того как пробелов становилось все меньше, лицо его мрачнело все больше и больше. Фредерик с озабоченным видом спрятал записку в кальсоны, надеясь, что в своих подозрениях полицейские не дойдут до того, чтобы заставить его раздеваться. Как только ему принесут костюм, он отправится по адресу, запечатленному в памяти, вернет старый долг и предупредит человека, которого ему не суждено забыть до конца жизни. Даглан обязан для него это сделать. К счастью, у него осталось достаточно денег, чтобы нанять фиакр. Он отправится к нему завтра. Фредерик расшвырял подушки, рухнул на смятые простыни и стал ждать вторжения полиции.
На том же этаже, в двадцатом номере, Арчибальд Янг подстригал усы. В дверь постучали. Не желая видеть сейчас горничную, он приготовился послать ее куда подальше, но, увидев перед собой сурового вида мужчину, изумленно застыл на месте. Незваный гость протянул визитную карточку, обличавшую его как главного комиссара полиции, без приглашения вошел и замер посреди комнаты, прямой, как фонарный столб.
– Комиссар Вальми, из префектуры, – слащаво произнес он.
Арчибальду показалось, что, несмотря на серый костюм, мольтоновую рубашку и бежевый галстук, посетитель своими манерами похож на англиканского священника. Янг обратил внимание, что изумительные туфли у него на ногах начищены до блеска.
– Чем обязан чести принимать вас у себя? – спросил он по-французски с едва заметным британским акцентом.
– Перейду прямо к делу. В двадцать шестом номере было совершено убийство. Жертвой стал Энтони Форестер. Англичанин, как и вы.
Чтобы произвести еще лучшее впечатление, Арчибальд Янг выпятил грудь.
– Вы совершаете ошибку, комиссар, я шотландец.
– Давайте не будем отвлекаться на детали. Я хочу знать, чем вы занимались. Начиная со вчерашнего вечера.
– Спал, храпел, по обыкновению, пару раз вставал, чтобы удовлетворить естественную нужду.
– Подозрительного ничего не слышали?
– Слышал и намереваюсь обратиться к дирекции с жалобой. Неоднократно громко лаяла какая-то шавка.
– Вы обратили внимание, в котором часу эта шавка заявляла о себе?
Арчибальд Янг смерил полицейского взглядом и облизал губы.
– Вы полагаете, я стану записывать в дневник причуды какой-то тявкушки?
– Это было бы очень кстати. Энтони Форестера, постояльца из 26-го номера, убили стрелой в промежутке между полуночью и восемью часами утра. А перед этим жестоко пытали.
На лице шотландца отразились первые признаки волнения.
– Надеюсь, меня вы не подозреваете. Я даже обыкновенной рогатки в руках никогда не держал.
– Я подозреваю всех без исключения, такая уж у меня работа. И был бы не против устроить вам очную ставку с рабочим кухни, который приносил завтрак в номер Форестера, ведь если верить слухам, которые распространяет персонал, еду в номер доставили не покойному, а другому человеку. Но к сожалению, этого рабочего наняли временно, он то придет, то уйдет, что несколько усложняет ход моего расследования.
– В его поведении нет ничего
необычного. Если он видел злоумышленника, то теперь боится, что его тоже убьют. Это вполне нормально. Ваш рабочий сбежал, заклиная небеса сохранить ему жизнь. Что касается меня, то принесенной утром подгоревшей каши мне хватило вполне, поэтому нет никакой необходимости добавлять, что я не стал бы лезть за дополнительной порцией в номер незнакомого мне человека.
Огюстен Вальми окатил его подозрительным взглядом.
– Подобные умозаключения вас никоим образом не оправдывают, господин Жанг. Как и другие постояльцы отеля, вы обязаны оказывать моим инспекторам всяческое содействие до тех пор, пока мы не найдем убийцу, который совершил аналогичным образом уже не первое преступление.
– Янг, моя фамилия Янг. Вы же не хотите сказать, что все мои соседи обречены безвылазно здесь сидеть!
– Попрошу вас информировать нас обо всех ваших перемещениях. Где вы были этим утром?
– Пялился на витрины на Больших бульварах. Это запрещено?
– Знакомые у вас в Париже есть? Друзья, родственники?
– Если бы были, разве я стал бы останавливаться на этом захудалом постоялом дворе, где клиентов отправляют на тот свет?
– Каков род ваших занятий, господин Жанг?
– Янг, первая буква «Я». Торговля и экспорт. Специализируюсь на разнообразных безделушках, которые туристы считают необходимым дарить родственникам и знакомым либо выставлять на этажерках в виде трофеев. Здесь надеюсь приобрести ряд изящных вещиц, представляющих различные павильоны Выставки, а также миниатюрные Эйфелевы башни, пользующиеся у нас огромным успехом.
Вальми заглянул в свой блокнот.
– Вы знакомы с Уильямом Финчем?
– Нет.
– А с Мэтью Уолтером?
–
For Christ’s sake[1093]! Я что, должен якшаться со всеми англосаксами, шастающими на Выставке?
– Нет, только с двумя, господин Жанг. Первый – Уильям Финч, англичанин из Бристоля, такой же торговец, как и вы. Его номер примыкает к тому, где убили Форестера. Знаете, ночью, пока он спал, у него сперли штаны и бумажник. Он устроил дирекции настоящий скандал, но самое странное в том, что брюки Форестера тоже исчезли.
Арчибальд Янг умолк и с настороженным видом откинулся в кресле.
– Второй, господин Мэтью Уолтер, поселился в отеле 18 июля, въехав в тридцать шестой номер, в аккурат над комнатой покойного Форестера. Он американский турист из Массашосета – ястребиные глаза, шкиперская бородка, густые бакенбарды. Если верить служащим отеля, весьма неприятный субъект. Перед прибытием полиции сей клиент уплатил по счету и ударился в бега.
– Из Массачусетса, комиссар. А этот господин Уолтер тоже остался в одних кальсонах? Вынужден вас огорчить, у меня нет времени знаться с этими господами. Я вполне мог встречать их в обеденном зале, но не обратил на них ни малейшего внимания. А почему они вас так интересуют? Вы их в чем-то обвиняете?
– Не больше, чем остальных постояльцев и членов персонала отеля. Вопрос лишь в том, что вы признали…
– При чем здесь я? Я живу в двадцатом, в самой глубине коридора.
Комиссар Вальми не сводил с него ироничного взгляда.
– Расстояние между двадцатым и двадцать шестым можно преодолеть за какие-то полминуты, – через мгновение продолжил он безобидным тоном.
– Вы ставите меня в крайне затруднительное положение, комиссар, – выпалил Арчибальд Янг, с трудом сдерживая гнев, – я буду жаловаться на вас в мое посольство.
– Жалуйтесь, господин Жанг, жалуйтесь, но из Парижа – ни ногой, ведь здесь так много достопримечательностей! – ответил на это комиссар, слегка прикасаясь к шляпе.
Арчибальд Янг громко высморкался.
– Комиссар, вы сказали, что схожим образом было совершено еще одно убийство. Его жертва тоже жила в этом отеле?
– Нет. Это был азиат. Установить, откуда он, мы так и не смогли. Кем он был – тонкинцем, аннамитом, китайцем, корейцем, японцем, выходцем из Самоа или какой другой страны Дальнего Востока? Тайна, покрытая мраком. Желаю вам приятно насладиться видом витрин, господин Жанг, и не забудьте вечером вернуться в отель, ведь расследование только начинается, – бросил Огюстен Вальми и с такой силой одернул полы своего пиджака, что чуть не оторвал их.
Затем он удалился, не сказав больше ни слова.
Арчибальд Янг рухнул в кресло, вытащил из кармана еще один носовой платок и вытер лоб. Затем приоткрыл дверь номера, повесил на ручку табличку с надписью «Не беспокоить», повернул ключ и прошел в ванную. Там снял пиджак, расстегнул брюки, развязал тесемки, удерживавшие на груди широкие полосы из толстого мольтона и облегченно вздохнул. Прощай, большое брюхо! Терпеть этот нелепый наряд, радикально менявший его наружность, было настоящей пыткой, но игра стоила свеч: новая жизнь, новые документы, новый человек. Сначала он хотел стать Квентином Данди, но это имя не соответствовало избранному им образу. В конце концов он решил, что ожиревшему буржуа, в которого он превратился четыре недели назад, лучше всего назваться Арчибальдом Янгом. Арчибальд – в честь Арчибальда Дугласа, прославленного шотландца, жившего в XIV веке, а Янг – потому что из пятерых детей в семье он был самым младшим
[1094]. Запомнить – проще простого. Он склонился к зеркалу, снял с головы рыжеватый парик и засунул его в небольшой ларец. Та же участь постигла бороду, усы и брови. Три часа передышки.
Стоя нагишом под душем, он наслаждался холодной водой, струившейся по его стройному телу.
Лавка торговца вином отбрасывала на тротуар длинную дорожку света. На фоне плит мелькнула чья-то тень, и все разговоры стихли. Человек бросил на прилавок монету, засунул подмышку бутылку и вышел, не сказав ни слова.
– А он не болтлив, – заметил какой-то голодранец, навалившись на прилавок, – я его здесь никогда не видел.
– Заткнись, – пробормотал хозяин, – он темная личность.
– Так оно и есть, – подлила масла в огонь его жена. – От его вида у меня все поджилки трясутся. Видели его глаза? Хищная птица. Говорю вам: гриф, высматривающий жертву, чтобы набить ею брюхо!
Мэтью Уолтер тяжелой походкой шел по улице. Подмастерья, после трудного рабочего дня заигрывавшие с девицами, которые днем полировали украшения в ювелирных мастерских, при его приближении уступали дорогу. Какая-то проститутка, толстая как бочка, караулившая клиентов у водосточного желоба, резво перебежала дорогу.
Мэтью Уолтер завернул в глубину двора. Притаившись за грязными занавесками, матушка Мокрица, вырядившись в индийскую юбку, внимательно следила за всеми, кто шастал туда-сюда. Она бы обратила в звонкую монету даже звезды, если бы могла их схватить. Но этого человека она не продаст, ведь он очаровал ее сразу двумя вещами: во-первых, острыми железными побрякушками, постоянно болтавшимися у него на поясе, а во-вторых, щедрой платой. Временное жилье, которая она сдавала ему поденно, было поистине убогим. Мебель рассыпалась на глазах, металлическая сетка кровати ощетинилась торчавшими в разные стороны пружинами. Но Мэтью было все равно – мягко ему не доводилось спать никогда. На его левой руке красовалась татуировка:
Свобода или смерть, украшенная красным драконом, эмблемой стяга его родного Уэльса.
Когда Мэтью было шесть лет, отец, овдовев, поместил его в работный дом. Коротко стриженный, облаченный в бумазейные обноски, превратившийся в маленького каторжника, он провел детство, по четырнадцать часов надрываясь на мануфактуре по производству корабельных снастей. Изголодавшись и растратив последние силы, устав от побоев за малейшую провинность, весенней ночью накануне своего двенадцатого дня рождения он бежал и после долгих скитаний добрался до Ливерпуля. А там – впервые увидел порт.
Может, за этим обширным пространством, усеянным лесом мачт, его ждала Обетованная земля? К каким неизведанным краям направляются эти корабли, паруса которых надувает ветер? Бомбей, Кейптаун, Шанхай, Сидней? От свободы исходил запах йода, пряностей и смолы.
Мэтью Уолтер редко вспоминал прошлое. Хладнокровный, грамотный, лишенный любых моральных устоев, наделенный развитыми аналитическими способностями, он с честью выходил из самых опасных передряг. Одиночка, не знающий ни стыда ни совести, но действующий неизменно эффективно и наверняка. В свои сорок два года он кем только не был и теперь готовился в очередной раз сменить образ жизни.
Уолтер взял лист бумаги с расписанными на нем этапами реализации проекта. Он прибыл в Париж две недели назад, и неожиданный поворот, который приняли события, ничуть не нарушил его планов. Еще несколько дней потерпеть – и взлелеянная мечта станет действительностью.
Глава седьмая
Среда, 25 июля, утро
Это была не книжная лавка, а зал ожидания на каком-нибудь вокзале, – тут постоянно толклись клиенты, отнюдь не благоприятствуя конфиденциальному разговору с Виктором Легри. Заняв наблюдательный пост на тротуаре и натянув на глаза шляпу, Фредерик Даглан вглядывался в тени, мелькавшие за витриной, на которой красовалась надпись:
«ЭЛЬЗЕВИР»
СОВРЕМЕННЫЕ И СТАРИННЫЕ КНИГИ
Партнеры Мори, Легри и Пиньо
Улица Сен-Пер, 18
Часы работы: понедельник-суббота
С 8 ч 30 мин до 18 ч 30 мин
Тем хуже, придется бить копытом от нетерпения до тех пор, пока все эти зануды не уберутся восвояси. Он вытащил из кармана платок и приложил его к носу, чтобы уберечься от тошнотворного запаха. Поскольку воду отключили, канализация с самого утра не функционировала и Париж заполонило зловоние.
«Город превратился в сплошную выгребную яму, – подумал Фредерик. – Гляди-ка, японец. Может, это и есть знаменитый Кэндзи Мори? А одежка-то на нем не очень».
Спор между Рафаэллой де Гувелин и Хельгой Беккер был настолько ожесточенный, что появление Ихиро Ватанабе осталось практически незамеченным. Облегченно вздохнув, он проскользнул к винтовой лестнице и уселся на ступеньку.
– А я вам говорю, что Французская академия определилась в пользу женского рода!
– Это просто смешно! Ни за что не соглашусь называть автомобиль «автомобилью»! Я всегда называла это транспортное средство «автомобилем» и от своего ни в жизнь не отступлюсь.
– В таком случае возьмите на вооружение термин «пыхтелка», он в точности передает шум, производимый двигателем этого адского механизма!
После расторжения помолвки с ее дорогим Вильгельмом характер Хельги Беккер напрочь испортился. За четыре дня до свадьбы сей торговец моторизованными транспортными средствами из Франкфурта, внезапно потеряв всякое желание вводить в свой тихий, спокойный дом трещавшую без умолку женщину, решил остаться холостяком. Она грозно взмахнула рукой, сделала глубокий вдох, извлекла из сумочки серебристый портсигар и поднесла к губам сигарету.
– Вы курите! – воскликнула Рафаэлла де Гувелин.
– Да, это меня успокаивает, ведь проголосовать обсуждаемый вопрос мы не можем. Графиня де Парис в плане курения может посоревноваться с целой казармой пожарных, а покойная императрица Австрии ежедневно выкуривала по шестьдесят сигарет, не считая пары-тройки толстых сигар!
– Как! Несчастная Сисси? Ни за что не поверю.
– Тем не менее, это чистая правда.
– Как вам будет угодно, фройляйн Беккер, – изрек Кэндзи Мори. – Однако в моем заведении это запрещено. Вы, может, не обратили внимания, но здесь нас со всех сторон окружает бумага, а она – материал легковоспламеняющийся.
Рафаэлла де Гувелин испуганно подхватила своих обожаемых собачек, Белинду и Херувима, и хотела было уйти, но столкнулась со своей неразлучной Матильдой де Флавиньоль, решившей выступить в ипостаси миротворца.
– Я слышала, что двое жителей Вены, торговец и владелец кафе, решили отправиться в Париж
pedibus cum jambis[1095]. Причем каждый из них собирается катить перед собой пустую бочку емкостью семь гектолитров и весом в сто килограммов. В день они намереваются преодолевать от двадцати пяти до тридцати километров. Если им удастся осуществить задуманное, они получат пять тысяч крон.
– Это, господин Мори, очень обрадует вашего друга, большого любителя статистики, – едким тоном бросила Хельга Беккер, показывая на Ихиро Ватанабе, скорчившегося у подножия винтовой лестницы. – Лично мне до этого нет никакого дела.
Затем спрятала портсигар и добавила:
– На кой мне сдались какие-то австрийцы?
Кэндзи предпочел остаться глухим к ее словам и продолжил выкладывать на прилавок экземпляры «Камо грядеши»
[1096].
Виктор игнорировал и влюбленные, игривые взгляды мадам де Флавиньоль, и ее кремовый шарф, вышитый вершинами Тарарских
[1097] гор, и саму даму, без конца развязывавшую его и завязывавшую снова, чтобы привлечь к себе внимание. Он усиленно делал вид, что всецело поглощен царапиной, которую щетка Мели Беллак оставила на бюсте Мольера, восседавшем на каминной полке. Вооружившись кистью и обмакнув ее в белой краске, он потихоньку закрашивал страшное оскорбление, нанесенное парику господина Поклена
[1098].
В лавку с торжествующим видом ввалился Жозеф. Потрясая зажатой в руке газетой, он тут же ринулся к шурину. Кисть скользнула по затылку Мольера и оставила на нем кривую загогулину.
– Взгляните! Это первая полоса «Паспарту». «УБИЙСТВО В ОДНОМ ИЗ ОТЕЛЕЙ ТРОКАДЕРО». Интуиция вас в очередной раз не подвела! Ихиро был прав, его кузена действительно убили. Жертву в Трокадеро умертвили аналогичным образом. На сей раз речь идет об англичанине, некоем Энтони Форестере. Когда одна из горничных увидела этого типа, пронзенного стрелой с красным оперением, ее охватил страх, какого она в жизни не испытывала. Он лежал в ванной. Догадываетесь, кому из полицейских поручено вести дело?
– Огюстену Вальми! – ни с того ни с сего закричали хором Рафаэлла де Гувениль, Хельга Беккер и Матильда де Флавиньоль.
Кэндзи бросил украшать прилавок, сжал губы, посмотрел на пораженное лицо Ихиро и бросился к нему.
– Не сходите с ума, это всего лишь совпадение, к этим убийствам вы не имеете никакого отношения.
– Подумать только! Вчера вечером я отправился на работу, а вечером вернулся сюда! У меня нет сил, в меня выпустят стрелу, и она вонзится мне между лопаток, я в этом уверен!
– Вы и так целыми днями носа не кажете из комнаты, которую предоставил в ваше распоряжение Виктор. Но ведь вечером вам в ней оставаться не обязательно!
Ихиро втянул голову в плечи. Если он потеряет работу, то навсегда лишится денег на квартиру, рис, чай и мелкие расходы. Он медленно поднял лицо и неподвижно уставился на Кэндзи.
– Я нашел решение на тот период, пока полиция не найдет виновного.
– Да? Что же это за решение?
– Мне нужно найти замену. Предпочтительно японца. Мы обрядим его в мою одежду.
Удивление Кэндзи тут же уступило место возмущению.
– Я отказываюсь! Категорически!
– У вас будет право посмотреть спектакль. Актриса Сада Якко очаровательна, ее пантомима приведет вас в совершеннейший восторг. Что же до Лои Фуллер, то ее покрова, окрашиваемые в разные цвета электрическими прожекторами, вызывают душевный подъем.
– И речи быть не может.
– Мори-
сан, бесценный мой друг…
– Кэндзи! Могу я с вами поговорить? – спросил Виктор.
– Одну минуту.
Кэндзи схватил большой конверт со своим последним приобретением – ксилографией Тории Киёнага
[1099], живописавшей общественные бани изнутри, которую он намеревался подарить Джине, когда она проснется. Любопытство Ихиро его настораживало.
– Этот человек сведет меня с ума, – проворчал он.
– Если вы хотите от него избавиться, предоставьте все мне. Полагаю, вы слышали?
– Да-да, отель рядом с Трокадеро, стрелой убили человека. Бегите уж, но если Таша и Айрис узнают – вам несдобровать. «Учуяв кровь, кошка не может скрыть вожделения», – гласит поговорка.
– Которую вы только что сами и придумали. Мне лучше действовать в одиночку. Жозеф в курсе, я его предупредил.
Вид расстроенного зятя убедил Кэндзи окончательно.
Наконец, все стали уходить. Фредерик проводил взглядом женщину с двумя строптивыми собачонками на поводках, в кильватере за которой двигались две клиентки лавки, то и дело путавшиеся в оборках и воланах своих просторных цыганских одежд. Но вся загвоздка заключалась в том, что они окружили Виктора Легри плотным кольцом и, таким образом, превратили в недоступную жертву.
От первоначального плана Даглану пришлось отказаться. Он приблизился к книжной лавке и увидел двух японцев, с воодушевлением что-то обсуждавших под присмотром третьего субъекта с жесткой белокурой шевелюрой, облокотившегося на прилавок.
«Итак, два азиата, – констатировал Фредерик Даглан. – И какой из них мне нужен?»
Один из азиатов грозил пальцем другому, согнувшемуся в почтительном поклоне. Вдруг тот бросился к винтовой лестнице, собеседник побежал за ним. Облокотившийся на прилавок блондин безнадежно махнул рукой, пожал плечами и углубился в чтение ежедневной газеты.
До слуха Жозефа донесся тихий звон колокольчика и стал затихать. Нужно сказать Кэндзи. Жозеф машинально кивнул новому клиенту и сложил газету. Через две минуты, заинтригованный стоявшей в лавке тишиной, поднял голову. Человек рассматривал его с насмешливым видом.
– Я пришел по делу не к продавцу книг, а к детективу-литератору. Не признали меня, господин Пиньо?
– Э-э-э… Нет.
– Мы как-то обедали с вами в компании одной милой девушки, вашей невесты. Мадемуазель Айрис, если не ошибаюсь. Вы развивали передо мной интригу одного вашего романа, если мне не изменяет память, он назывался «Странное дело аквилегий
[1100]».
– Ах да! Я совершенно забыл. Когда же это было? Я женат уже не первый год, у меня двое детей, мальчик и девочка, и я…
– Примите мои поздравления. Это было в 1893 году. В те времена я был королем маскировки. Остаюсь им и сейчас.
Жозеф растерянно разглядывал незнакомца, усиленно копаясь в своих воспоминаниях. Эти привлекательные черты, вероятно, околдовывавшие женщин, эта ироничная улыбка… Да, это он! Если не считать пары седых прядей, он совершенно не изменился.
– Акции «Амбрекса»! Леопард!
– Я променял это рубище на шкуру хорька, растворился в толпе и теперь облегчаю карманы моих собратьев от отягощающей их мелочи. В конце концов, мелочь не так…
– Но ведь это опасно…
– В каждой профессии есть свой риск.
– Я имею в виду, что с учетом былых подвигов вам опасно топтать французскую землю.
– Ну, что до этого… – Он щелкнул пальцами. – Все уже быльем поросло, а полиции и без меня есть за кем гоняться. Вон, в темных закоулках Выставки свирепствует убийца, разящий всех из своего лука. Как бы там ни было, для них он представляет больше интереса, чем скромный карманник:
Из граммофона на верхнем этаже лилась, потрескивая, ария Моцарта:
In Italia seicento e quaranta,
In Allemagna duecento e trentuna,
Cento in Francia, in Turchia novantuna,
Ma in Ispagna son già mille e tre…
*[1101]
–
Mille e tre1,
[1102] – повторил Фредерик Даглан. – В моей коллекции бумажников экспонатов больше, чем у Дона Жуана женщин. Так что тут мне жаловаться грех. Виктор Легри скоро вернется?
Жозеф почесал затылок.
– По правде говоря, у меня такое ощущение, что он ушел надолго.
– Ох уж этот Легри, как всегда – по горам, по долинам. Придется мне навестить его в семейном гнездышке. Окажите любезность, черкните его адрес.
Увидев, что Жозеф собирается фыркнуть и послать его куда подальше, Фредерик Даглан нахмурился.
– В чем дело? Что за нерешительность? Вы что, не верите мне?
– Дело в том, что… это конфиденциальная информация.
– Полно вам, разве я могу причинить зло человеку, который вытащил меня из самой что ни на есть скверной передряги? Сведения, которые я имею ему сообщить, обладают первостепенной важностью.
– Я тоже не хочу причинять ему вреда, – в раздражении ответил Жозеф. – Почему вы хотите обратиться именно к нему? Я его партнер, причем во всем.
– Однако! Раньше вы были лишь приказчиком.
– Чтобы добиться успеха, нужно не только быть полезным, но и обладать способностями. Вы что, не знали этого секрета?
В ответ на эти его слова раздался сдавленный смех.
– Сразу видно, что вы писатель, господин Пиньо, причем неплохой – умеете метко возразить! Я преклоняюсь перед теми, кто с таким талантом сочиняет мелодрамы.
– Вам нравятся мои книги? – спросил польщенный Жозеф.
– Да я от них просто без ума. Я по достоинству оценил «Странное дело аквилегий», но любимым моим произведением, вышедшим из-под вашего пера, стал «Дьявольский селезень». Какой полет воображения, какой прекрасный слог! Вы – король популярной литературы, в один прекрасный день вас сделают кавалером ордена Почетного легиона!
Залившись румянцем, Жозеф, больше не мешкая ни минуты, нацарапал адрес Виктора на листе бумаги, вырванном из блокнота, в который он вклеивал газетные вырезки, повествующие о всевозможных происшествиях. Тут его внимание привлек какой-то скрип. По винтовой лестнице в перкалевом костюме цвета слоновой кости и с цилиндром на голове спускался Кэндзи. Он поклонился Даглану, затем обратился к Жозефу и сказал:
– Я ухожу. Не забудьте приготовить книги, заказанные вчера господином Мандолом.
Зять подождал, пока за ним не закроется дверь, и констатировал:
– Он по-прежнему видит во мне только приказчика!
– А кто это? – спросил Даглан.
– Господин Мори, мой тесть, – проворчал Жозеф и протянул ему адрес Виктора.
Фредерик проворно засунул листок в карман, повернулся и вышел на улицу.
Даглан без труда отыскал глазами Кэндзи, фланировавшего в сторону бульвара Сен-Жермен, и перешел через дорогу, чтобы вести за ним наблюдение с противоположного тротуара. Накопленный за долгие годы опыт научил его запоминать всех, даже тех, с кем он встречался только мельком.
«Значит, это партнер Виктора Легри. Чего-чего, а галантности и манер ему не занимать».
Пока из граммофона доносилось трескучее урчание, Жозеф, оставшийся в лавке один, невидящими глазами смотрел на витрину. Этот Даглан говорил честно или же врал как сивый мерин? О разговоре с ним, пожалуй, лучше будет умолчать и не говорить Виктору, что его адрес этому человеку дал не кто иной, как шурин.
Женщина стояла к нему спиной, поэтому оценить по достоинству ее очарование он не мог. Хотя на ней была бесформенная блуза, тонкий стан и густые, собранные в шиньон волосы свидетельствовали о приятной наружности. Лицо, прикованное к картине на мольберте, оставалось невидимым. На полотне была изображена цветущая девчушка лет двух-трех в платье из шотландки и лакированных туфельках. В правой руке она сжимала обруч, левую тянула к зрителю. Сценка напоминала собой жанровый фотографический портрет. Спонтанность образа дополнялась радостью девочки и ее спутанными кудряшками, очень напоминавшими волосы художницы.
Фредерик застыл как вкопанный, в горле встал ком, сердце его бешено заколотилось. Он испытал давно забытое волнение в душе: вкусить Женщину через далекий, смутный образ, почувствовать внутри вибрирующий инстинкт завоевателя, порождавший массу греховных мыслей в голове, отвыкшей от эротических видений.
Он не сводил с нее глаз, в то время как она, не обращая внимания на происходящее, подбирала цвет. В этом отношении дама разделяла мнение некоторых художников о том, что черный, вместо того чтобы омрачать картину, наоборот, лишь усиливает ее блеск. Поэтому она добавила несколько темных мазков к силуэту Алисы и отступила на шаг. Да, после этого портрет дочери обретет рельефность и его реальность станет более очевидной. Когда женщина отвела глаза влево, ее взгляд упал на кису, развалившуюся на плитах пола. Кошка старела. Большую часть времени она спала, и из состояния сонливости ее могла вывести лишь ночная прохлада. Любимица художницы растолстела и лениво пыталась поймать лапой пробку на ниточке, которой Алиса махала у нее перед носом. Таша положила кисть на палитру. «Я тоже старею», – сказала себе она, отчаянно борясь с соблазном тоже развалиться на кровати в алькове. Утром она опять выдернула седой волосок, уже третий за неделю. Будет ли Виктор все так же ее любить, когда голова ее посеребрится, а цвет лица утратит свою свежесть? Про себя она знала, что изменения, вызванные старением мужа, никак на нее не повлияют и что с возрастом она будет относиться к нему только нежнее. Но, может, правы те, кто утверждает, что мужья устают от жен, когда те разменивают четвертый десяток?
Женщина прошлась по комнате, мимолетно явив свой ускользающий, многообещающий профиль, и исчезла из поля зрения. Увидев ее перед собой, Даглан испытал настоящее потрясение. За истекшие семь лет она совершенно не изменилась. Не Боттичелли и не Леонардо да Винчи, скорее один из голландских мастеров, не столь известных у широкой публики, которых он предпочитал итальянским гениям. Незамысловатая красота, чувственные изгибы, меланхоличное выражение, за которым проглядывала веселость. Ее пластика воскресила в памяти первые любовные утехи с Лизон, любовницей его наставника Даглана, который приютил его, дал свою фамилию и воспитал индивидуалистом, полным сострадания к обездоленным. Так Федерико Леопарди стал Фредериком Дагланом. Лизон первая приобщила его к плотским утехам. А в один прекрасный день бежала с каким-то каменщиком. В душе юного Фредерика осталась рана, не позволявшая до конца верить сменявшим друг друга любовницам. В то же время это недоверие сглаживалось воспоминаниями об обнаженном теле, гибком, податливом и теплом, как свежеиспеченный хлеб, благодаря которому он возвел женские округлости в культ.
Таша поняла, что за ней кто-то следит. Мужчина, неподвижно застывший во дворе у окна, не сводил с нее глаз. Она окаменела. Кричать? Никто не откликнется. Бодуэны решили сделать выходной, всей семьей съездить на природу и даже предложили взять с собой Алису. Дверь!.. Она заперта? Нет, за несколько минут до этого Таша поднялась в квартиру, чтобы выпить лимонаду, а когда вернулась, то ключ в замке поворачивать не стала. Это означало, что мужчина в любой момент мог к ней войти. Оружие! Быстро! Таша схватила шпатель.
А незваный гость уже пропал. Женщина как загипнотизированная смотрела на щеколду. Если она опустится, дверь приоткроется. Таша изо всех сил пыталась совладать со страхом. Просто так он ее не возьмет. Она будет драться, царапаться, кусаться. А кромка шпателя достаточно острая для того, чтобы оставить после себя множество шрамов.
В дверь постучали. Таша вздрогнула. Какая неожиданность. Запереть дверь и открыть окно – вот в чем заключался лучший выход из создавшейся ситуации. Но Таша все тянула, не желая двигаться с места. Вновь послышался стук в дверь. И тогда она подпрыгнула, задвинула щеколду, подбежала к окну и выглянула наружу.
– Что вам угодно? – бросила женщина.
Незнакомец вздрогнул, на несколько мгновений застыл в нерешительности, вернулся во двор и встал перед ней. Затем снял фетровую шляпу и поприветствовал ее кивком головы. Таша по достоинству оценила его представительный вид, орлиный нос, белокурые, с легкой проседью, усы и насмешливую мимику. Морщины на фоне привлекательных серебристых прядей совершенно терялись.
– Добрый день, мадам. Могу я поговорить с господином Легри?
– Мужа нет дома, – ответила Таша, выделяя ударением слово «муж».
– Он сказал вам, в котором часу вернется?
– Нет, полагаю, он работает в книжной лавке.
– Там его тоже нет, я только что оттуда.
Теперь у Таша и ее собеседника было нечто общее: досада. И ответственность за нее лежала на Викторе.
Игривым тоном, явно не соответствующим ее настроению, женщина вымученно ответила:
– Он ненавидит долго оставаться в помещении.
– Я его понимаю. Этот мир – тюрьма, из которой нужно как можно чаще рваться на волю. Лично я ненавижу тех, кто пытается подрезать мне крылья.
Во время этого обмена фразами он продолжал пристально ее рассматривать. Таша казалось, что ее раздевают, оценивают все прелести и, не останавливаясь перед барьером в виде кожи, читают мысли. Она покраснела и заставила себя взглянуть на его руки, лежавшие на подоконнике. Они были длинные и тонкие. Руки, привыкшие ласкать и двигаться ощупью. Руки Виктора были короткие, квадратные и… наивные, – заключила она. Тут же перед глазами возник образ, который Таша пыталась от себя отогнать: пальцы незнакомца на ее груди, на бедрах, животе, пальцы, снимающие ее дамское белье. Может, она сошла с ума? Она же его совершенно не знает!
– Вы художница? Я всегда завидовал живописцам. А это полотно просто замечательное. Это ваша дочь?
– Да, наша дочь.
– Браво. Виктору неслыханно повезло. Обольстительная супруга, к тому же художница, очаровательный ребенок.
Она положила шпатель, но тут же схватила его опять, не в силах совладать с волнением.
– Благодарю вас. Вы клиент Виктора или хотите продать ему книги?
– Нет-нет, я ничего не покупаю и не продаю. Просто мне хотелось бы напомнить о себе. Когда-то мы с господином Легри были знакомы, он оказал мне неоценимую услугу, и с тех пор я остаюсь его должником. Будучи проездом в Париже, я надеялся встретиться с ним и поговорить. Я оставлю ему записку. Можно у вас попросить конверт и листок бумаги?
– Разумеется.
Положив, наконец, шпатель, Таша направилась в глубь мастерской и стала там копаться. Кошка не отходила от нее ни на шаг. Она мяукала, чувствуя легкое покалывание в животе. Таша оттолкнула ее ногой. Она догадывалась, что мужчина следит за каждым ее движением, что взгляд его задержался чуть ниже ее спины. Женщина протянула ему карандаш и блокнот. Он наклонился, используя подоконник как поверхность для письма.
– Может, вам лучше сесть за стол? – предложила она.
Даглан поднял голову и улыбнулся, увидев шпатель, который женщина вновь схватила и теперь машинально вертела в руке.
– Это было бы не совсем прилично, мадам Легри. Соседи могут подумать невесть что.
Фредерик посмотрел по сторонам.
– Вроде никого. Впрочем, как знать? Может, из-за этих занавесок за нами сейчас наблюдает какой-нибудь любитель сплетен и пересудов. Мир на три четверти состоит из злых языков, готовых разнести любую ложь, которая, как известно, является излюбленным блюдом всевозможных смутьянов. Люди порядочные…
– Невысоко же вы цените человечество.
Таша протянула ему конверт, он засунул в него письмо и заклеил клапан.
«Вот тебе и доверие», – подумала она.
– Не нужно быть ученым, чтобы понимать, что история нашего вида знала немало войн и что мирные договоры очень часто подписывают лицемеры, преследующие одну-единственную цель: вновь взяться за оружие, чтобы приумножить свои накопления. Торговля оружием – дело доходное. Богатые становятся еще богаче за счет обнищания бедных. Все остальное – лишь пустые разглагольствования.
«Words, words, words»[1103], как писал Шекспир. Вы выставляете свои работы? – вдруг спросил он. – Я тоже обладаю некоторыми способностями к каллиграфии.
– Сейчас одна из созданных мной обнаженных натур выставлена в Большом дворце во французском отделе Выставки десятилетия. Мне это далось с большим трудом, друзьям пришлось замолвить за меня словечко.
– Обнаженная натура? – хищно спросил Даглан.
– Да, мужская.
– Вот тебе раз! Смелости вам не занимать, обычно все происходит с точностью наоборот – представители мужского сословия переносят на холст в костюме Евы представительниц пола, считающегося слабым.
– Нас обвиняют в том, что мы вкусили запретного плода, поэтому мы имеем полное право отомстить, изображая широкими мазками представителей противоположного, сильного пола.
Фредерик поклонился.
– Виктору, должно быть, с вами скучать не приходится.
– Мне с ним тоже, в противном случае мы не прожили бы вместе десять лет.
– Иными словами, вы чета старая. Никогда не испытываете потребности добавить в ваши отношения некий новый элемент?
Таша смело встретила его вызов, прекрасно понимая подтекст этого вопроса. Затем покачала головой, надеясь, что он совершенно не заметил ее нерешительности.
– Одобряю вас, испортить все любовной авантюрой, не имеющей будущего, было бы крайне досадно. Я очень на вас рассчитываю, вы же передадите этот конверт? Расстаюсь с вами с большим сожалением, моя дорогая мадам и, смею добавить, мой дорогой мастер, ведь женский род этого слова в данном случае будет неуместен. Жаль, я бы с удовольствием поговорил с вами и развил тему живописи. Я без ума от художников Северной Европы – Аверкампа
[1104], Рёйсдала
[1105], Франса Хальса
[1106]. И обожаю сочные краски Брейгеля Старшего
[1107].
– Мне они тоже нравятся, хотя у меня есть и другие привязанности.
– Вполне возможно, что в самом ближайшем будущем судьба вновь сведет нас вместе. Засим разрешите откланяться!
И он удалился, помахав своей фетровой шляпой.
– Меня зовут Фредерик, – бросил он на прощание.
– А меня Таша, – прошептала она и подошла к окну.
Двор был пуст.
Из-за жары Виктор отказался от мысли воспользоваться велосипедом. Он заплутал и теперь блуждал от одного отеля к другому. Когда ему показали здание, в котором совершилось убийство, он, воспользовавшись царившей в отеле суматохой, проскользнул к стойке дежурного администратора. Незадолго до этого Феликс Жодье покинул свой пост и теперь его занял коридорный, которого буквально распирало от гордости. Юный Гедеон вовсю изображал из себя хозяина, приветствуя всех, кто входил и выходил, и не обращал на него ни малейшего внимания. Поэтому, когда Виктор с ним заговорил, он выказал живейшее удовольствие и сделал вид, что листает лежавшую перед ним книгу записи постояльцев.
Притворно небрежным жестом Виктор вытащил из бумажника две купюры. Зрачки Гедеона расширились от вожделения.
– Чем могу служить, сударь?
– Мне нужен от вас сущий пустяк. Некоторые сведения об убийстве Энтони Форестера. Я журналист.
– Эти бумагомаратели из газет, как и полицейские, уже допрашивали меня, – ответил Гедеон, занимая оборонительную позицию, но в то же время зачарованно глядя на деньги, которые собеседник незаметно положил под меню.
– Бьюсь об заклад, что никому из моих коллег не пришла в голову мысль вознаградить вас за услужливость, – ответил Виктор и подмигнул.
– Вы правы. Кому есть дело до мелкого служащего? В то же время, о привычках постояльцев я знаю немало. Потому как являюсь, так сказать, посредником между вестибюлем и альковом.
Виктор подождал, пока холл не пересекут два полицейских, и склонился к Гедеону.
– В поведении этого Энтони Форестера было что-то странное?
Лунный лик, служивший коридорному лицом, расплылся в улыбке.
– Я еще не стар, но правила знаю. Интересы людей ограничены. Соблазн наживы, хорошая кухня, стремление к власти и, как результат, амбиции добиться успеха в обществе, чувственность – вот тот стержень, вокруг которого вращается жизнь большинства людей.
– Такой юный, а уже философ, – пробормотал Виктор, в знак восхищения подняв вверх большой палец правой руки.
– Случай прощупать этого господина Форестера мне не представился, но я обратил внимание, что он питал слабость к брюнеткам в теле. Минувшей ночью он принимал у себя одну из этих актрисулек, которые повышают свой профессиональный уровень, играя в горизонтальном положении. Послушайте, раз уж вы человек светский, то в благодарность за вашу щедрость я вам кое-что покажу.
Не без некоторого беспокойства Виктор увидел, что коридорный вышел из-за стойки. Несмотря на юные годы, он был с ним примерно одного роста, но значительно шире в плечах. Гедеон украдкой посмотрел по сторонам, успокоился и разжал кулак. На ладони поблескивала украшенная драгоценным камнем сережка.
– Торопясь уйти, дама позабыла эту безделицу. Вчера утром я нашел ее среди густого ворса на прикроватном коврике. Я не показывал ее ни служащим отеля, ни полиции, ни репортерам.
Виктор внимательно изучил изящное золотое колечко, украшенное голубоватой подвеской.
– О владелице этой вещицы вам что-нибудь известно?
Гедеон тихонько хихикнул и извлек из глубин кармана потрепанную почтовую карточку.
– Зря она улепетывала со всех ног, я все равно ее узнал. Это дама полусвета, в свое время блиставшая на подмостках под именем Фьяметты и даже пробовавшая свои силы в кинематографе. Мой отец был от нее без ума и ходил аплодировать ей в театре «Эдем».
Он протянул открытку Виктору.
– Эдокси, – прошептал тот, – да я помню… как давно это было.
Он перевернул открытку и прочел:
Девиз мадемуазель Фьяметты – Ad aperturam libri[1108] – демонстрирует, что она не умеет ничего скрывать. Она больше похожа на римскую богиню, которая прививает нам вкус к эпикурейским наслаждениям и земным реалиям. Ничто не может сравниться с ее великолепием, бьющим через край. Публика от нее в восторге. Она достигает своей цели, которая заключается в том, чтобы надкусить райское яблоко, не совершив при этом греха. Сходите на «Маленькую ночь инфанты» и вы будете покорены.
«Где она может жить, эта плутовка? – подумал Легри. – Она постоянно переезжает с одной квартиры на другую… Где бы это выяснить?.. Все, я знаю! Надо сходить в театр “Эдем”, скорее всего, она оставила им адрес».
– Эта премилая козочка, должно быть, места себе не находит, – заметил Гедеон, пряча фото обратно в карман. – Я собираюсь дать в газете объявление и предложить вернуть эту вещицу, принадлежащую ей, взяв плату натурой.
– Даже если она причастна к преступлению?
– Нестрашно! Господина Форестера убили уже после ее ухода. Да и потом, у меня в голове не укладывается, чтобы такая женщина могла укокошить любовника из лука.
– Откуда у вас такая убежденность?
– Дело в том, что в то утро я только-только вернулся из мансарды Полетт и как раз собирался заступить на свой пост. На пороге номера я увидел субъекта, посылавшего даме своего сердца прощальный поцелуй. У него был веселый, возбужденный вид. Она даже не обернулась.
Виктор бросил оценивающий взгляд на юношу – косая сажень в плечах – и с некоторым опозданием отреагировал на его заявление, сделанное пять минут назад.
– На мой взгляд, денежное вознаграждение будет лучше, чем плата натурой. Считайте это авансом, – добавил он, пододвигая меню к коридорному.
В виде выражения своей радости тот негромко икнул.
– Дайте мне эту сережку. Фьяметта – моя подруга, и я не сомневаюсь, что она не поскупится на выражения признательности, если вы убережете ее от скандала, способного бросить тень на ее репутацию.
Гедеон застыл в нерешительности, посмотрел на свою ладонь и с ловкостью фокусника обменял драгоценность на банковские билеты.
– Поскольку вы мне симпатичны, так и быть, скажу вам одну вещь, о которой рабочий кухни, до смерти боящийся фликов, умолчал. Когда он доставил завтрак, в двадцать шестом номере его встретил отнюдь не покойный.
Виктор ощутил в затылке покалывание. Дело принимало все более любопытный оборот.
– И как его зовут, этого рабочего кухни?
– Эмабль Курсон, лет сорока, огромная башка, на правой щеке – уродливая бородавка. Вечно чего-то боится, сейчас прячется где-то в Старом Париже. Подрабатывает официантом в таверне то ли «Горшок с мясом», то ли «Разбитый горшок» – словом, в каком-то горшке. В тех краях это заведение каждый знает. Если немного добавите, я предоставлю вам неоспоримое доказательство.
– Что вы имеете в виду?
– Фуражку субъекта, который был в двадцать шестом номере, когда туда поднялся Курсон. Я припрятал ее еще до прибытия фликов. Она представляет для вас интерес?
– Еще какой!
– Десять франков.
Виктор согласился на это условие и в обмен на деньги получил бумажный пакет, содержащий в себе предмет сделки. Он уже приготовился продолжить опрос коридорного, но тут его взяла под локоток чья-то решительная рука и пакет пришлось быстро засунуть в карман пиджака.
– Я был уверен, что повстречаю вас, но не думал, что так быстро. Вы меня удивили. Что связывало вас с этим Форестером? Ах да, первым охотничьим трофеем, надо полагать, был этот пронзенный стрелой азиат. Он что, состоит в родстве с вашим партнером Кэндзи Мори?
Виктор высвободил руку из клещей Огюстена Вальми, последнего человека, которого он сейчас хотел перед собой видеть. Главный комиссар, первостатейный денди, был в летнем костюме – элегантный редингот, рубашка Шарве и лакированные туфли от Хеллстерна с замшевыми союзками.
«Раз он позволяет себе такие наряды, значит, его денежное содержание вполне соответствует продвижению по службе, единственное, чего ему не хватает, – это цилиндра от Жело», – подумал Виктор и с невинным видом ответил:
– Я здесь по чистой случайности, пришел узнать об их ценах – одному моему дальнему родственнику из Англии пришла в голову блажь посетить Выставку.
– Случай – причина многих вещей, на вашем фоне блекнет даже сам Макиавелли. Вы появляетесь в тот самый момент, когда в ванной находят одного из ваших бывших соотечественников, которого избрал своей мишенью стрелок из лука. И если вы хотите убедить меня, что ваш шурин не установил связи между двумя убийствами – этим и тем, что было совершено у театра Гренель, – значит, вы лжете не хуже заправского продавца собак.
Читая Виктору эти наставления, Огюстен Вальми мягко подталкивал его к выходу – двойной двери, чем-то напоминавшей тюремные ворота. В данном случае тюрьмой была улица, где Виктору предстояло вновь вернуться в реальную жизнь. Тем хуже, этого Эмабля Курсона он найдет позже. Главный комиссар проводил его до аллеи, которая вела к набережной.
– Убийство? – удивился Виктор.
– Расслабьтесь, Легри, неужели вы принимаете меня за мальчика из церковного хора?
– И что дало ваше расследование?
– Говорить об этом пока рано. В самое ближайшее время я намереваюсь разослать приметы одного беглого
постояльца.
– Какого постояльца?
– Он жил в номере над комнатой покойного, а вчера ударился в бега.
– Как его зовут?
– Мэтью Уолтер, американец. Не стройте иллюзий, Легри, на этот раз ваша просвещенная помощь мне не понадобится. Я почти уверен, что виновный у меня в руках. Могу дать вам совет – смотрите под ноги, даже если ваши рассуждения всегда разумны и уместны.
– Это что-то вроде приглашения к сотрудничеству?
– В этой истории множество противоречий, – взорвался Огюстен Вальми, пропуская мимо ушей намек на возможную координацию действий. – Она будто сошла со страниц очередного романа господина Жозефа Пиньо. Я допросил с пристрастием постояльцев и персонал, но положительного результата так и не добился. Как смерть тридцатилетнего азиата может быть связана с убийством британского денди, возомнившего себя на старости лет героем-любовником? Тем более что этот Форестер умер не сразу, его истязали, превратив лицо в кровавое месиво. Такое ощущение, что он выдержал допрос по всем правилам. Не говоря уже о воришке, который умыкнул две пары брюк – у какого-то торговца из Бристоля и у нашего англичанина, ныне превратившегося в хладный труп.
– Согласен, это уже наглость.
– Все эти фрагменты головоломки плохо складываются в общую картину, что не может мне нравиться. Всколыхнуть общественное мнение проще простого, тем более сегодня, когда мы наблюдаем наплыв журналистов, вьющихся вокруг этого никчемного человечишки, чтобы увеличить продажи своих газетенок. Вполне возможно, что я попрошу вас о каких-то услугах, господин Легри, но на вашем месте я не стал бы усиленно топтать мои клумбы.
Взгляд Вальми остановился на каком-то типе с выдающимся брюшком, который двигался прямо на них, уткнувшись носом в газету.
– Здравствуйте, господин Жанг, все выискиваете безделушки на экспорт?
Арчибальд Янг опустил газету.
– Янг, господин комиссар. Приветствую вас. А вы? Все выслеживаете хищника? Надеюсь, фланировать по улицам мне пока не запрещено?
– Ну разумеется, господин Жанг, разумеется. При том, однако, условии, что я в любую минуту смогу вас найти.
Арчибальд Янг скривился и повернулся к ним спиной.
– Кто это? – спросил Виктор.
– Один шотландец, торговец, постоялец «Отеля Трокадеро».
– Темная личность?
– Ни одного человека нельзя считать невиновным по определению.
Виктор приподнял шляпу и откланялся. Озабоченный Огюстен Вальми проводил его взглядом. «Беглый американец, воришка, таскающий чужие штаны, неуловимый лакей и этот детектив-любитель Легри, вечно путающийся под ногами, – многообещающая компания. Они мне вздохнуть не дают».
Тут он увидел на обшлаге рукава крохотное пятнышко.
«Нужно надеть другой пиджак».
Влажные от пота волосы прилипли к черепу, ладони тоже взмокли. Комиссар вздрогнул от отвращения, вытащил из кармана носовой платок и стал остервенело тереть им руки.
Фредерик Даглан, он же Уильям Финч, принял свое решение: из «Отеля Трокадеро» он никуда уезжать не станет. Бегство было бы сущей глупостью и превратило бы его в идеального подозреваемого.
О Боже, Ты меня любовью ранил,
И эта рана все еще дрожит…[1109] —
прошептал он.
Витая в облаках поэзии Верлена, он толкнул какого-то господина, замешкавшегося в тамбуре двойной двери в третий из «Отелей Трокадеро». Котелок незнакомца покатился по земле. Фредерик Даглан поднял его, вернул владельцу и рассыпался в извинениях. Тот, упитанный субъект с круглым животом и внешностью коммивояжера, улыбнулся и представился:
– Арчибальд Янг, экспортно-импортные операции.
– Уильям Финч, из Бристоля.
Пока они обменивались банальными замечаниями о погоде, нормированной подаче воды и однообразного питания, Фредерик Даглан взирал наметанных глазом на физиономию собеседника. В наружности этого благодушного толстяка была одна интригующая деталь: его рыжеватые бакенбарды, в тон того же оттенка бороде и усам, выглядели столь безупречными, что казались накладными. Но самой сомнительной деталью были волосы. На голове этого субъекта, казалось, красовался парик. Фредерик задумчиво посмотрел, как тот сел в лифт. Кто он – один из детективов отеля? Шпик из префектуры полиции? Надо будет проверить. Даглан подозвал коридорного.
– Друг мой, скажите, в каком номере живет господин, который только что поднялся наверх?
Гедеон посмотрел на него невыразительным, тусклым взглядом.
– Нужно спросить у дежурного администратора, – ответил он.
Фредерик Даглан сунул ему купюру.
– Ну же, мальчик мой, мы с господином Янгом знакомы, я просто хочу предложить ему выпить со мной по рюмочке.
– Третий этаж, двадцатый номер, – тихо молвил Гедеон и бросился к какой-то даме, увешанной шляпными коробками.
Арчибальд остановился у двери своего номера и вставил в замочную скважину ключ.
«А вот и прославленный Уильям Финч, один из тех, кого этот кретин комиссар записал в подозреваемые. Прямо мелодрама какая-то, не иначе!»
Арчибальд хихикнул при мысли о скандале, вызванном кражей штанов у господина Уильяма Финча и обнаружением трупа с торчавшей из груди стрелой.
– Харизмы этому Финчу не занимать, такой и без облатки причастится. Никогда не полагайся на внешность, старина, – сказал он своему отражению в зеркале. – Может, сей джентльмен – вор? Как бы там ни было, если мне кто-то и причинит хлопоты, то уж явно не он. Вечером придвину к двери кресло. А теперь мне срочно нужен воздух!
Он избавился от накладных усов, бакенбардов и бороды, а также снял с себя всю одежду, предварительно вытащив из кармана единственный предмет, связывавший его с прошлым – «обезьяний кулак»
[1110], служивший ему талисманом.
Глава восьмая
В тот же день, после полудня
У подножия холма Шайо Виктор решил передохнуть в парке, изрезанном извилистыми тропками, засаженном густым самшитом и приземистой гортензией. Он с наслаждением вдохнул прохладу фонтана, устроенного посреди миниатюрного озера на краю японской экспозиции, и украдкой взглянул на дюжину гейш, бесстрастные лица которых не говорили ни слова о том, насколько смешными им казались толпившиеся вокруг ротозеи. Легри улыбнулся им и направился по набережной Дебийи к мосту Альма, за которым начинался Старый Париж. Он пребывал в прекрасном расположении духа – Эдокси Аллар определенно оставила в театре «Эдем» свой адрес.
Сразу за крепостными стенами ворот Сен-Мишель он столкнулся с часовым в казакине из буйволовой кожи и с копьем на плече. «Надеюсь, этот аксессуар у него из картона», – подумал Виктор, бросив взгляд на вооруженных до зубов солдат, стоявших на посту. Во все стороны расходились напоминавшие сороконожек очереди, состоявшие из зонтов, котелков, канотье и украшенных цветами дамских шляпок, без всякого перехода попадавших из Средневековья в эпоху правления Людовика XIV. И повсюду сновали карманники, твердо решившие пополнить свои закрома. Чтобы совершить путешествие через века, на Выставку съехались гости из туманного Альбиона, с бельгийских дюн, из аргентинских пампасов и со всех городов, разбросанных по поверхности планеты.
Выйдя на площадь Пре-о-Клер, Виктор тут же оказался в окружении дам в средневековых головных уборах, пажей, благородных господ в камзолах и оборванцев, фланировавших между домами с островерхими крышами и высокой башней Лувра. Он застыл в нерешительности. Как выкурить Эмабля Курсона из его логова в этом беспорядочном лабиринте, населенном персонажами, которые будто сошли толпой со страниц школьного учебника? Коридорный говорил, что тот работает в какой-то забегаловке.
Горшок… Горшок с чем? Надо во что бы то ни стало найти этот чертов горшок!
Легри не стал сворачивать на улицу Рампар, а вместо этого направил стопы по Вьей-Эколь. Строители, возводившие этот город, который выходил за рамки времени, хронологией не заморачивались: справа высился дом, где в 1622 году родился Мольер, к нему примыкало жилище алхимика Николя Фламеля, ставшего каллиграфом и миниатюристом за двести лет до того, как прославленный автор комедий появился на этот свет. Затем вновь вступал в свои права XVII век в виде дома Теофраста Ренодо, предтечи журналистики, который в 1631 году выпустил первый номер «Ла Газетт» – скромного печатного листка, повествующего о новостях французской и международной политики.
Посетители не скрывали энтузиазма. Родители изливали на своих чад уроки истории, оставлявшие тех совершенно равнодушными. Вожделение отпрысков неудержимо подталкивало их к продавцам пирожков, вафель и леденцовой карамели. Взрослые толпились вокруг магазинчиков, торговавших сувенирами. Вскоре буфеты, скатерки для пианино и каминные колпаки с боем уступили место фаянсу, кувшинчикам, сервизам и расписным тарелкам Старого Парижа.
Виктор плыл по волнам людского потока. Вскоре позади остался коллеж Форте, облюбованный статистами в нарядах средневековых школяров. Поработав немного локтями, он миновал абсиду церкви Сен-Жюльен-де-Менетрие и, не веря своим глазам, застыл как вкопанный перед таверной «Оловянный горшок». Какой-то ученый буржуа, будто сошедший с полотна Кристофа
[1111], объяснял повисшей на его руке юной белошвейке, что здесь вкушали лучшее бургундское Буало
[1112], Мольер, Расин, Лафонтен, Люлли
[1113] и Миньяр
[1114].
– Нет-нет, папочка, – протестовала девица. – Ты путаешь с «Сосновой шишкой»! Это там Эжени Бюффе будет петь свои шансоньетки. Надень очки, об этом трубят все афиши: «Самая популярная певица Лютеции! Поет только на злобу дня!» Ты обещал меня сводить ее послушать.
Эмабль Курсон полностью соответствовал описанию коридорного: крупная голова со скорбной бородавкой на правой щеке, просторная блуза, облегающие штаны, заправленные в сапоги, и лохматая шевелюра. Он бегал от столика к столику с видом эквилибриста, вовсю стараясь не уронить поднос, неумело держа его у плеча на растопыренных в разные стороны пальцах. Виктор подождал, пока он закончил.
– Господин Курсон? Эмабль Курсон?
– Что вам угодно?
– Мне нужно задать вам несколько вопросов.
– Оставьте меня в покое. Как вы меня нашли?
– Неважно, я журналист, у меня свои источники. Я хочу, чтобы вы описали мне человека, которого видели в двадцать шестом номере, где остановился господин Форестер.
– Вам меня сдал этот недоносок коридорный, да? Проваливайте, из-за вас я потеряю работу.
– Опишите его, не упуская из виду ни единой детали.
– Коридорный?
– Постоялец из двадцать шестого номера, черт бы вас побрал!
– Не думаю, что обязан вам отвечать, может статься так, что вы заодно с фликами.
– Нет, клянусь вам.
– Докажите.
– Меня зовут Виктор Легри, я книготорговец и пишу репортажи для «Паспарту». Вот моя визитка.
– Все дело в том, что я не желаю быть замешанным в подобной истории. Вы обещаете, что не будете упоминать моего имени?
– Обещаю.
– Поднявшись в двадцать шестой вместе с остальными и взглянув на труп, я понял, что передо мной не тот человек, которому я приносил завтрак.
– Он был высокий?
– Кто? Труп?
– Нет, черт возьми! Тот, кому вы прислуживали.
– Если вы полагаете, что я обращаю внимание на телосложение постояльцев… Я оставил поднос и спустился вниз.
– Какие у него были волосы?
– Что я буду иметь, если предоставлю вам сведения? Полагаю, вас приятно будоражит вопрос о том, были они прямые или волнистые, светлые или темные?
Игнорируя наглость и ироничную улыбку Эмабля Курсона, Виктор достал бумажник.
– Я заплачу, если вы удовлетворите мое любопытство, – сказал он.
– Он был брюнет с прямыми волосами, такой ответ вас устраивает?
– Вы уверены, что не придумали всю эту историю?
– Нет, мелкая вы газетная душонка. Но когда трудишься в поте лица в ресторане, глаза и уши у тебя всегда открыты. Я со знанием дела заявляю, что этот тип не был постояльцем из двадцать шестого номера.
– Да? А откуда вам это известно? Вы сами себе противоречите – сначала утверждаете, что не обращаете на габариты клиентов никакого внимания, а потом уверяете, что не теряете бдительности, как какой-нибудь краснокожий на тропе войны!
– Гони монету.
Виктор похрустел десятифранковой банкнотой, разорвал ее пополам и протянул половину официанту.
– Продолжение в следующем номере. Доброго вам дня.
И повернулся.
– Эй, любезный!.. Когда Филаминта стала кричать: «Там покойник! Там покойник!», все поднялись наверх и я испытал настоящее потрясение. Человек, которого убили в двадцать шестом, был облачен в костюм в клеточку, в то время как тип, которому я приносил поднос с завтраком, щеголял в полотняной рубашке и широких рабочих вельветовых шароварах…
– Художник?
– Может быть. А может, охотник на фазанов или аристократ. На нем были гетры. Он все чесал лопатки, будто хотел выбить из них пыль. На кровати лежала фуражка с откидным клапаном. И тут личность постояльца из двадцать шестого вызвала у меня подозрения. Фуражка была явно не в стиле господина Форестера, хотя, в конечном счете, от этих эксцентричных англичан можно чего угодно ожидать.
– Вы поставили дирекцию отеля в известность?
– Нет, я им ничего не сказал. Искать себе неприятностей? Нет уж, увольте.
– Тем не менее, коридорному вы об этом сообщили.
– Он обещал мне сохранить все в тайне. Мне нужно было прикрыть свои тылы, на тот случай, если…
– Продолжайте!
– Господин Дутремон вызвал полицию, я испугался и дал деру. Ну что, мои сведения стоят второй половины вашей бумажки? Привет, мне нужно работать. Забудьте обо мне.
Он положил деньги в карман и исчез в глубине таверны.
Виктор направился домой. Сведения коридорного нашли свое подтверждение: когда труп Энтони Форестера уже лежал в ванной, в двадцать шестом номере действительно был посторонний. Легри прошел от «Оловянного горшка» до мрачной тюрьмы Шатле, вышел к ярмарке Сен-Лоран и тут увидел вывеску: «У Жана Нико». Испытывая сладкое желание закурить, он решил купить пачку сигарет. Когда до табачной лавки оставалась всего пара метров, его подошва поскользнулась на раздавленной вареной картофелине. Легри пошатнулся, попытался схватиться за забор, но сдержать падение не смог. В то же мгновение по шее скользнуло что-то длинное и черное. Он поднес руку к лопатке и скривился от боли. Виктор изумленно посмотрел на рукав, зацепившийся за какую-то деревянную щепку. Он дернул его и порвал на локте пиджак. Какой-то прохожий помог ему подняться. Руки и ноги двигались медленно, как во сне. Его окутывал туман, но вот он, наконец, сфокусировал внимание на окружающем и увидел торчавшую из забора стрелу с красным оперением на конце. Осознав, что это судьбоносное падение спасло ему жизнь, он чуть не поперхнулся. Желание было одно: бежать.
Вокруг стала собираться толпа, до Виктора, будто издали, доносился шум, в котором явственно выделялось слово «доктор». Он покачал головой и прошептал:
– Это от жары.
Ему протянули стакан воды, который он жадно выпил. Зеваки стали расходиться. Легри быстро отломил оперение стрелы, сунул в карман и тут обнаружил, что потерял шляпу. Из витрины на него глянуло отражение – бледное, потустороннее, с растрепанными волосами.
Страх обрушился на него чередующимися волнами. Виктор прислонился к дереву. Ему то казалось, что это произошло не с ним, то его охватывала паника при мысли о том, что он мог отправиться на тот свет. Таша осталась бы вдовой, Алиса – сиротой. До его слуха донеслось замечание, высказанное могучей дамой, шествовавшей в компании с мужем. «Видел, Огюст, ничего зазорного в этом нет, у каждого свои знаки отличия!» – воскликнула она, указывая на завязки с бляшками на концах, которыми щеголял слуга, судачивший о чем-то с горничной в парче.
У Виктора не было никакого желания смеяться, но за несколько мгновений до этого он лишь в последний момент разминулся со смертью, что подвергло его нервы суровому испытанию. И он, не в силах себя контролировать, захихикал. Прохожие бросали на него требовательные взгляды. Какой-то уличный сорванец скорчил рожицу и показал на него пальцем:
– Он пьян!
Виктор с сожалением покинул прохладный оазис, создаваемый сенью листвы. Нужно вернуться домой и вновь оказаться в безопасной атмосфере книжной лавки. Легри медленно потащился к стоянке фиакров. Он вконец обессилел, задетая лопатка горела огнем.
Они уединились в подвале книжной лавки, в бывшей фотолаборатории, ныне переделанной в читальню. Незадолго до этого Виктор в подробностях рассказал Жозефу о своем утреннем расследовании. Тот нервно барабанил пальцами по столу, наблюдая, как Легри умывает лицо и грудь. Красная отметина на левой лопатке постепенно приобретала синий оттенок.
– Вот к чему приводит ваше неуемное стремление действовать в одиночку. Это упрямое желание держать меня в стороне могло закончиться трагедией. Вы видели, кто стрелял?
Жозеф вертел в руках обломок стрелы с красным оперением, чуть не убившей его шурина.
– По всей видимости, он следил за мной от самого отеля и видел, как я разговаривал с Эмаблем Курсоном. Сколько времени понадобится Мели, чтобы привести в порядок мой пиджак?
– Каких-то полчаса.
– Можно не сомневаться, что эта стрела, предназначенная мне, – родная сестра той, которой укокошили Исаму.
– Я могу оставить это вещественное доказательство?
– Можете, позаботьтесь о нем. Да, чуть не забыл: в этом пакете – известная вам фуражка, это улика.
Жозеф внимательно рассмотрел ее, вплоть до последнего шва.
– Тоже мне улика! Этикетка производителя срезана, а козырьков наподобие этого в Париже можно найти не одну тысячу, – проворчал он и запихнул пакет в карман.
Но тут вспомнил о Фредерике Даглане и закусил губу.
«Если Виктор узнает, что я дал его домашний адрес, то лопнет от злости. Поэтому я буду нем как могила».
– Не хотите показаться доктору Рейно?
– Не вижу смысла беспокоить его из-за обыкновенного синяка.
Виктор вытерся и надел рубашку.
– Эта мутная водичка таит в себе множество опасностей.
– Жозеф, вы хотите бросить это дело?
– Нет, но… Вы сегодня собираетесь к Эдокси Аллар?
– Да. Скажите Кэндзи, что я немного приболел.
– Он не поверит. А расследование лучше проводить вдвоем. Я пойду с вами.
– Нет. Она не преступник, который намеревается сорвать все мои планы.
– Преступник, уже совершивший два убийства и чуть было не отправивший вас на тот свет. Лично у меня душа не на месте.
– Да перестаньте вы беспокоиться. Обещаю, что уже завтра мы с вами разработаем план наступления.
– Я стал жертвой неслыханного остракизма. И знаю почему, так что ступайте.
– Вы ошибаетесь, я люблю Таша, а что до Эдокси Аллар, то она явно не относится к моему типу женщин. Полно вам, Жозеф, мы же с вами всегда работали рука об руку. Я вернусь еще до закрытия, обещаю.
– Кто бы говорил.
Когда Национальная библиотека осталась позади, фиакр поехал медленнее, затем, чтобы не застрять в плотном потоке экипажей, остановился на улице Лувуа, перед хранилищем декораций «Опера-Комик». Отсюда до улицы Сент-Огюстен было рукой подать. Виктор сомневался, что сможет застать птичку в гнездышке, и был приятно удивлен, когда субретка, присев в реверансе, впустила его в переднюю. Эдокси не заставила себя ждать и появилась в пурпурном домашнем платье из полушелкового фая. Лицо ее выражало озабоченность, но при виде Виктора черты его расслабились.
– Мой горячо любимый книготорговец… Вы отыскали меня, изменник. Ваш приход, можно сказать, пришелся очень кстати, ведь я стою на краю пропасти, она манит меня, и только смелый, молодой и, по возможности, привлекательный мужчина избавит меня от кошмара, который засосал, точно болото!
– Репетируете пьесу, призванную посоперничать с драмами, вознесшими на пик славы Сару Бернар?
– Смейтесь, изверг, смейтесь. Но что это мы здесь стоим? В передней душно, а эта идиотка Сидони даже не проветрила.
Он прошел за ней в гостиную, выдержанную в двух тонах, плотно заставленную мебелью и всевозможными безделушками. Голубой диван, белое пианино, синие кресла, гипсовые ангелочки, две круглые лампы из опалового стекла и бирюзовые ковры с восточным орнаментом. Окна были забраны витражами, на стенах висели овальные зеркала и непристойного содержания гравюры, а последние островки свободного пространства занимали экзотические растения. В приоткрытую дверь виднелась кровать с балдахином в духе Генриха III и печка, выложенная делфтским кафелем.
Эдокси села на диван, похлопала рядом с собой по сиденью и подмигнула визитеру, который тоже нехотя сел. Хотя Легри старался выдерживать дистанцию, женщина исхитрилась незаметно придвинуться к нему, чтобы их тела соприкасались.
– Ах, мой дорогой книготорговец, время летит слишком быстро, вот я и перевалила за гребень моего земного существования и превратилась в брошенную всеми старуху, обреченную кружить голову всяким престарелым олухам, чтобы иметь возможность заплатить за эту убогую квартиру. И как раз прошлой ночью со мной случилось пренеприятное событие. Господин, с которым я до этого делила ложе, после моего ухода отправился в мир иной.
Вжик – его убили стрелой, как во времена Робин Гуда. И не успела я вернуться сюда, как выяснилось, что куда-то подевалась моя сережка.
– Эта?
Держа колечко с подвеской большим и указательным пальцами, Виктор немного отодвинулся, рискуя свалиться с дивана. Эдокси опешила, потянулась к нему, схватила сережку и радостно выпрямилась. Избавившись от ее напора, Виктор расположился поудобнее.
– Это невообразимо! Каким чудом вам удалось?..
– Это моя маленькая тайна. Не волнуйтесь, тот, у кого оказалось это вещественное доказательство, вас не потревожит, я лично за этим прослежу. Полиция тоже ничего не узнает о том, что вы были в «Отеле Трокадеро».
– На кону была моя репутация, но вы ее спасли. Как такая развалина, как я, может выразить вам свою признательность?
Она поправила вырез платья, чтобы явить взору Виктора весьма аппетитную грудь, вновь села рядом и обвила его руками.
– Экий грубиян, я называю себя развалиной, а вы даже не возражаете, хотя я пока лишь приближаюсь к тридцатилетнему рубежу.
Быстрый подсчет позволил Виктору прибавить к возрасту дамы еще дюжину лет. На лице, упорно тянувшемуся к нему, виднелись морщины, сгладить которые макияж уже не мог.
Прельщенный нежностями той, которая более десяти лет преследовала его своими домогательствами, Виктор немного пожурил себя, хотя и без особой убежденности.
– Помнишь, шалунишка, наши первые встречи в «Паспарту»? Тогда ты предпочитал меня, а не свою рыжую художницу. Ох уж эта власть рыжих… Со мной ты провел бы немало горячих ночей, а может, даже жарких!
Виктор отбил натиск экс-танцовщицы канкана, встал, подошел к окну и приоткрыл его.
– Вам не кажется, что этот зной нас уже измучил?
– Ваш грубый отказ меня не обманет, я почувствовала, что вы были вот-вот готовы уступить. Идиотские представления о чести и пуританское воспитание – ваши злейшие враги, если бы не они, мы с тобой давным-давно стали бы любовниками.
Эдокси разочарованно вздохнула, но вся ее печаль, мнимая или настоящая, рассеялась в одно мгновение.
– Я решительно родилась под счастливой звездой! – весело воскликнула она. – Энтони Форестер не станет причиной моего падения!
Но тут лицо ее помрачнело.
– Только бы он меня не погубил!
– Но его гибель, похоже, вас не особо тронула.
– Я познакомилась с ним только вчера. Разве моя вина, что его укокошили?
– Кстати, в поведении Форестера было что-то такое, что могло бы объяснить его внезапную смерть?
Она вскочила и подбежала к нему, обмахиваясь веером.
– Опять начал, шельмец! – прошептала она. – Ты выдержал паузу, но я предвидела, что в обмен на этот жест доброй воли ты в конце концов попытаешься вытянуть из меня сведения. Сначала детектив, потом все остальное. Следователь убивает в тебе человека. Жаль!
Он прикурил сигарету, чтобы напустить на себя безразличный вид. Она отпрянула, не скрывая отвращения.
– Фу, какой мерзкий запах!
– Что он вам рассказал?
– Ничего особенного. Он был флотским капитаном, увы, не пиратом Карибского моря и не охотником на китов. Скучный, как блюдо с репой, тип. Командовал торговым судном «Эсмеральда» и кичился, что в мае 1899 года, если мне не изменяет память, о нем писала лондонская «Таймс». Постельные признания, призванные вознести до небес этого хвастуна, который как мужчина оставлял желать лучшего. К тому же скупердяй. Я раскрутила его на хороший ужин в «Максиме», если бы не это, он заставил бы меня подохнуть с голоду. Это моя злая судьба – вечно голодать, вечно испытывать жажду любви. Но самое страшное в том, что я закончу свою жизнь в полном одиночестве, брошенная мужчинами, ради которых мне довелось пожертвовать всем, даже самым дорогим!
Виктор противопоставил этому пророчеству скептическую улыбку. Эдокси не ошиблась: детектив в его душе верховенствовал над самцом, и теперь у него осталось лишь одно желание – уйти. Тем более что в ушах звучала тихая музыка тайны, на которую вот-вот прольется свет.
Торговое судно… «Эсмеральда»… Судно, о котором прошлой весной писала «Таймс»…
Вернувшись в квартиру на улице Фонтен, Виктор отправился на кухню, где Таша ломала голову над тем, как заставить дочь доесть ужин. Незадолго до этого Алиса решила, что не проглотит больше ни кусочка, скрестила на груди руки, сжала губки и отворачивалась каждый раз, когда к ее рту подносили ложку.
– Это что у нас за такой трехлетний ребенок? – засюсюкал Виктор, присаживаясь рядом. – Обычно ты не изводишь нас своими капризами.
Он заговорщически ей улыбнулся, послал жене воздушный поцелуй и прибег к проверенной тактике:
Полишинель прыгнул на лестницу,
Раз, два, три, уже лущит горох,
Четыре, пять, шесть, ест колбасу,
Семь, восемь, девять, глотает большое яйцо,
Десять, одиннадцать, двенадцать, отправляется
в Тулузу!
Раскрасневшись от удовольствия, Алиса открыла рот, и Таша тут же стала запихивать в него томившееся на тарелке крем-брюле.
– Где ты взял эту считалочку?
– Продукт чистого вдохновения, нет ничего проще.
Он избегал смотреть жене в глаза из страха, что она догадается о его расследовании, ради которого ему пришлось встречаться с Эдокси Аллар.
– Папа, папа, расскажи еще одну историю! – потребовала Алиса, наконец покончив с ужином.
– Твой отец стал подражать тете Айрис, тоже сочиняет сказки.
Виктор, чувствуя себя неуютно, крутил больше не нужную ложку.
– Пора баиньки, мадемуазель, на ночь я расскажу тебе о злоключениях королевы бабочек.
Таша отвела дочь в гостиную, переоборудованную в спальню. Когда она вернулась, из груди ее вырвался вздох облегчения.
– Не ходи к ней, в этом нет необходимости. Она так набегалась с маленькими Бодуэнами, что совершенно выбилась из сил и уснула, едва прикоснувшись головкой к подушке.
Виктор бросился к жене, и они поцеловались.
– Кстати, после обеда заходил один твой знакомый. Передал мне конверт. Дело, по-видимому, срочное.
Виктор удивленно поднял брови и прочел:
Мне нужно сообщить вам нечто очень важное. Можете завтра в два часа дня подойти к кассам Большого колеса? Ф. Л.
– Странно, эти инициалы мне ни о чем не говорят. Почерк красивый. Как он выглядел, этот субъект?
– У меня сложилось впечатление, что он англичанин. С одной стороны, элегантен, с другой – насмешлив.
– Ты пригласила его войти?
– Конечно, нет, он торчал во дворе, у меня нет привычки звать в дом первого встречного.
Он, немного встревожившись, вновь заключил Таша в свои объятия и зарылся лицом в ее распущенные волосы.
– Я не ревную, нет, скорее беспокоюсь, ведь в связи с Выставкой этим летом в Париже столько всяких подозрительных личностей…
– Успокойся, я в состоянии за себя постоять. Что ему от тебя надо, этому господину?
Таша высвободилась из объятий и внимательно посмотрела на него. Ошибки быть не могло – он избегал смотреть ей в глаза. Этот уклончивый взгляд был ей хорошо знаком. В чем Виктор себя упрекал? В ее голове тут же прозвенел тревожный звонок. Расследование. Этот обольстительный незнакомец играл какую-то роль в деле, которое сейчас распутывал муж.
– Да так, ерунда, обыкновенный зануда. Пытается всучить мне несколько оригинальных изданий.
Она промолчала, пребывая в полной уверенности, что он лжет. Незнакомец уверял, что не является клиентом мужа. Зачем ему было говорить с такой определенностью?
Что касается Виктора, то он без конца прокручивал в голове две буквы: Ф. Л., Ф. Л., – и тщетно силился вспомнить человека с такими инициалами. В душе зрело ощущение, что назначенная встреча как-то связана с убийствами, совершенными с помощью стрелы. Страх перед ней в его душе соперничал с возбужденным предвкушением сведений, способных пролить на это дело свет.
Глава девятая
Четверг, 26 июля
Если Эмабль Курсон во что-то и верил, то только в собственный здравый смысл, который сейчас подсказывал побыстрее срываться с места после того, как этот мнимый журналист явился вынюхивать его тайны. В тот же вечер он поспешно отказался от места официанта в кабачке «Оловянный горшок» и сговорился с одним торговцем прохладительными напитками, измученным ревматизмом, купить орудия его труда. Новая работа позволяла ему постоянно перемещаться с места на место, не привлекая внимания, и ускользать от треклятой полиции, которую он боялся больше чумы. Не он ли поднимался последним в номер этого англичанина, как раз перед тем, как был найден его труп?
Облачившись в белый передник и нахлобучив на голову соломенную шляпу, он взвалил на плечи высокий цилиндрический сосуд, подвесил к бретелькам несколько стаканчиков и принялся вопить во всю глотку:
– Кому холодненького?
Зажав локтем трубку, через которую подавалась вода с сиропом из корня солодки и лимонным соком, он бороздил просторы Выставки, подманивая к себе мучимых жаждой взрослых и детей. Сначала нужно переждать, когда пыл полицейских немного поутихнет, а там будет видно. Он жил в довольно неприглядном квартале, но в нужде человек довольствуется тем, что есть, а с учетом наплыва гостей, приезжающих поглазеть на Выставку, ему досталась лишь убогая мансарда на седьмом этаже доходного дома на правом берегу, которую он снял у четы мелких рантье. Он производил очередной платеж, поднимался по черной лестнице, не общался со слугами и был совершенно уверен, что здесь его искать никто не станет.
Виктор предпочел бы, чтобы в лавке было меньше народу, чем в последние дни, но несколько коллекционеров будто и не собирались никуда уходить. Кэндзи пребывал в мрачном настроении. Тем не менее, появление премилой мадемуазель Миранды немного его успокоило. Виктор воспользовался этим обстоятельством, чтобы прибегнуть к обычной уловке – затащить Жозефа в подвал.
– Как только она уйдет, он изрубит нас на куски, – предрек шурин.
– Мне угрожает опасность. Эдокси предоставила прелюбопытные сведения. Убитый постоялец «Отеля Трокадеро», с которым у нее была любовная интрижка, поведал ей, что служил капитаном на корабле «Эсмеральда». И о судне, и о его капитане в мае 1899 года писала лондонская «Таймс».
– Не так быстро, я записываю. Послушайте, а это уже интересно. Форестер, капитан; Исаму, матрос… они что, плавали на одном судне?
– Как бы нам это проверить? Может, найти эту газету? – прошептал Виктор.
– Кто говорит о газете, подразумевает газетчика. Почему бы не заявиться в «Паспарту» и не обратиться за помощью к Антонену Клюзелю?
– Очко в вашу пользу. Вы этим и займетесь. Но днем нам нужно будет тайком улизнуть из дома: некий незнакомец явился на улицу Фонтен и оставил для меня послание. Оглядываясь назад, я трепещу от страха, что Таша его прочла. Инициалы меня заинтриговали, вам они ни о чем не говорят? Этот субъект является ко мне домой, ссылается на знакомых – значит, он человек из нашего окружения.
Жозеф озадаченно пробежал глазами письмо. В том, что это дело рук Фредерика Даглана, у него не было никаких сомнений. Но как признаться шурину, что он собственноручно запустил волка в овчарню?
– Ф. Л., Ф. Л., нет, я не понимаю кто это может быть.
«Но почему не Ф. Д.?» – спросил он себя и решился на дерзость.
– Сами виноваты, раздаете свои визитки кому попало. Например, глухой старухе, живущей по соседству с Ихиро.
– Верно, – признал Виктор, – но на визитках указан лишь адрес книжной лавки, домашнего там нет.
– Мы не можем пропустить эту встречу, но оборот, который приняли события, рекомендует отправиться на нее вдвоем.
– Хотя эта неожиданная эскапада не всем придется по душе, – предрек Виктор.
Они вынырнули из подвала в тот самый момент, когда по винтовой лестнице спустилась Джина. Ее одежда, обычно безупречная, была немного смята, в ней наблюдалась некоторая небрежность, а распущенные волосы лишь подчеркивали усталый вид.
– Твоя мигрень улеглась? – спросила она у Кэндзи.
Разрываясь между желанием покорить мадемуазель Миранду и потребностью пребывать под защитой Джины, он, в конечном счете, определился в пользу жены.
– Сегодня я чувствую себя совершенно разбитым. Сердцебиение, головокружение…
– Это все жара. Тебе нужно отдохнуть. Мели приготовит тебе зеленого чаю.
– Воду не дали?
– Нет, но у нас есть запасы минеральной.
– Я не уверен, что смогу вечером выполнить свое обещание и пойти в Большой дворец. Извинись за меня перед Таша, – невнятно произнес он, бросая разгневанные взгляды на Виктора с Жозефом, приклеившимся к бюсту Мольера.
– Ты прав, ложись в постель и часок поспи, – одобрительно сказала Джина, вытирая лоб.
Кэндзи разгладил морщинки на лице жены и ощутил от этого поднимающуюся в груди волну нежности. Коротко кивнув головой – одновременно Джине, мадемуазель Миранде и своим партнерам, – он поднялся по лестнице.
«Вот черт, – подумал Виктор, – нас загнали в угол».
– У меня нет ни малейшего желания доставлять вам в такой момент неприятности, но мы с Жозефом должны…
– Провести экспертную оценку одной библиотеки, знаю я ваши сказки, – с улыбкой закончила за него Джина, – не волнуйтесь, я и одна справлюсь, но чтобы к закрытию были здесь.
– Чтоб мне с места не сойти, – заявил Жозеф.
«Да будьте благоразумны, – подумала она, – в какую очередную ловушку вы лезете?»
– Что вам угодно? – агрессивно бросила Джина мадемуазель Миранде.
Задрав нос, Жозеф вовсю строил из себя храбреца у касс Большого колеса, хотя в глубине души отчаянно трусил. Что можно будет возразить Дафне, если она попросит его совершить подъем на высоту в сто шесть метров в одной из этих украшенных зеркалами кабинок? От одной мысли о панораме, предлагаемой храбрецам, у него начинала кружиться голова. Хотя аттракцион заработал еще в прошлом году и его посетила уже не одна тысяча посетителей, он не подходил к нему и на пушечный выстрел.
– И что на людей находит, что они все хотят взлететь над доброй старушкой землей? – спросил Виктор, словно читая мысли шурина.
– Это все из-за птиц, для слабых умов они всегда играли роль соблазна, ведя их прямо к катастрофе. Тому свидетельство – Икар, чья воздушная колесница камнем рухнула вниз. Но я не вхожу в число тысячи шестисот придурков, которые приняли для себя это дьявольское изобретение.
– Что-то вы заговорили, как Ихиро.
– Я буду сопротивляться! – заявил Жозеф.
– Сопротивляйтесь, но не переусердствуйте.
– Кому холодненького?
– У меня в горле пересохло, поэтому я на какое-то время избавлю вас от своего присутствия, – бросил Жозеф, направляясь к торговцу прохладительными напитками, осаждаемому стайкой ребятишек.
Виктор устроился в отдалении под сенью сада, оккупированного нянями, ландо и военнослужащими в увольнении, и стал смотреть на зевак, плативших по франку за право усесться в кабине, взмывавшей вверх без единого толчка. Только бы Алису никогда не охватил соблазн совершить этот подъем! Тут его кто-то похлопал по плечу и зашептал на ушко:
– Не злитесь, Легри. Упаси меня бог искать ссоры с моим ангелом-хранителем.
Виктор повернулся. Кто он, этот турист в светло-бежевом перкалевом костюме и с итальянской соломенной шляпой на голове?
–
Пройдоха-леопард и говорит: «Прекрасный месяц май, когда же ты вернешься?»
– Фредерик Даглан? – прошептал Виктор.
– Это я был вчера у вас, ваша спутница жизни поистине очаровательна. Ее зовут Таша, не так ли?
Жозеф бросился вперед, грозя Фредерику указательным пальцем. Этот идиот вот-вот его выдаст! Даглан поспешил добавить:
– Успокойтесь, я не переступал порога.
– Но почему вы подписались инициалами Ф. Л.?
– На самом деле меня зовут Федерико Леопарди, как известного поэта. Воровство у меня в крови. Я краду, шарю по карманам, беру все, что плохо лежит. К тому же общество представляет собой джунгли, где большие всегда пожирают маленьких. Я взял на вооружение замечательный девиз: Свобода и Равенство. Что же касается Братства, то… Ваши логические умозаключения, господа, позволили мне порвать с весьма нехорошим прошлым. Это было в 93 году…
– Помните акции «Амбрекса»? – бросил Жозеф Виктору, отчаянно подавая за его спиной знаки Даглану.
– На память я не жалуюсь, Жозеф. У вас что, пляска святого Витта?
Кончиком трости Фредерик Даглан чертил на песке аллеи круги.
– Легри, вы женаты?
– Да, и у меня есть дочь.
– Вашему постоянству можно только позавидовать! У вас в друзьях был какой-то японец, если не ошибаюсь, господин Мо… Нет, имени его я не помню.
– Кэндзи Мори, теперь мы партнеры.
– Как он поживает?
– Отлично, он тоже остепенился.
– Когда-то вы оказали мне услугу, теперь настала моя очередь. Эта записка привела меня в такое смятение, что я, презрев все опасности, назначил вам эту встречу.
Он протянул Виктор послание, найденное в бумажнике Энтони Форестера.
– Мне пришлось потрудиться, чтобы расшифровать эти каракули. Но, поломав голову, я все же добился успеха, а адрес, упомянутый в этой бумаге, пробудил во мне воспоминания. Мне припомнилось, что ваш партнер – азиат, как и жертва убийства неподалеку от театра Гренель, о котором писали в газетах.
– У кого вы ее нашли?
– У некоего Энтони Форестера, в бумажнике которого мне удалось покопаться.
– Того самого, который был найден со стрелой в груди в одном из «Отелей Трокадеро»?
– Слово чести, я чист, как агнец из сказки. Вор и плут, не отрицаю, но убийца – никогда!
Виктор с озабоченным лицом пытался переварить содержимое записки.
– Что это значит? Это что, угроза?
Жозеф нетерпеливо притопывал ногой, чтобы, в свою очередь, изучить ее, но, не понимая ни единого слова, попросил Виктора перевести.
– Если бы вы не бросили заниматься английским…
Кок Исаму теперь плывет по реке Стикс в компании с Лакуто. У его хозяина, японца, обнаруженного в книжной лавке «Эльзевир» на улице Сен-Пер, ничего не найдено. Безотлагательно узнайте, живет ли он по указанному адресу. Боцман займется им и уберет как нежелательного свидетеля. Увидимся вечером, ровно в шесть часов в месте, где хранится урожай. Не опаздывайте.
ОМОДО
Виктор почувствовал, что сердце готово вот-вот выпрыгнуть из груди. Ему в голову пришла страшная мысль, что Кэндзи могут принять за Ихиро и что его постигнет та же трагическая участь: слово «уберет» не оставляло на этот счет никаких сомнений. Судьба самого Ихиро самым странным образом его совершенно не волновала. «Так уж устроен человек, беспокоится только за тех, кто ему близок», – с сожалением подумал он.
– Вы водитесь с покойниками, Даглан, – бросил Жозеф. – Лучше бы завели какое-нибудь коммерческое предприятие.
– Помолчите, я думаю, – сказал Виктор. – Исаму плавал на судне коком?
– Какое удивительное открытие! Мы и так знали, что он моряк.
– Уж не знаю, в какой ловушке оказался господин Мори, но в его интересах где-нибудь тихо отсидеться, – предположил Даглан, – в противном случае с ним может случиться большая неприятность.
Жозеф смертельно побледнел.
– Его нужно предупредить! – закричал он и бросился к фиакру.
Даглан перегородил ему дорогу.
– Не теряйте хладнокровия, старина, вы только ухудшите положение. Не надо паниковать, давайте лучше попытаемся найти аварийный выход.
– Он прав, – поддержал Фредерика Виктор. – Вы же знаете Кэндзи, он не горит желанием поддаться на шантаж Ихиро. На данный момент бояться нечего, он у себя в комнате, где ему ничто не угрожает. Нюхом чую, что этот «боцман» не осмелится явиться на улицу Сен-Пер, вместо этого он заманит жертву в ловушку.
– Ихиро? – поразился Жозеф. – Но ведь он тоже живет на улице Сен-Пер.
– По вечерам его там никогда не бывает.
– Глазам своим не верю! Виктор, неужели вы готовы пожертвовать чужой жизнью ради того, чтобы…
Виктор отмел возмущение Жозефа одним щелчком.
– Господин Даглан, могу я попросить вас об услуге?
– Слушаю вас.
– Вечером мы всей семьей отправимся на выставку, чтобы взглянуть на полотно моей супруги, выставленное в Большом дворце. Ихиро Ватанабе проверяет билеты на входе в театр Лои Фуллер, на нем традиционный японский костюм…
– Кто такой Ихиро Ватанабе?
– Родственник. Снимает у нас на улице Сен-Пер мансарду на шестом этаже. По этой причине его и могут спутать с господином Мори…
– Не понял.
– Ихиро Ватанабе взмолился перед Мори, чтобы тот заменил его у входа в театр. Он скован смертельным страхом. Вы прекрасно понимаете, что он и есть цель, которую злоумышленники хотят уничтожить.
– Понятно. Вот трус! Хочет, чтобы вместо него укокошили другого человека, и не испытывает при этом ни малейших угрызений совести. Господин Мори согласился выполнить эту опасную миссию?
– Мы не знаем, он непредсказуем.
– Театр Лои Фуллер? Это там обретается необычная певичка с раскосыми глазами, исполняющая таинственные песни, умирающая на сцене под музыку с непокрытой головой, но не
позволяющая своему цветастому платью приоткрыться хотя бы на йоту?
– Сада Якко.
– Верно. Я сгораю от желания с ней познакомиться. Значит, вы хотите, чтобы я взял под наблюдение вход в театр и присмотрел за японцем, проверяющим билеты, кем бы он ни был?
– Если это вас не затруднит.
– Черт бы вас побрал, Легри! Вы не ищете окольных путей, мне там могут здорово общипать перышки. Мне кажется, что за этим Ихиро Ватанабе из прошлого тянется какой-то дурной след.
– Так оно и есть, он был замешан в…
– Больше ни слова, Легри! У меня нет ни малейшего желания вникать в подробности. Желая прикрыть зад, человек не станет взваливать на плечи чужую ношу. Считайте, что мы договорились, вечером я заступаю на пост у театра. Один совет: действуйте без промедления. Вы не знаете, что произойдет на следующем этапе. Нужно убедить господина Мори в том, что ему угрожает опасность, и если он тайком уедет из города, это будет вполне оправданно.
– Задача не из простых, – проворчал Жозеф.
– Вы наделены воображением литератора, господин Пиньо, так что как-нибудь выкрутитесь. Засим разрешите откланяться.
– Последний вопрос, господин Даглан. Как вы считаете, что означает «ОМОДО»? – спросил Виктор.
– Может, подпись, может, пароль. Обращаю ваше внимание на одну деталь: популярность мне ни к чему, поэтому мы с вами не знакомы. Если у меня будут новости, я сам выйду с вами на контакт. Всего доброго, господа.
– А если возникнет срочная надобность? – гнул свое Жозеф.
– По понедельникам и средам я ровно в полдень обедаю в «Пикколо нуво» на улице Лион. Так называется итальянская харчевня, хозяина которой зовут Анхиз.
Едва успев вымолвить эти слова, он тут же испарился.
– Как думаете, Жозеф, ему можно верить?
– Вы полагаете, он темнит?
– Не спорю, этот человек весьма симпатичен, но у нас нет доказательств того, что он не замыслил какой-то тайный план, ускользающий от нашего понимания. Как бы там ни было, мы не должны относиться к его словам легкомысленно.
– Если вы не были уверены в его искренности, то почему сообщили, где найти Ихиро?
– Даглан – бесспорный король воров, но не убийца. Мне неведомо, какие мотивы им движут, но он прекрасно осведомлен, иначе откуда ему было узнать, где меня найти? Домашний адрес я не сообщаю никому и никогда.
Жозеф, чье внимание неожиданно привлекла группка ребятишек, катящих перед собой обручи, замурлыкал под нос какую-то мелодию.
Устав рисовать в блокноте экзотических птиц, Робер Туретт под конец стал живописать банальных воробьев, копошившихся в пыли на террасе Тюильри. Обнаружив, что время уже позднее, он вдруг понял, что стал узником кулинарной выставки. Афиша гласила, что ее почтят своим присутствием «все главные повара королевских и императорских дворов Европы». Робер фланировал в толпе зевак, тешивших себя надеждой увидеть мельком мадам Лубе под ручку с папашей Маргери. На стендах красовались ряды бабочек из сахарной карамели и репродукции Эйфелевой башни, выполненные из нуги. Всеобщее восхищение вызывали ворота Венской ратуши, сделанные из гигантской вафли. Перед тыквенной композицией, изображавшей Людовика XIV и его придворных, все прыскали со смеху.
В этот день Робер даже не позавтракал, поэтому, когда в животе заурчало, в нем проснулся волчий аппетит и он подумал, что пришло время отправиться на поиски говяжьего филе с картофелем. Поработав тростью, он выбрался из человеческого потока и, в конечном счете, бросил якорь на террасе бистро под аркадами на улице Риволи.
Гарсон грубо бросил Туретту, что для мясного блюда он припозднился. Поэтому Робер довольствовался омлетом и немного засиделся, лорнируя в толпе прохожих дам в юбках средней длины, открывающих для взоров лодыжки.
Когда он доставал голубого цвета купюру, бумажник выплюнул визитную карточку, упавшую на круглый столик на одной ножке. Ее вручила ему полуглухая старуха. На следующий день после своего приезда в Париж он отправился к кузену Исаму. Фиакр доставил его на самый край квартала, лоскутного, как кожаные штаны, где вечер как раз зажигал в окнах свет. Квартиру он нашел с трудом. Соседка сообщила, что господина Ихиро Ватанабе дома нет, но его можно найти вот по этому адресу.
Робер задумчиво повертел в руках визитку.
«ЭЛЬЗЕВИР»
СОВРЕМЕННЫЕ И СТАРИННЫЕ КНИГИ
Партнеры: Мори, Легри и Пиньо
Улица Сен-Пер, 18
Часы работы: понедельник-суббота
С 8 ч 30 мин до 18 ч 30 мин
Он уже дважды отправлялся в эту лавку, но так и не решился войти.
Но теперь любопытство взяло верх. На часах пробило пять, так что время у него еще оставалось.
Кучер высадил его напротив больницы «Шарите». До дома 18 Туретт дошел пешком. У ворот он увидел коренастую женщину, которая, схватившись за веник, судачила о чем-то с точильщиком. Робер сделал вид, что изучает бумажку с планом, вытащенную из кармана, а сам стал краем глаза за ними следить.
Вдруг дама с веником резко повернулась.
– А ну проваливайте отсюда! – завопила она. – Или хотите чтобы я вам пинков надавала? Здесь вам не писсуар!
Из ворот выскочили двое хохочущих ребятишек и бросили:
– Только попробуй, консьержка! Мы живем в свободной стране.
– Да, но разве это ваш двор? – заревел точильщик. – Бедная моя мадам Баллю! Ну никакого уважения.
Он подхватил свою тележку и направился в сторону Сены.
Туретт сложил план, двинулся вперед и согнулся перед консьержкой в поклоне. Та отпрянула, наткнулась на ведро и чуть не упала.
– Что вам угодно? – пролаяла она.
– Я пришел поговорить с моим японским коллегой.
– Вы что, книготорговец?
– Отнюдь.
– Ладно, что уж там. Если это тот, о котором я думаю, то он обосновался на шестом этаже и стал еще большим отшельником, чем пустынник святой Антоний! Самое ужасное в том, что мне приходится таскать ему наверх еду, он напрочь отказывается спускаться, чтобы поесть! Ну не беда ли, с моей-то больной поясницей!
– Он вообще никогда не спускается вниз?
– Ему это, должно быть, запрещает религия. Он забаррикадировался в
моей мансарде, а теперь даже потребовал свечи. Надеюсь, он не устроит в доме пожар.
– И давно он с вами живет?
– Да не со мной, боже праведный, а в комнате, которую предоставил в мое распоряжение господин Легри! Поселился он в субботу. Сейчас его дома нет.
– А когда он вернется?
– А я знаю? Я ему не нянька!
– Благодарю вас.
– Странный субъект, – проворчала мадам Баллю. – А что на голове! Он похож на клеврета самого дьявола! Боже праведный! Как ему в голову могло прийти, что я сожительствую с японцем! В моем-то возрасте!
Облокотившись на прилавок, Виктор сложил записку, позаимствованную Дагланом из бумажника Энтони Форестера. Он тщетно пытался сосредоточиться на ретурнеле, ставшем плодом его размышлений, смысла в котором было не больше, чем в детской считалочке.
Леопард и Лакуто поднялись на борт.
Форестер свалился в воду,
Что случится с боцманом?.. —
произнес он машинально.
Боцман займется им и уберет…
– Боцман!
Эти слова бросили его в дрожь.
Легри испугался за жизнь Кэндзи. Его нужно предупредить и заставить уехать, если не добровольно, то силой. Как приступить к решению этого вопроса, чтобы не навлечь на себя гнев человека, которого он почитал больше всех на свете? Виктор почувствовал, что его увлекает за собой неодолимый вихрь, кружа в водовороте вышедшей из берегов реки.
Когда явившийся в лавку профессор Мандоль спросил, получили ли они труды Луи Жана-Мари Добантона
[1115], заказанные им на прошлой неделе, Легри пробурчал:
– Завтра, завтра…
– Вы мне уже говорили это вчера. «Никаких завтра»! – как писал Виван-Денон
[1116].
Виктор открыл было рот, но так и не произнес ни звука, так что бывшему профессору Коллеж де Франс пришлось в отчаянии отступить в глубь лавки. В то же мгновение прозвенел колокольчик и на пороге встал человек с румяным лицом и седыми волосами, торчавшими рожками по бокам лба. Он подошел к прилавку и спросил хозяина.
– Это я. Вообще-то нас трое, но сейчас я здесь один, – проворчал Виктор, явно не в восторге от этого нового вторжения.
«Только этого еще не хватало! Меня почтил своим присутствием Мефистофель собственной персоной!» – подумал он.
– Вот оно что, три головы под одной шапкой? Управляться вам здесь, должно быть, чертовски трудно! – изрек Робер Туретт.
Он развеселился еще больше после того, как профессор Мандоль, забившийся в угол лавки, посетовал:
– Он не в своем уме, видимо, слишком много работает!
– Среди собранных здесь сокровищ у вас нет четырехтомника Жан-Жака Одюбона
[1117] «Птицы Америки»? Я совсем недавно приехал в Париж и с тех пор не перестаю обивать пороги книжных лавок. Но напасть на след хотя бы одной гравюры из этого труда не представляется возможным.
– В таком случае представьте, насколько сложно приобрести весь четырехтомник целиком! Редчайшая, поистине бесценная вещь.
– Первый раз в жизни вижу торговца, отказывающегося продавать свой товар! – пробурчал профессор Мандоль и откланялся.
Не обращая внимания на его слова, Робер Туретт добавил:
– Не подскажете, кого из издателей могли бы заинтересовать мои работы гуашью?
– Вы художник?
– Да, анималист. Изображаю хищников, попугаев и других пернатых юга Соединенных Штатов Америки.
– В таком случае ступайте в «Серкль де ла Либрери», бульвар Сен-Жермен, 117, там вам подскажут.
Вот уже добрых два часа Робер Туретт, укрывшись под портиком, где было относительно прохладно, наблюдал за книжной лавкой «Эльзевир». Почему консьержка во время разговора с ним воскликнула: «Если это тот, о ком я думаю…»? Может, в этом литературном лабазе обретается не один японец? Нужно навести справки. Наблюдение за лавкой в сложившихся обстоятельствах позволит получить нужные сведения.
– Что-то он не торопится, – проворчал он, когда Виктор прикрыл витрины ставнями, запер дверь на ключ и ушел.
Легри небрежным шагом направился в сторону Сены, не замечая того интереса, который проявлял к нему Робер Туретт. Следить за ним было нетрудно. Вскоре Виктор вышел на набережную Вольтера, обменялся любезностями с могучей, как ярмарочный борец, дамой, впрягшейся в тележку на колесах, которая разваливалась под весом наваленного в нее груза, затем перешел на другую сторону и поклонился лысому старику в очках, который как раз упаковывал книги.
«Если он будет чесать языком с каждым встречным, я застряну здесь не на один час», – подумал Туретт и, чтобы остаться незамеченным, стал наблюдать за маневрами небольшой парусной шлюпки.
Виктор снял шляпу перед элегантной пожилой дамой, которая что-то вязала, усевшись на складном стульчике перед своим лотком, затем перемолвился парой слов с рыжим типом в рабочей блузе, всклокоченная борода которого придавала ему сходство с сапером Камамбером
[1118].
«Все треплется… Шлюпка уплыла, и что мне теперь прикажете делать?» – заметался Туретт.
Теперь книготорговец пожимал руку здоровенному верзиле с непомерных размеров ступнями. Тот показал на серый шарик, медленно двигавшийся по асфальту и положил перед ним листочек салата.
До слуха Туретта, стоявшего в двух шагах от них и глядевшего на мост Искусств, донеслось объяснение:
– Камилла страдает от этой ужасной погоды, поэтому я взял ее с собой на работу. Мне приходится целыми днями просиживать в ожидании, хотя никакой прибыли с этого я не имею.
– Но ведь черепахи не страдают от жары! – ответил на это книготорговец.
– Камилла, как и клиенты, ее терпеть не могут, так что не я первый, не я последний.
– Черепаха по имени Камилла! Сборище идиотов какое-то! – прошептал Туретт, внимательно изучая окаменевшие ракушки в песчанике парапета.
– О предыдущей работе не жалеете? – спросил книготорговец. – Если бы вы остались квартальным комиссаром, то вместе с Камиллой могли бы наслаждаться прохладой.
– Мы задыхаемся в четырех стенах, в то время как здесь – настоящая жизнь! Куда собрались, господин Легри?
– На Выставку. Я бы с удовольствием взял велосипед, но ума не приложу, где его можно было бы оставить, так что приходится пешком. К тому же физические нагрузки пойдут мне на пользу, а то я уже стал покрываться плесенью.
– Этот бездельник таскает меня за собой по всему Парижу! – злился Робер Туретт, обливаясь потом и мучаясь от жажды.
При виде возведенных на берегу Сены дворцов он наконец понял цель всей этой экспедиции.
– Возвращение к возбужденной публике, – в отчаянии подумал он, прокладывая себе дорогу в заполонившей улицу Наций толпе.
Тяжело ему было следить за этим чертовым книготорговцем, тем более что тот уже сошел с движущегося тротуара и размашисто зашагал в сторону Эйфелевой башни.
Глава десятая
Вечер того же дня
Айрис казалось, что она даже помолодела в фиакре, катившем на улицу Сен-Пер. Благодаря Эфросинье, оставшейся этим вечером с детьми, она получила свободу. Сколько же времени она просидела взаперти в квартире с Артуром и Дафной, которая шла на поправку? Она упрекала себя за то, что поставила крест на мечтах о приключениях, и решила больше не мириться безропотно с этим чуть ли не монашеским существованием. Хотя ее свекровь и ворчала по поводу и без повода, Айрис была вынуждена признать, что без ее помощи ей пришлось бы туго. Кроме того, она поклялась поблагодарить и мать Таша.
Затем мысли женщины вновь вернулись к задуманной ею сказке. Она назвала ее «Первый день каникул». В ней речь пойдет о переживаниях школьной губки, высыхающей на дне мусорной корзины и мечтающей увидеть море. Пес освободит ее из заточения, крышка распахнется, сыграет роль катапульты, вышвырнет губку в сточный желоб, где ее увлечет за собой поток.
Айрис принялась что-то черкать в блокноте, от толчков фиакра рука ее время от времени соскальзывала, но женщина не обращала на это никакого внимания.
«Я пью! Я пью!» – радовалась губка, наливаясь влагой.
Ей встретились бумажный кораблик, два окурка и палочка от леденца. Она их обогнала, в восторге от того, что ей удалось вернуть себе первозданную чистоту.
Но что это за грохот? Ее вдруг захватил поток и безудержно понес вниз.
– Где я? – спросила она, увидев над собой огромные, вытянутые в длину суда.
– Ты на канале! – крикнула ей чайка.
– А как называются эти барки?
– Это не барки, а баржи, невежа!
«Продолжу вечером или завтра утром», – пообещала себе Айрис, расплачиваясь с кучером.
Когда после закрытия лавки Таша позвонила в квартиру матери, то сначала даже не узнала молодую женщину в расширяющемся книзу платье в талию с мягкими оборками и корсаже со стоячим воротником, пригласившую ее войти.
– Айрис! Ты выглядишь просто шикарно! Поможешь мне вместе с мамой одеться, а то я все вещи запихала в сумку и одной мне ни за что не справиться.
Тут появилась Джина, на ней было болеро из тафты с прямым отворотом и бледно-голубая, с сиреневым оттенком, парусиновая юбка, отделанная кружевами.
– Что за вид, дочь моя! А все потому, что ты напрочь отказываешься носить корсет, – вздохнула она, внимательно присматриваясь к Таша, напялившей на себя первую найденную в шкафу одежку.
– Ты же знаешь, это орудие пыток врезается мне в ребра, ненавижу, когда у меня на груди от него остаются красные пятна.
– Да, это действительно больно, особенно в такую жару, – поддержала ее Айрис. – Недолго и в обморок упасть. Какие же мы дуры, что уступаем капризам мужчин. Даст бог, в один прекрасный день нас избавят от этой власяницы!
– Портниха все тебе прислала? Подгонка прошла удачно?
На каждый этот вопрос Таша утвердительно кивала головой.
– Давай примерь.
Таша прошла в спальню и залюбовалась висевшей на стене гравюрой на дереве работы Тории Киёнага, вставленной в рамку из красного дерева.
– Не тяни, времени уже много, – пожурила ее Джина.
Таша надела на безымянный палец золотое колечко с камушком цвета морской лазури. Затем открыла ридикюль и извлекла из него пару ажурных перчаток.
Когда она вновь появилась на пороге, Мели Беллак, занятая приготовлением ужина, всплеснула руками.
– Как же вы очаровательны, мадам Легри! Как жаль, что господин Мори ушел, иначе он обязательно сделал бы вам комплимент!
– Господин Мори ушел? – удивилась Джина.
– Он весь день жаловался на недомогание, все просил принести ему чаю, чаю и снова чаю, а в последний момент решил показаться доктору Рейно и отправился к нему в кабинет. Поручив мне вас предупредить.
– А неженками почему-то называют женщин, – пробормотала Джина.
– Ты выглядишь так модно, что мне даже завидно, – заметила Айрис.
– Модель 1900 года, «стиль модерн», – подтвердила Джина, испытывая гордость за свою преобразившуюся дочь.
Это платье с элегантными изгибами и свободно спадающим шлейфом Таша надела впервые. Ее грудь, приподнятая эластичным поясом, не давившим на живот, стала чуть менее пышной. Довершали наряд соломенная шляпка, украшенная вишенками, и полосатый зонтик. Айрис схватила ее за руку.
– Ах! Какое милое колечко!
– Аквамарин, подарок Виктора. Он преподнес мне его четыре года назад, но я надеваю его редко, ужасно боюсь потерять.
Она повернулась.
– Все равно жмет. Да и потом, мне страшно – с момента открытия Выставки десятилетия я не появилась на ней ни разу! Какие ужасы мне предстоит там услышать?
– Вот что значит изображать собственного мужа в костюме Адама, без намека даже на набедренную повязку! Между нами говоря, я предпочла бы первый вариант полотна, он был не столь резким и не так бросался в глаза.
Айрис и Таша захихикали.
– Не матери семейств, а какие-то пернатые! Пойдемте немного подкрепимся, иначе вы до ужина не дотянете. А все твой дружок Ломье, это он пригласил нас в ресторан в столь поздний час. Шуточек в свой адрес не бойся, кроме нас анатомию Виктора там оценить будет некому, – заявила Джина.
Отклонить просьбу Мориса Ломье было трудно. Этот человек, старый знакомый Виктора, отказался от живописи в пользу чисто прагматической профессии директора галереи. Он женился, стал отцом близнецов, пренебрегал жизнью богемы и на редкость серьезно относился к взятой на себя роли первооткрывателя талантов. Морис давно сделал ставку на Таша и теперь желал оценить реакцию публики на выполненную ею обнаженную натуру, выставленную в Большом дворце.
Поскольку время еще было, Виктор поднялся на четвертый этаж Эйфелевой башни и стал оттуда наблюдать за агонией знойного дня, медленно отступавшего под натиском плотного свинцового марева – провозвестника грозы. Опьяненный высотой, он вспомнил летательный аппарат, паривший над театром Гренель, и попытался представить себе, что испытал бы пилот, окажись ему подняться в воздух над Выставкой. Очертания холмов, окружающих столицу, медленно растворялись, будто их стирала ластиком чья-то невидимая рука. Хорошенькое дельце! Если представить, что этот город, считающий себя центром вселенной, вдруг исчезнет, Земля от этого вращаться не перестанет, люди все так же будут истреблять друг друга, торговцы – процветать, банкиры – обогащаться, путешественники – стремиться к новым берегам, а нечистоты – выливаться в реки.
Вокруг Легри разговаривали друг с другом чиновники с окладом двенадцать тысяч франков в год, их сопровождали супруги, головы которых венчали пирамиды из перьев и цветов, выполняющие роль шляпок. Это был «их» день, и свое время они тратили на то, чтобы наносить друг другу визиты, предварительно отобедав или отужинав за одним столом. До ушей Виктора доносились обрывки разговоров между этими пресыщенными светскими дамами, которые вместо того, чтобы восхищаться подлинным буйством света у них под ногами, жаловались на увеличившиеся расходы на содержание слуг и на то, как сложно им уложиться в рамки семейного бюджета.
– Ах, моя дорогая, цены стали просто непомерны, два с половиной франка за кило мяса, два франка за птицу, а вчера Гюставу пришлось покупать новый костюм – какой-то увалень опрокинул ему на рукав чернильницу. Представляете, во что нам это обошлось!
– Семьдесят?
– Вы шутите? Сто франков!
По мере того, как Виктора поглощала окружавшая его красота, эта болтовня становилась все тише и незаметнее. Подобно безоблачному небу, на котором вспыхивали друг за другом звезды, Выставка с каждым мгновением брызгала все новыми и новыми снопами искр. На краю Марсова поля фонтаны гигантского Дворца воды отражали, будто в призме, тысячи цветов, смешивавшихся в один букет из тугих струй. Изумруд и золото, пурпур и лазурит. За фонтанами пламенел широкий, украшенный колоннами и башенками фасад Дворца электричества, превращенного в сказочный замок. Его обрамляли лампы, мощные, как прожекторы, и венчала ажурная диадема из железа и цинка. Над этим фейерверком возвышалась шестиметровая статуя Духа электричества, добавляя к сиянию и свои огни.
Внимание Виктора привлекла вращающаяся Большая небесная сфера, внутри которой проходили концерты под руководством Камиля Сен-Санса
[1119]. Затем он перевел взгляд на Дворец оптики, окруженный ореолом звезд, и Светящийся дворец Жозефа Понсена. Свыше тысячи двухсот ламп накаливания озаряли своим светом это сооружение из стекла с лестницами и перилами, инкрустированными ракушками. Сверкающие сталактиты и сталагмиты превращали его в фееричную пещеру.
Небо над Сюреном терзали сполохи молний. Виктор бросил последний взгляд на видневшиеся вдали венецианские гондолы, оказавшиеся в Париже, и облокотился на парапет. Очарованный сиянием пагоды Вишну, камбоджийских и индокитайских театров, разбросанных по склонам холма Трокадеро, он вспомнил июньский вечер 1889 года, проведенный в англо-американском баре на втором этаже башни, куда его пригласил друг Мариус, только что основавший «Паспарту». Тогда Мариус познакомил его с Таша. Прошло одиннадцать лет, одиннадцать лет счастья рядом с той, которая стала его женой.
Открывавшаяся взору панорама говорила о прошлом, о быстротечности времени, о смене дней и ночей, но не давала возможности перенестись мысленно в будущее, в те времена, когда он уже окончит свое земное существование.
«В двух словах невозможно сказать, что нас объединяет. Любовь, картины, книги, фотография, рождение Алисы… И одиннадцать расследований, проведенных тайком от нее на пару с приказчиком, который впоследствии стал моим шурином, – невозможным и незаменимым Жозефом!»
Подобно Большому колесу, прочерчивавшему в небе желтый круг, он, влекомый вперед очарованием тайны, тоже кружил в водовороте смены эпох. Может, он притягивал к себе смерть? Или, сам того не зная, обладал способностью множить вокруг себя кровавые преступления? Может, он был реинкарнацией какого-нибудь убийцы и появился на свет только для того, чтобы вести расследования во искупление былых грехов? Как избавиться от этого проклятия?
Виктор устал от ремесла книготорговца, вполне возможно, что пришло время покинуть улицу Сен-Пер, уехать из Франции и вернуться в Великобританию, где прошла его юность.
Легри вспомнилось письмо, недавно присланное из Нью-Йорка тестем. Пинхас искал компетентного партнера для создания в Лондоне сети по распространению фильмов и подумал о нем, зная его тягу к кинематографу.
Каждый раз, вспоминая английскую столицу, Виктор ощущал едкий запах угля, выгружаемого из барж, стоявших на якоре на Темзе. Барки, паромы, парусники, сновавшие по водной глади кипучей реки в самом сердце города, который напоминал собой человеческий улей и без всякого перехода являл взору то элегантные кварталы, то позорные клоаки. Белый туман, размытые очертания статуй, серые мостовые и бесцветная толпа.
К нему вновь вернулось ощущение противоречивости Выставки и ее бесчисленных конструкций, будто построенных безумным архитектором с целью собрать в одном месте все, что было создано на этой планете. Что это – свидетельство химерического величия? Пустая приманка?
Куда с такой прытью направлялся этот мужлан, только что выскочивший как ошпаренный из лифта Эйфелевой башни? Хотя день уже сменился ночью, огни не давали наступить царству тьмы и Робер Туретт без труда мог следить за книготорговцем, шагавшим мимо павильонов иностранных государств. Зрение служило ему верно, но вот ноги и руки уже бунтовали. Он был уже не в том возрасте, чтобы бегать за человеком, который был явно проворнее его.
Анималист галопом пробежал по мосту Инвалидов и на авеню д’Антен, по которой книготорговец тащил его за собой в Большой дворец, сбавил шаг.
«Такое ощущение, что здание кто-то накрыл стеклянным колпаком».
Виктор предъявил пригласительный билет у касс, расположенных рядом со входом 31, вошел в просторный вестибюль под куполом, от которого отходили две боковые галереи, и вскоре оказался в зале для официальных приемов, затянутом пурпурной драпировкой с темными цветочными мотивами. Золотисто-розовые фризы прекрасно гармонировали с желтым шафранным узором и бледно-голубыми коврами.
На Выставке десятилетия, открытой во французской части экспозиции, была представлена подборка работ живописцев, считавшихся воплощением национального искусства. Открывали ее полотна Фернана Кормона
[1120] и Альбера Меньяна
[1121], ключевых мэтров Общества французских художников, а также Шарля Котте
[1122], одного из самых передовых членов Общества Марсова поля. Виктор ненадолго задержался перед «Похоронами предводителя галлов»
[1123], затем, немного поколебавшись, направился в зал, где были собраны произведения некоего Паскаля Даньяна-Бувре
[1124].
В окружении полутора тысяч экспонатов этой французской выставки Виктор надеялся, что ноги приведут его к обнаженной натуре, выполненной Таша.
Дилетантов в Большом дворце, открытом в этот день до позднего часа по причине официальных визитов, было немного. Своих Виктор увидел без труда.
Одетые как настоящие буржуа, Мирей и Морис Ломье выделялись на общем фоне красными лицами и строгими манерами. Ломье давно сменил внешность бесталанного нищего художника на образ процветающего торговца произведениями искусства. Его традиционный фрак дополняли собой пышные усы, бородка клинышком, монокль, цилиндр и трость. Супруга его больше не отзывалась на прозвище Мими. После рождения двух детей ее бедра раздались вширь, чего не мог скрыть даже затянутый донельзя корсет. Она задыхалась и постоянно открывала рот.
На фоне их четы Таша, Айрис и Джина выглядели настоящими красавицами. Жозеф, помогавший Эфросинье нянчиться с детьми на улице Сены и поэтому прибывший совсем недавно, был одет как щеголь, – жакет, полосатые брюки, желтые туфли и цилиндр цвета спелой пшеницы, которого Виктор раньше не видел. С видом критика шурин разглагольствовал о современном искусстве.
– Настоящего мастера неудача никогда не обескуражит, правда, Таша? К тому же вкус у коллекционеров просто отвратительный.
В разговор вмешался Морис Ломье:
– Жить в лачуге и создавать шедевры для профанов, которым до них нет никакого дела, – вот каков удел бездарных пачкунов. Мы, владельцы галерей, подвергаем огромному риску свои накопления, пытаясь вытащить живописцев из нищеты и возвысить до уровня Вильяма Бугро
[1125] и Эдуарда Детайля
[1126], вовсю пользующихся благосклонностью рантье. Виктор, задам тебе один вопрос: как думаешь, твой неприкрытый зад прельстит публику, которая без ума от «Психеи и Амура»
[1127] и «Почетной капитуляции гарнизона Ханинга»
[1128], не говоря уже об «Убийстве императора Геты» Жоржа-Антуана Рошгросса
[1129] и «Леди Годивы» Жюля Лефевра
[1130]?
В этот момент перед полотном Таша остановились две дамы почтенного возраста и стали разглядывать его в свои лорнеты.
– Какой скандал, – заявила первая, – мне претит видеть среди всей этой утонченности такую похабщину. Нужно будет пожаловаться сенатору Беранже.
– Вы совершенно правы, Фредегонда, – подлила масла в огонь ее подруга, – это то же самое, что втиснуть страницу Золя в «Письма» мадам де Севинье
[1131]. Мысль о том, что подобную пошлость может увидеть какой-нибудь ребенок, бросает меня в дрожь.
Виктор покраснел и отвернулся.
– Успокойся, со спины они тебя ни за что не узнают, – шепнула ему Таша.
– Ну что, мадам, вдохновила вас эта мужская нагота? – поинтересовался Морис Ломье.
Оскорбленные дамы спаслись бегством, громко кудахтая.
Робер Туретт, не сводивший с Виктора глаз, решил, что для «случайной» встречи наступил самый подходящий момент. Он слегка задел книготорговца, приподнял шляпу и застыл как вкопанный.
– Какое совпадение! Сударь, вы здесь? Вы меня не узнаете?
– Это вы вечером заходили к нам в лавку?
– Совершенно верно. Меня зовут Робер Туретт. Даже не думал, что повстречаю вас. Для меня это счастливая случайность, а то я позабыл оставить вам свой адрес – на тот случай, если у вас появится то, что я ищу.
С этими словами он протянул Виктору визитку, на которой было написано:
«Палас-отель», 103–113,
авеню Елисейские Поля
– Мы пришли полюбоваться обнаженной натурой, которую представила здесь мадам Легри. С опозданием, затянувшимся на пару недель, – объяснил Морис Ломье.
– Как? – воскликнул Туретт. – Это полотно вашей супруги? Какой талант!
Опасаясь, как бы этот чужак не проник в его тайну, Виктор бросился представлять ему присутствующих.
– Господин Туретт, вам нравится современное изобразительное искусство? – спросил его Морис Ломье.
– Говоря по правде, меня больше влечет к прошлым векам, мне больше по душе социальная критика в духе Уильяма Хогарта
[1132]. Кроме того, я высоко ценю живопись Чарльза Бёрда Кинга
[1133], особенно его картины, живописующие вождей североамериканских индейцев. Но когда в окружении гротескных сцен моим глазам предстает вставленный в оправу самородок, я не могу устоять! Я, господин Ломье, всего лишь скромный художник-анималист, специализирующийся на птицах, и не стоит пытаться увидеть во мне нечто большее.
– Великолепно! – воскликнул Ломье. – Присоединяйтесь к нам, я приглашаю всех в ресторан, поговорим об изящных искусствах. И как знать, может ваши птички меня и заинтересуют!..
Фредерик Даглан, стоявший неподалеку от них перед картиной Шарля Котте «Траур по моряку», посмотрел на часы. Второе отделение выступления Сады Якко начнется только через сорок пять минут, поэтому времени, чтобы вернуться на свой наблюдательный пост, у него более чем достаточно.
Наконец, они собрались уходить.
Чопорный торговец картинами говорил что-то то ли о фуршете, то ли об ужине в «Ресторане Конгрессов», и Фредерик Даглан, не сводя глаз с гибкого силуэта Таша, решил последовать за ними.
Гроза утихла. Шагая по правому берегу Сены, они вышли на улицу Парис, сияющую и многолюдную, не почтив своим вниманием «Дом смеха», где давались комические представления. Театр живых картин, заявлявший на своих афишах различные спектакли, в том числе «Путешествие в страну звезд», их тоже не вдохновил. Вместо этого они остановились перед фургоном бродячих артистов, где Жозеф Пиньо залюбовался волнообразными движениями черкесских танцовщиц. Фредерик Даглан употребил эту задержку на то, чтобы стянуть бумажник. Чуть дальше, в Саду песни, традиционные популярные напевы соперничали с грустными куплетами Аристида Брюана и Жана Риктюса, чередовавшиеся с танцами. Они вновь гуськом двинулись в путь. Фредерик Даглан, шедший по пятам, с трудом сдерживался, чтобы не прикоснуться к затянутой в перчатку руке Таша. Процессия миновала «Гран-Гиньоль»
[1134], посвятивший себя французскому фарсу, и «Театр малышей Гийома» со входом, по бокам которого высились украшенные светящимися масками кариатиды. Там можно было посмотреть дефиле механических кукол высотой в полметра каждая. На помосте «Театра веселых авторов»
[1135] под открытым небом зазывалы с помощью большого барабана и тромбона пытались убедить зевак поприветствовать овацией комедию Жоржа Куртелина
[1136]. Здесь Фредерик Даглан, смешавшись с толпой, выудил самую драгоценную добычу вечера – платиновые часы.
Движимый диким желанием посмотреть, где работает Ихиро, Кэндзи воспользовался отсутствием Джины и навострил лыжи. Обеспечить себе по телефону алиби через доктора Рейно на тот случай, если жена спросит отчета, он сможет и позже. После легкого ужина в одном из экзотических ресторанов Выставки Мори слонялся по аттракционам в ожидании начала спектаклей. В данный момент он незаметно изучал подходы к театру Лои Фуллер. Ихиро Ватанабе, в большом парике, с искусственной седой бородой и лицом, загримированным белой краской с широкими коричневыми полосами, проверял билеты.
Кэндзи ухмыльнулся.
«Что я здесь забыл? Ну уж нет! Я никогда не соглашусь на подобный маскарад!»
Ему показалось, что у кассы стоит завсегдатай их лавки, чье имя напрочь вылетело из головы. Ему было лет тридцать, он носил роскошные усы, просторный льняной костюм и широкополую мягкую шляпу.
«Как же его зовут? Меня бесит, что я никак не могу вспомнить, хотя я совершенно уверен, что был у него на бульваре… на бульваре Распай. Ах да, это же писатель. Черт, его имя вертится у меня на языке. Вот оно, Андре Жид! Если он меня увидит, я пропал, он обязательно спросит, что я думаю о «Филоктете» Софокла, а я его даже не читал».
Кэндзи поспешно удалился и смешался с толпой прожигателей жизни.
Виктор несколько раз обернулся, заинтригованный мимолетным видением нефритового набалдашника в форме конской головы с инкрустированными хризолитом глазами.
«Трость Кэндзи? Это невозможно!»
Что это было – галлюцинация или он на самом деле видел в толпе приемного отца?
«Нет, это мне грезится, он лежит больной в постели».
Но сомнения не рассеивались.
«А если в самый последний момент ему в голову пришла блажь подменить Ихиро, никого не предупредив? Вот незадача!»
Он хотел было предупредить Жозефа, но отказался: Фредерик Даглан был на своем посту.
«Меня начинают одолевать навязчивые идеи».
Незадолго до этого он увидел небольшое здание с круглым входом, украшенным по бокам сильфидами, над которым возвышалась надпись «Лои Фуллер». Это и был театр-музей знаменитой американки, за которой в 1889 году бегали все знатные парижские кавалеры и которая теперь распахивала на публике свои разноцветные покрова, в перерывах между сеансами выводя на сцену японскую актрису Саду Якко в сопровождении токийской труппы «Каваками».
«Поди теперь узнай, кто этот тип, переодевшийся самураем и напяливший на ноги деревянные башмаки, который стоит на посту у кассы! Неужели Кэндзи уступил мольбам Ихиро?»
Сердце Виктора тревожно сжалось.
Он взял Джину под руку и повел ее к замку, вполне достойному места во вселенной Льюиса Кэрролла.
«Надо демонстрировать жизнерадостность».
– Вы знаете, что в этом Поместье, Перевернутом с Ног на Голову, все подвешено к потолку? Глядя в его окна, можно увидеть Выставку вверх тормашками. А на четвертом этаже есть тоннель, где все превращается в химеру. Пойдемте повеселимся!
Несмотря на протесты Мориса Ломье, настаивавшего побыстрее идти в ресторан, группка отправилась в Поместье.
Фредерик Даглан не стал повторять их маневр и затерялся в толпе любопытных. Предпринятые им меры предосторожности ни к чему не привели, потому как Кэндзи Мори, японский партнер Виктора, сумел раствориться в окрестном пейзаже, прибегнув к тактике мимикрии.
«Идиот! Мягкая шляпа, как и обноски, кое-где еще сохранившие былой лоск, не спасут его от боцмана, если тот вдруг… Вы, господин Легри, составили неверное представление о том, что собой представляют ваши близкие».
Все свое внимание Фредерик сосредоточил на Ихиро.
«А ведь мысль использовать эти белые румяна и бороду отнюдь не глупа, это вполне может сбить с толку».
В этот момент Даглан заметил, что за японцем наблюдает еще один человек. Под навесом шатра какой-то слегка сгорбленный тип резкими движениями кисти без конца отправлял в полет пестро раскрашенное йо-йо. В тени навеса черт его лица было не разобрать, но Даглан догадывался, что этот человек наблюдает за окрестностями, будто боится, что на него устроят охоту. Постояв так довольно долгое время, человек спрятал йо-йо, двинулся к театру, вдруг присел и сделал вид, что завязывает развязавшийся шнурок ботинка. Даглан увидел, что мимо прошли двое стражей порядка в белых тиковых штанах. Когда они удалились, человек встал, быстро пошел назад и исчез за углом шатра. Не успел Даглан отреагировать, как незнакомец смешался с толпой.
Глава одиннадцатая
Пятница, 27 июля
Жозеф спрыгнул с омнибуса неподалеку от пассажа Вердо, заторопился к дому 40 по улице Гранж-Бательер, где располагалась редакция «Паспарту», поднялся на третий этаж и толкнул перед собой дверь.
В десять часов утра все сотрудники пребывали в полной боевой готовности.
Жозеф прошел по редакционному ковру, обошел стороной кучу французских и иностранных газет, наваленных рассыльными, поздоровался с двумя редакторами, которые внимательно их просматривали, вырезая ножницами свежие новости, которые нужно было перевести или воспроизвести в первозданном виде в очередном номере. В редакции царила лихорадочная атмосфера, все куда-то бежали, хохотали, то и дело рокотали размеренные голоса печатных машинок и раздавались телефонные звонки. Забаррикадировавшись в рабочих кабинетиках, крохотных, как душевые кабинки, хроникеры, вернувшиеся из Сената, Палаты депутатов, полицейских комиссариатов, с Выставки или биржи, строчили свои репортажи, соревнуясь друг с другом в скорости. Специалисты по сплетням вверяли бумаге более или менее достоверные сведения, почерпнутые у секретарш в приемных. Чтобы поразить читателя, они вплетали в повествование слова, услышанные мельком и изобретенные ими самими, описывая чьи-то досадные промахи, несчастные случаи, самоубийства, нападения.
Жозеф уже собрался постучаться к редактору, но тут его окликнула какая-то стажерка:
– Господина Антонена Клюзеля нет, из-за отключения воды у нас в типографии возникли проблемы. Грузовой подъемник, доставляющий печатные формы, не работает, и в цех по изготовлению клише их пришлось спускать вручную. А они, эти штуковины, весят добрую тонну.
В этот момент на них вихрем налетел холеный молодой человек в перчатках и с тростью в руке.
– Месье, этот господин спрашивает Антонена Клюзеля.
– Отошлите его к Сахарной Лапочке, мне надо бежать.
– К Сахарной Лапочке? – удивился Жозеф.
Молодой человек окинул его взглядом и засмеялся.
– Блондинка в теле по имени Элали, возлюбленная Вируса. Это такой псевдоним, внештатными сотрудниками ведает она… А вы, собственно, кто?
– Жозеф Пиньо, вношу посильный вклад в увеличение тиражей вашей газеты. Я пишу романы и поэтому с Антоненом Клюзелем, также известным как Вирус, вожу знакомство с незапамятных времен.
– Вот как? Пиньо… Ваши опусы читаются довольно легко.
– А еще меня публикует издательство «Шарпантье-Фаскель», – внес уточнение Жозеф.
– Вижу, вы принадлежите к когорте литераторов, мечтающих, чтобы их творения пачками продавались в отделах «Книги по 3,50 франка», причем перевязанные авторитетной ленточкой «Новинка».
– Почему бы и нет? С кем, собственно, имею честь?
– Рено Клюзель, племянник Вируса, репортер.
«Желторотый педант, ненавидящий прозу и питающий к ней презрение, – подумал Жозеф. – К тому же, минувшей осенью этот сопляк чуть было не сорвал нам расследование! Не переживай, дружок, я ничего не забыл и в долгу не останусь».
И решил придерживаться позиции «полнейшей искренности и простодушия», если воспользоваться его собственным выражением.
– Примите мои поздравления, держать в руке ручку в такую жару – настоящий подвиг, особенно в перчатках. Знаете, я тут испытал одно средство, позволяющее не так страдать от зноя.
– В самом деле? В чем же оно заключается?
– Нужно писать на охлажденной бумаге.
– Прекрасно, я обязательно им воспользуюсь.
– Господин Клюзель, я могу обратиться к вам за помощью?
– Можете, но не сейчас, я в цейтноте, нужно срочно проверить некоторые факты и тут же написать материал.
– Всего один телефонный звонок в лондонскую «Таймс» по неотложному делу.
– Сожалею, но я уже убежал, внизу ждет автомобиль, приходите завтра.
Наступив на горло своей гордости, Жозеф перешел на раболепный тон:
– Я обращаюсь к вам потому, что высоко ценю ваши передовые взгляды. Ясность мышления, проявленная вами во время расследования убийств в Часовом тупике
1,
[1137]произвела на меня неизгладимое впечатление, скажу даже больше – вдохновила. Можно мне с вами?
– Видите ли… путь предстоит неблизкий.
– Неважно, для меня это было бы настоящим подарком.
– Ну хорошо, пойдемте, о том, что вас к нам привело, расскажете по дороге.
– Куда направляемся?
– В Буживаль. Со мной связался владелец кафе на берегу Сены и рассказал, что жалобы парижан на плохой запах из сточных канав – это цветочки по сравнению с тем, что приходится терпеть тем, кто живет на Сене. И посоветовал приехать, чтобы глотнуть воздуха, которым они дышат. «Сравнив, вы поймете до какой степени соседство с большим городом может отравить даже самый восхитительный пейзаж», – добавил он. Если его слова получат свое подтверждение, я позабочусь о том, чтобы
представить всех этих господ из департамента водоснабжения в самом надлежащем свете.
Жозеф окатил репортера враждебным взглядом и двинулся за ним.
Автомобиль остановился в Марли-ла-Машин
[1138], где их встретил владелец кафе, попросивший журналиста приехать. Гостей тут же окутало облако зловонных миазмов. Каждый из них вытащил носовой платок и приложил его к носу.
Протекавшая перед ними Сена, которой полагалось отражать голубое небо, несла почерневшие от грязи воды. У каждого берега клубилась белая пена, покрытая омерзительным налетом, который лопался смрадными пузырями.
– Какая гадость! – воскликнул Жозеф.
– И давно у вас такая вонь? – поинтересовался Рено Клюзель.
– От этого смрадного окружения мы мучаемся вот уже три недели. Жители разъехались кто куда, а ведь здесь такой милый уголок. Взгляните, разложение идет вовсю.
Осаждаемые роившимися вокруг мухами, на склонах берегов гнили целые кучи рыб. Под палящим солнцем вверх брюхом плавали вздувшиеся трупы животных.
К мужчинам присоединился какой-то лодочник.
– И что теперь будет? Вчера я доплыл до Вернона. Повсюду дохлая рыба. В такой зной фекалии из канализации разлагаются и превращаются в яд для нее. Одна моя подруга, владелица купальни, обанкротилась. Кому захочется нырять с головой в эту клоаку? Вся эта малярия приходит к нам из Парижа. А идиоты-рыбаки, собирающие дохлых пескарей?
– Ты прав, Альбер, – поддержал его владелец кафе. – Послушайте, если бы я отдал свою одежку в Институт Пастера, а господа ученые провели бы ее анализ, выращивать культуры микробов, которыми она кишит, можно было бы аж до 2000 года, на этот счет у меня нет ни малейших сомнений.
– Интересные у вас расчеты, я запишу, – сказал Рено Клюзель.
Жозеф вовсю силился не потерять сознание, что, впрочем, совершенно не мешало ему записывать разговор. Влажность была невыносимая, а жужжание мух терзало слух. В зеленоватой пене неподвижно застыл огромный налим с прогнившим брюхом и вывалившимися наружу внутренностями. Жозеф в ужасе отпрянул. Его взгляд упал на облаченную в перчатку руку Рено Клюзеля, усиленно строчившего в своем блокноте.
– Пора возвращаться, – слабеющим голосом предложил он.
Плохо контролируя свои действия, он вновь посмотрел на налима. Теперь рыбина плыла по течению. Жозеф нагнулся вперед, положив руки на бедра, затаил дыхание, бросился к стоявшему в паре метров автомобилю, рухнул на подножку и сделал медленный выдох. Затем, словно во сне, стал ждать возвращения Рено Клюзеля, бесстрастно разговаривавшего с двумя местными жителями.
– И последний вопрос, господа: что вы можете посоветовать, чтобы исправить эту кошмарную ситуацию?
– Наше мнение выеденного яйца не стоит, – сказал лодочник, – но на мой взгляд инженерам было бы достаточно направить все стоки Парижа на поля аэрации в Ашере.
– Не тешь себя иллюзиями, Альбер, – возразил ему владелец кафе. – Жители Ашера ни за что на это не пойдут. Фекалии из столицы отравят им все источники питьевой воды, и господам инженерам вновь придется направить в Сену добрую часть канализационных стоков. И завидовать будет некому, мы все будем по уши в этом дерьме.
– Я напишу премилый репортаж и устрою настоящий скандал, – заявил Рено Клюзель.
– Даже не сомневаюсь, с вашим-то талантом…
– Что-то вы позеленели, Пиньо. Болеете?
– Не выношу скорости, – пробормотал Жозеф, с трудом сдерживая тошноту, – от нее у меня внутренности узлом завязываются.
Перед его мысленным взором по-прежнему проплывали разложившиеся останки налима.
– Но ведь мы делаем не больше двадцати пяти миль в час! Пиньо, а зачем вам звонить в «Таймс»?
– Я усиленно собираю документы о жизни Виктора Гюго на острове Гернси. Вынашиваю замысел романа… Если бы вы помогли мне раздобыть номера за май 1899 года, я был бы чрезвычайно признателен.
– Все?
– Я не располагаю сведениями о том, в какой точно день вышла та газета, но мне достоверно известно, что некий журналист написал на эту тему репортаж.
– Я займусь этим вечером. Приходите в «Паспарту» завтра. У нас в хранилище есть дополнительные экземпляры газет. Их хранят год, надеюсь, они никуда не девались, так что можете их взять. Где вас высадить?
– На улице Сены. Название в сложившихся обстоятельствах более чем уместное.
Подождав, когда автомобиль скроется из виду, Жозеф, вместо того чтобы пойти домой, поспешно направился к Эфросинье на улицу Висконти.
«Не хватало еще встретиться с Айрис, с детьми или маман. Смыть грязь, переодеться, полить себя с ног до головы дезинфицирующим раствором. Если, конечно, не поздно, а то я, вполне возможно, уже подхватил какую-то заразу».
Жозеф в панике пересек бегом двор, с третьей попытки вставил ключ в дверь первого этажа, бросился на кухню, сбросил с себя одежду, завернул ее в газету, встал в таз с холодной водой, вооружился мочалкой, намылил ее и стал остервенело тереть кожу до тех пор, пока она не покраснела. С той же энергией он вымыл голову, уши, прочистил ноздри, а в довершение этого яростного комплекса профилактических мер прополоскал горло сиропом от кашля.
Теперь шкаф! Бросившись на штурм вещей, оставшихся с тех пор, когда он был молодым холостяком, и благочестиво сохраненных Эфросиньей в нафталине, он даже не услышал, как на петлях повернулась дверь.
– Иисус-Мария-Иосиф! И не стыдно тебе демонстрировать перед матерью свою анатомию? Ты один или…
Она выронила две плетеные корзины, битком набитые провизией, и бросилась проверять спальни и сарай.
– Предупреждаю – если приведешь сюда потаскуху, я тебя убью!
– Маман! Пожалуйста!
С видом фараона, отдававшего Моисея на поругание, дама показала на сына пальцем.
– Поклянись мне памятью несчастного отца, который ныне в раю, что не изображал из себя зверя с двумя спинами
[1139] с какой-нибудь, с какой-нибудь…
– Да клянусь я, клянусь! За кого ты меня принимаешь? Сядь, а то у тебя случится апоплексический удар, а тех, кто умер от зноя, уже и считать перестали. Выслушай меня.
– Сначала оденься, бесстыдник… Зачем тебе эта одежда?
– Маман, прошу тебя, хватит! Я сейчас все объясню.
Всячески исхитряясь натянуть брюки и рубашку, которые стали ему слишком узки, он рассказал о своей поездке в Марли-ла-Машин.
– Я позабочусь о твоих вещах. Неси бак для кипячения белья. В таких делах я знаю толк. Бог помогает только тем, кто помогает себе сам. Гляди.
И она широким жестом показала на ряды пачек с печеньем и армию бутылок с минеральной водой.
– Сухие галеты? Но почему?
– Воду отключают с одиннадцати вечера до шести утра. Булочники замешивают тесто и выпекают его ночью, и без нее им не обойтись. Итог: утром дефицит, многочасовое стояние в очереди, а когда подходит твой черед – шиш с маслом! Хлеба больше нет. Я сговорилась с мадам Бушарда, ты ее знаешь, она держит булочную «Маленький мавр». Ее сын служит в Пепиньере казарменным каптенармусом, поэтому она позволила и мне воспользоваться подвернувшимся случаем. Господа из водопроводной компании распространяют слухи о том, что в перебоях с водой виноваты сами жители, которые целыми днями держат краны открытыми, чтобы охладить свои жилища. Какая наглость! После установки счетчиков скромные потребители, такие, как я, не могут запастись водой в кафе, в банях или у соседей. Конечно, за это же надо платить, а счетчик теперь может установить каждый! К счастью, эти повелители жажды еще не берут деньги за воду из фонтанов! Только вот чтобы принести ее домой, эту воду из фонтанов, нужны ведра!
– Не стенай, маман, ведро у тебя есть, во дворе.
– Ну вот, ты уже защищаешь этих кровососов! Вот увидишь, до чего доведет этот твой прогресс – скоро нужно будет платить за воздух, которым мы дышим! Как бы там ни было, после того, что ты мне рассказал, я теперь поостерегусь покупать рыбу.
– Маман, помолчи, мне нужно подумать.
– Подумать, подумать – от этого думания одна лишь неврастения. Лично я только то и делаю, что думаю. Ну уж нет! Я запрещаю тебе надевать фуражку отца! Это реликвия!
«Фуражка, фуражка…» Это слово тонуло в потоке лихорадочных мыслей. Фуражка владельца кафе из Марли-ла-Машин вновь предстала перед мысленным взором Жозефа и бросила его в дрожь. Совершенно выбившись из сил, он был не в состоянии сделать самые элементарные выводы.
Он отложил в сторону траченный молью головной убор отца и надел пиджак, рукава которого были ему слишком коротки.
– Бедный мой малыш, ты сам-то себя видел? Впечатление такое, что эти вещи ты выпросил у кого-то слезными мольбами. В них ты похож на клоуна.
– Вы меня за китайского болванчика держите? – Кэндзи вернул Виктору записку и злобно оскалился. – Не знаю, какими окольными путями к вам в руки попал этот балаганный фарс, но если вы вообразили, что будете манипулировать мной, как вам вздумается, то я бы на вашем месте не стал обольщаться.
– На кону ваша жизнь.
Виктор был взвинчен, растерян и отвратителен самому себе. В довершение ко всему, все его естество постепенно заполняла паника. Квартира, в которой жили Джина и Кэндзи, располагалась над лавкой. В нее можно было попасть либо по парадной лестнице дома 18-бис, либо по винтовой лестнице из торгового зала. Кэндзи сохранил свою старую спальню, превратив ее в кабинет в стиле Людовика XIII. Эротические гравюры на стенах живописали парочки, предающиеся занятию, которое не вписывалось в рамки благопристойности. Но лишь внимательный взгляд мог разглядеть в складках кимоно атрибуты их женской или мужской принадлежности.
– Что, нравятся мои последние приобретения?
– Такое ощущение, что наш разговор позаимствован из какого-нибудь водевиля.
У Виктора не было другого выхода, кроме как убедить Кэндзи, поэтому он стал вновь приводить свои аргументы. Партнер нахмурил брови.
– И чего вы от меня хотите? Чтобы я спрятался под кроватью? Или поселился на одиноком рифе? А может, мне эмигрировать в Карпаты и зажить там в компании бурых медведей?
– Почему это в Карпаты?
– Потому что там не так жарко, – угрюмо ответил Кэндзи.
Виктор не удержался от улыбки.
– Кэндзи, все, что я рассказал, – правда. Я не вытащил эту историю из своей собственной шляпы.
– Но теперь я должен составить о ней свое мнение.
Кэндзи на мгновение задумался, не сводя глаз с Виктора, затем черты его лица расслабились.
– Я должен рассказать обо всем Джине.
– Это так необходимо?
– Да, она прекрасный советчик. Очень сожалею, но я не наделен вашими способностями врать супруге. Для реализации моего плана требуется ее согласие.
– Что вы задумали?
– Обещаю – буду действовать так, чтобы ни я, ни господин Ватанабе не подвергались ни малейшей опасности. Вы довольны? Ну же, Виктор, вы ведете себя как мальчишка, стащивший из шкафа варенье. Если бы мы не предоставили этому зануде кров, то не оказались бы во всем этом замешаны, но его, по всей видимости, постигла бы та же участь, что и кузена. Так что терзаться чувством вины нет никакого смысла.
Кндзи откатил в сторону переднюю стенку книжного шкафа и поставил на стол кувшинчик саке и две маленькие чашечки.
– Тонизирующее средство пойдет нам на пользу.
Медленно шагая вперед, Мэтью Уолтер сделал последний глоток алкоголя из оплетенной бутылки с узким горлышком. Его одолевало упорное желание выйти на морской простор.
Дремавшие на якоре барки, грузовые суда и баржи воскрешали в душе ностальгию по морю. Мимо проплывали капитанские мостики, пакгаузы, высокие трубы. Страстно стремясь к бескрайним горизонтам, Уолтер ощущал в груди пустоту. Согласившись участвовать в этом деле, он сказал себе, что из жизни куда-то ушли все ее восторги. Здесь ему было тесно. Город? Грязная пещера, от которой исходили тошнотворные эманации. Эта Выставка, битком набитая прекрасными созданиями, щеголяющими в мехах и перьях, которые самым жестоким образом были отняты у других живых существ? Паутина, от которой его охватывал паралич.
Уолтер был невысокого мнения о ближнем своем. Убогое детство сделало его недоверчивым и подозрительным. Он не выносил ни работяг, любивших привалиться к стойке в кафе, ни смазливых кокеток, ни дам, не скрывающих своего возраста и больше похожих на упитанных птиц, ни амбициозных молодых людей. Мэтью терпеть не мог буржуа, сотканных из спеси и принципов, но больше всего он ненавидел самого себя.
Когда ему определили в этом деле роль, она показалась ему детской забавой. Теперь же он без конца упрекал себя в том, что согласился на подобную сделку. Ожидание давило на него тяжким грузом, развязка затягивалась, нервы могли в любую минуту не выдержать, и успокоить его могло единственно созерцание воды. Променять свободу на значительный куш – разве игра стоила свеч? Может, тайком подняться на эту внушительную баржу и затеряться в конюшнях? Через открытые двери он видел крупы лошадей, которые волоком, миля за милей, тащили суда по большим и малым рекам вплоть до их устья.
«Лови удачу».
Мэтью сдержался. Он знал, что сможет преодолеть эту минутную слабость.
Порыв ветра принес с собой зловоние. На небе, в окружении звезд, висела луна. По всему кварталу раздавался грохот – это двигалась вперед вереница повозок золотарей, подпрыгивавших на ухабах и запряженных бесчисленными клячами. В сопровождении традиционного эскорта прожигателей жизни, под звук ритмично поскрипывавших осей она каждый вечер вываливала свой зловонный груз в тупике Депотуар, в самом конце высохшего канала Урк. А прожигатели жизни при этом обнажали головы, как на карнавальных похоронах.
Чуть дальше он увидел перевалку бочек с нечистотами, которые грузчики складировали на палубах суденышек, следовавших в Бонди. Удобрений земледельцам теперь хватит до конца жизни.
Вышагивая по набережной, Мэтью мурлыкал под нос старую матросскую песенку. Среди гор гипсового камня и угля большие зеленоватые пятна с белым налетом превращались в медленно текущую массу. Когда до улицы Тионвиль оставалась всего пара сотен метров, до слуха Уолтера донесся подозрительный звук. Он застыл как вкопанный.
Тихо.
Он пошел дальше, опять остановился и прислушался. Ничего.
Внимательно вглядевшись в окрестности, он сказал себе, что для ловушки место представляется просто идеальным и относится к числу тех, которые он выбрал бы и сам. Мэтью уже собрался было спрятаться под сенью крохотного островка зелени в небольшом садике смотрителя шлюза, освещенного молочным светом уличных фонарей, но тут звук повторился. Уолтер, как дикарь, не раздумывая бросился на силуэт, притаившийся меж двух пакгаузов, занес руку и ударил. Раздался крик, силуэт рухнул на землю. Мэтью зарычал и увидел в переплетении света и тени окровавленное женское лицо. В нос ударил запах дешевого одеколона. Он оттащил тело от кучи нечистот, в которую оно упало. Женщина была оглушена, но дышала. Он прислонил ее к груде ящиков. Кричащий макияж и одежда не оставляли ни малейших сомнений касательно ее профессии – уличная проститутка.
Справа послышалось какое-то царапанье. Мэтью молниеносно обернулся. На него в ужасе смотрела еще одна публичная девка. Уолтер повернулся и бросился прочь от канала.
Глава двенадцатая
Суббота, 28 июля
Канал с плеском нес свои воды. Губка плыла, отдавшись на волю течения. Над ней проплывали облака и ивы. Вдруг рядом села стрекоза с примятым крылышком. Она неумело держалась на поверхности, рискуя в любой момент пойти ко дну.
Айрис торопилась написать продолжение сказки, пребывая в полной уверенности, что ей вот-вот кто-нибудь помешает.
– Мама, я хочу взять моего медвежонка Клодена на Выставку, но папа говорит, что я его потеряю. А вот Артур берет своей клетчатый носовой платок, который засовывает в ухо каждый раз, когда сосет палец. Это несправедливо!
«Я так и знала, – подумала женщина. – Спокойно нельзя и строчки написать. Никакого уважения к моей работе, к тому же, они вообразили себе, что это всего лишь приятное времяпрепровождение, что-то вроде английской вышивки. Вот когда Жозеф строчит свои романы, чтобы потом публиковать их в газете, его нельзя беспокоить никому! Хотя если откровенно, то я не говорю им о своих творениях и показываю их только тогда, когда заканчиваю».
– Хватит хныкать, маленькая моя, а то мы опоздаем. Положи своего плюшевого друга вот в эту сумку. Если ты его потеряешь, то бюро находок тебе его не вернет – оно будет закрыто! – заявил Жозеф.
– Какая муха укусила Эфросинью, что она решила потащить их туда в тот момент, когда небо затянули свинцовые тучи! Вода хотя бы будет?
– Дорогая, Париж – не пустыня Гоби, и бьюсь об заклад, что матушка, опасаясь обезвоживания, притащит с собой добрый бидон муниципальной водички!
Они поцеловались. Как только за Жозефом и детьми закрылась дверь, Айрис достала из-под подушечки блокнот и открыла его.
– Садись на меня! – закричала губка.
Сделав над собой последнее усилие, стрекоза скользнула на ее шероховатую спину.
– Спасибо, ты меня спасла!
Айрис захлопнула бювар и завинтила крышечку чернильницы, охваченная горькими сожалениями. Ей вспомнилась юность и девичьи надежды. Она не собиралась следовать принятым в обществе условностям и хотела, как стрекоза, взлететь на собственных крыльях. Пылкая страсть – да, но брак – никогда. Свобода и богемная жизнь, наподобие той, что вел Морис Ломье, художник, когда-то за нею ухаживавший. Но ведь он тоже отрекся от прежних взглядов, остепенился, женился, стал отцом и торговцем картинами. Неужели это общий для всего человечества удел – отказываться от обещаний, которые ты лелеешь в течение долгих лет бунта против взрослых? Неужели люди безумны до такой степени, что убивают в себе ребенка, которым они когда-то были?
Айрис в который раз спросила себя, любила ли она мужа и детей или же была к ним безразлична. И вдруг представила себе, что они остались без еды в самом центре пустыни Сахара.
«Идиотка! Ты их обожаешь! Тебе просто нужно немного покоя!»
В утешение ей на подоконнике зачирикал воробей.
Даже под палящим солнцем улица Висконти оставалась мрачной и влажной. Обездоленный провинциальный уголок, в котором решили обосноваться только содержатели меблированных комнат, угольщики да печатники. В старом кабачке с коваными решетками землекопы и каменщики напивались белым пенистым вином из Лиму по десять сантимов за стакан. Слишком узкую дорогу перегородил осел, и у двери Эфросиньи остановилась повозка какого-то плетельщика соломенных стульев. На даме было платье из фая, темно-зеленое в черную полоску, и шляпа, едва выдерживавшая груз украшавших ее фруктов. В тени этого импозантного головного убора Мели Беллак, похудевшая, в слишком слабо затянутом корсаже с рукавами фонариком и белой тиковой юбке с обтрепавшейся бахромой внизу, отчаянно сражалась за то, чтобы сохранить свое достоинство.
– Ну, нам это не помеха!
Эфросинья гневным жестом отстранила плетельщика. Оскорбления, готовые вот-вот слететь с его уст, застряли в горле – из страха перед репрессиями.
– Но ведь это глупо, – возразил Жозеф, – в Париже сейчас полным-полно безумцев, собирающихся устроить овацию прибывающему на Северный вокзал шаху, которого будет встречать господин Лубе
[1140]. На Выставке будет не продохнуть от простолюдинов. В довершение всего, бюро погоды обещает осадки.
– Плевать на этого персидского кота! – возразила Эфросинья. – А если пойдет дождь, это нас освежит.
– Но малышка больна.
– Уже выздоровела. Ты говоришь, что я веду себя как мачеха! Иисус-Мария-Иосиф, да я берегу их как зеницу ока!
– Да-да, господин Пиньо, мы бережем их пуще цыпляток и отвращаем всякое зло, убаюкивая его, – добавила Мели. –
Rainard que duerm pren pas las polas.
– А если на нормальном французском? – пролаяла Эфросинья.
– Спящая лиса цыплят не хватает.
– В таком случае просыпайтесь, следуйте за нами, да не разбейте бутылки для воды! – приказала Эфросинья, хватая каждой рукой по детской ладошке.
Особый интерес Дафны и Артура вызвал самодвижущийся тротуар. Напрасно Эфросинья предлагала им посетить другие аттракционы – они яростно протестовали, и ей не оставалось ничего другого, кроме как уступить, к ужасу Мели.
Они вышли на «улицу Будущего», направились к станции «Дом Инвалидов» и, оплатив билетеру единый тариф в размере пятидесяти сантимов, объехали Выставку по кругу протяженностью свыше трех километров.
– Несущая конструкция виадука, по которому мы движемся, располагается в семи метрах над землей! – важно надувшись, сказала Эфросинья. – Я уже была здесь с Мишлин Баллю.
– Лишь бы эта штуковина не рухнула, – заныла Мели, осеняя себя крестом.
– Нужно идти в ногу со временем, дочь моя. Если бы в те времена, когда я толкала перед собой тележку с овощами и фруктами, были подобные тротуары, у меня на ногах сейчас бы не было варикоза!
– Я предпочла бы воспользоваться не такой быстрой полосой, – робко возразила Мели, хватаясь свободной рукой за вертикальный прут с круглым набалдашником, позволяющий пассажирам сохранять равновесие.
– Какая же вы недалекая! Эта полоса вдвое у́же и движется в два раза медленнее, всего четыре километра в час вместо восьми. А нам нужна скорость, да, дети? Таким образом, чтобы вернуться в отправной пункт, нам понадобится каких-то полчаса!
– Бедное мое сердце, оно выпрыгивает из груди, и я уверена, что оно просто не выдержит! – скулила Мели, отчаиваясь все больше и больше.
– Если у вас морская болезнь, сойдите с этой змеи, кусающей себя за хвост, и воспользуйтесь железной дорогой Дековиль, которая следует тем же маршрутом, только в обратном направлении. Но предупреждаю вас: это даже хуже, чем американские горки – то в воздухе, то на земле, то под землей, – уточнила Эфросинья, демонстрируя мнимое сочувствие.
Они двигались по направлению против часовой стрелки. Пассажиров было много – дамы с раскрытыми зонтиками, господа в канотье, ребятишки в матросских костюмчиках. Многие стояли неподвижно, чтобы насладиться пейзажем, смельчаки то и дело перепрыгивали с одной ленты на другую.
– Ну что, дети, нравится? Хватайтесь за мою юбку, затеянное нами предприятие небезопасно, мы движемся по дощатому настилу, установленному на балках, так что нужно соблюдать осторожность.
– Бабушка, а как эта штука едет? – спросила Дафна.
– На колесиках, с помощью электричества. Мели, с вами все в порядке? Не расколотите бутылки в корзинке. Дети, взгляните, это павильон Соединенных Штатов, а это – Боснии и Герцеговины. Мели! Зачем вы затаили дыхание? Так и задохнуться недолго! Это Норвегия, за ней Испания! – менторским тоном объявляла Эфросинья.
– Бабушка, а что это за сосновая шишка с чешуйками?
– Швеция. Артур, вытащи из уха перо! Ты что, забыл свой клетчатый платок?
– Бабушка, а зачем здесь эти флаги?
– Они служат чем-то вроде магазинных вывесок.
Мели не знала, какому святому возносить молитвы. Пребывая на грани обморока, она время от времени выпускала из рук прут и хваталась за грудь.
– Кто боится промокнуть, никогда не поймает форель, – хлестко заметила Эфросинья, одаривая ее желчной улыбкой. – Вы что, боитесь подхватить насморк? Или опасаетесь, что на такой скорости ветер сорвет с вас одежду?
Будто в подтверждение ее слов, порыв ветра подхватил юбки молодой девушки, которая успела прижать их лишь в самый последний момент.
На авеню Бурдонне, где от самодвижущегося тротуара отходила ветка в сторону Марсова поля, открывался вид на жилые кварталы. Какая-то матрона на втором этаже показала им язык и с шумом захлопнула окно.
– А ведь эта особа права! Я никогда не потерпела бы подобного дефиле у себя под окнами! – заверила Эфросинья. – Мели, что вы там замешкались?
– А что случилось с этой дамой? – Дафна вытянула указательный пальчик в сторону согнувшейся пополам женщины, вокруг которой уже стала собираться толпа.
– Перенесите ее на ленту средней скорости, она вот-вот произведет на свет ребенка! – вопила какая-то мещанка.
Какой-то господин, вооружившись зонтиком, принялся разгонять любопытных. Через брешь, которую ему удалось пробить, Эфросинья увидела лежавшую на тротуаре женщину.
– Ребенка? – переспросила Дафна, округлив глаза.
– Должно быть, ее клюнул своим огромным клювом аист, ведь мы движемся с огромной скоростью.
Ленты самодвижущегося тротуара остановились. Эфросинья, силы которой утроились, схватила детей в охапку и двинулась вперед, сметая все на своем пути.
– Хочу аиста! – орала Дафна. – И перо, это перо аиста!
– Какие перья? Вон небо заволокло черными тучами, так что даже не мечтай!
– Мадам, мадам, подождите! – завопила Мели.
Она отцепилась от своего прута и побежала за Эфросиньей к воротам Рапп.
– Мадам Эфросинья, отдайте мне малыша!
Они потащили детей, возмущенных тем, что им не достался аист, во Дворец тканей, ниток и одежды. Перед витриной с корсетами Мели резко остановилась. Колени ее подгибались, она поставила Артура на землю.
– Меня тошнит, – прошептала она.
– Так вам и надо! – дала ей суровый отпор Эфросинья. – У вас сегодня завтрак пригорел! Вы что, мужа через лейку кормили? От чего он умер? От несварения желудка?
Мели залилась слезами.
– Я… я… не замужем, – призналась она, всхлипывая.
– Я думала, вы вдова!
– Это все из-за аиста? – поинтересовалась Дафна, которую попросили вместе с Артуром полюбоваться витринами.
– Нет… в моем возрасте для хозяев приличнее быть вдовой, чем старой девой, – хлюпала носом Мели. – Я не знала куда деваться, в Коррезе у меня есть сестра, она кормилица, но у нее больной муж и забот без меня хватает. В Париже я одна, совершенно одна!
– Да будет вам, у вас есть друзья. Господин Кэндзи и мадам Джина относятся к вам очень тепло, да я и сама, по правде говоря, вас люблю!
В знак признательности Мели сквозь слезы улыбнулась.
– Бабушка, смотри, Артур вновь взялся за свое! – вскричала Дафна, расплющившая носик о стекло лотка, на котором всеми цветами радуги переливались птичьи перья, показывая пальчиком на брата. – Вот беда, он поранит ухо.
Эфросинья бросилась к Артуру и вырвала из его ручки длинное красное перо, которое он засунул себе в слуховой канал.
– Бабушка, у него тоже будет отит, как у меня? – спросила Дафна.
– Но где наш мальчишка подобрал эту грязь?
Артур расплакался – не столько от боли, сколько от криков бабушки.
– Он ни в чем не виноват. Перо было у папы в кармане, мы играли в апачей, а потом решили сохранить его для моего медвежонка Клодена. Это же перо красного аиста.
– Ну теперь Жозеф у меня получит. Господи, нельзя же быть таким невнимательным, он что, хочет, чтобы этот постреленок оглох? Ах, как же он тяжек, этот мой крест.
– Да-да, – слащавым тоном подлила масла в огонь Мели, обрадовавшись, что теперь у нее есть союзник.
«Цок-цок», – щелкали по мостовой копыта лошадей, запряженных в фиакр, кативший по улице Гранж-Бательер. Ливень барабанил по зонтам горожан и стекал ручьями по котелку Жозефа, которому не терпелось как можно быстрее оказаться в редакции «Паспарту». Когда он вошел внутрь, ему показалось, что интерьер окрашен в серые, чернильные и бумажно-белые тона. Люди, как истинные муравьи, сновали взад-вперед, не обращая на Жозефа, к его облегчению, ни малейшего внимания. Поэтому он, никем не замеченный, спустился на первый подземный этаж, где располагалось хранилище, и подошел к сонному служащему, тут же показавшему ему зал, в котором хранились запасные экземпляры иностранных газет.
«Должно быть, я выгляжу как репортер», – с гордостью заключил молодой человек.
Пиньо прошел вдоль столов, на которых была свалена пресса европейских государств: Berliner Zeitung, Hlas Navoola, Corriere della Sera, De Telegraaf, Diário de Notícias, Dagens Nyheter
[1141]. Когда же он увидел кипу «Таймс», сердце его забилось быстрее. Он заставил себя степенно открыть подшивку за прошедший год, сосредоточился на весенних номерах и с деланным равнодушием стал их листать. В двух из них, датированных 14-м и 15-м мая, на третьей полосе упоминались Энтони Форестер и корабль «Эсмеральда». Жозеф свернул газеты трубочкой, засунул их под пиджак и смылся, как последний воришка. Он обзывал себя идиотом, но разве Рено Клюзель не предлагал «взять» их, эти номера?
На улице Друо Жозеф толкнул перед собой вращающуюся дверь небольшого ресторанчика, которому выставленные лотки с мясом придавали сходство с мясной лавкой. Его одежда тут же пропиталась стойким запахом сыра и пережаренной баранины. Молодому человеку удалось заполучить заляпанный пятнами и уставленный грязными тарелками круглый столик на одной ножке. Взмахнув тряпкой, юная девушка в желтой униформе с номерком протерла мрамор и сложила посуду на поднос. Жозеф изучил меню и выбрал комплексный обед за три франка – мидии с луковым соусом, рагу из молодого индюка, котлеты с кресс-салатом, бри, груша и бокал шабли. Жаркий, влажный воздух напоминал собой атмосферу джунглей, где клиентов за горло брали кофейные испарения.
Поглощая слишком плотный обед, Жозеф силился перевести заметки, одну из которых сопровождал рисунок человека в костюме моряка и фуражке, вторую – гравюра с изображением брига «Эсмеральда».
На десерт официантка предложила ему торт с лимонным безе, яблочный пирог из равного количества муки, сахара, масла и яиц или двойное заварное пирожное с шоколадом. Пиньо покачал головой – ему было нехорошо. Желудок с трудом переваривал пищу, влажность и шум были невыносимы, в довершение всего он не понимал ни единого слова из этих статей, написанных по-английски. Зачем же он тогда запоминал таблицу неправильных глаголов? Язык жителей Британии ему явно не давался. В который раз Жозеф был вынужден констатировать свою несостоятельность и понял, что придется обращаться к Виктору.
С помощью ножниц, захваченных специально для этой цели, он облегчил номера «Таймс» на две интересующие его вырезки. Уплатив по счету и толкнув по пути тучного господина с моноклем, Пиньо отважился отнести газеты обратно в хранилище. В редакции готовился специальный выпуск, приуроченный к визиту шаха, увешанного бриллиантами, поэтому суматоха царила такая, что второй набег Жозефа остался таким же незамеченным, как и первый.
По возвращении в лавку, воспользовавшись тем, что внимание Кэндзи отвлекла какая-то клиентка зрелого возраста, желавшая выторговать цену на королевские альманахи с гербами графа де Прованса, Жозеф отвел шурина в сторонку и встал с ним у камина. Виктор тут же схватил две вырезки и пробежал их глазами.
– В первой статье говорится о том, что неподалеку от Гибралтара Энтони Форестер, капитан «Эсмеральды», обнаружил корабль-призрак под названием «Комодо». Отбуксировав ничейное судно в Англию, он получил премию, оказавшуюся весьма внушительной. «Комодо» вышел из сенегальского порта Сен-Луи. Во второй заметке приводится дополнительная информация о том, что экипаж судна, по всей видимости, покинул его в большой спешке. Спасательные шлюпки так никто и не обнаружил, в живых не осталось ни одного человека. Как проверить, что отправным пунктом этого опасного похода был действительно сенегальский порт Сен-Луи? Откуда он шел, этот корабль? Кто им командовал? – проворчал Виктор.
– «Комодо»! Боже праведный!
– Что это с вами, Жозеф?
– Письмо! Письмо с угрозами, которое вам передал Даглан.
– И что?
– Оно подписано «Омодо»! Вы понимаете?
– Да понимаю я, понимаю. Успокойтесь.
– Я спокоен! Все сходится! Омодо, «Комодо»!
– Потише, Жозеф! – тихо приказал Виктор, показывая глазами на Кэндзи.
– В ваших мессах без песнопения нет никакой необходимости, я и так в этом гиблом деле по самую шею. А все потому, что вы приютили в этом доме Ихиро, не спросясь у меня совета, и тем самым спровоцировали целый ряд неприятностей, нарушивших привычное течение моей повседневной жизни. Так что давайте вести расследование вместе.
Виктор вздрогнул и поднял голову в тот самый момент, когда пожилая дама потянула на себя ручку двери. Кэндзи разложил на прилавке королевские альманахи в красном сафьяновом переплете. Довольный своим вмешательством в их разговор, он продолжил:
– «Комодо»? Quomodo? Это же латинский союз и наречие «как». «Как!» Странное название для корабля. Я бы сказал, что «Quo Vadis»
[1142] было бы куда уместнее.
– Почему «Quo Vadis»? – спросил сбитый с толку Пиньо.
– Мой дорогой Жозеф, Вы торгуете книгами, но даже не можете расшифровать их названия. В переводе с латыни «Quo Vadis?» означает «Куда идешь?».
– Я учился по ходу дела. А пошел работать, когда мне было двенадцать лет! И потом, слово, о котором вы говорите, при написании латинскими буквами начинается с Q, а наше – с К. Уверен, что вы не знаете ровным счетом ничего о его происхождении.
– «Комодо» с первой К? Вы заблуждаетесь. Так называется неизвестный европейцам индонезийский остров. Он населен гигантскими ящерицами, достигающими в длину двух метров – плотоядными варанами. Его называют «островом драконов». Кстати, насчет «Камо грядеши», он же «Quo Vadis». Я что-то не видел этого романа на витрине. Чего вы ждете, Жозеф?
– Еще никто и ни разу не спрашивал опус этого поляка с непроизносимым именем. Как его там?
– Генрик Сенкевич.
– Будьте здоровы.
– Подумать только – он был переведен на двадцать два языка мира, а Франция опубликовала его одной из последних, – недовольно проворчал Кэндзи.
Зазвенел колокольчик.
– О нет, – заскулил Кэндзи, – сжальтесь надо мной!
К его ногам бросился Ихиро.
– Бесценный мой друг! Умоляю вас – не бросайте меня. Мне так страшно! Этим вечером вы должны меня заменить! Стрелы! Целая лавина стрел!
– Вы несколько преувеличиваете, – заметил Жозеф.
Кэндзи, напуская на себя безразличный вид, изучал свое приобретение.
– Заклинаю вас – не оставляйте меня в беде! Вы обещали…
– Ничего я вам не обещал, вы сами…
Протесты Кэндзи прервало появление Эфросиньи, Мели, Артура и Дафны, с которых ручьями стекала вода.
– Недостойный отец! Ты хоть понимаешь, что твой сын чуть не оглох? И надо было ему засовывать в ухо это красное перо!
– Что за намеки? Какое еще красное перо? – ответил не на шутку обеспокоенный Жозеф, ища глазами пиджак, который он повесил на стуле.
– Это не намек, это утверждение! Дафна умыкнула его из твоего кармана и отдала брату. Тебе что, пришла в голову мысль коллекционировать подобные ужасы?
Эфросинья в ярости демонстрировала предмет ссоры, на который все боялись бросить взгляд. Жозеф укрылся за прилавком, где к нему тут же присоединился Виктор.
– Очень умно, вы постоянно делаете промахи!
Ихиро Ватанабе заламывал руки.
– Какой ужас! Это уже слишком! Красное перо! Точно из такого же было сделано оперение стрелы, вонзившейся в грудь Исаму! И жертве из «Отеля Трокадеро»! Там тоже фигурирует красное перо, о нем растрезвонили все газеты! В сложившихся обстоятельствах – я пропал! Не будет у меня больше ни работы, ни денег! И я умру с голоду в вашей мансарде, господин Легри! Или сделаю себе
харакири, а это болезненно, да и грязи останется много.
– Не путайте вершки и корешки, господин Ватанабе, мое перо не имеет никакого отношения к тем, что замешаны в убийствах. Грешен, каюсь – я купил его у одного торговца писчебумажной продукцией, чтобы быть похожим на писателя былых времен.
– Хорошо еще, что оно не отточено, а то твой отпрыск проткнул бы им барабанную перепонку, – пробурчала Эфросинья.
– Кому-нибудь другому рассказывайте! – прошипел Виктор. – Равняетесь на Флобера, считавшего, что хороший стиль дается исключительно с помощью гусиного пера? Вещественное доказательство, браво!
Кэндзи деликатно взял королевские альманахи и, не говоря ни слова, поднялся на второй этаж.
Ихиро, согнувшись в три погибели, выскользнул на улицу, пересек двор и взобрался к себе по лестнице черного хода. Виктор, в свою очередь, тоже исчез.
– А перо? – возопила Дафна. – Где аистиное перо?
– Ах, не волнуйся! У тебя еще будут другие перья, ведь твой папа жалкий бумагомаратель! – ответила Эфросинья, грозя кулаком сыну, который еще больше скрючился за прилавком. – Взгляни на дочь, она промокла, у нее опять начнется отит!
– Но, маман, ты же сама… – запротестовал было Жозеф.
– Молчи, негодный отец! И домой сегодня чтоб явился загодя, я должна буду накормить малышей пораньше, а то вечером у Мишлин Баллю турнир по «желтому карлику»
[1143].
Оставшись наконец один, Жозеф встал коленкой на свою любимую табуретку. И хотя его живот был плотно набит, он выудил из-под книги записей яблоко и нервно вонзил в него зубы.
«Все объединились против меня, даже плоть плоти моей! Дома никакого покоя. За мной шпионят, тащат все, что мне принадлежит, это невыносимо. Сниму квартиру! Нет, слишком дорого. Всего лишь чуланчик под самой крышей, лишь бы только без клопов, чтобы не пили мою кровь».
От этого видения Жозефа затошнило. Он с отвращением вспомнил день, проведенный в Буживале, вновь увидел владельца кафе из Марли-ла-Машин, теребившего во время разговора с Рено Клюзелем свою фуражку, которая напомнила ему совсем другой головной убор.
«Фуражка, которую мне отдал Виктор! Лишь бы Дафна не добралась и до нее!»
Он стал лихорадочно рыться в карманах пиджака. Уф! Бумажный пакет был на месте.
Жозеф приоткрыл его и потрогал ткань. Когда он вытащил руку обратно, пальцы были покрыты каким-то мелким серым порошком. Он схватил пакет с фуражкой и вывалил его содержимое на газету, которую предварительно постелил на прилавке. В ноздри тут же хлынуло небольшое плотное облачко. Пыль. Пиньо попробовал ее на язык и тут же выплюнул.
В голове стала формироваться какая-то мысль. Он усиленно за нее цеплялся, но она никак не давалась и все ускользала. Когда речь заходила о предположениях, он всегда прибегал к хитрости. Как только Жозеф пытался на них сосредоточиться, они всегда прятались в потайных закоулках мозга, но стоило ему сделать вид, что он потерял к ним всякий интерес, тут же начинали бесстрашно кружить, подобно мышам, резвящимся, когда кошке надоедает играть со своей корзиной.
В голове замерцала крохотная искорка.
Жозеф открыл блокнот и прочитал слова ресторатора из Марли-ла-Машин, нацарапанные накануне дрожащей рукой:
…если бы я отдал свою одежку в Институт Пастера, а господа ученые провели бы ее анализ, выращивать культуры микробов, которыми она кишит, можно было бы аж до 2000 года, на этот счет у меня нет ни малейших сомнений.
Искорка превратилась в точку и начала мигать.
Пиньо знал, что если слишком долго будет на ней сосредоточиваться, она погаснет.
Надо придумать отвлекающий маневр.
Он схватил метелку из перьев и стал смахивать пыль с выставленных на полках книг, мурлыча под нос арию герцога Мантуанского из оперы «Риголетто»:
Женщина непостоянна,
Как перышко на ветру.
Точка раскалилась добела.
Жозеф вновь схватил блокнот, полистал его и нашел страницу с фразой Виктора касательно свидетельства Эмабля Курсона о незнакомце, незаконно вторгшемся в двадцать шестой номер.
Он все чесал лопатки, будто хотел выбить из них пыль.
И вдруг вспомнил.
«Моего сына назвали Артуром не просто так. Как же называется эта книга? Она должна быть в каталоге. На букву К. Нашел! “Этюд в красном” Артура Конан Дойля. Именно этот писатель основал дедуктивный метод на основе научных данных… Как можно определить, откуда в пакете с фуражкой взялась эта пыль? Я знаю! Господин Шодре! Три года назад он нас уже консультировал».
Он тихонько поднялся на второй этаж, прокрался на цыпочках на кухню и похлопал по плечу Мели. Та тут же в испуге выронила деревянную ложку, которой помешивала белый соус. Жозеф лишь в самый последний момент поймал кастрюлю, чуть было не сверзившуюся на пол.
– Я уж думала, мне конец! Очень умно с вашей стороны! Теперь у меня будет расстройство желудка!
– Простите меня, Мели. Мне нужно отойти минут на пятнадцать, вы не будете так любезны присмотреть за лавкой? А то беспокоить Джину я не осмеливаюсь.
И ушел.
– То поднимись, то спустись, то постой у плиты, то за прилавок встань, и все это после безрассудной гонки на самодвижущемся тротуаре по этой безумной Выставке! Если так будет продолжаться и дальше, сниму с себя передник и уйду в монастырь, – злобно проворчала Мели.
Проливной дождь, гонимый бурей, заставлял Жозефа идти, прижимаясь к стене, до самой улицы Жакоб.
На примыкавшей к аптеке каморке провизора красовалась вывеска:
ЗДЕСЬ В ТОЧНОСТИ ВЫПОЛНЯЮТ
ПРЕДПИСАНИЯ ВРАЧА
Жозефу пришлось подождать, пока какой-то клиент, по виду страдающий от диспепсии, не вышел с целым запасом питьевой соды.
– Ну, господин Пиньо, что это вы там прижимаете к груди? – спросил господин Шодре.
– Пакет, испачканный каким-то веществом, точный характер которого мне очень хотелось бы выяснить.
– Эге! Здесь нужно быть осторожным, когда вы в прошлый раз завели со мной подобный разговор, оказалось, что это всего лишь злая шутка.
– Обращаясь к ученым мужам, я никогда не шучу.
Господин Шодре вздохнул.
– Ну хорошо, хорошо, презренный вы льстец. Но результат будет только завтра, я завален работой по горло.
– Завтра будет воскресенье.
– Молодой человек, Наука не знает, что такое отдых!
Дождь прекратился.
На улице Сены какой-то человек, попыхивавший трубкой под навесом балкона, дружески помахал Жозефу рукой.
– Посвежело! – сказал он. – Это восхитительно!
Усатый шофер протирал и без того сияющий кузов новенького автомобиля «Панар-Левассор», стоявшего перед тесной парфюмерной лавкой с закрытой дверью. Он тоже лучился счастьем от того, что вдыхаемый воздух стал хоть немного прохладнее.
Торговец картинами предлагал редким прохожим фамильные портреты и патриотические литографии. С верхних этажей дома по всей округе разносились гаммы в исполнении начинающего исполнителя, извлекаемые из расстроенного пианино.
К своему удовольствию, Жозеф застал Айрис в шелковом дезабилье.
– Дети спят?
– Они так устали. Твоя мать накормила их ужином, словно это был вопрос жизни и смерти, и тут же уложила в постель. Эфросинья будто конины объелась и пребывала в прескверном расположении духа!
– Шутка ли, в такую жару провести на Выставке день с двумя дьяволятами!
Айрис окинула его скептическим взглядом.
– Да нет, тут другое, она постоянно твердила, что перья опасны и что их лучше не собирать, а выбрасывать в корзину.
– Должно быть, она присутствовала при сцене, которая ей совсем не понравилась. Ты же знаешь, чтобы она завелась, как кукушка, нужно совсем немного.
И Жозеф нежно сжал жену в своих объятиях.
– Ты очаровательна.
– А ужин? Эфросинья приготовила нам сардельки с сельдереем.
– Не рановато для такого пира, а? Давай-ка, моя дорогая, сначала нагуляем аппетит.
– Будь благоразумен, третий ребенок нам ни к чему, – прошептала она, безропотно подходя к кровати и напрочь забывая о своих стенаниях по поводу супружеской жизни.
– Не волнуйся, я буду внимателен, любовь моя.
«Не хватало заиметь еще одного отпрыска! Мои вещи и так есть кому таскать!» – подумал Жозеф.
Глава тринадцатая
Воскресенье, 29 июля
Пока в проеме двери не появилось помятое лицо мадам Шодре, Жозефу пришлось барабанить в дверь добрых пять минут.
– По какому делу? – надменно проворчала она.
Жозеф тут же умаслил ее с помощью книги, которую на рассвете раскопал в сарае на улице Висконти, прилагая все усилия для того, чтобы не разбудить Эфросинью, спавшую без задних ног.
– Ваш излюбленный автор, моя дорогая мадам.
Пальцы с острыми ноготками тут же сомкнулись на «Исповеди тридцатилетней девицы» Мари-Анн де Бове
[1144].
– «Партия для левой ноги» вызвала ваше восхищение, и я позволил себе…
Стоя в юбке, ротонде, душегрейке и папильотках, мадам Шодре разглядывала незваного гостя с видом жизнерадостным, но не лишенным лукавства.
– Таким образом, вы признаете, что нарушили покой, положенный людям в воскресенье! Поскольку муж вам это разрешает, а я принимаю ваш подарок, потому как подобное вторжение вполне заслуживает вознаграждения, будь по-вашему.
Аптекарь принял его в каморке провизора, заставленной склянками, фарфоровыми чашечками, ступками, трубками и наконечниками. На чашах точных весов горкой высился какой-то желтый порошок с едким запахом.
Господин Шодре, в рабочем халате и с шапочкой на голове, победоносно заявил:
– Я разрешил вашу загадку: этот порошок является субстратом смолы сосен, произрастающих в Ландах.
– И где их можно найти, эти сосны? Во Дворце земледелия?
– Неплохая мысль. Но я бы рассмотрел другую возможность: в последнее время на смену плитам из песчаника, которыми выкладывают мостовые, пришли деревянные, они приглушают звук и позволяют экипажам не так трястись на дорогах. Для этих целей, за присущие им качества, были выбраны приморская сосна, произрастающая в Ландах, лиственница и североевропейская ель.
– Однако! Вы, оказывается, ходячая энциклопедия!
Аптекарь, страстно любивший комплименты, облизал губы.
– И где их изготавливают, эти плиты?
– Тут ошибки быть не может. Фабрика по их производству только одна, четырнадцать лет назад ее построили на углу набережной Жавель
1[1145]и улицы Севенн на месте бывшего склада.
– Благодарю вас. Сколько я вам должен?
Господин Шодре напустил на себя огорченный вид.
– Полноте, вы меня обижаете, говоря о деньгах, в то время как речь, полагаю, идет о полицейском расследовании. Лучше поделитесь со мной тайной, которая заставила вас предпринять эти поиски.
Озадаченный Жозеф тут же стал ломать голову над тем, как удовлетворить любопытство аптекаря, но при этом утаить от него истину.
– Представляете, один торговец наркотическими средствами напичкал каким-то зельем мою мать, в итоге она, бедняжка, несколько ночей подряд храпела, как паровоз. Когда мы в конечном счете поймали этого малого, он стал во всеуслышание настаивать на том, что яд содержался в пакете, который он украл у маман на улице Висконти, и даже попытался нас шантажировать! Но благодаря вам его ждет небольшой сюрприз! Только никому ни слова, об этом не должна знать ни одна живая душа, сей тип – влиятельный член шайки отпетых негодяев, и мне хотелось бы замять скандал.
Господин Шодре подмигнул.
– Понимаю, королеве-матери – ни звука. Удачи вам и держите меня в курсе перипетий этой запутанной интриги!
Когда Жозеф переступал порог лавки, мадам Шодре, погрузившись в чтение, вместо прощания издала лишь какое-то невнятное бормотание.
Фиакр покатил по набережной Жавель и остановился у дома 2 по улице Севенн перед воротами небольшой фабрики по изготовлению деревянных панелей для мостовых.
– Если так будет продолжаться и дальше, мне придется поселиться в этом квартале, – проворчал Жозеф, расплачиваясь с кучером.
Золотистое облако, за которым проглядывалась Эйфелева башня, свидетельствовало о близости Выставки – миража, который от него отделяло облезлое пространство с редкой растительностью.
Жозеф вошел в металлический ангар, в котором грудами были свалены доски. Первый мастер, к которому он обратился, совершенно проигнорировал его вопрос и разразился пространной обличительной речью, обвиняя владельцев предприятия в том, что они отказались удовлетворить требование рабочих сделать воскресенье выходным днем.
Поблуждав по лабиринту производственных и ремонтных мастерских, Жозеф набрел на механическую лесопилку, установленную на козлах. Польщенный интересом, который проявил к его труду сей господин, рабочий в рубахе с закатанными рукавами объяснил, что доски предназначались для машины, разрезавшей их на четыре-пять равных частей. С учетом того, что площадь деревянных мостовых в городе составляла свыше пятисот тысяч квадратных метров, этого было недостаточно, поэтому производительность поперечной пилы планировалось увеличить с тем, чтобы получать за один раз порядка пятнадцати плит.
– Представляете? Из этого цеха уже вышли сто миллионов плит! Держите, это вам на память.
Жозеф засунул дощечку в карман.
– После распиливания бревен плиты погружают в чан с креозотом, где они пропитываются антисептическим маслом, – продолжал рабочий. – А потом складируют – до тех пор, пока в них не возникнет необходимости. С целью экономии в качестве топлива для котлов используются старые деревянные плиты и опилки.
– Впечатляет. Я журналист, пишу статьи о поддержании жизнедеятельности нашего города, для которого Выставка отнюдь не является пупом земли. А где можно понаблюдать за тем, как перестилают мостовые?
С выражением сомнения на лице рабочий почесал подбородок.
– Видите ли, в связи с этим вселенским базаром все работы остановлены. Дороги стелят лишь в хорошую погоду, в конце весны, летом или в начале осени, после одобрения плана предстоящих работ. Но в этом году было решено дождаться сентября, а всему виной этот цирк, на который направлены все городские финансы и из-за которого бардака на улицах и без того хватает. Разве что… Эй, Родольф!
К ним подошел молодой человек с носом в виде рубильника, торчавшим из-под большой фуражки.
– Не знаешь какую улицу сейчас перестилают?
– Если не ошибаюсь, улицу Бога.
– Улицу Бога? А что, такая есть?
– Раз я говорю, что есть, значит есть, черт возьми! В десятом округе.
Жозеф рванул за молодым человеком, но рабочий в рубахе с закатанными рукавами его удержал.
– Обратите внимание на то, что я вам сейчас скажу, это очень важно: на боковой стороне каждой деревянной плиты есть два выступающих штифта, которые садятся в отверстия, высверленные в соседней плите, это как заниматься любовью, понимаете? К тому же, касательно этого покрытия кому-то пришла в голову умная мысль вырезать в плите поперечный желобок, чтобы лошади не шмякались на землю. Куда же вы? Это еще не все! – закричал он собеседнику, который поспешно смотал удочки и был уже далеко. – Плиты устанавливают на бетонном фундаменте из цемента и гальки, все это стоит… четырнадцать франков квадратный метр, – упавшим голосом закончил он. – Ох уж эти журналисты… Они даже не слушают, что люди отвечают на их вопросы. Неудивительно, что мир окончательно сошел с ума!
– Улица Бога? Вы просто не сможете пройти мимо нее, она находится недалеко от Таможенного ведомства, – заверил его продавец газет на площади Республики.
– Своим названием она обязана Великому архитектору Вселенной?
– Вовсе нет, одному генералу, погибшему в битве при Сольферино
[1146].
Когда Жозеф добрался до улицы Бога, вход на нее с улицы Антрепо
1,
[1147]увы, оказался закрыт. Ему пришлось обогнуть целый квартал и выйти на улицу Вальми, в аккурат напротив разводного моста. По безмятежной глади канала Сен-Мартен к шлюзу сплошным потоком двигались баржи. Взвалив на шеи веревки, бурлаки тащили нормандские «безони
**»,
[1148]огромные «марнуа
***»
[1149]и плоскодонные «лавандьеры
****»,
[1150]груженные цементом, песком, известью и так низко сидевшие в воде, что она чуть не переливалась через их борта. Нагнувшись вперед, крепкие парни тянули пеньковые лямки, перекинутые через грудь. Кумушки, стоявшие у руля, переговаривались с зеваками, собравшимися на берегах, или бранили ребятишек в лохмотьях, которые тут же прятались в набитых углем трюмах. Девушка в розовой кофте затеяла стирку, не обращая внимания на шуточки державшегося за снасти матроса с пенковой трубкой в зубах.
Игнорируя злобно лающую шавку, Жозеф подошел к помосту, рядом с которым прачки ритмично били колотушками грязное белье.
– Эй, красавчик, не поможешь? – предложила одна из них.
Когда Жозеф приблизился к каналу, чтобы выбросить оттопыривавшую карман дощечку, шавка залаяла еще громче.
Рука Пиньо замерла в воздухе. За мгновение до этого он заметил лежавший в пыли силуэт, покрытый черным брезентом, из-под которого виднелись только грязные грубые ботинки.
К Жозефу подошел пацан лет двенадцати с сигаретой в зубах.
– Видели его башмаки? Похожи на губки, которые Проспер Бадо продает на улице Борепер!
– Что с ним случилось? – спросил Жозеф.
Мальчишка пожал плечами.
– Да ничего особенного, просто утонул. Спасатели их каждый день вылавливают – то пьянчужек, то самоубийц, уставших от жизни, а то и типов, которые, кому-то мешая, оказались в воде не по своей воле!
Какой-то кот подошел к трупу, обнюхал его, сел и стал созерцать желтый дым фабрик, меблированные дома с облупившимися фасадами, черные лебедки и темно-зеленую воду.
– Сигаретки, случаем, не найдется?
Жозефа бросило в дрожь, он поспешно отошел от пацана. К причалу была пришвартована баржа. Грузчики, балансируя на сходнях, выносили из нее мешки с гипсом и сваливали их рядом с распряженной повозкой, стоявшей среди груд отделочного камня. Обернувшись, Пиньо увидел рядом с неподвижным телом мальчишку. Тот смеялся над ним и крутил у виска указательным пальцем.
– Вот чудила, жмуриков никогда не видел!
«А вот тут ты ошибаешься, щенок», – подумал Жозеф и перевел взгляд на смазливую мордашку в окне капитанской рубки разгружаемого судна. Белокурые волосы, клетка, в которой разорялись попугайчики, синие ставенки – этого с лихвой хватило, чтобы ощутить в душе прилив радости.
Избавившись от мрачного видения трупа, навеянного прогулкой по берегу канала, Пиньо отправился на улицу Бога.
Дорога, на отрезке в сто метров лишенная покрытия, напоминала собой траншею. Тротуары лежали в руинах, все лавки были закрыты.
От первоначального намерения Жозеф отказался, но, прежде чем уйти, оставил на улице дощечку, по-прежнему оттопыривавшую карман.
«Здесь она хотя бы на что-нибудь сгодится!»
Теперь оставалось лишь найти кафе с телефоном, чтобы поведать Виктору об истории с фуражкой и дедуктивными умозаключениями Шодре, о походе на набережную Жавель и улицу Бога, а также о том, что на данный момент все эти демарши к успеху не привели.
– Не страшно, дорогой, – сказала Таша, поглаживая Виктора по затылку. – Я и сама не в лучшей форме.
Он заверил ее, что причиной его нынешней мужской несостоятельности стала жара, и попытался убедить в этом и себя, но легкие сомнения в душе все же остались. Неужели это отсутствие желания – признак того, что их любовь стала увядать? Легри, как его когда-то учил Кэндзи, исследовал закоулки своей памяти, воскресил самые нежные эпизоды супружеской жизни и успокоился. Все было по-прежнему. Просто его мысли отвлекала нераскрытая тайна:
«Как связать воедино песенку английских моряков, корабль под названием “Эсмеральда„и другое судно, “Комодо„?.. Может, в словах “Не забывай старого корабельного друга„скрывается какой-то тайный смысл?.. Кто такая Мария Селеста?.. И где раздобыть сведения об этом “Комодо»?„
Нет, в том, что он сегодня оказался ни на что не годен, не повинны ни зной, ни безразличие, всему виной расследования, отнимавшие у него все силы.
Что до Таша, то она, немного разочарованная, прильнула к его груди. В ее затуманенном мозгу, совершенно непрошеный, возник образ Фредерика Даглана. Она постаралась его прогнать, открыв глаза и теснее прижавшись к Виктору, но все было бесполезно. Мимолетное, но в то же время навязчивое видение напрочь отказывалось уходить. Уступив чувству вины, Таша свернулась клубочком на краю матраса.
Злясь на самого себя, Виктор встал и оделся. Если Таша от него отстранилась, значит, он ее огорчил. В эти дни близость между ними в послеобеденные часы случалась редко, и он корил себя за то, что упустил такую возможность. Когда он застегивал жилет, в голове неожиданно промелькнула мысль, устанавливающая взаимосвязь между Сен-Луи, портом, из которого вышел в море «Комодо», и Альфонсом Баллю. Виктор даже хохотнул, вспомнив слова старьевщицы, с которой когда-то водил знакомство:
«Кузен вашей консьержки мне все уши прожужжал своим сенегальским портом Сен-Луи! Альфонс Баллю – искатель приключений? Канцелярская крыса он, вот кто! Причем лоснящаяся, как винтовочный приклад, и угловатая, как план укрепленного редута!»
Немедленно повидаться с Альфонсом! Может, он что-нибудь слышал о «Комодо»? Освободившись от гнета, его тело тут же испытало внезапное влечение к Таша – свернувшейся на боку, обнаженной, розовой и нежной. Но Виктор соблазну не поддался.
– Пойду заберу у Бодуэнов Алису, а затем поведу ее в Люксембургский сад поесть мороженого.
– А мне можно с вами? – спросила Таша, не глядя на мужа.
– Нет, я тебе запрещаю, это слишком сытная еда!
Она возмущенно повернулась, схватила подушку и швырнула в него. Он поймал ее на лету и засмеялся.
– Конечно, можно, какие вопросы! Ты имеешь право на три порции мороженого со сливками в виде репараций и возмещения нанесенного ущерба! Только оденься, в противном случае мне самому придется раздеться.
Вырядиться в редингот со стоячим воротником и натянуть по самые брови берет в такую жару было настоящим подвигом. Перед тем как облачиться в несуразный наряд, привлекающий к себе внимание, Уолтер немного поколебался, но одеться легко означало подвергнуть себя большому риску и, к тому же, лишиться возможности спрятать то, в чем он так нуждался. Мэтью вполне мог обойтись без этой встречи и не выполнять, как покорная собачонка, условий, выдвинутых в подсунутой под дверь записке, но она была составлена так, что он просто не мог противиться охватившему его любопытству. Как тот,
другой, умудрился его найти?
Съехав из «Отеля Трокадеро», Мэтью Уолтер сделал все, чтобы слиться с окружающей обстановкой. Тот,
другой, по-видимому, за ним следил. Почему он назначил встречу в общественном месте? Решил поиздеваться? Стоя на авеню Эйлау, Уолтер любовался дворцом Трокадеро, огромным аккордеоном, построенным к Всемирной выставке 1878 года, посередине которого возвышались две квадратные башни, придающие ему сходство с огромной фабрикой. Мэтью пересек площадь и решил устроить небольшую передышку. С холма открывался грандиозный вид. На первом плане выделялись каменные джунгли, в которых бок о бок высились минареты, купола, колокольни, хижины, южные города и северные дворцы. Затем, по мере привыкания, глаза обнаруживали во всем этом хаосе определенный порядок. Между Сеной и центральным фонтаном выстроились павильоны Алжира, а по бокам от него – французская и иностранная колониальная экспозиции. В последней были представлены английские и португальские владения, голландская Индия, дальше шли Япония, Китай, Россия и Трансвааль.
Мэтью достал носовой платок и вытер с шеи пот. Мысль о том, что все козыри у него, и что тому,
другому, никогда не подняться до его уровня, принесла успокоение. Если бы его попросили вспомнить все драки с его участием в тавернах портов всего мира, он быстро сбился бы со счета. Разве не он всегда выходил в них победителем? А эта лживая козявка собиралась заманить его в ловушку с помощью хитросплетенной лжи? Он, идиот, даже не понимает, с кем имеет дело.
Какой-то тщедушный тип тихонько подошел к нему и предложил пачку фривольных фото египтянок, исполняющих танец живота. Уолтер грубо его оттолкнул, немало позабавившись безразличным отношением к происходящему «блюстителя нравственности», которого можно было без труда узнать по темному костюму и котелку, а сам размеренным шагом направился в левое крыло здания, приютившее выставку товаров из Гренландии, Исландии и с Фарерских островов.
Место, которое выбрал
другой, во всем соответствовало поставленной цели. Оно привлекало лишь немногих ротозеев, питающих страсть к лишайникам и изделиям из льна. Уолтеру пришлось немного подождать, пока два семейства, блуждавших среди шкур лисы, оленя и белого медведя, не ринулись к запасному выходу. Остался только один человек, задержавшийся у витрин с гагачьим пухом. Мэтью видел его только со спины. Кем он был –
другим или заурядным любителем перин? В случае сомнений противника нужно было застать врасплох – этот вариант напрашивался сам по себе. Уолтер незаметно приподнял полы своего редингота, но в этот момент человек тоже двинулся к выходу. Мэтью сделал вид, что разглядывает шкуру тюленя и китовый ус. Упитанный служитель Выставки, с усиками щеточкой, ушел, даже не подозревая, что только в самый последний момент разминулся со смертью.
Без особого энтузиазма Уолтер направился в исландский зал, уставленный копиями кузниц, мастерских плотников, ювелиров и корабельных дел мастеров. Не испытывая особой тяги к сушеной треске и варежкам на меху, он принялся изучать коллекцию кварца. И в этот момент услышал шаги. Мэтью спрятался за холстом с изображением скалистого берега Фарерских островов, над которым вихрем взмыла в воздух стая морских птиц, застыл и затаил дыхание. Тихо. Он осторожно вышел из убежища. И в последний раз в жизни встретился лицом к лицу с тем,
другим.
Стрела ударила его прямо в грудь. Не в состоянии произнести ни слова, он лишь раскинул руки, на несколько мгновений замер, будто размышляя о том, как лучше упасть, и рухнул навзничь. Редингот его распахнулся, из него на пол выпали два кинжала, которые тут же были подобраны. Чьи-то руки схватили Уолтера за лодыжки и потащили к пироге, снабженной небольшим палубным настилом. Мэтью задыхался, боль терзала все его естество, он показал пальцем на предмет, который ритмично поднимался и опускался у него перед глазами. Йо-йо! Бессмыслица какая-то! На его тело, в котором еще теплилась жизнь, опрокинули пирогу, и йо-йо исчезло. По пустынным залам гулко зазвучали шаги. Но Мэтью Уолтер их уже не слышал. Он только что отправился в свое последнее дальнее странствование и уже плыл по волнам океана загробной жизни.
Глава четырнадцатая
Понедельник, 30 июля, восемь часов утра
Чтобы пустая книжная лавка не казалась такой унылой и мрачной, Виктор когда-то придумал игру. Стоя перед книжными полками, заполонившими собой все стены, он отсчитывал каждый пятый сафьяновый переплет и записывал названия книг в блокнот. В итоге у него получалось девять названий, которые он соединял воедино, чтобы получить связную фразу:
«Госпожа Бовари» поручила «Отверженным», «Робинзону Крузо», «Кузену Понсу» и «Маленькой Фадетте» отвезти «Цветы зла» «Принцессе Клевской» в «Пармскую обитель», где процветает «Дамское счастье»
[1151].
Над дверью зазвенел колокольчик, и на пороге с насмешливым видом встал Фредерик Даглан.
– Проводите инвентаризацию?
– Любуюсь нашим собранием книг, ведь их все равно больше никто не читает. Вы принесли мне новости?
– Только одну, зато первостепенной важности. Этой ночью хранитель экспозиции Фарерских островов обнаружил экспонат, не заявленный ни в одном каталоге: труп лежавшего под пирогой мужчины.
– Его убили?
– Стрелой с красным оперением.
– В спину?
– В грудь.
– Откуда вам это известно?
– Газеты публикуют этот материал аршинными заголовками. И вот что любопытно – злодей не берет на себя труд избавляться от орудия убийства, оставляя его в теле жертвы, будто подпись внизу манускрипта. По-видимому, считает себя вне подозрений.
– Или же его поджимает время.
– Да нет, вряд ли бы он стал торопиться!
– Ваши суждения слишком категоричны.
– Даже дилетант понимает – чтобы выдернуть стрелу, достаточно одного короткого мгновения.
– Это требует более значительных усилий, чем вы думаете. Жертва опознана?
– Да. Он был постояльцем третьего корпуса «Отеля Трокадеро». По сути, жил в аккурат над номером покойного Энтони Форестера. Некто Мэтью Уолтер.
Виктор с усилием сглотнул.
– Вы уверены?
Фредерик Даглан грустно кивнул головой.
– Несчастный я человек – вечно впутываюсь в дела, от которых лучше держаться подальше. Зачем, к примеру, я вытащил бумажник этого Форестера? Не надо было этого делать. Но заметьте – это зло во благо, ведь благодаря моему поступку вы предупреждены о том, что господину Мори грозит смерть. Надеюсь, это мне зачтется. Все, что я знаю, – это что записка была адресована Форестеру.
Даглан отошел в сторону, пропуская упитанного господина, искавшего издание «Гения христианства»
[1152], напечатанное на васи
[1153]. Пока Виктор проводил тщательные, но безуспешные поиски на книжных полках, Фредерик выскользнул на улицу – если бы не дверной колокольчик, это получилось бы у него незаметно. Так и не заполучив своего Шатобриана, упитанный господин не замедлил последовать за ним, но у выхода столкнулся с сурового вида денди и уступил ему дорогу. Виктор проклял Жозефа за отсутствие пунктуальности и возблагодарил небо, что Кэндзи еще не спустился вниз.
– Что от вас хотел господин Финч? – спросил комиссар Вальми.
Виктор прикусил губу. Финч и Даглан – одно и то же лицо? Ему показалось, что за него ответил кто-то другой:
– Это знакомый моего кузена, которого я жду в гости. Честнейший человек, мы с ним знакомы лет пять. У него неприятности?
– Нет, если не считать, что в отеле он живет по соседству с номером, в котором убили Форестера. Легри, я задал вам вопрос – что он делал в вашей лавке?
Виктор почувствовал, что почва уходит у него из-под ног. Даглан и Форестер остановились в соседних номерах! Он оперся руками о прилавок и постарался придать голосу жизнерадостный тон.
– Искал одну книгу. Здесь, если вы вдруг не заметили, книжная лавка.
Главный комиссар Огюстен Вальми прицелился в него из трости и сделал вид, что стреляет.
– Я прекрасно знаю, что это не оружейный склад. Бьюсь об заклад, что этот бравый коммерсант из Бристоля сообщил вам о внезапной кончине Мэтью Уолтера.
– Мэтью Уолтера? Мэтью Уолтер… А кто это?
– Вы думаете, я идиот? О том, что этот человек живет в «Отеле Трокадеро», я говорил вам во время нашей якобы случайной встречи. После убийства Энтони Форестера, номер которого, заметим по ходу, располагался прямо над его покоями, он, опять же по чистой случайности, ударился в бега. Вы уверены, что ничего от меня не скрываете?
Вальми схватил блокнот, который Виктор оставил на конторке Кэндзи, полистал его и наткнулся на фразу, составленную из названий девяти книг.
– Если это тайнопись, то мне остается лишь установить этих «отверженных», отыскать «обитель» и понять, в чем заключается «женское счастье», – прокомментировал он, нахмурив брови.
– Она располагается в Парме.
– Кто?
– Обитель. Парма, итальянский город в провинции Эмилия, была основана этрусками.
– Вы издеваетесь?
– Ошибаетесь, комиссар. Я это сказал лишь забавы ради, безотносительно к расследованию, которое занимает все ваши мысли. И уж тем более к возможной торговле женщинами.
– Смейтесь, Легри, смейтесь, как бы только потом пожалеть не пришлось, – проворчал Огюстен Вальми, бросая записную книжку на конторку.
Затем ткнул себя указательным пальцем в лоб и добавил:
– Если что, у меня здесь все записано.
– Как вам удалось установить личность жертвы, найденной в павильоне Фарерских островов?
– При нем нашли ключ с эмблемой «Отеля Трокадеро». Я заставил директора и служащих явиться на опознание трупа. Их ответ был категоричен, хотя его наряд явно не соответствовал костюму того брюзгливого янки, которого они знали. И любопытный же он субъект, этот Мэтью Уолтер – одет как беглый каторжник, на левой руке татуировка в виде красного дракона, украшенная лозунгом анархистов: «Свобода или смерть!» И приятель вашего кузена, этот господин Финч, который от вас только что вышел, теперь для меня подозреваемый номер один. Клин клином вышибают. Кроме цепочки предположений, никаких весомых доказательств против него у меня нет. Эти мелкие кражи, совершенные в отеле, меня заинтриговали. Господин Финч обратился к администрации с жалобой, что ночью к его штанам кто-то приделал ноги, и на основании этого раскрутил Дутремона на бесплатное проживание. Следующей ночью кто-то прикончил его соседа. И что же уволокли на этот раз? Опять же штаны. А вы мне тут говорите о «Дамском счастье». Это же… это на грани порнографии!
Виктор почувствовал, что внутри у него все сжалось. Татуировка в виде дракона…
Комодо! Остров драконов!
Из его груди вырвался глубокий вздох.
– Полно вам, комиссар, вы думаете, что всему виной клика феминисток, решивших отомстить самцам путем кражи у них брюк? Кстати, а на господине Уолтере штаны были?
– Легри, я вижу, вы неисправимы. Нет вам прощения. Хитрите, хитрите, все равно водить меня за нос вам долго не удастся. Дело-то с душком, этот господин Финч ведет себя не как добрый католик…
– Само собой разумеется, что с душком, воду отключают, канализация не работает, вот вам и результат. А что касается Финча, то он не католик, а член англиканской церкви.
– Легри, плевать я хотел на ваш вычурный юмор. Этот сомнительный тип – англосакс, и отрицать этого вы не сможете.
– Но ведь первый убитый был азиат.
– Опять же не факт. Когда-то вы мне уже помогали, и теперь я прошу вас работать в контакте со мной. В последние два дня из-за визита шаха у меня совсем не осталось людей. Его Величество Мозафереддин-шах пробудет здесь целую неделю. Вчера ему показали автомобиль: пришлось дотошно объяснять принцип действия даже самых мельчайших механизмов. После двухдневного пребывания во Дворце правителей он приказал открыть ворота и живо доставить его на авеню дю Буа
1.
[1154]Затем совершил прогулку по Сене на яхте владельца шоколадных фабрик Менье.
Сражаясь с приступом дурноты, Виктор с силой надавил рукой на затылок и закрыл глаза. Лицо комиссара исчезло, и он подумал о Даглане. Почему Фредерик не сказал ему, что остановился в «Отеле Трокадеро»? Что он скрывал? Финч… Даглан… А штаны? Их у него действительно украли? Смешно! Штаны! Да не одни, а двое.
– Витаете в облаках, Легри?
– Да-да, я слушаю, шах, – безвольно молвил Виктор, снедаемый тревогой.
– Затем его под охраной отвезли на скачки, где он посчитал мудрым сделать заявление: «Я знаю, что та или иная лошадь придет первой, но какая конкретно – мне совершенно безразлично». Сегодня он почтил своим присутствием Выставку, хотя запланированный ранее прием в Елисейском дворце отменен по причине, назвать которую вам в данный момент я не могу. Если учесть количество полицейских, выделенных для его охраны, мы должны радоваться, что русский царь отклонил наше приглашение!
Перед этим Огюстен Вальми снял замшевую перчатку и теперь хлопал ею по краю прилавка.
Виктор ухватился за спинку стула. Каждый такой хлопок эхом отдавался у него в голове. Его охватила неодолимая усталость.
«Черт бы тебя побрал! Ты говоришь так же утомительно, как мой досточтимый отец, часами читавший мне мораль. У меня вот-вот начнется жесточайшая мигрень!»
– То, что вы говорите, очень интересно и оригинально, – произнес он, выдавливая из себя улыбку.
– Я доведен до крайности, Легри. Мне в подмогу дали лишь необстрелянного инспектора. Мои силы на исходе. Убийца изображает из себя Вильгельма Телля посреди всего этого проходного двора, где постоянно толкутся тысячи посетителей, а от меня требуют его обезвредить. Я перестал спать.
– Обещаю – если узнаю что-нибудь, достойное вашего внимания, обязательно с вами свяжусь.
– Можете даже ночью, – вздохнул Огюстен Вальми, – вот мой адрес.
Он протянул визитку, посмотрел на свою руку без перчатки и скривился.
– Где я могу помыть руки?
– Во дворе соседнего дома есть фонтан, но я очень сомневаюсь, что в нем будет вода.
– Достала меня эта городская грязь! – взорвался Вальми и грохнул за собой дверью.
– Смотри-ка, а он себе ни в чем не отказывает, – пробормотал Виктор.
Затем отчетливо прочел:
– Рю де ла Пэ, 2.
Его мысли вернулись к Даглану. Неужели Фредерик манипулировал им и Жозефом? Надо засунуть все эти домыслы в самый глубокий карман, прикрыв сверху носовым платком, в противном случае шурин рискует совершить оплошность. Какую тактику лучше применить? Неожиданно прощупать этого карманника?
«Кстати, Даглан, говорят, что у вас, как и у Энтони Форестера, в “Отеле Трокадеро” умыкнули брюки?»
Ничего не говорить и, в свою очередь, тоже начать им манипулировать? Но как? Он ведь скользкий, как угорь.
Его рассуждения прервал чей-то громкий зевок. На табурет, с опухшими от сна глазами, плюхнулся Жозеф.
– Этот идиот Вальми так и не вышел из глубокой умственной спячки? Как бы он не остался в этом состоянии навсегда. Что его сюда привело?
– Третье убийство. Ночью в темном закоулке павильона Фарерских островов был найден Мэтью Уолтер, постоялец «Отеля Трокадеро», в котором жил Энтони Форестер. Его проткнули стрелой с красным оперением.
– Ничего себе! Еще один? Это уже резня! А где Кэндзи?
– На втором этаже. Обстановка спокойная.
– Гренель, Трокадеро, Фарерские острова. Ничего общего. Каша какая-то! Что мы имеем?
– Ничего существенного, так, всякая ерунда. Старая матросская песенка, сопровождаемая советом помнить о Марии Селесте. Записка с угрозами в адрес некоего японца. Свидетельство перепуганного рабочего кухни, видевшего в номере Форестера совершенно постороннего человека. Стрелы, хранящиеся в полиции, на которые мне очень хотелось бы взглянуть поближе. Обломок стержня с красным оперением.
– Оперение! Мы же совершенно забыли об этой улике!
– До такой степени, что ваша дочь присвоила ее себе.
– Ну да… хотя я все исправил. Мы даже не подумали о том, чтобы показать его специалисту. Мне как раз припоминается, что у Кэндзи на улице Турнон живет приятель, торгующий антиквариатом.
– Максанс де Кермарек? Он продает исключительно музыкальные инструменты и струны.
– Безусловно, но в юности он жил в Соединенных Штатах. Луки, стрелы – в этом отношении он должен обладать самыми обширными познаниями.
– Ну что же, если не боитесь выслушать нудную лекцию, вам и карты в руки.
– Сыщик нередко оказывается в смертельно опасных ситуациях! – заявил Жозеф, стуча себя кулаком в грудь. – На вас совершили покушение, над Кэндзи и Ихиро нависла угроза, так что времени у нас в обрез. Послушайте, а почему вы так уверены, что эту английскую песенку поют именно моряки?
– Воспоминание детства. Я проверил по одной книжке, она датируется началом века. Но наставления помнить о Марии Селесте так нигде и не нашел.
– Могут ли быть как-то связаны эта песенка и Форестер? В конце концов, он был капитаном судна, взявшего «Комодо» на буксир. Минуточку… «Эсмеральда», «Комодо», Фарерские острова, брызги воды, волны и… Матросская сумка! У кузена Ихиро была матросская сумка! Что и требовалось доказать.
– Это еще ничего не доказывает.
– Премного вам благодарен за эти ободрительные слова. Тем не менее, я все же продолжу нашу трудную, запутанную тему. Исаму Ватанабе сошел с судна в Марселе, об этом нам рассказал Ихиро. А этот Мэтью Уолтер, кто он был по профессии?
Виктор стал усиленно воскрешать в памяти слова главного комиссара. Он зажмурился и отгородился от окружающего мира, в первую очередь от Жозефа, не умолкавшего ни на мгновение. Родившись в самых потайных закоулках его извилин, стали собираться воедино разрозненные фрагменты пасьянса, между которыми пока еще оставалось черное, незаполненное пространство. Вверху и слева – японец с размытыми чертами лица, разгуливающий в компании с Ихиро у подножия Эйфелевой башни. Справа – англичанин в мундире капитана, ужинающий в «Максиме» с Эдокси. Слева внизу – незнакомец, найденный под пирогой. А посередине – Фредерик Даглан, в кальсонах и размахивающий запиской. И повсюду красные стрелы, одна из которых летела через Старый Париж. Имя Марии Селесты мигало золотистыми буквами то с одной стороны, то с другой.
– Эй, Виктор, я не со стенкой разговариваю!
– Дошло! Вальми сообщил мне деталь первостепенной важности, хотя сразу я не обратил на нее никакого внимания. На руке Мэтью Уолтера была татуировка в виде дракона.
– Комодо! Остров драконов! Это не может быть простым совпадением. Что мы…
В этот момент в лавку, сетуя на то, что Кэндзи до сих пор не раздобыл «Песни Билитис» Пьера Луи
[1155], вплыло пикантное создание с круглыми щечками и вздернутым носиком. Виктор вверил ее заботам Жозефа, а сам укрылся в подсобке.
«То, что за нами наблюдает полиция, не вызывает никаких сомнений. Вальми – далеко не идиот. Так что идти напролом нельзя. Сначала выйти на след Альфонса Баллю. Сен-Луи город небольшой, белые там живут тесно, и слухи разлетаются мгновенно. По поводу “Эсмеральды” и “Комодо” как пить дать судачили».
Мадемуазель Миранда, наконец, ушла, и Жозеф присоединился к шурину.
Виктор в деталях изложил ему свой план.
– Все правильно! Меня в который раз будут эксплуатировать, как последнего раба.
– Об этом и речи быть не может. Мы же одна команда,
партнер. Так что курс на семейный пансионат, в котором обосновались мадам Баллю и ее кузен.
– Кэндзи это не понравится.
– Я поднимусь к нему и поговорю.
Глядя, как шурин поднимается по винтовой лестнице, Жозеф беззастенчиво бросил:
– А поздравить меня с умозаключениями касательно фуражки у вас язык судорогой свело?
Виктор перегнулся через перила.
– Браво, Жозеф. Готовьтесь к походу на Гренель.
– Опять?
Войдя в семейный пансион на улице Вьоле, Виктор с Жозефом немало удивились, что обеденный зал был битком набит не только постояльцами заведения, но и туристами, съехавшимися со всех концов света. Хозяйка попыталась их вытолкать.
– Мест нет, господа. Отели переполнены клиентами, а меблированным домам они устроили настоящую осаду.
В отдельном кабинете, вдали от суматохи, Альфонс Баллю играл в крапетту
[1156], оспаривая первенство с толстобрюхим стариком с длинными, крашеными каштановыми волосами. На столе с царским видом возвышалась бутылка анисовки с двумя рюмками по бокам. Альфонс Баллю был тощий малый лет сорока с усиками пирамидкой и гладко выбритым подбородком. При виде гостей он привстал со стула и сказал:
– Господин Легри! Какой сюрприз! Чем обязан такой честью?
И знаком пригласил Виктора с Жозефом сесть в кресла.
– Господа, позвольте представить вам месье Адемара Фендоржа, бывшего преподавателя латыни и большого любителя первобытной истории. Когда-то ему удалось найти коренной зуб гиппопотама и пястную кость гигантского ископаемого оленя. Мой дорогой Фендорж, это господин Легри, книготорговец и любитель расследовать запутанные преступления, а это его приказчик, господин…
– Пиньо, Жозеф, писатель. Сочиняю романы с продолжением, публикуемые в газетах. Партнер месье Легри, – сухо ответил Жозеф.
– Вот как? Я читал кое-что из ваших произведений, синтаксис неплохой, – одобрил Фендорж. – Мадам Арманда Симоне, наша хозяйка, является вашей ярой почитательницей и ни за что на свете не пропустит очередной номер «Паспарту». Что же касается меня, то…
Виктор в раздражении повернулся к Альфонсу:
– Господин Баллю, нам нужно поговорить с вами наедине.
Фендорж, будто прилипнув к стулу, даже не попытался встать.
– Выпьете анисовки? – предложил Альфонс.
– Нет, спасибо.
– Как вам будет угодно. Чем могу быть полезен, господин Легри? Не стесняйтесь моего друга, он умеет хранить тайны.
– Да нет у нас никаких тайн, – проворчал Виктор. – Во время пребывания с миссией в Сенегале, в Сен-Луи, вы что-нибудь слышали о шхуне «Комодо»?
Легри разложил на коленях какие-то бумаги.
– Боюсь, что нет.
– А об «Эсмеральде»? Мы разыскиваем человека, который в прошлом году ходил на этом корабле.
– В прошлом году? Я же уехал из Африки бог знает когда. В Сенегале моя роль сводилась лишь к нескольким дерзким вылазкам во главе выступавшей маршем колонны. В остальное время я перекладывал бумажки в одной из канцелярий Сен-Луи и не имел возможности ротозейничать в порту. Сожалею, но помочь вам ничем не могу.
Сделав неловкое движение, Виктор рассыпал свои записи. Один листик приземлился на колени господину Фендоржу. Тот поправил очки и стал читать, двигая губами.
– Господин Легри, вы пишете на английском роман о морских приключениях?
– Э-э-э…
Жозеф, возмущенный бесцеремонностью Фендоржа, протянул руку, но тот проигнорировал его жест.
– Любопытно, – продолжал он, – а почему фраза «И ПОМНИ О МАРИИ СЕЛЕСТЕ» написана заглавными буквами?
– Того требует сюжетная линия нашего романа, – отрезал Жозеф. – Мы работаем над ним вместе.
– Мария Селеста, Мария Селеста… Странно… Это напоминает мне… Когда-то я читал одну заметку. Дело было после того, как мне присвоили степень бакалавра. Я никак не мог определиться – преподавать латынь или же заняться археологией. Во время одной развлекательной поездки по Англии мне случилось оказаться в Стоунхендже. И поскольку постоянно шел дождь, я, запершись в гостиничном номере, листал всевозможные альманахи. Эта необычная история произвела на меня впечатление.
– Какая история?
– С призраками, – невозмутимо ответил Фендорж.
Жозеф воздел глаза к небу.
– Не думаю, что вас это заинтересует, молодой человек, – продолжал бывший латинист.
– С призраками ничего нельзя знать наперед, – пробурчал Жозеф и принялся что-то писать в своем блокноте, что позволило ему избежать недовольного взгляда.
– Мы вас слушаем, господин Фендорж, – вставил слово в разговор Виктор.
Адемар Фендорж прокашлялся и наклонился вперед.
– Господа, давайте вернемся в не столь отдаленное прошлое и окажемся в 1872 году в Атлантическом океане неподалеку от берегов Португалии. Старший помощник капитана американского трехмачтового судна только что заметил шхуну-бриг, маневры которой были совершенно беспорядочны. Он сообщает об этом капитану, который тут же бросается вдогонку. Расстояние между двумя кораблями сокращается. В окуляр подзорной трубы капитан видит, что на мостике брига никого нет. Этот факт его интригует – судно лежит в дрейфе, не видно ни рулевого, ни впередсмотрящего, на борту ни одной живой души, паруса спущены, подняты лишь стаксель и штормовой фок. Капитан приказывает старшему помощнику взять двух матросов и сесть в шлюпку. Они причаливают к борту брига и читают на корме название: «Мария Селеста. Нью-Йорк». Вы правда не хотите немного анисовки?
Виктор отклонил это предложение, Жозеф стал постукивать по зубам кончиком карандаша.
Адемар Фендонж сделал глоток, поставил рюмку и откинулся в кресле.
– На чем я остановился?
– На названии судна, красовавшемся на корме, «Мария Селеста, Нью-Йорк», – ответил Виктор.
– Ах да… Старший помощник и двое матросов поднимаются на мостик. Штурвал качается как бог на душу положит, то право руля, то лево руля. Старший помощник кричит: «Вам нужна помощь?» Ему никто не отвечает. Затем вместе с матросами осматривает судно. Стол в кают-компании заставлен блюдами, чай в чашках еще теплый. Нет только экипажа – он испарился.
– Что же произошло? – спросил Жозеф, позабыв о своих записях. – Почему люди эвакуировались с корабля?
– Было много гипотез, и всех я теперь не упомню… Бунт? Нет, никаких следов насилия обнаружено не было.
– Может, пираты?
– Воображение заводит вас в тупик, молодой человек, ведь пираты, по меньшей мере, забрали бы себе все ценное. Но ведь на корабле нашли серебро, драгоценности и куклу. Груз, а это тысяча семьсот бочонков горячительного, тоже остался нетронутым.
– Куклу? – воскликнул Виктор.
– Капитан взял с собой в плавание жену и дочь.
– Может, в результате бури на корабле возникла паника? – осторожно выдвинул предположение Жозеф.
– В тот день никакой бури не было и в помине.
– Кроме капитана с семьей, моряков было много? – спросил Виктор.
Фендорж стал считать по пальцам.
– Старший помощник, лейтенант, четверо матросов и кок.
– Что ни говорите, а десять человек не покинут корабль без серьезных причин!
– Согласен с вами, господин Легри, тем не менее, спасательную шлюпку так и не нашли.
– Ну и что, они просто пошли ко дну, – заявил Альфонс Баллю.
Жозеф испепелил его взглядом.
– К каким же выводам
пришло расследование? Тайну раскрыли?
– Нет, эта загадка так и осталась неразгаданной.
Когда Жозеф с Виктором уже подходили к Сене, до их слуха донесся шум. Вокруг продавца газет собралась толпа.
– Покупайте «Матен»! Новое преступление анархистов! В воскресенье вечером в Монце выстрелом из револьвера в грудь убит король Италии Умберто I!
Жозеф с большим трудом отвоевал номер ежедневной газеты.
– Король присутствовал на вручении призов победителям соревнований по гимнастике. Когда он садился в карету, какой-то незнакомец сделал в него три выстрела. Цареубийцу зовут Бреши, толпа чуть не растерзала его на месте. Это тридцатичетырехлетний ткач, родился в Тоскане, люто ненавидит монархический режим, – резюмировал он. – Теперь я понимаю, почему в Елисейском дворце отменили праздник в честь шаха.
– Анархисты возвращаются, мир мчится навстречу своей погибели! – взорвался какой-то господин в монокле.
– Когда править народами станет некому, все пойдет ко дну! – предрек торговец цветами.
– Что вы об этом думаете, Жозеф?
– Лично мне вся эта внешняя политика надоела до чертиков. Газета предрекает, что восшествие наследника на престол будет связано с большими трудностями: страна охвачена волнениями, а принцу Неаполитанскому далеко до престижа отца.
– Не знал, что вы почитываете эту газетенку.
– Ну, это не ради последних известий, просто в ней публикуется «Черная лилия», захватывающий роман с продолжением Жюля де Гастина
[1157].
Читая на ходу, Жозеф даже не заметил, как они вышли на мост Гренель.
– Жюль де Гастин! Мы с вами говорим о корабле-призраке! – воскликнул Виктор.
Они облокотились на парапет. День клонился к закату, и статуя Свободы медленно превращалась в позолоченную фигуру из числа тех, которыми принято украшать нос корабля.
– Ну да, пока наш преподаватель витийствовал, я обнаружил явное сходство между эпопеей «Марии Селесты» и историей с «Комодо».
– Зачем было еще раз повторять трюк, уже имевший место четверть века назад? – спросил Виктор.
– Положить в карман премию за спасение «Комодо» можно было только в том случае, если судно стало ничейным.
– События, свидетелями которых мы являемся, слишком запутаны и коварны. Ставкой в этой игре не может быть заурядная премия. Может, капитаны «Эсмеральды» и «Комодо» сообщники? Что, если во время своих странствий они встретились в каком-нибудь порту и составили план, конечная цель которого нам пока неизвестна?
– Может, они договорились встретиться в открытом море после того, как капитан «Комодо» разделается со своими матросами? – предположил Жозеф.
Виктор с силой сжал виски.
– Давайте задействуем воображение, вы писатель, вам это будет нетрудно. Пожар. Страх перед заразной болезнью. Членов экипажа охватывает такой ужас, что они сломя голову бросаются в ялики. Шлюпки закреплены на судне пеньковыми канатами, достаточно их перерезать и тогда…
Жозеф неподвижно уставился на прогулочный пароходик и чихнул.
– Так оно и было, сцена будто стоит у меня перед глазами! Но что стало с капитаном «Комодо»?
– Не удивлюсь, если он втихаря поднялся на борт «Эсмеральды».
– Мэтью Уолтер? Это он был капитаном?
– Предположим, что так. Но кто его, в таком случае, убил? Нам нужно установить имена пассажиров «Комодо», характер перевозимого им груза, а также размер премии, полученной Энтони Форестером. Черт возьми, мы перероем все газетные архивы, но добудем новые сведения!
Виктор подозвал фиакр, кативший в противоположном направлении. Они развернулись и проехали по мосту, багровому в закатных лучах солнца.
– У нас есть два второстепенных свидетельства: вездесущий дракон и фуражка, приведшая меня на улицу Бога, – пробурчал Жозеф.
– Нутром чую, на этой улице мы узнаем нечто чрезвычайно важное, – прошептал Виктор.
Глава пятнадцатая
Тот же день, вечер
Чем ближе солнце клонилось к закату, тем больше душная атмосфера книжной лавки действовала ее обитателям на нервы.
Вниз по лестнице скатилась Мели, следом за ней – Эфросинья.
– Подавать летом эту отраву? Вы с ума сошли! Биточки из тунца, шпинат со сливками, жареные помидоры, шоколадные эклеры! Это же предумышленное убийство!
– Вы можете предложить что-нибудь получше? – мяукнула Мели, готовая вот-вот расплакаться. – Телячье легкое в красном вине и с луком? Лягушачьи лапки с рисом и пряностями?
– Легкий обед. Лег-кий! Суп из ячневой крупы, жареные морские языки, салат, компот! Вот так!
Мели, больше не сдерживая слез, вновь поднялась на второй этаж. Эфросинья, выдержав паузу, последовала за ней.
Скрючившись на табурете рядом с бюстом Мольера, Ихиро втихомолку стенал.
– Один против всех, без моего бесценного друга…
Из подсобного помещения с охапкой журналов в руках вышел Кэндзи и воззрился на беспорядок в поисках убежища, где можно было бы укрыться подальше от всех этих зануд.
Когда Виктор и Жозеф вернулись в лавку, он сухо им бросил:
– Проводили экспертизу очередной библиотеки? Я запрещаю вам, слышите? А вы, Жозеф, впредь не хватайте книги за корешки, когда снимаете их с полки.
– Да я никогда… – запротестовал обвиняемый.
Кэндзи кучей свалил журналы на прилавок, затем взял один и вновь принялся за Виктора:
– Почему бы вам не навести в порядок в наших каталогах? Или вы думаете, что заболеете от этого менингитом?
Он надел редингот и схватил цилиндр, покоившийся на кипе книг, которая не замедлила рухнуть, увлекая за собой табурет. Воспользовавшись этим отвлекающим фактором, Ихиро упорхнул со своего насеста.
– Господа, я на несколько дней уезжаю, – сказал Кэндзи. – Надеюсь, вы будете верно нести службу.
– И куда вы собрались?
– Меньше знаешь – крепче спишь.
– Мы должны знать, где вас искать, – разозлился Жозеф, – в противном случае я больше глаз не сомкну!
– В деле сочинения хороших романов бессонница – лучший друг писателя. Вот так-то, господин литератор. Пойдемте, Ихиро.
– Я? Вы уверены? Прямо сейчас?
– Я решил воспользоваться вашим советом, господа. Мы отправляемся в изгнание. Как гласит народная мудрость, зебра чувствует себя в безопасности только среди себе подобных. Ватанабе-
сан, все необходимое у вас наготове?
– Да, Мори-
сан, кимоно,
хакама[1158],
камисимо[1159], парик и деревянные башмаки у меня в сумке, – ответил Ихиро, и в глазах его зажегся лучик надежды.
– Отлично, тогда в путь.
Жозеф пожал плечами.
– Переодеться самураем любой дурак может, – недовольно проворчал он.
– Только не вы! – воскликнул Кэндзи. – Самурай, дорогой мой, готов умереть в любую минуту.
– Кэндзи, – вмешался в их спор Виктор, выступая в роли миротворца, – настоятельная необходимость в этом еще не назрела, поживите пока у Эфросиньи, там вы будете в безопасности.
– Несмотря на все благодушие этой дамы, мы будем ее стеснять. Так что в ваших же интересах активизировать поиски. Ихиро-
сан, когда эта история закончится, вы мне за все ответите. Тоже мне
шнорер нашелся!
– А что такое
шнорер? – заскулил тот.
– На идише так звучит слово «попрошайка»!
– Вы говорите на идише? В таком случае у вас бесспорные способности к языкам, – признала Эфросинья, за несколько мгновений до этого спустившаяся по лестнице.
– В довершение всех бед Джина напрочь отказывается пожить у дочери! – продолжал Кэндзи. – Я буду волноваться. Виктор…
– Хорошо, я буду спать в вашей гостиной. Таша, ничего не зная, этого явно не оценит.
– Бедный мой друг, неужели вы в самом деле считаете, что Таша не в курсе ваших шалостей? Святая простота! Ну что, мы договорились, вы остаетесь здесь?
– Да, да, – скрепя сердце уступил Виктор.
На вершине лестницы показалась Джина.
– Нет. Тем более что одна я в любом случае оставаться не буду. Попрошу Мели ночевать на нашей половине. В обращении со скалкой она настоящий эксперт.
– Ага, только пирожные на вечер приготовить не может! – запротестовала Эфросинья. – Потому что ровным счетом ничего в них не понимает!
– Скалка – эффективное оружие защиты. Так что поторопитесь, друг мой, фиакр вас уже заждался. Ступайте и воспылайте чувством к божественной Саде Якко, ее изысканность вас обязательно пленит. Сколько времени вас не будет?
– Радость моя, я…
– Ступайте, вам говорят, вы нужны мне живым.
Джина подождала, пока они не ушли, и повернулась к Виктору.
– Вы разгневаны, – заметила она.
– Разгневан? Кэндзи, не понимая, что перед ним разверзлась пропасть, отправляется устроить бенефис в театре, где работает Ихиро! У меня нет слов, я крайне разочарован вашим легкомыслием.
– Постарайтесь поставить себя на мое место и на место Кэндзи! До тех пор, пока дело не прояснится, театр будет идеальным убежищем. И кому какое дело, что я могу остаться вдовой? Вы с Жозефом – двое сумасшедших. По вашей милости Таша, Айрис и я вот уже какой год не знаем покоя.
– Не говоря уже обо мне! – воскликнула Эфросинья, замахнувшись на сына, который предпочел отскочить в сторону, уворачиваясь от возможного удара.
«Болван! Как будто я, мать, в самом деле могу ударить сына! Ах, как же он тяжек, этот мой крест!»
– Эгоист! – добавила Джина. – И вы еще осмеливаетесь ревновать мою дочь к ее знакомым! На вашем месте, Виктор, мне было бы стыдно. Я предупредила Кэндзи: если он умрет, я его брошу!
Она была настолько возмущена, что даже стала заговариваться.
– Джина, я прошу прощения, но…
– Мне не за что вас прощать, ведь изменить человеческую натуру невозможно. Но играть в вашем возрасте в полицейских и воров! Это, признайтесь… Вы ставите под удар будущее Алисы. Если, предположим, книжная лавка перестанет приносить доход, на что вы будете ее растить? С некоторых пор торговля идет ни шатко ни валко, и Кэндзи это очень беспокоит. А в вас, его приемном сыне, он не видит никакой опоры.
– Клиентов стало меньше из-за Выставки и жары.
– Точь-в-точь как мой первый муж. Тот тоже отказывался брать на себя любую ответственность. Преобразование общества стало для него высшим приоритетом – до такой степени, что он напрочь забросил семью.
– Кстати о Пинхасе…
– Не произносите больше его имени в моем присутствии Он принес нас в жертву Революции, чтобы присоединиться к когорте
бизнесменов. А в шестьдесят лет умудрился родить третьего отпрыска – ребенка, который, став взрослым, не сможет знаться с папочкой. Замечательное достижение.
– Своими словами вы сразили его наповал! – одобрила Эфросинья.
Джина поднялась по лестнице. На втором этаже хлопнула дверь.
– Мели! Где вы! – позвала она.
Виктор подошел к Жозефу и кивком головы подал знак следовать за ним в подсобку.
– Вот, возьмите. Джина поручила мне купить эти билеты для вас, Айрис и вашей матушки, с которой вы, по случаю, сможете помириться. Она просит вас сегодня вечером тайком от Кэндзи сходить на спектакль Сады Якко и присмотреть за ним.
– Стало быть, только что она ломала комедию?
– И да, и нет, вы же знаете женщин! Я рассказал ей, как Кэндзи намеревается воспользоваться нашими советами. Ступайте и предупредите Эфросинью.
– А кто вечером останется с детьми?
– Дядюшка. Он ни в чем не может им отказать. Таша не возражает.
– Вы даже не представляете, на что идете. Это хуже полицейского расследования.
– Обожаю детей, одной дочери мне недостаточно, во мне живет душа вождя целого племени.
Жозеф с сомнением поглядел на него.
Фиакр застрял в заторе, образовавшемся в результате аварии с участием автомобиля. Они опоздали и в зал, выдержанный в стиле «ар-нуво», смогли попасть только в антракте, по окончании первой части представления, во время которой давался сеанс магии.
– Видела, радость моя? Здесь яблоку негде упасть, какое счастье, что мадам Джина зарезервировала для нас места! – воскликнула Эфросинья, шествуя перед Айрис.
Они уселись в третьем ряду. Здание театра Лои Фуллер было украшено рельефным изображением этой американской актрисы. На барельефах, фризах и кариатидах она извивалась как змея. Чопорный молодой человек с пышной шевелюрой и лорнетом, сидевший неестественно прямо рядом с Жозефом, не сводил глаз со сцены, закрытой занавесом с изображенными на нем греческими мотивами. В ожидании ритуала, предназначенного для узкого круга посвященных, он постепенно впадал в транс и поэтому проявил явное неудовольствие, когда его сеанс медитации был нарушен раскатистым голосом Эфросиньи.
– Что-то я проголодалась, надо было взять леденцовой карамели. Лапочка, передайте мне программку.
Ка-бу-ки, онна… гата, буё… Тарабарщина какая-то! Иисус-Мария-Иосиф, теперь, чтобы куда-нибудь сходить, нужно обязательно быть полиглотом! Могли бы и на французский перевести!
К ней повернулся молодой человек.
– Мадам,
кабуки представляет собой традиционный японский театральный жанр. Само название состоит из трех частей,
ка – это музыка,
бу – танец,
ки – сценическое искусство. Повседневная жизнь в рамках этого жанра сублимируется до языка жестов, необычайно тонкого и весьма замысловатым образом закодированного. Руки, глаза, голова актера выражают чувства, но никак не разум. И манипуляции с различными предметами тоже не случайны.
Эфросинья, вытаращив глаза, в страхе смотрела на него.
– И как разобраться во всей этой каше?
– Если человек восприимчив к нравственным конфликтам, печальным историям любви и эпическим повествованиям, тогда все идет из глубины души. Оннагата – это актеры-мужчины, которые, начиная с XVII века, играют женские роли.
– Благодарю вас. Но неужели вы хотите сказать, что Садо Якко – мужчина?
– Сада Якко, – поправил ее собеседник, скривив рот. – Нет, это женщина. Раньше выступала в комедиях при дворе императора, изумительно танцует и играет на тринадцатиструнной арфе
кото. Бывшая гейша, обладает несравненными музыкальными талантами, а ее сценическая игра представляет собой редкую смесь необузданной страсти и достоинства. Сада Якко берет на себя смелость нарушать правила традиционного японского театра и воплощать собой героиню.
– Ну, это не бог весть какая находка, – проворчала Эфросинья.
Она удобнее устроилась в кресле и прошептала на ушко Айрис:
– Эти японцы не изобрели ничего нового. Сара Бернар с успехом играла роль мужчины, к тому же молодого, когда ей уже было далеко за пятьдесят! И создала «Орленка» Эдмона Ростана!
Чувствуя себя неловко от бестактности матери, Жозеф закашлялся.
– А танец
буё? – спросила она соседа, который смерил ее презрительным взглядом.
– Этот танец – удел куртизанок и
онногата.
– И вы любите подобные зрелища?
– Андре Жид, мой литературный собрат, горячо убеждал меня посмотреть это представление, которое дадут всего лишь сто двадцать три раза. Подобно ему, я уже не первый раз здесь. Постановку спектакля осуществил Отодзиро Каваками, Сада Якко – его жена. В первый раз это было откровение, даже несмотря на то, что «Гейшу и рыцаря», которая в Стране восходящего солнца длится два дня, у нас уложили в полчаса. Спектакль представляет собой вольную трактовку «Дамы с камелиями», действие происходит в Японии XVI века. Кроме того, я горячо полюбил «Кесу»
[1160], которую играют, чтобы чередовать представления. К сожалению, в этом зале нет места, чтобы продолжить сцену в зрительный зал с помощью помоста, как это делают в Японии. Все, тихо, начинается!
Занавес отошел в сторону, явив взорам средневековый замок и цветущие вишни, при виде великолепных оттенков которого публика восхищенно ахнула.
Музыканты уселись в левой части сцены и заиграли странную мелодию, в такт которой солист стал выкрикивать какие-то стенания. Звукам флейты и ударных вторил какой-то щипковый инструмент.
– Вон та лютня с длинным грифом называется
сямисэн, а две деревяшки, с помощью которых подчеркивают реплики актеров, –
хесиги, – прошептал собрат Андре Жида.
Главные действующие лица пьесы – гейша Кацураги и самурай Нагойя, окруженные многочисленными исполнителями в разноцветном гриме, – рассказывали грустную историю своей любви зрителям, ошеломленным великолепием парчовых нарядов и причесок. Сада Якко, то с высоким, нашпигованным булавками шиньоном на голове, то всклокоченная и лохматая, декламировала свои тирады, под конец переходя на вибрато и неподвижно застывая в торжественной позе, выставив вперед развернутый веер. Убаюкиваемый ее монотонным голосом, Жозеф клевал носом и погружался в дрему. Айрис, опасаясь, что он вот-вот захрапит на все лады, похлопала его по плечу. Жозеф подпрыгнул – в самый раз для того, чтобы увидеть на сцене самурая с волосами, стянутыми на затылке в хвостик, размахивавшего непомерных размеров саблей. Эфросинья толкнула сына локтем в бок.
– Проснись, радость моя, а то вся эта мелодрама плохо закончится!
Сада Якко монотонно запела, отчего Жозеф не замедлил вновь впасть в коматозное состояние. Гром аплодисментов заставил его тут же выпрямиться. Он встал, предпочитая не замечать презрительных взглядов соседа.
– Прошу прощения, мне нужно на воздух, эта пьеса действует на меня как снотворное.
– Куда это ты собрался? Есть еще второе отделение. Мария-Луиза, она же Лои Фуллер, будет потрясать своими полупрозрачными шелковыми покровами, превращаясь то в бабочку, то в цветок, – заявила Эфросинья. – Так написано в программке. Черным по белому.
– Я ухожу, подожду вас на улице.
В тот самый момент, когда он дошел до выхода, на сцену вышла пухленькая женщина. Под гром аплодисментов она, манипулируя бамбуковыми шестами, стала размахивать струившимися полотнищами, отливающими разными цветами, а затем завертелась, будто летящий на электрический свет мотылек.
«От этого вертлявого ерзания только голова кружится», – подумал Жозеф, направляясь за кулисы.
Небольшие размеры артистических уборных не позволяли всем членам труппы одновременно снимать грим. Приоритет оставался за дамами.
Какой-то человек в широких штанах внимательно присмотрелся к Жозефу и прошептал несколько гортанных фраз другому актеру – с наклеенной тонзурой на голове. Тот подошел, приблизил свой лик на дюйм к лицу Жозефа и вполголоса произнес:
– Пиньо-
сан, бегите, пока Мори-
сан вас здесь не увидел!
Под красным гримом, указующим на то, что перед ним положительный персонаж, Жозеф разглядел моржовые усы.
– Ихиро! Вы играли на сцене!
– Совершенно верно, как и Мори-
сан. Я думал, вы знаете. В своих самурайских доспехах он выглядит просто восхитительно, и даже если ему, как и мне, отведена немая роль, пьеса от этого хуже не становится!
Жозеф утвердительно кивнул головой. Признаваться, что во время спектакля он неплохо вздремнул, не было никакой необходимости.
– И он, и я очень гордимся, что нам позволили выступить в качестве действующих лиц. Вы видели какой восторг выказывали зрители? Это вам не ярмарочный балаган, это театральная постановка, подобных которой в вашей стране отродясь не было, – прогнусавил Ихиро.
– Вы определенно профессионал наивысшей пробы. Убирайтесь отсюда. – приказал чей-то сдавленный голос.
Ихиро с Жозефом подпрыгнули.
– Очень умно. Я здесь инкогнито! Вы не подумали, что за вами могли следить? – добавил голос.
«Кто это говорит? Коротышка с цитрой? Худосочный тип с флейтой? Большой барабан? Длинноносый? Или лысый, закованный в латы?»
Окинув по очереди внимательным взглядом музыкантов и актеров, Жозеф остановился на воине, щеки и лоб которого, в знак враждебности, были покрыты синей краской.
– Я веду наблюдение, – заверил он.
– Ведите его где-нибудь в другом месте! – ответил голос.
Жозеф в смущении пробормотал:
– Мадам Джина вол… волнуется, где… где вы будете ночевать?
– Мадам Фуллер, выступающая в роли импресарио этой японской труппы, любезно предоставила в наше распоряжение одну из грим-уборных. Мы будем спать на ватных матрасах и питаться за счет принцессы.
– Значит, Ихиро останется здесь?
– Какая редкая проницательность, Шерлок Пиньо, – отрезал Кэндзи. – Берите своего компаньона и побыстрее закругляйте свое расследование, чтобы я мог покончить с этой монашеской жизнью!
– Вряд ли вам стоит жаловаться, ведь вы всегда мечтали оказаться в центре внимания. Теперь женщины будут наперебой добиваться вашей благосклонности.
– Ах, как же он тяжек, этот мой крест! – парировал Кэндзи и отвернулся от зятя.
К тому моменту, когда Жозеф вышел из театра, Айрис уже какое-то время пыталась успокоить неустанно бушевавшую Эфросинью:
– Ну наконец-то! Что это еще за манеры? Ты ведешь себя как какой-нибудь грубиян! Надо же, улизнул, как воришка, а нас посреди ночи заставил его дожидаться!
– Ты пропустил прекрасную хореографическую постановку, – упрекнула Айрис мужа. – Эта Лои Фуллер во всех отношениях перещеголяла танцовщиц из «Мулен Руж»!
– Прошу прощения, но в переполненном зале я чувствовал себя как селедка в бочке.
Он встал между женой и матерью и взял их под руки.
Они прошли через небольшой садик, окружавший театр, и направились по улице Парис, где толпились прохожие, очарованные фасадами, освещенными тысячей огней.
– У меня такое ощущение, что при ревматизме будет в самый раз, – заявила Эфросинья.
– Что будет в самый раз? Толпа? – недовольно буркнул Жозеф.
– Нет, электричество.
В нескольких метрах за ними упругим шагом двигался силуэт. В правой руке он сжимал веревочку, на конце которой исполняло акробатический танец йо-йо.
Глава шестнадцатая
Вторник, 31 июля
Повесив на плечо сумку, битком набитую творческим наследием Клода Проспера Жолио де Кребийона
[1161], Жозеф вышел из антикварной лавки в тупике Муссе. В голове его вертелась мысль, более навязчивая, чем маленький демон. Если «Таймс» опубликовала заметку о корабле-призраке, то, как справедливо предположил Виктор, какие-то французские газеты могли напечатать эту информацию, снабдив ее новыми деталями.
«Какой же я дурак, надо было просмотреть номера “Паспарту” за 99-й год. Если я пойду туда еще раз, этот педант Рено Клюзель может что-то заподозрить. Нужно попытать счастья в других редакциях. Это отнимет уйму времени, хотя гарантий, что я найду интересующую нас заметку, нет никаких. Вот черт! Тяжелый случай».
На бульваре Дидро Жозеф остановился, перевесил поклажу на другое плечо и спустился к Лионскому вокзалу в поисках стоянки фиакров на улице Шалон.
На краю тротуара какой-то мальчишка в жандармской пилотке, сделанной из газеты, соорудил бумажный кораблик, пустил его плыть по канаве и шел за ним до тех пор, пока тот не потерпел кораблекрушение у разинутой пасти канализационного коллектора.
«Да!» – подумал Жозеф, не сводя глаз с головного убора парня.
Его пульс забился быстрее. «Да! Бишонье!» Пиньо зашагал по улице Шалиньи, затем, между больницей Сент-Антуан и казармой Рейи, свернул на узкую улочку и оказался перед вывеской:
БИШОНЬЕ И СЫНОВЬЯ
Конфетти и аксессуары для праздников
Зонты. Шляпы. Маски
– Марсуэн
[1162]! – заорал он толстому парню, который был занят тем, что сваливал газеты на повозки, стоявшие у двери в подсобку. – Эй, Марсель!
Тот поднял голову, распахнул объятия и бросился навстречу гостю.
– Жозеф! Ты? Ах, мой дорогой Пинюф
[1163], я чертовски рад тебя видеть!
Марсуэн, Пинюф – этими прозвищами они называли друг друга в те времена, когда бегали по улицам столицы в коротеньких штанишках и выкрикивали заголовки первых страниц газет.
Марсель Бишонье – косая сажень в плечах и чуть косоглазый – с такой силой прижал Жозефа к своей могучей груди, что тот попросил пощады.
– Дай мне хотя бы снять сумку с поклажей.
– Мой старый Пинюф! Мы не виделись с тобой уже больше двух лет.
– Мог бы и зайти к нам в лавку.
– Да заходил я. И даже виделся с твоим партнером, японцем, который сказал мне, что где-то пропадать для тебя – обычное дело. Что привело тебя ко мне?
– Я покупал неподалеку книги. Пришел поинтересоваться, как поживает твое семейство. Я получил твою открытку, извещающую о рождении наследника. Значит, теперь у вас уже четверо?
– Да, причем одни мальчишки. Когда-нибудь они придут мне на смену. Я расширил дело, и теперь у меня восемь работников.
– Как поживает супруга?
– Каролина с детьми в деревне. Я отправил их к бабушке с дедушкой, а то в Париже в такую жару жить невозможно. Может, пропустим по стаканчику?
– Давай, но только лимонад. Запах у тебя, как всегда, еще тот.
– Это хлорка, она используется для отбеливания бумажной кашицы перед ее окрашиванием. Я привык! Сейчас меня завалили заказами на изготовление зонтиков от солнца. Да здравствует Выставка! Да здравствует зной! У меня были проблемы с водоснабжением, но сейчас все устроилось.
– Ты по-прежнему выкупаешь нераспроданные газеты?
– Надо думать! Ведь они – мое сырье.
– Может, тогда выручишь меня? После рождения Артура я больше не храню дома подшивки газет, а мне нужна одна статья, опубликованная в прошлом году.
– Что конкретно ты ищешь? Ежедневное издание, еженедельник, ежемесячник? Нужно спросить у папаши Теофиля, он сортирует их в зависимости от размера и текстуры и способен выследить даже букашку на кукурузном поле. Я пока подожду своих рассыльных, они вот-вот должны вернуться с улицы Круассан, а потом мы с тобой промочим горло. Давай, старина Пинюф!
– Давай, старина Марсуэн!
Папаша Теофиль, еще крепкий, но уже седовласый малый, повел его по хитросплетениям лабиринта, состоявшего из бумажного хлама, вышедшего из-под печатного станка.
Там были разрозненные номера «Иллюстрасьон», «Пети Журналь», «Монд иллюстре», «Голуа», «Матен», «Сьекль», «Фигаро» – сотни и сотни публикаций.
Папаша Теофиль почесал затылок.
– Номера за 99-й год должны находиться в глубине, наверху вон тех стопок. Возьмите лестницу. Я, со своим позвоночником, который гремит, как кастаньеты, ею больше не пользуюсь. Собираете материалы для ваших романов? Они потрясающи, больше всего мне нравится «Кубок с острова Туле», я читал его целых три раза. Ну хорошо, я вас покидаю, хочу немного перекусить, пока жара не стала удушливой.
Жозеф посмотрел на бумажные завалы, сбросил пиджак, поднялся по лестнице и мужественно взялся за работу.
Успехи Жозефа были поистине блестящи. Он смотрел на Виктора, который читал вслух статью в «Тан», опубликованную 16 мая 1899 года под заголовком:
НОВЫЙ «ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ»?
…«Комодо» перевозил груз ценных пород дерева, слоновых бивней, сахара. И хотя премия, полученная Энтони Форестером, капитаном «Эсмеральды», составляет не более одной пятой стоимости «Комодо» и его груза, она все же представляет собой весьма внушительную сумму. Экипаж «Комодо» состоял из капитана Дункана Кэмерона, его старшего помощника Брэда Бейкера, боцмана Мэтью Уолтера, в чьем подчинении была палубная команда…
Виктор осекся на полуслове.
– Боцман? Мэтью Уолтер. Вот черт! Этот боцман был убит здесь, в Париже! А раз так, Жозеф, то Кэндзи ничего не угрожает!
– Тоже мне, открыли Америку! Вы меня утешили, если Мэтью Уолтер и боцман – одно и то же лицо, можно перевести дух… Продолжайте.
…боцмана Мэтью Уолтера, в чьем подчинении была палубная команда, пяти матросов и кока азиатского происхождения, чьи имена нам не сообщили. Поиски этих людей успеха не принесли. Можно почти с полной уверенностью сказать, что их поглотили волны Атлантического океана.
– Вам бы надо взглянуть на письмо, которое Даглан нашел в позаимствованном у Энтони Форестера бумажнике, – развязно предложил Жозеф, – потому как сюрпризы еще не закончились.
Виктор повиновался.
Кок Исаму теперь плывет по реке Стикс в компании с Лакуто. У его хозяина, японца, обнаруженного в книжной лавке «Эльзевир» на улице Сен-Пер, ничего не найдено. Безотлагательно узнайте, живет ли он по указанному адресу. Боцман займется им и уберет как нежелательного свидетеля. Увидимся вечером, ровно в шесть часов в месте, где хранится урожай. Не опаздывайте.
ОМОДО
– Кок! Им был Исаму Ватанабе? Все трое – Форестер, Уолтер и Исаму – ходили в плавание. Они были знакомы? Если да, то это напоминает сведение счетов.
– Три вопроса остаются без ответов. Кто такой Лакуто? Что искали в доме Ихиро? Что подразумевается под «урожаем»?
– Чтобы без колебаний отправить на тот свет всех этих людей, «Комодо» должен был перевозить груз намного более ценный, чем было заявлено, – сказал Виктор. – Может, там был какой-нибудь контрабандный товар? Это чистой воды домысел, но две жертвы, пронзенные стрелами, вряд ли договорились встретиться в «Отеле Трокадеро» только для того, чтобы сходить на Выставку. Что же касается Исаму Ватанабе, то я нутром чую, что он тесно связан с Энтони Форестером и Мэтью Уолтером. Получается, что существует четвертый душегуб, готовый на все, лишь бы заполучить этот «урожай», который неизвестно у кого хранится. И мы должны его найти.
Легри задумался.
– Убийца боцмана, по всей видимости, является тем человеком, который написал Форестеру письмо. Поэтому Кэндзи и Ихиро по-прежнему угрожает опасность.
– Могли бы и признать мои заслуги, я чуть себе лоб не разбил, балансируя на этой лестнице. Хотя да, понимаю, если бы это случилось, вы просто сказали бы: «Ну и слава богу, одним меньше будет»!
– Нет, Жозеф, я бы искренне вам посочувствовал. Я так думаю, что нужно еще раз наведаться в квартиру Ихиро, может случиться так, что от нас ускользнула та или иная деталь. Полагаю, вы напрочь выбились из сил во время этой опасной вылазки к другу Бишонье, поэтому самоотверженно отправляюсь на улицу Лекурб в гордом одиночестве. Что же касается вас – ни на минуту не упускайте Кэндзи из виду.
Своей спорадической забастовкой кучера фиакров посеяли такую суматоху, что Виктор решил воспользоваться «Гладиатором» – велосипедом, который семья подарила ему по случаю сорокалетия.
Обессилевший, обливаясь потом, он оставил машину в помещении для мусорных контейнеров.
Легри совершенно не ожидал, что по завершении восхождения по лестнице ему откроет дверь пышнотелая белокурая деревенская красавица с васильковыми глазами – из категории тех, что тешили его эротические грезы до тех пор, пока он не воспылал страстью к зеленоглазой рыжей прелестнице. После того как Виктор представился, девица отвела его к бабушке, которой незадолго до этого принесла корзину овощей. Старуха покачивалась в кресле-качалке, на коленях у нее сидел кот.
– Опять вы, сударь? Пришли сообщить новости о господине Ихиро?
– Нет, я пришел кое-что узнать у вас.
– Посмотреть на меня анфас? Не надо, я этого не люблю!
Внучка приладила ей акустический рожок и спросила, четко выговаривая каждый слог:
– Твой сосед вернулся, бабушка?
– Хватит тебе, Мариетта! Если бы он объявился, я бы тебе сказала. Сударь, меня вот что беспокоит – вы говорили, что господин Ихиро вернется на этой неделе, забрали его постельные принадлежности, а теперь получается, что он куда-то пропал? Вы ввели меня в заблуждение.
– Мадам, у меня и в мыслях не было вас обманывать. Дело в том, что два дня назад господин Ватанабе от нас съехал, и теперь я беспокоюсь – он выглядел каким-то озабоченным.
– Есть от чего встревожиться, ведь человек ни с того ни с сего с места срываться не станет… Кстати, вспомнила! Его ищете не только вы. Вечером того самого дня, когда вы явились сюда впервые, ко мне в дверь постучал какой-то господин. Хотел поговорить. Поскольку вы оставили мне свою визитную карточку, на случай если господином Ихиро будут интересоваться, я отдала ее ему.
– Как он выглядел?
– Что до этого, то голова моя к тому времени уже была затуманена бенедиктином, на улице смеркалось, а свечу я не зажигала.
– Ваш сосед определенно стал объектом всеобщего интереса.
– Зачем вы пришли?
– Я ищу матросскую сумку, она может навести меня на след.
Не давая бабушке времени для ответа, Мариетта незаметно подала Виктору знак и увлекла его к двери.
– Бабушка, я сейчас вернусь, мне нужно кое-что сделать.
– Куда ты? А мой суп? Кто его будет варить?
Мариеттта тихо затворила за собой дверь.
– Сударь, вы из полиции?
– В некотором роде.
– По поводу этой сумки мне кое-что известно. Пойдемте в прачечную, – велела Мариетта, подталкивая его к темной лестнице.
На веревках за окнами прачечной висели рубашки и чепцы. Едва переступив порог, они оказались окутаны удушливой, влажной атмосферой. Виктор промокнул носовым платком лоб. Пока Мариетта разговаривала с седовласой клиенткой, служившей в одном из окрестных господских домов, он смог не торопясь оглядеться.
Две прачки поставили посреди комнаты корзину с чистым бельем. Одна из гризеток тут же бросилась сортировать одежду, другая побрызгала горячей водой с крахмалом на муслиновое платье в горошек. Несмотря на жару, пузатая печка, набитая углем под завязку, полыхала жаром. Вокруг очага на досках стояли утюги всех форм и размеров.
– Это гриб, это поляк, вот это петух, а там утюг для гофрирования, – объяснила Виктору гризетка, которая занималась муслиновым платьем, надев его на доску.
Она схватила утюг, поднесла его к щеке и стрельнула глазками в сторону обольстительного визитера. Затем разгладила лишнюю складку и поставила его на круглую чугунную подставку.
– Оборки должны быть безупречными. Крахмал пачкается… да и пахнет плохо, правда?
Виктор скривился и кивнул.
Когда утюг из горячего стал теплым, девушка умело прошлась по нему щеткой, чтобы очистить от грязи, и вновь стала гладить.
Служанка сначала долго судачила по поводу своих господ, затем заговорила о покушении, стоившем жизни королю Италии.
– Когда супруг прочитал ей газету, госпожа сказала: это судьба!
– Да, – поддакнула Мариетта, – судьба, она точно такая же, как мы, ей отдыхать тоже некогда.
– Мой господин служит счетоводом в Палате мер и весов и поэтому весьма сведущ в подсчетах. По его мнению, все эти покушения неизменно совершаются летом и обязательно в воскресенье. Сади Карно
[1164] убили летом, австрийскую императрицу тоже. А теперь и Умберто I, в него тоже стреляли летом, в день Творца.
«Пути Господни неисповедимы», – отметил про себя Виктор.
Служанка ушла, держа в руке корзину с выглаженным бельем. Две гризетки, занимавшиеся утюжкой, пошли пообедать в тени дворика шорника, не забыв одарить Виктора самыми очаровательными улыбками.
Тот обратился к Мариетте и сказал:
– Готов вас выслушать, мадемуазель.
Девушка покраснела, смущенная и польщенная разговором с этим молодым человеком, столь же удивительным, как Эдмон Дантес, герой романа «Граф Монте-Кристо», который она как раз дочитывала.
– Понимаете… У господина Ихиро поселился этот загадочный молодой человек. Он был мил, неболтлив, весьма любезен и обходителен. Раньше жил на каких-то островах.
– На каких именно?
– Там женщины плетут венки из цветов и прогуливаются под пальмами с… без… словом, ничем не прикрывая грудь.
Мариетта поднесла ладонь ко рту и мысленно себя отругала. Она чуть было не сказала «с голыми грудями»! Затем вдруг представила себя обнаженной и всем естеством захотела, чтобы сидевший напротив незнакомец положил ей на грудь свою руку.
«Пресвятая Богородица, в наказание я в воскресенье в церкви двадцать раз подряд произнесу “Отче Наш”», – пообещала она себе.
– Таити? – настойчиво гнул свое Виктор, тронутый смущением Мариетты.
Промелькнувшее перед мысленным взором видение женщин с пышными бюстами ввергло его в замешательство. Он отошел на пару шагов и натолкнулся на утюг для гофрирования, к счастью, холодный, который тут же упал на пол. Легри нагнулся и поднял его.
– Простите. Таити? – повторил он.
– Нет, они оканчиваются на «йи».
– Гавайи?
– Да, точно. Мне так горестно, ведь его убили… А какой красивый был иностранец. Он наблюдал за моей работой, и я…
– Откуда вы узнали о его смерти?! – перебил ее Виктор.
– Моя хозяйка выписывает «Иллюстрасьон». В ней была статья на полстраницы, рассказывавшая об убийстве азиата лет тридцати, которому пронзили стрелой грудь. К ней прилагались два фото. Я тут же узнала Исаму. Это меня очень опечалило.
– А фамилию этого Исаму вы знали?
– Нет, он назвал мне только свое имя, в тот самый день, когда подарил раковину, в которой можно услышать море, если, конечно, вокруг не очень шумно.
– И вы не сообщили эти сведения полиции? Они же обладают первостепенной важностью!
Щеки Мариетты вновь залились румянцем, а пальцы затеребили лоскут ткани.
– Я испугалась. Испугалась, что меня в чем-то обвинят. Или что преступник отомстит мне или бабушке. Я сирота, и воспитывала меня она. Когда я была еще маленькой, дедушку заподозрили в том, что он украл со стройки на улице Гренель доски. Его посадили в тюрьму, в сырой камере он заболел и вскоре умер от воспаления легких.
Виктор, смягчившись, кивнул головой.
– Исаму вручил вам какую-то сумку?
От волнения у девушки перехватило горло, поэтому она тоже кивнула, но затем все же смогла продолжить:
– Да. Он спросил у меня, видела ли я море – французская речь давалась ему не без труда. Я ответила, что нет. Тогда он поведал мне, что был матросом, что проводил жизнь на кораблях, бороздивших моря и океаны, и что эта сумка – самое ценное, что у него есть. Боялся, что ее у него украдут. И я согласилась оставить ее у себя.
– А сейчас она по-прежнему у вас?
Мариетта закусила губу, скрестила на груди руки и призналась:
– Нет. Вчера какой-то господин устроил мне допрос с целью выведать, не знаю ли я, что случилось с вещами квартиранта господина Ихиро. Я боюсь неприятностей. Он либо был полицейский, либо знакомый Исаму. Здесь мы с ним были одни, только он и я.
– И вы отдали ему сумку.
– Да. Подумать только, он мог обвинить меня в краже! В голове у меня пронеслось множество мыслей, смекалка и мужество покинули меня, в чем я очень раскаиваюсь.
– Это не ваша вина. Что представлял собой этот индивидуум?
– Был похож на великого князя.
Виктор растерянно посмотрел ей в глаза. Она что, смеется над ним?
– Он назвал вам свой дворянский титул? Это был русский?
Девушка хихикнула, смех сначала застрял у нее в горле, затем она затряслась от хохота, что на довольно длительное время лишило ее возможности говорить.
– Да нет же, «великим князем» в наших краях называют филина. Этот человек был похож на сыча, его седые волосы, топорщившиеся по обе стороны головы, напоминали собой совиные уши.
Виктору не пришлось напрягать мозги – это описание в точности соответствовало внешности Робера Туретта.
– Он заставил меня взять десять франков и дал адрес отеля, в котором остановился, на тот случай, если будут найдены другие пожитки Исаму. Велел оставить их у администратора для постояльца из двадцать седьмого номера.
– Он называл Исаму по имени? Это очень важно.
Она стала грызть ноготь большого пальца, и этот жест напомнил Виктору о схожем пристрастии Таша.
– Нет, только японским другом, оказавшимся в затруднительном положении.
– Как по-вашему, этот визитер знал о его смерти?
– Он о ней даже не обмолвился.
– Вы не смотрели, что было в сумке?
Мариетта нервно барабанила пальцами по краю накрытого скатертью портняжного стола.
– Такой соблазн у меня был, но я сдержалась. Из-за раковины. В противном случае я была бы повинна в предательстве.
Над ними повисла тягостная тишина, нарушаемая лишь гудением печки да отдаленными ударами молотка.
– Мне нужен адрес, который он вам оставил.
Ни слова не говоря, девушка вытащила из блузы клочок бумаги.
«Палас-отель», 103–113, авеню Елисейские Поля, – с нарастающим волнением прочитал Виктор.
Это был Робер Туретт!
– Что-то еще?
– Да, сегодня произошла странная история. Утром явился какой-то тучный господин. Он был вежлив, элегантен и говорил с каким-то своеобразным акцентом, определить который довольно трудно. Венгерский, испанский…
– Почему вы причислили его именно к этим народам?
– По манере выговаривать «р». Он произносил этот звук раскатисто.
Виктора вдруг охватило неистовое желание закурить, но он настолько дрожал, что не осмелился вытащить сигарету из лежавшей в кармане пачки.
– И ему тоже была нужна матросская сумка! Когда я рассказала, что вчера ее забрал другой господин, лицо его побагровело, он начал кричать, что это скандал, что эта сумка была украдена у него и что он подаст жалобу. Затем потребовал, чтобы я описала ему этого сыча. Я запаниковала. А вдруг он бы меня задушил? Поэтому я подчинилась и даже написала ему название отеля. У меня и так забот хватает, и я не хочу потерять работу из-за господ, которым до меня нет никакого дела! Иначе нам с бабушкой только и останется, что умереть с голоду в подворотне. Я благословила небо, что хозяйки прачечной в этот момент не было и что Виолетта с Жюстиной были рядом, ведь этот толстяк стал пинать столы для утюжки, чуть их не переворачивая, и даже разбил глиняный горшок с крахмалом. Разгром! Мы втроем бросились бежать и обратились за помощью к кузнецу, толстяку Изамбару. Он схватил дубинку, ринулся к нам, но толстяк к тому времени уже испарился.
Рассказ отнял у Мариетты последние силы, она пошатнулась, и Виктор ее в самый последний момент подхватил, прижав к себе чуть сильнее, чем того требовали обстоятельства.
Он подвел ее к тротуару, усадил на тумбу, а сам вернулся в прачечную за водой. Мариетта жадно припала губами к кувшину, жидкость пролилась на корсаж, тесно облегавший ее округлости.
– После вашего визита у меня будут неприятности? – прошептала она.
– Нет. Мне пришлось вам солгать. К полиции я не имею никакого отношения. Я друг Ихиро, и мое единственное желание заключается в том, чтобы решить эту головоломку. Не вы одна боитесь быть причастной к уголовному преступлению. Господин Ватанабе до смерти напуган
насильственной смертью квартиранта. Вам нужно немного поесть, чтобы восстановить силы.
Девушка встала и с признательностью посмотрела на него.
– Благодарю вас, я кое-что припасла на обед.
Виолетта с Жюстиной вернулись в прачечную, стрекоча, как сороки.
– Флиртуете, мадам Мариетта?
– Мадемуазели, больше я не буду досаждать вам своим присутствием. До скорого! – бросил Виктор и заторопился к своему велосипеду.
– Нет-нет, останьтесь! – с мольбой в голосе воскликнула Виолетта.
Мариетта с сожалением посмотрела Виктору вслед и попросила Господа, чтобы это была не последняя их встреча.
После легкого ужина в компании с Таша и Алисой Виктор заперся в своей фотографической лаборатории – каретном сарае, который он когда-то снял у Бодуэна. В теплое время года на печке были разложены отпечатки, рассортированные по сюжетам: кустарные промыслы, дети за работой, ярмарки, букинисты.
Над мойкой он повесил несколько фотографий с Выставки. Авеню де ла Мотт-Пике в день ее открытия, 14 апреля, заполненная трамваями и омнибусами, уступающими дорогу автомобилям официальных делегаций. Незастроенные территории на авеню Сюффрен. Главный вход работы Рене Бине
[1165] с возвышающейся над ним статуей Парижанки, декольтированный наряд которой был выполнен по замыслу дома моды «Пакен». Андалузия времен мавров с диорамой, переносившей зевак из Альгамбры в Альказар. Кафе-ресторан «Ла Фериа», в котором можно было полюбоваться выступлениями севильских танцовщиц в компании Бони де Кастеллана
[1166] и Клео де Мерод
[1167]. Бродячий пес на самодвижущемся тротуаре. Раздел механики во Дворце металлургии и горнорудного дела с его исполинскими трубами. На его любимом снимке были запечатлены операторы Луи Люмьера, занятые съемкой шуточной драки на улице Наций, оружием в которой служили цветы. Легри полюбовался этой сценой, в которой ему самому хотелось бы принять участие, вращая ручку камеры, и дал себе обет как можно быстрее съездить в Монтрёй-су-Буа к Жоржу Мельесу.
«С помощью кинематографа я хочу приручить время. Когда Таша, меня, наших близких, всех, кто нам дорог, не станет, дети наших детей смогут увидеть как мы ходим, смеемся и строим рожицы… И в действительности мы останемся жить…»
Он отогнал от себя эту перспективу, помеченную печатью грусти, и вновь вернулся в прошлое. На него тут же обрушился целый вал противоречивых вопросов. Может, он опять пошел по ложному пути? Что, если Фредерик Даглан, он же Уильям Финч, водит его, Жозефа и Кэндзи за нос? Кем был этот Исаму? Мог ли Ихиро им солгать? От всего этого голова шла кругом, и Виктор решил сосредоточиться на Робере Туретте. Какую роль тот играл в этом таинственном деле? Что должно было храниться в матросской сумке, чтобы этот так называемый рисовальщик обманом выманил ее у Мариетты? И если за ним водились какие-то грешки, стал бы он раздавать свой адрес каждому встречному?
А как насчет толстяка, готового разнести прачечную только потому, что у Мариеты больше не оказалось сумки? Кем он был? И какими мотивами руководствовался?
Разглядывая портрет хозяина одного из ресторанов, президента «Клуба стокилограммовых», Виктор вспомнил упитанного типа, который подошел к комиссару Вальми у входа в «Отель Трокадеро». Англичанин… нет, шотландец. Как же его звали? Жанг, Янг? Да, Янг.
– Дьявольщина! – закричал Виктор. – Он же говорил по-французски, раскатисто выговаривая «р»!
На листе бумаги в клеточку он набросал эскиз. Посередине кружок, изображающий «Отель Трокадеро», вокруг четыре силуэта, соединенные с ним линиями: Энтони Форестер, Мэтью Уолтер, Уильям Финч и Янг.
– Двое из них были убиты стрелами, как и Исаму Ватанабе. Я должен все выяснить и устроить Даглану форменный допрос.
Виктор порылся в кармане, вытащил смятую пачку сигарет, карандаш, носовой платок и перчатки, выругался, засунул руку поглубже, извлек на свет божий смятую бумажку и тщательно ее разгладил.
– «Пикколо нуво», понедельник, среда, полдень, Лионская улица, – вслух произнес он.
Глава семнадцатая
Среда, 1 августа
Фредерик Даглан толкнул перед собой дверь «Пикколо нуво». Этот ресторан, притаившийся в проеме моста, по которому проходила железнодорожная линия Париж – Бри-Конт-Робер, и предлагавший клиентам блюда по фиксированным ценам, был братом-близнецом старого «Пикколо», располагавшегося когда-то среди останков крепостных укреплений Парижа, и отличался от него только наличием антресолей.
Анхиз и Мария Джакометти экономили на чем могли, чтобы в один прекрасный день продать харчевню в Клиньянкуре и купить другую в XII округе. С момента своего приезда из Италии в 1886 году они сохранили об этом квартале самые нежные воспоминания, и дожить спокойно в нем жизнь теперь для них было не бесплодной мечтой. Анхиз священнодействовал за прилавком, его миниатюрная супруга, уроженка Калабрии, заправляла на кухне. Что касается клиентуры, то теперь она состояла уже не из зеленщиков, а из железнодорожников и конторских служащих.
Два раза в неделю Фредерик Даглан приходил в зал, беленный известью с синькой, и устраивался за столом, покрытым клетчатой скатертью, напротив деревенской горки для посуды. Эта обстановка напоминала ему голодное время, когда семь лет назад он, зажав под мышкой сундучок «напечатай сам», приходил к Анхизу и в обмен на еду целый день прилежным почерком переписывал меню.
С тех пор ничего не изменилось, разве что в величественных усах хозяина и в волосах его жены появилась проседь.
– Как дела? – проворчал Анхиз.
– Как охотничьи угодья вокзал просто изобилует дичью, особенно когда свисток возвещает о прибытии поезда. Меня никто не спрашивал?
– Никто. Спагетти по-болонски подойдут?
Фредерик Даглан одобрительно кивнул и уставился через витрину на улицу. Ему нравилось околачиваться в районе Лионского вокзала. Пассажиры бросались, чтобы нанять извозчика, и предъявляли багаж инспекторам, которые препятствовали беспошлинному ввозу товаров в город и ставили на багаже крестики. После чего за дело брались посредники, выкрикивая номера фиакров и запихивая в них чемоданы и тюки. В царившей вокруг суматохе Фредерик Даглан облегчал карманы нескольких жертв в приличных костюмах и отправлялся обедать к Анхизу. По сравнению с многочасовыми блужданиями на солнце по лабиринтам Выставки этот заработок был не так утомителен.
За долгие годы расследования преступлений Виктор приобрел способность сразу обнаруживать слежку и нюхом чуять даже малейшие признаки присутствия подозрительных лиц. Поэтому в ресторане – небольшом, прокуренном и в этот час переполненном по причине полуденного зноя – он решил уступить место конторскому служащему, торопившемуся побыстрее съесть свой обед, и отошел от столика, за которым набивал брюхо субъект с глазами навыкате и обвислыми усами, который был всего лишь безобидным торговцем писчей бумагой.
Из осторожности он предварительно позвонил Жозефу, рассказал, что собирается делать, и в половине девятого вечера назначил ему в этом же ресторане встречу.
Наконец он увидел Фредерика Даглана, сидевшего за столиком в углу перед целой горой спагетти.
– Смотрите-ка, Легри, вы как раз вовремя. Эй, Мария! Еще тарелку и бутылку сиенского вина! Легри, позвольте дать вам совет – заткните салфетку за манишку, а то потом подумают, что вы кого-нибудь порешили ножом! Полагаю, вы намереваетесь меня о чем-то попросить?
– Верно. Я хочу попросить вас о двух услугах, каждая из которых не лишена определенного риска.
Фредерик Даглан на мгновение перестал жевать и поковырялся кончиком ножа в зубах.
– Нет ничего проще. Если бы я не обожал приключения, то сделался бы чиновником.
Мария Джакометти поставила перед Виктором тарелку с обжигающими спагетти и налила в бокалы кьянти.
– Ваше здоровье, Легри, – сказал Даглан, чокаясь. – Я вас слушаю.
– Нужно пробраться в гостиничный номер некоего Робера Туретта и стащить матросскую сумку.
– Ешьте, а то потом остынет. Накручивайте макароны на вилку, а то вы обращаетесь с ними, как последний недотепа. Предложение принимается. Стянуть что-нибудь у частного лица мне раз плюнуть, это мой любимый вид спорта. Что еще?
– Мне хотелось бы, чтобы вы раздобыли сведения о некоем толстобрюхом типе, который, по странному совпадению, является постояльцем одного из «Отелей Трокадеро». Арчибальд Янг, шотландец, когда говорит по-французски, раскатисто произносит «р».
– Кто из этих господ в очереди первый?
– Туретт. Живет в «Палас-отеле», роскошном заведении на Елисейских Полях. Номер 42. Внешностью напоминает Мефистофеля из «Фауста»: румяные щеки и характерная прическа с рожками на голове.
– Елисейские Поля, черт возьми! В этом случае порыться в его вещичках мне будет вдвойне приятно. Легри, я ваш должник! А кто возвращает долги – обогащается сам.
– Общество порицает подобный способ оплаты векселей, – возразил Виктор.
– Общество мне не друг. Почему люди остаются честными? Одни потому, что нарушение закона отнюдь не приводит их в возбужденное состояние, другие в силу того, что у них в банке есть приличный счет. Не забывайте также о том, что наша финансовая система основана на банкротстве большинства усилиями меньшинства – якобы обладающего утонченными манерами, но при этом способного на самые гнусные происки.
– Как и подобает адвокату дьявола, вы выступаете в защиту сомнительного дела. Вместе с тем для того, чтобы среди бела дня пробраться в гостиничный номер, требуется ловкость. Нужно точно знать, что постояльца там нет, и располагать достаточным временем, чтобы устроить обыск по всем правилам.
Фредерик подобрал кусочком хлеба остатки еды с тарелки.
– Вы правы, Легри, и вполне заслуживаете, чтобы вас приняли в воровское братство. Для подобного случая у меня заготовлен план, при том, однако, условии, что вы найдете абсолютно надежного сообщника.
– Я или Жозеф подойдем?
– Нет, ваш Туретт сразу что-то заподозрит, особенно если вы с ним уже встречались.
– Беда в том, что он уже приходил к нам в лавку. В тот же день мы виделись с ним еще раз – на Выставке десятилетия в Большом дворце.
– Это было не случайно, сей тип шел за вами по пятам.
Виктор от удивления выронил вилку.
– Откуда вы знаете?
– Наблюдал за его маневрами. Внешностью он и в самом деле похож на балаганного дьяволенка.
– Вы за нами следили?
– Будет вам, Легри, не подвергайте сомнению жизненный опыт бывалого ловкача. Я взял на себя обязанность защищать вас и господина Мори, а в таком деле без тайных ухищрений не обойтись. Как бы там ни было, я видел как он подошел и присоединился к вам. Теперь вы обращаетесь ко мне за помощью, и я убежден, что этот Туретт имеет самое непосредственное отношение к переданному мной вам письму с угрозами.
– Передать вы его нам передали, но не сообщили никаких подробностей, кроме того, что оно было найдено в украденном бумажнике Энтони Форестера.
– Подобное недоверие делает вам честь, доказывая всю серьезность вашей позиции. Осторожность лишней не бывает. Не мешайте мне прикрывать вас. Я человек мудрый, Легри. Поделись секретом с другом – и этот друг, у которого тоже есть друзья, разнесет его всему свету, для пикантности добавляя: «Только никому не говори!» Вы на короткой ноге с комиссаром Вальми. Не делайте такое лицо, эти сведения мне сорока на хвосте принесла.
– Я не доносчик.
– Лишь до тех пор, пока вы мне доверяете. Выбирайте: либо вы предоставляете мне кредит доверия, либо поручаете эту работу другому взломщику. При этом не забудьте позаботиться о том, чтобы не столкнуться с этим толстопузым шотландцем лицом к лицу.
– Договорились. Но я не знаю ни одного плута, способного…
– Одолжите мне вашу жену.
Виктор, в этот момент отпивавший из своего бокала, поперхнулся и закашлялся.
– Что? Вы совсем обнаглели? – наконец смог он дать отпор.
– Вы неправильно меня поняли. Это лишь на время. И с самыми благими намерениями.
– Но Таша ничего не знает об этом расследовании! Если она догадается, что я опять взялся за старое, то до конца дней будет осыпать меня упреками!
– В таком случае признайтесь, пока она сама не додумалась. Скрытность подтачивает семейную жизнь. Она приводит к подозрительности, ревности, обману и, в конечном счете, заканчивается обоюдным безразличием. Говорю вам об этом со знанием дела. Со временем ваша очаровательная половина устанет от вашего двуличия. Так что взвесьте все «за» и «против» и не стройте из себя оскорбленного мужа. Итак?
– Почему именно Таша?
– Она ваша жена, к тому же умница, вы обожаете ее до такой степени, что готовы делиться даже самыми незначительными проблемами.
«А еще потому, что она мне приглянулась», – подумал Фредерик Даглан.
Затем махнул рукой хозяйке ресторана и воскликнул:
– Мария! Запиши все на мой счет!
– Нет-нет, я… – запротестовал Виктор.
– Ах, Легри, и сложный же вы человек! Если бы в жизни вы чаще уступали, на вашем лбу сейчас было бы меньше морщинок.
Время тянулось, как сладкая патока. Закутавшись в потертый редингот покойного отца, напялив на ноги грубые солдатские башмаки с схватив корзину с посыпанными сахаром булочками, Жозеф вынашивал против Виктора планы показательной мести. Порученная ему миссия была достойна всяческого сожаления, нелепый наряд оставлял желать лучшего. Вот уже два часа он расхаживал по Парижской улице, от «Дома смеха» до театра Лои Фуллер, выискивая глазами подозрительных личностей. За это время его внимание привлекли двое деревенских кюре в поношенных сутанах, три процессии британских клиентов туристического агентства Кука, полдюжины испанцев в красно-зеленых галстуках, стайка горничных в праздничных платьях, одетый с иголочки унтер-офицер и двое подвыпивших новобранцев. Один злобный кабатчик прогнал его, не переставая твердить:
– Никудышная публика, таким разве что объедки за су подавать! Сбывайте свое барахло где-нибудь в другом месте!
Жозеф лишь в самый последний момент ускользнул от бдительных полицейских, вылавливавших тех, кто занимался незаконной торговлей.
Пиньо впился зубами в одну из своих булочек и продолжил патрулирование перед фасадом театра Лои Фуллер, стена которого извивалась волнами судорожных конвульсий
[1168].
Рядом, обливаясь потом, бесцеремонно встал со своей колясочкой рикша. Жозеф предложил ему булочку, но он отказался, сославшись на то, что она вызовет у него приступ удушья – с учетом того, что в горле у него пересохло больше, чем у копченой селедки.
– Но когда человека мучает жажда, он пьет!
– Я не имею права, это запрещено дирекцией.
– Даже тем, кто работает от муниципалитета?
– Да.
– Но ведь кучера имеют право на дешевое красное вино!
– Я не кучер, я лошадь.
С этими словами рикша пустился в рассуждения о визите шаха, о покрытой толстым слоем грязи Сене, о реформе правописания, о том, как бить китов и чем охота на них отличается от лова креветок, о сыне короля Умберто, готовившемся унаследовать престол и взойти на него под именем Виктора Эммануила III, а также о малагасийской, шведской, русской, бельгийской, неаполитанской и антильской кухнях, блюда которых, в угоду гостям Выставки, готовили из французских продуктов – котлет из Нормандии, цыплят из Сарта, чечевицы из Пюи-ан-Веле и масла из Мон-Валерьен.
– Для клячи вы прекрасно в этом разбираетесь, – пробурчал Жозеф.
– Со всеми этими претенциозными дамами, которых мне доводится за собой таскать, я стал этаким росинантом-эрудитом. Похоже на то, что англикашек в Пекине окружили китайские войска и решить этот вопрос никак не удается.
Чтобы остановить излияния навязчивого зануды, Жозеф стал насвистывать какой-то мотивчик. Голова у него горела, он на все лады поносил Виктора за то, что тот определил ему неблагодарную роль шпиона.
– Избавьте меня от вашей велеречивости, – желчно бросил он человеку в зеленом мундире, который стоял, опираясь на свою колясочку, – я должен сосредоточиться.
– На чем? На продаже булочек? Три четверти своего товара вы уже слопали!
– Оставьте меня в покое!
– Почему бы вам со мной не поговорить?
– Потому что ваш разговор – сплошной монолог.
Рикша наградил его обиженным взглядом, впрягся в свою колясочку и с горемычным видом поплелся на Парижскую улицу.
Жозеф подождал, пока он не растворился в потоке прохожих. Виктор велел ему явиться в «Пикколо нуво» только после начала первого действия «Гейши и рыцаря».
– Он меня эксплуатирует, – пробурчал Жозеф, задыхаясь в своем каторжном наряде. – Целых пять часов болтаться без дела. Он считает, что я новичок и не в состоянии расставить ловушку. Ну ничего, я ему еще покажу.
Посвятив утро работе над портретом Алисы, Таша пообедала с дочерью и отвела ее к мадам Бодуэн. Оставшись в нижней юбке и кофте, она, босоногая и с распущенными волосами, наслаждалась прохладой мастерской. Воздух, струившийся в снабженное задвижкой окно, был не такой горячий, как в предыдущие дни. Она с удовольствием повалялась часок в алькове, но потом все же решила сесть в кресло и полюбоваться незаконченным полотном, установленным на мольберте. От сонливости сознание ее затуманилось. Растянувшись на ковре, похрапывала Кошка.
В таком виде Виктор и застал жену – спящей и желанной. Умиляясь ее ранимостью, он боялся даже шевельнуться, приходя в ужас от той просьбы, с которой к ней явился. Разбуженная каким-то шестым чувством, Таша открыла глаза, зевнула и потянулась.
– Ах, боже мой, я задремала! Который час?
– Без малого три, – ответил он, становясь рядом с ней на колени.
– Ты не остался в лавке?
– Нет, там несет дежурство Жозеф.
Виктор тут же пожалел об этой ненужной лжи. Нужно было признаться, что Жозеф приглядывает за Кэндзи и Ихиро, а присматривать за лавкой осталась Джина. Но он все тянул время.
– Хочешь, я тебя причешу?
– А разве я растрепанная? – со смехом спросила она и пошла за щеткой в серебряной оправе.
Легри очень любил гладить ее пышную рыжую шевелюру, для него это было счастье, слегка окрашенное эротизмом, которым он делился и с ней. Кошка потерлась о ноги хозяина.
– Хочешь, чтобы я тебя погладил? Очень умно, теперь у меня все брюки будут в шерсти!
– Гадкая кошка, ступай лакать свое молоко и не докучай моему парикмахеру!
Таша встала и обвила его своими руками. Сейчас или никогда.
– Дорогая, я должен тебе кое в чем признаться. Я… Мы с Жозефом ведем расследование.
В плену живейших эмоций, Таша выпустила мужа из объятий и посмотрела на него в упор.
– Я так и знала! Визит этого типа, нелепое поведение Жожо, да и у Айрис на душе было неспокойно! Каждый год ты клянешься мне, что с этим покончено, что ты больше не будешь, но вновь и вновь уступаешь под влиянием этого наваждения. Ты даже не можешь сдержать свое обещание!
– На этот раз у меня просто нет выбора.
– Вздор!
– Для Кэндзи это вопрос жизни и смерти.
Чтобы заставить жену выслушать его, Виктору понадобилось приложить массу усилий и проявить всю свою настойчивость. Наконец, она успокоилась. Он в подробностях описал ей, что произошло с того момента, как Фредерик Даглан передал ему тревожное послание.
– Фредерик Даглан? Он же вор и анархист, как ты можешь слушать его заявления?
Таша преднамеренно раздувала свой гнев в надежде скрыть от Виктора, как и от самой себя, влечение к этому мнимому англичанину.
– Я вынужден положиться на него и в течение какого-то времени его использовать. Он предложил с твоей помощью заманить этого злодея в ловушку.
– И ты еще смеешь впутывать меня в это дело?
– Да, прошу тебя, помоги нам. Кроме тебя, эту роль сыграть некому.
– В самом деле?
Ярость Таша уступила место гордости, и она подошла к мужу.
– Айрис слишком импульсивна, Джина чересчур озабочена судьбой Кэндзи, Эфросинья… тут все ясно и без слов.
– И в чем же будет состоять моя миссия?
Виктор с удовольствием констатировал, что жена прибегла к будущему времени.
– Проще простого. Ты задействуешь весь свой шарм, чтобы как можно дольше задержать некоего человека, пока Даглан будет шарить в его гостиничном номере. С этим господином ты встречалась в Большом дворце в прошлый четверг.
– Иными словами, я буду приманкой?
– Да, любовь моя. Приманкой, обладающей неотразимым шармом. По крайней мере я на это очень надеюсь.
Когда Таша сошла у «Палас-отеля» с фиакра, пойманного с большим трудом по причине забастовки кучеров, страх в ее душе боролся с экзальтацией.
Она сделала глубокий вдох и заставила себя беззаботно пройтись вдоль столиков, стоявших под навесом у большой стеклянной витрины. И тут увидела его. На вид примерно сорок лет, румяное лицо, седина на висках, элегантный костюм, белая соломенная шляпа с черной лентой.
«Импровизируй!» – отдала она себе мысленный приказ.
Женщина вперила в него столь настойчивый взгляд, что он тут же обернулся и с оценивающим видом окинул красавицу, проявившую к нему такой интерес. Неправильно истолковав ее намерения, он приветливо махнул рукой, но тут же застыл как вкопанный: это же жена книготорговца!
– Мадам Легри? Какая неожиданность!
Таша преодолела несколько ступенек, отделявших ее от террасы, и подошла к нему.
– То-то мне показалось, что я вас где-то видела, господин…
– Туретт, Робер Туретт, – ответил тот, приподнимая шляпу. – На Выставке десятилетия я восхищался выполненной вами обнаженной мужской натурой. Позволительно ли мне будет что-нибудь для вас заказать?
Таша застыла в нерешительности, теребя в руках зонтик от солнца.
– Как-то неудобно…
– Полно вам, какие могут быть церемонии между собратьями по цеху! Я ведь тоже художник.
Туретт галантно встал и пододвинул женщине стул, на который она скромно присела.
– Какое совпадение! В этом городе, где полным-полно людей! – заметила Таша, чувствуя себя не в своей тарелке от той бесцеремонности, с которой он ее рассматривал.
– Такого понятия, как случай, попросту не существует. В тот вечер, когда мы с вами встретились на Выставке, Морис Ломье, этот торговец произведениями искусства, пригласил меня на ужин. Я сидел в самом конце стола и не сводил с вас глаз. И вот вижу вас снова.
– Если мне не изменяет память, вы были всецело поглощены разговором.
– Совершенно верно.
– Я договорилась встретиться с подругой, но пришла немного раньше.
– Мадам Легри, я буду несказанно рад, если ваша подруга немного опоздает!
Таша показалось, что она уловила в его словах легкий оттенок иронии. Неужели он что-то заподозрил? Коллеги никогда не называли ее по фамилии мужа, ведь под ее произведениями стояла подпись «Херсон». Может, ему ее так представил Виктор? Взгляд женщины упал на большие пневматические часы.
«Его нужно задержать еще на полчаса», – подумала Таша и хохотнула.
– Моя подруга ветрена до безрассудства, и пунктуальность отнюдь не входит в число ее достоинств.
– Тем лучше, это позволит нам с вами познакомиться поближе. Что будете пить?
– Лимонад с мятой.
Пока официант нес заказ, Туретт занимал ее рассуждениями о своем ремесле художника-анималиста.
– Передайте супругу мою благодарность, в «Серкль де ла Либрери» мне действительно подсказали, кому я мог бы продать свои этюды. За ваше здоровье, мадам.
Каждый из них сделал по глотку. Он по-прежнему не сводил с нее бесцеремонного взгляда, она всматривалась в толпу прохожих на тротуаре.
– Вам нравится искусство Востока? – ни с того ни с сего спросил Туретт.
Таша, выбитая этим вопросом из колеи, залилась румянцем и поспешила поднести к губам стакан.
– Восток большой, дорогой месье, – пробормотала она, – так что вашему вопросу недостает определенности.
– Взять, к примеру, Японию. В плане изобразительного искусства это настоящая сокровищница талантов. Я всегда хотел освоить каллиграфию. Как глупо – мне дали имя и адрес одного специалиста в этой области, проживающего здесь, в Париже, но он, к сожалению, переехал.
– Здесь я вам ничем помочь не могу, – ответила Таша с улыбкой, выражавшей сожаление, не лишенное доли любопытства, – зайдите к Самюэлю Бингу, он признанный знаток и порекомендует, к кому обратиться.
– Непременно воспользуюсь вашим советом. Может, он знаком с господином Ихиро Ватанабе, тем самым мастером, о котором мне говорили, – добавил Туретт, не сводя с женщины взгляда.
Таша напустила на себя безразличный вид, хотя в душе ее царило смятение. Теперь она понимала, что он сознательно позволил ей подойти и заговорить с ним, и знал, что ей это хорошо известно.
Из отеля с саквояжем в руке вышел Фредерик Даглан. Таша резко отодвинула стул, вскочила и замахала зонтиком.
– Вон она! Моя подруга! Вот дурочка, решила уйти! Соланж, подожди! Сожалею, сударь, благодарю вас и до скорого!
Не успел Туретт ничего предпринять, как женщина выскочила на тротуар, ринулась вперед, расталкивая толпу локтями, и схватила под руку какую-то даму в бирюзовом платье и большой, украшенной цветами шляпке. Робер Туретт насмешливо наблюдал за ее ухищрениями. Бирюзовая дама резко остановилась, вырвала руку, оттолкнула нахалку и побежала прочь со всей быстротой, которую позволяла узкая юбка. Таша направилась за ней к станции метро и растворилась в плотном потоке зевак. Робер Туретт бросил на стол несколько монет и поспешно ушел. Он не видел, как женщина села в стоявший у станции фиакр и как из него выпрыгнул Виктор. Таша лишь успела шепнуть мужу на ушко:
– Будь осторожен, он знает Ихиро Ватанабе.
Робер Туретт сбежал по лестнице, даже не подозревая, что из охотника он превратился в дичь.
Не спуская глаз с черной ленты на белой соломенной шляпе Туретта, Виктор прошел на станцию метро «Елисейские Поля». Небольшое, увенчанное куполом крыши здание, прозванное в народе «Дворцами», было заполнено любителями острых ощущений. Легри скатился по лестнице, ведущей к подземному вокзалу. Выложенный белыми плитами вестибюль искрился светом. Вдоль стен островком отдохновения стояли очаровательные садовые скамейки, высоко ценимые дамами и их чадами, которые блаженно наслаждались здешней прохладой. Во всем Париже это было единственное место, где царила комфортная температура. Виктор встал в очередь в кассу по продаже билетов и стал взвешивать свои шансы не упустить жертву, поскольку светлых соломенных шляп в потоке пассажиров было великое множество.
«Сесть ему незаметно на хвост будет трудновато!»
От Елисейских Полей до Венсенских ворот было пять станций, но из-за наплыва пассажиров Туретт вполне мог от него ускользнуть, особенно если бы снял головной убор. Легри увидел, как Робер протянул билет контролерше, водрузившей поверх шиньона полицейский головной убор, и бросился вперед, расталкивая пассажиров и оставаясь глухим к их протестам. Проездной документ Виктору удалось заполучить спустя несколько секунд после Туретта.
Внизу его с презрительным видом встретили сразу две соломенные шляпы. Одна плыла к краю платформы, другая стояла на месте. Какой из них отдать предпочтение? Легри попытался рассмотреть лицо владельца второй, но в этот момент перед ним встал служащий в красной ливрее с буквой «М» и во весь голос объявил:
– Поезд на станцию прибудет через три минуты! Вы не замерзли?
– Ага, воздух прямо-таки пропитан простудой, – весело бросил уличный сорванец.
– Да нет же, – возразила дебелая дама, которая столкнулась с Виктором и чуть было не сбила его с ног, – в метро можно хоть весь отпуск провести, не правда ли, сударь?
Виктор послал ей вслед проклятие. Ни одной соломенной шляпы на горизонте больше не было.
Чтобы обнаружить Туретта, он несколько раз подпрыгнул. Кошмар какой-то! Теперь в водовороте котелков, фуражек и дамских шляп с перьями кружили уже не два соломенных головных убора, а три, четыре, пять!
В приступе гнева Легри бросился вперед.
– Извините, простите. Боже праведный! Мой малыш, я его не вижу!
– Осторожнее, черт бы вас побрал, по рельсам пущен электрический ток, стоит к ним прикоснуться, и все – каюк!
– Протяните вашему малышу руку!
– Дамы и господа, отойдите!
У перрона остановились три вагона. Служащие открыли двери, и все бросились занимать места на скамейках.
Несмотря на все его сопротивление, толпа внесла Виктора внутрь первого вагона, где располагалась кабина машиниста поезда и его помощника.
Поезд тронулся в путь и втянулся в ярко освещенный тоннель. Легри ухватился за центральную стойку, не обращая ни малейшего внимания на экскурсовода в униформе, вовсю надрывавшего глотку:
– Дамы и господа, в этом месте начинается холм Елисейских Полей. Мы движемся вдоль канализационного коллектора. Через пять минут будет станция «Пале-Руаяль». Не устраивайте давку.
Виктор почувствовал прикосновение к позвоночнику чьих-то округлых форм.
«Метропроказница какая-то», – подумал он, констатируя дружелюбную самозабвенность опьяненных скоростью дам.
– Похотливый самец! Как вам не стыдно! Теперь у меня будет синяк! – возмутилась какая-то матрона.
По вагону пополз шепот, и Виктора смерили взглядом несколько дюжин глаз.
– Этот господин оскорбил меня неуместным жестом, – бросила она.
– Но мадам, это не я…
Легри опустил голову и принялся разглядывать туфли. «Он здесь! Да, это Туретт! Каналья! Он вот-вот от меня уйдет! Нужно пробиться к выходу!»
– Дамы и господа! Поезд прибывает на станцию.
Служащий, вручную открывавший и закрывавший двери, обеспечил высадку и посадку пассажиров. Белая соломенная шляпа с черной лентой маячила в нескольких метрах впереди. Виктор спрыгнул на платформу и взбежал по лестнице. Его сердце билось не в такт. Он выбежал на свежий воздух, пошатываясь от того, что столь быстро преодолел такое расстояние. Белая шляпа с черной лентой двигалась по направлению к «Гран Магазен дю Лувр»
[1169], Виктор следовал за ней по пятам. Лавируя меж двух потоков карет, человек пересек площадь. В какой-то момент Легри подумал, что потерял Туретта из виду, но потом увидел, что тот подошел к фанфарону, чья рыхлая фигура поразительно напоминала очертания толстяка, с которым он встречался на минувшей неделе, когда стоял с комиссаром Вальми у входа в «Отель Трокадеро».
«Это сон! Янг?.. Меня преследуют видения…»
Он стал пробираться среди разбившихся на группки недовольных кучеров.
«Это Янг!.. Эх, если бы мне удалось подслушать их разговор!»
Два приятеля скрылись в чреве «Гран Магазен дю Лувр». Виктор остановился перед витринами, за стеклом которых толпились покупатели, привлеченные распродажей белья. Через некоторое время он ушел. Что ни говори, но он раздобыл сведения первостепенной важности: Туретт и Янг были знакомы. Эту информацию он обдумывал все время, пока шел по улице Риволи до остановки омнибусов, курсирующих между площадью Мадлен и площадью Бастилии.
Жозеф не на шутку заскучал и стал сомневаться в целесообразности возложенной на него миссии.
«Если так будет продолжаться и дальше, уйду в монастырь братьев-капуцинов».
Он ощутил нарастающий в душе протест и пожалел, что рядом нет рикши, ведь когда моральный дух не на высоте, у тебя нет ни крошки хлеба, а желудок сводит от голода, то худшее, что может быть, – это одиночество!
Японская труппа разбрелась по саду театра, до начала второго представления «Гейши и рыцаря» оставалось еще больше часа.
Электрический ток воспламенил весь огромный балаган хаотичным нагромождением сияющих ламп. Усталость взяла верх над волей. Немного успокоившись по поводу ближайшего будущего Кэндзи, Жозеф решил уйти, предварительно купив лотерейный билет – в надежде, что он позволит ему пополнить кубышку, предназначенную для ремонта в квартире Эфросиньи. Пиньо стал прокладывать себе путь по Парижской улице, запруженной прожигателями жизни, жаждущими пошлых наслаждений. Пора было отправляться на встречу с Виктором на Лионскую улицу.
Жозеф плюхнулся на скамью на верхнем этаже «Пикколо нуво».
– Меня измучила жажда, я хочу есть и больше не желаю слышать ни о японском театре, ни о рикшах! – бросил он Виктору с Дагланом, которые сидели напротив.
– О рикшах? – удивился Виктор. – Они-то здесь при чем?
– Да так, ни при чем. Просто один такой донимал меня своим словесным поносом, пока я дежурил у театра. Пристал ко мне как банный лист!
– Две ваши первые жалобы мы удовлетворим, – продолжал шурин, – панированный эскалоп со стаканчиком красненького прогонят вашу досаду?
– Еще как! Я уже стал сходить с ума и думал, что врасту корнями в эту улицу, где все обращаются с вами на редкость скверно! Требую исчерпывающих объяснений.
Виктор вкратце обрисовал ситуацию, поведал о краже, совершенной Дагланом, и рассказал об участии в расследовании Таша.
– Туретт искал Ихиро, Янг искал сумку, а она у нас, – в заключение сказал он, – мы ждали вас, чтобы заглянуть в нее вместе.
Они открыли коричнево-серую холщовую сумку с морским якорем на боку. Из нее пахнуло средством для борьбы с молью. В верхней части лежали тщательно отутюженные рубашки. Даглан переложил их на скамью. В нижнем отделении были свалены друг на друга бумажные пакеты. В каждом из них хранилось по великолепному перу. Здесь их были сотни – бежевых, белых, переливавшихся всеми цветами радуги. Даглан присвистнул.
– И какой в этом смысл? – с набитым ртом спросил Жозеф.
– Все эти чудеса представляют собой целое состояние, – объяснил Фредерик. – На мой взгляд, среди них есть перья страуса, чомги, белой цапли, может, даже райской птицы, я не специалист. Столько драгоценных жемчужин, которыми парижская мода пользуется для украшения шляп наших элегантных дам. Господа, мы напали на след сети торговцев очень прибыльным товаром. Одним из ее элементов был Исаму. Можно не сомневаться, что в эту банду входит и Туретт. Ну, что вы на это скажете, господин Легри?
Виктор хранил молчание, мозг его работал на полную мощность.
– Думаю, что… Мне кажется… Послушайте, но ведь Робер Туретт – орнитолог!
– Ситуация проясняется. Туретт, Форестер и Мэтью Уолтер действовали заодно. Кто они? Мошенники? Контрабандисты? – спросил Жозеф, не переставая работать челюстями.
– Были. Двое из них уже мертвы.
– Вполне возможно, что у них есть еще перья, – заявил Фредерик Даглан. – Как бы там ни было, убийца у нас в руках.
– У нас же нет доказательств! Обнаружив пропажу сумки, Туретт покажет свой грозный оскал. Я волнуюсь, Таша и Алиса остались дома одни. И я уверен, что он с Янгом заодно, я их сам видел вместе. Мне пора, – заявил Виктор, скомкал салфетку и бросил ее на стол.
– А я займусь Янгом, – пообещал Фредерик Даглан.
Возвращение в театр Лои Фуллер чуть не обернулось катастрофой. Перед этим рикша спрятал свое снаряжение подальше от посторонних глаз и сменил красный мундир и фуражку на белую куртку и панаму. Дождаться ухода этого белокурого придурка, торговавшего сахарными булочками, оказалось делом нелегким. Этот тип отнесся к своей миссии очень серьезно и ни на минуту не ослаблял бдительности. Наконец, движимый чувством голода, он ушел, убедившись, что японцам, подкреплявшимся в саду театра, ничего не угрожает.
Дело чуть было не испортил продавец лотерейных билетов, появившийся в тот самый момент, когда белокурый придурок складывал свое барахло.
– Испытайте свой шанс! – загнусавил он.
Блондин не устоял перед соблазном выиграть куш и купил билетик в то самое мгновение, когда бывший рикша бегом направлялся в театр. Столкновения с ним было не избежать.
– Браво, вы отдавили мне ногу. Странно, мы с вами, случаем, не знакомы? У меня такое ощущение, что я вас уже где-то видел, – проворчал Жозеф.
Бывший рикша натянул поглубже панаму и уже собрался ретироваться, но тут у него на руке повисла подвыпившая женщина.
– Ты один, мой повелитель?
Человек в панаме оттолкнул от себя пьянчужку.
– Какой гадкий! Отказывается утешить сиротку без гроша в кармане.
Вокруг стала собираться толпа. Человек в панаме призвал прохожих в свидетели. Некоторые улыбались, убежденные в том, что сцена была разыграна для них специально.
– Причем на Выставке! Позор! – Девушка разразилась хохотом и переключилась на блюстителя нравственности с рябым лицом, бесцеремонно потащившим ее за собой. Блондин ретировался.
Человек в панаме засунул руку в карман и принялся наблюдать за японцами. Усевшись в круг, они с помощью палочек поглощали клейкий рис. Один из них привлек его внимание. Хотя человек в панаме и считал себя физиономистом, он был не в состоянии дать имя этому персонажу в кимоно и гриме, который придавал ему сходство с бешеным псом. Нервы его были натянуты до предела, он вытащил из кармана куртки круглый разноцветный предмет на веревочке, который в его руке тут же стал совершать пируэты. Сзади послышался чей-то визг.
– Пап, хочу это!
Сопливый мальчуган в матросском костюмчике тыкал пальцем в его йо-йо.
– Эй, дяденька, а ну дай его мне!
Человек в панаме попытался найти компромисс:
– На тебе, голубок, пакетик миндаля в сахаре. Я взял из него только два кусочка.
– Нет! Я хочу твою игрушку!
Человек в панаме нахмурился и напустил на себя грозный вид, способный обескуражить даже самого злобного китайского бандита. Юнец ухмыльнулся:
– Какой ты страшный!
– Убирайся! Или я тебе так дам, что будешь помнить меня, даже когда станешь немощным стариком! – прорычал он.
– Пап! – завопил мальчуган. – А дяденька злой!
Отец, бледный, с трудом стоявший на ногах старикашка, проблеял козлиным голосом:
– Жан-Поль, если ты будешь продолжать в том же духе, мы не пойдем аплодировать «Малышам Гийома»! Что же касается вас, сударь, будьте снисходительнее, это всего лишь ребенок.
– К тому же сопливый, вы бы его лучше нос вытирать научили.
Человек в панаме поспешно ушел и, прикрываясь кустом, стал наблюдать за садом. Проглотив свой рис, весь до последнего зернышка, японцы гуськом направились в театр.
Йо-йо ринулось вверх и снова грузно опустилось. Столько усилий и все напрасно! Вечер пропал зря. «Я еще вернусь. И буду возвращаться сколько нужно».
Глава восемнадцатая
Четверг, 2 августа
В три часа ночи Жозеф, страдая от бессонницы, ощупью прошел на кухню. Намазывая полбагета клубничным вареньем, он разглядел на растрескавшейся стене очертания подушки.
Вырванный из сна, в котором он тщетно пытался найти туалет, Виктор отправился по нужде. На обратном пути его нога ударилась о какой-то предмет, тут же отлетевший под кровать. Едва сдержав рвущееся наружу проклятие, он помассировал мизинец на ноге, встал на корточки и вытащил куклу Алисы. Она была совершенно лысая. На поиски ее оторвавшейся шевелюры ушло несколько минут.
– Линяет, – прошептал он, и на него внезапно обрушилось озарение.
На следующее утро, когда на часах пробило десять, взволнованный Жозеф встретил Виктора в лавке зычной фразой:
– Постель Ихиро!
– Перья! Заприте дверь на щеколду и бегом за мной, – приказал Виктор, устремляясь во двор дома 18-бис.
При их появлении оживленный разговор между мадам Примолен и Мишлин Баллю резко оборвался. Консьержка, которую их просьба явно раздосадовала, совершила восхождение на шестой этаж, гордо выпрямив спину.
– Надо же, эта старая карга почти не выходит из своей берлоги, но именно она сообщила мне о случившемся!
– О чем же таком она вам рассказала? – поинтересовался Виктор.
– Вы что, ничего не знаете? Утром какой-то чокнутый совершил покушение на шаха, когда тот выходил из своего дворца на авеню Малакофф. Когда правитель уже сел в свое купе, из собравшейся на тротуаре толпы выскочил какой-то субъект и попытался продырявить его тыкву из револьвера. К счастью, великому визирю с помощью генерала Парана удалось его разоружить. Не буду утверждать, что безутешно оплакивала бы смерть персидского царя, но она бы меня потрясла, особенно после убийства короля Италии. Чего они добиваются, эти анархисты? Чтобы на земле не осталось ни одного правительства?
– В отсутствии шаха гурии танцуют, – сказал Виктор.
– Очень остроумно! Только вот не гурии, а фурии! У вас что, зубов не хватает? Тогда обратитесь к логопеду! Ага, я вижу, вы мне не верите! Спросите у мадам Примолен, ей об этом рассказала мадам Бушарда, узнавшая новость от ломовика из «Маленького мавра», видевшего все своими глазами. Уф, я больше не могу! Первый раз в жизни взламываю дверь, – констатировала мадам Баллю, тяжело опускаясь на циновку мансарды.
– Поскольку у вас есть универсальный ключ, взламывать ничего не придется, – успокоил ее Виктор, – и о незаконном проникновении речи тоже не идет, ведь здесь вы у себя дома.
– Верно. Этот господин Ватанабе, помимо прочего, оказавшийся человеком более корректным, чем я думала вначале, – мой жилец, пусть даже квартира, в конечном счете, принадлежит вам.
Неужели в этой комнате жил один и тот же человек? Ее внешний вид позволял в этом усомниться. По одну сторону разделительной линии, состоявшей из трех циновок, выложенных в ряд, высилась груда коробок, набитых посудой и кухонными принадлежностями, по другую – царила спартанская обстановка в виде ватного матраса с периной, табурета с подсвечником и идеально ровной стопкой книг.
Жозеф полистал томики, посвященные статистике и похоронным обрядам разных стран, и вновь аккуратно, будто по отвесу, их сложил. Потом они с Виктором приступили к осмотру постельных принадлежностей. Пока Жозеф ощупывал подушки, его шурин схватил одеяло и резко его тряхнул. Из швов выпало несколько перьев, которые, кружась, стали медленно опускаться на землю.
– Эй вы! Поосторожнее там, я потратила уйму времени чтобы привести эту дрянную перину в порядок, а то она держалась на одном честном слове да бельевых прищепках! – проворчала мадам Баллю.
Ее лицо исказилось в гримасе.
– Господи Иисусе, простыни! Какая гадость! Чтобы пользоваться ими и дальше, в моющий раствор придется добавить сапониту и тереть их до скончания века!
Она протянула Виктору руку, будто прося подаяния.
– Думаете, я буду платить из своего кармана! Сапонит стоит денег. Эй-эй, может, вам на голову сегодня шкаф свалился! Что вы делаете?
Не обращая внимания на
стенания консьержки, Жозеф с Виктором, охваченные внезапной яростью, стали столь безжалостно рвать подушки и перину, что комната тут же будто покрылась снежной пеленой. Беспрестанное чихание и кашель отнюдь не воспрепятствовали последующему разграблению матраса путем его вскрытия.
Охваченная паникой и гневом, мадам Баллю металась между Виктором и Жозефом, пытаясь остановить их, затем, запыхавшись, на несколько мгновений замирала, закрыв рот и глаза, и возобновляла свою бесполезную суету.
– Хватит! – завопила она.
И они наконец остановились. Лица их были окружены ореолом пуха.
– Ха, а ведь я надеялся совсем не на это, – невнятно пробормотал Жозеф.
– На что же вы надеялись? Найти бриллиант
Дерианур[1170], украшающий каракулевую шапку шаха?
– Нет, на бриллиант стоимостью в двадцать миллионов мы не рассчитывали, – признался Виктор, – просто думали, что здесь окажутся перья экзотических птиц.
– Вы спятили! Вам что здесь, лавка, торгующая пухом и пером? Здесь живет японский бумагомаратель, а не модистка!
– Повторите слово в слово то, что вы только что сказали, – приказал ей Жозеф.
Мадам Баллю попятилась – в смущении и задыхаясь от волнения.
– Вы спятили, – прошептала она, отчаянно пытаясь справиться с приступом кашля.
– Да нет, что вы сказали после.
– Вам что здесь, лавка, торгующая пухом и пером? – покорно пробубнила охваченная ужасом консьержка.
Жозеф щелкнул пальцами.
– Вот оно! Лавка на улице Бога! Она как раз торгует перьями! Вспоминайте, Виктор. Фуражка, найденная в номере Энтони Форестера, опилки деревянных плит для мостовой, идентифицированные аптекарем, фабрика на улице Гренель, улица Бога…
– Там что, есть такая лавка?
– В тот день она была закрыта.
– Значит, мы пришли сюда не напрасно. До свидания, мадам Баллю, простите нас за беспорядок, который мы тут устроили! – крикнул Виктор и бросился к двери.
Жозеф не отставал от него ни на шаг.
– Это уже ни в какие ворота не лезет! А кто будет наводить порядок и разгребать весь этот сор? Вы же дикари! Индейцы-апачи! Они разнесут грязь по всем лестницам!
– Присматривать за лавкой вновь придется Джине, – бросил вконец запыхавшийся Жозеф, устремляясь за Виктором, к изумлению мадам Примолен, тут же схватившейся за грудь.
«Где сатана, там суета сует», – подумала дама и перекрестилась.
Рабочие настилали на улице новую мостовую, поэтому никакого движения на ней не было. На тротуаре, между грудами строительного мусора, сновали пешеходы и велосипедисты.
Впереди Виктора с Жозефом на своем двухколесном коне катил человек. Уткнувшись носом в руль, он вез на плечах целую груду черных, связанных ремнем ящичков с медными уголками. Перед магазином по продаже перьев он затормозил, слез с велосипеда, сбросил поклажу на землю и прислонил машину к витрине. Затем вновь поднял ношу, толкнул перед собой дверь и вошел. Его примеру последовали и два приятеля.
– Эй! Господин Бискорне, это я, Норбер, ваш посыльный!
Виктор и Жозеф зажали носы. В воздухе висел густой запах воска, камфоры и средства от моли, густо сдобренный каким-то сладковатым ароматом.
Посыльный, бледный и болезненный тип, чем-то похожий на служащего похоронного бюро, принялся развязывать ремень, которым были стянуты ящички. Верхний из них представлял собой крышку, к нижнему были приделаны колесики. На вид все казались легкими.
Из-под прилавка, где он перед этим наводил порядок, вынырнул человечишко – тощий, но с выдающимся, нависавшим над поясом брюшком.
– Ага! Вот и ты! Ну что, встречался с комиссионерами?
Посыльный согласно кивнул головой и стал открывать ящички, в которых обнаружились чучела птиц, а также перья самых разных окрасок и размеров. Эта коллекция прекрасно гармонировала с ярким изобилием, которое предлагала экзотическая вселенная магазина.
Царствовало здесь перо – упакованное в ящички или бумажные пакеты, прикрепленное к стене или потолку. Виктору с Жозефом оставалось лишь определиться в нелегком выборе, чтобы, набравшись терпения, заняться изучением орнитологии: райских птиц, цапель с распростертыми крыльями, колибри, выпей и даже орла – в виде чучел.
При виде этих охотничьих трофеев Виктор очень скоро ощутил в груди стеснение, быстро переросшее в отвращение, и с облегчением услышал, что Норбер, уладив дела, стал прощаться.
– Чем могу быть полезен, господа? – спросил Бискорне, потирая руки.
– Мы журналисты, решили написать о представителях вашей профессии хвалебную статью. Один из наших корреспондентов – он как раз живет на этой улице – посоветовал обратиться к вам.
– Да? Как его зовут?
– Кажется, Туретт, Робер Туретт. У него весьма характерная прическа – по бокам лба торчат вверх две серебристые пряди. Сам он художник-анималист, пишет птиц и питает истинную страсть к Одюбону.
Бискорне почесал гладко выбритый подбородок.
– Сожалею, но это ни о чем мне не говорит.
– Мой дорогой друг, вы уверены, что не путаете его с Янгом, шотландцем, который говорит с ярко выраженным акцентом? – поспешил предположить Жозеф, обращаясь к Виктору.
– Мужчина в юбке? За всю свою жизнь я их ни разу не видел, ни издали, ни вблизи, – уверенно ответил Бискорне. – Единственная эксцентричная личность, живущая поблизости, – это неказистый на вид тип, который пишет натюрморты, корчит из себя богему, хотя на деле пачкун пачкуном.
– Как его зовут?
– Не знаю. Он часто приходит ко мне, смотрит на перья, на птиц. Пусть себе, я не против, он слишком нищ, чтобы у меня что-нибудь купить. Странно, что вы не располагаете более точными сведениями!
«Если это Даглан, то он настоящий хитрец», – подумал Жозеф.
– А какого он телосложения, этот ваш художник? – поинтересовался Виктор.
– В отличие от меня, пуза у него нет. Тощий как жердь, – заверил его Бискорне, с подозрением поглядывая на гостей, несмотря на всю свою веселость.
– На филина похож?
Ошеломленный Бискорне воздел руки к небу.
– Полагаю, вы шутите.
– Волосы у него с проседью? – гнул свое Виктор.
– А мне почем знать? Сей художник не ходит с непокрытой головой. Да и потом, какая разница, главное – что вы встали на защиту нашей профессии, которую некоторые любители птиц очень хотели бы дискредитировать. Посмотрите мастерскую?
– С удовольствием, – согласился Виктор.
Они прошли в подсобное помещение и направились по коридору в просторный зал, освещенный большим стеклянным окном.
– Здесь мы получаем товар и готовим его, – пустился в объяснения Бискорне. – Сначала его обезжиривают в пахучих ваннах, затем промывают в чистой воде. «Окрашивание в белый» представляет собой вымачивание в горячей воде с добавлением мела, в то время как для «окрашивания в синий» необходимо использовать индиго.
Он показал им красильщика, пропитывавшего маховые перья птиц, перед тем как отправить их на сушку. Другие работники, по большей части женщины, занимались сортировкой перьев в зависимости от их вида и размера.
– Чтобы они обрели былую гибкость и пышность, их держат над паром, на нашем жаргоне это называется «лоскованием». Мастерство заключается в том, чтобы превратить перо домашней птицы во что-то экзотическое, ведь сейчас перед вами немало перьев представителей самых заурядных видов, которым мы даем вычурные названия. Так перо индюка или пеликана превращается в «марабу», гуся – в «лебедя», эму – в «страуса», петуха – в «грифа», а цапли – в «эгретку».
«Несчастные пернатые, служащие вам сырьем, смеются над этим занятным вокабулярием», – подумал Жозеф.
– Наши лучшие труженицы – а в Париже они пользуются репутацией мастериц, способных выдержать конкуренцию со стороны Англии и Германии! – должны прекрасно разбираться в перьях, уметь их распознавать и знать их названия. А еще – находить в общей массе самые красивые и…
– Мы хотели бы поговорить с одной из этих дам, – прервал его излияния Виктор.
Обескураженный Бискорне выделил блондинку, более веселую по сравнению со своими хмурыми соседками-итальянками, и подал ей знак.
– Жаклин, эти господа – репортеры, они собирают материал о нашей профессии.
– Ох! Я же не умею говорить! – запротестовала девушка.
– Не прикидывайтесь скромницей, дитя мое, – велел ей Бискорне.
– Опишите в нескольких словах, чем вы занимаетесь, – поощрил ее Виктор.
Его обаяние подействовало.
– Ну, я насаживаю перья на небольшие латунные стержни, это называется «сажать на ножку», и с помощью ножа для чистовой обработки довожу до кондиции. Порой я их подстригаю, иногда даже завиваю, будто мастерица по изготовлению бумажных цветов. Другие девушки занимаются изготовлением целых искусственных птиц или только крыльев, служащих для украшения дамских шляп.
Жозеф чихнул, закрыв руками лицо.
– А этот пух, который летает повсюду, разве он не вреден для легких? – спросил Виктор.
Жаклин бросила быстрый взгляд на патрона, который в знак согласия прикрыл глаза.
– Отрицать это было бы ложью. Порой нам приходится нелегко. Перекрашивать, подрезать, лакировать дюжины перьев – от этого пальцы постоянно в клею и ты плюешься пухом чаще, чем того хотелось бы. Но я, сударь, обожаю мою работу. Это намного интереснее, чем шить целый день напролет, да и запах намного лучше, чем при укладке сардин в бочки! И потом, перья – это красиво. Словом, таких фантастических птиц, которых мы делаем вместе с другими девушками, даже в сказках не встретишь.
– Многие из них бесспорно стоят целого состояния, – осторожно начал Жозеф, – я читал, что если перья экзотических птиц утяжелить булавками, то свертки значительно прибавляют в весе и браконьеры без труда провозят их через таможню.
Жаклин в смущении опустила голову.
– Не верьте всему, что пишут газеты, вы же сами журналисты! И не слушайте всякую ерунду, мы честные люди! – воскликнул Бискорне.
– И все равно мне говорили, что райские птицы стали предметом надувательства – их продают по пятьдесят франков за особь, что само по себе является кругленькой суммой, но потом, распотрошив и ощипав, делают из них пять, а то и шесть чучел! – заявил Жозеф.
– Вас ввели в заблуждение, господа. Осмотрев самым тщательным образом наше производство, вы убедитесь, что скрывать нам нечего! – возмущенно возопил Бискорне.
Виктор с Жозефом обошли мастерскую, делая пометки, затем, явно удовлетворенные, объявили патрону, что увидели вполне достаточно.
– И не забудьте упомянуть, что в столице восемьсот цехов наподобие моего дают работу шести, а то и семи тысячам человек! Много предприятий могут обеспечить такое количество рабочих мест? – заключил Бискорне.
Женщина лет сорока, скрестив руки на груди и сжав губы, несла караул у прилавка, прижимая локтем блокнот. Она внимательно взглянула на троих господ в свой лорнет, отвела взгляд от Виктора с Жозефом и набросилась на владельца мастерской. Ее на редкость четкий выговор был окрашен легким британским акцентом.
– Вы еще долго будете дурачить людей, вступая в сговор с мнимыми орнитологами и перекрашивая перья домашней птицы в меркантильных целях? Какая подлость!
– Мадам Пэдлок, покорнейше прошу вас больше не удостаивать меня своими визитами! – зарычал Бискорне. – Мне до смерти надоело быть вашим мальчиком для битья! Я всего лишь коммерсант средней руки, и ни я, ни мои рабочие, не заключали с дьяволом пакта творить чудеса милосердия и изысканности, пользуясь оперением самых заурядных птиц!
Мадам Пэдлок, будто пастырь Библию, выставила вперед свой блокнот.
– Не забывайте, я принадлежу к Королевскому обществу защиты птиц
1!
[1171]Мы прекрасно информированы! Ваша коммерция приводит к вымиранию целых видов! Мы уже с прискорбием констатируем исчезновение большого пингвина, очкового баклана, лабрадорской утки и странствующего голубя!
– Клянусь вам, я ни разу в жизни даже на пушечный выстрел не подходил к странствующему голубю! – возмущенно вскричал Бискорне, в знак раскаяния сцепив руки и поднеся их ко лбу.
– Серьезная угроза нависла над цаплями, в том числе белыми и малыми белыми, трагопанами-сатирами, фазанами, в том числе золотыми, никобарскими голубями, исландскими куропатками, а также райскими птицами, в том числе новогвинейскими, – невозмутимо продолжала мадам Пэдлок.
– Если даже предположить, что у меня есть перья всех этих пернатых, хотя это не так, должен вам напомнить, что в результате дорогостоящих научных экспедиций, снаряженных учеными, было установлено следующее: если подходить к поимке тех или иных птиц рационально, никакой угрозы их вымирания не будет. Мои собратья, как и я, торгующие перьями, отнюдь не заинтересованы уничтожать источник своих доходов. К тому же, вы забываете, что так называемым истреблением птиц наперегонки занимаются туземные жители.
– Знаю я ваши аргументы. Вы даже называете себя защитниками природы.
– Разве мы виноваты, что дамы, уступая требованиям моды, меняющейся год от года, выходят на улицу исключительно в шляпках, украшенных султанами или плюмажами? Если бы они предпочитали скорпионов и гремучих змей, нас бы оставили в покое! Разве они зимой не готовы с восторгом закутываться в меха невинных зверей? Мне не в чем себя упрекнуть, я пользуюсь лишь перьями самых заурядных птиц!
– Неужели вы осмелитесь отрицать, что с цапель живьем сдирают кожу? И что именно в Париже в 1884 родилась мода на шубы из страусиных перьев, этих бедных животных, которых выращивают на кейптаунских фермах, напрочь забывая, что они акридофаги!
– Акридо… как вы сказали? – переспросил Жозеф.
– Акридофаги. Это, молодой человек, означает, что страусы поедают саранчу, принося тем самым неоценимую пользу. Подобной похвалы не каждый удостоится.
Жозеф торопливо записал это слово, живо напомнившее ему о нашествии на столицу одной из десяти казней египетских. Его мысли переключились на бездну прибыльных катастроф, способных сдобрить собой следующий роман с продолжением, действие которого будет развиваться в Париже.
«Сена превратилась в сплошной кровавый поток. Нашествие комаров, слепней, лягушек, кузнечиков. Управляя летающей машиной, человек со способностями летучей мыши в компании со своей неразлучной страусихой восстановил порядок и помог вновь обрести счастье на Выставке, когда туристы, объевшиеся тухлой рыбы, стали сходить с ума… Да, но каким будет название? “Перья Вельзевула”? “Стрела Пантеона”? “Акридофаги саркофагов”?»
– Ну все, хватит! – воскликнул Бискорне. – Уж кто-кто, а отряд старых дев, которые разбрелись по нашим городам, не изменит порядок вещей в мире.
– Мир меняется, мой дорогой месье, и сегодня протестуют не только старые девы, на которых вы изволите намекать и к которым я, помимо прочего, не имею никакого отношения, потому как состою в браке и имею четверых детей. Два года назад в Америке вступил в силу закон, запрещающий ввозить, транспортировать и продавать на ее территории шкурки и перья определенных видов певчих птиц. А ведь еще десять лет назад в Соединенных Штатах, чтобы удовлетворить дамское кокетство и набить деньгами мошну, ежегодно убивали пять миллионов птиц.
– А как быть с краснокожими, а? Вы о них подумали?
– Несчастные жертвы колонизации! Они довольствуются малым и берут у природы лишь самое необходимое. Да, я о них подумала. Для человечества природа перестала быть неисчерпаемым источником богатств, это предвидели многие ваши писатели: Проспер Мериме, Виктор Гюго, Сюлли-Прюдом
[1172]. На тот случай, если это прошло мимо вас, сообщаю, что 19 мая сего года в Лондоне представители шести стран подписали конвенцию по защите животных, птиц и рыб Африки. И это только первое из целого ряда международных соглашений, направленное на сохранение планеты, которую краснокожие справедливо называют «Нашей матерью».
Мадам Пэдлок одарила троих мужчин извлеченными из блокнота проспектами, с достоинством убрала лорнет и вышла на улицу.
Багровый Бискорне, сжав челюсти, скомкал бумажку и бросил ее в мусорную корзину. Виктор и Жозеф под шумок удалились.
– Знаете, Виктор, эта дама навела меня на мысль. Американские индейцы не только украшают себя перьями. Они еще пользуются стрелами.
– Вы намекаете, что один из них пересек Атлантику, чтобы отправить на тот свет горстку незнакомцев в самый разгар Всемирной выставки? Вы занимаетесь плагиатом, примерно то же самое Кэндзи сказал об Ихиро, когда тот рассказал нам о смерти Исаму.
– Смейтесь, смейтесь, мне не привыкать. Но я настаиваю – копать нужно в этом направлении.
– Давайте не будем ничего копать, колдобин на этой улице и так хватает. Вы правы, мы должны разузнать об орудии преступлений, а также установить личность художника, захаживающего к Бискорне: как знать, может, им окажется Туретт, Даглан или Янг!
– Что касается Янга и Туретта, то вы прекрасно знаете, насколько каждый из них «тощий как жердь». В самом крайнем случае им может оказаться Даглан, хотя… я даже представить себе не могу, чтобы он пачкал натюрмортами холсты!
– Что бы вы ни говорили, а совпадение странное. Если верить аптекарю, то пыль на известной вам фуражке представляет собой опилки плит для деревянной мостовой, которую сейчас перестилают в одном-единственном месте – на той самой улице, где живет торговец перьями! Я хочу прояснить ситуацию до конца – вполне возможно, что тип, которого Курсон видел в двадцать шестом номере, где жил Форестер, обитает где-то поблизости.
– Вы предполагаете пройтись по всем домам? Блажен, кто верует.
– Когда я расспрашивал Курсона, он сказал, что человек в вельветовых рабочих шароварах может быть художником… Художником, Жозеф! Это Туретт!
– Вы описали его Бискорне, но тот его и в глаза не видел… Вы же не хотите сказать, что сей бравый коммерсант причастен к этому запутанному делу!
– На данном этапе расследования…
– Если хотите отправиться туда – скатертью дорога. Лично я предпочитаю тихо и незаметно вернуться домой – когда готовится обед или ужин, Эфросинья становится просто невыносимой.
Виктор застыл в нерешительности. Он уже не был так уверен, что Курсон произнес слово «художник». «Нет, это предположил я, он же говорил лишь об охотнике или аристократе. А еще уточнил, что на ногах субъекта были гетры, это я хорошо помню».
– Жозеф, возвращаемся домой.
Представления Янга об идеальном Эдеме сводились к тому, чтобы выкурить гаванскую сигару после хорошего ужина и прогуляться по саду, где никто не посмотрит на тебя косо только потому, что ты выдыхаешь клубы дыма. Когда-то Арчибальд сожительствовал с девицей, которая обзывала его холодной пепельницей, если он пытался ее поцеловать, а когда ему удавалось это сделать – вытирала губы.
– Одно из двух – либо сигары, либо я, – в конечном счете потребовала она.
Янг выбрал сигары. Склонившись над кустом гортензии, он незаметно стряхнул пепел.
– Огоньку не найдется? – обратились к нему на английском.
Голос принадлежал господину в клетчатом костюме. Янг выпрямился и встал на цыпочки, чтобы денди мог наклониться к нему, приставить кончик сигареты к его сигаре и прикурить.
– Мы с вами уже встречались? – спросил Арчибальд.
– Да. Но правильнее будет сказать – сталкивались. Эти двойные двери с тамбуром – настоящая ловушка. Мы с вами живем в одном отеле, занимаемся коммерцией и питаем особое расположение к табаку. Не удивлюсь, если мы станем неразлучными друзьями, – предрек Фредерик Даглан.
Он слегка прикоснулся к шляпе и откланялся. Арчибальд Янг по достоинству оценил его непринужденную походку и элегантность наряда, а затем продолжил свой променад, столь способствующий пищеварению.
Фредерик Даглан был собой доволен. Благодаря постоянной практике после приезда в Париж он не только не потерял навыков, но даже отточил их. Вытащить бумажник, прикуривая сигарету, было сродни фокусу иллюзиониста. Первостепенную роль, конечно же, играли ловкость рук и координация движений, но нужно было еще, чтобы эти движения создавали правдоподобную мизансцену. Отвлечь внимание жертвы, пока пальцы копаются в ее кармане, и уйти, пока она не заметила пропажи – это ловкий трюк, который публика, обожающая проделки титулованных фокусников на сцене, встретила бы бурными аплодисментами. Но мораль порицает подобные штучки, и Даглан довольствовался лишь тем, что молча поздравил себя сам.
Фредерик вошел в отель, направился к лестнице и взлетел на третий этаж. По пути Гедеон, которого он теперь снабжал презервативами, воруя их в одном из магазинов Честера, одарил его широкой улыбкой.
Запершись в номере, он открыл пухлый бумажник Янга, переложил в карман три четверти находившихся там банковских билетов, но оставил без внимания визитные карточки, рекламку «Шабане»
1,
[1173]портрет милого создания в корсете с выполненной пером надписью «Фьяметта», равно как и буклет с фотографиями танцовщицы, порхающая в воздухе нога которой обнаруживала полное отсутствие панталон. Нахмурив брови, Даглан внимательно рассмотрел мешочек из ткани, в котором лежал плоский ключ с высеченной на металле надписью. Смахнув прилипшую к пиджаку ниточку, он достал свою сумку, вытащил из нее коробочку с модельным воском, открыл крышку, после чего вдавил в него ключ сначала одной, затем другой стороной.
Фредерик положил ключ обратно в бумажник, убрал коробочку, запер номер и быстро спустился на первый этаж, где, к своему удовольствию, увидел шотландца, который сидел перед стойкой бара в широком, глубоком кожаном кресле. За несколько мгновений до этого бармен поставил перед ним рюмку хорошего коньяку.
– Вы позволите? – спросил Даглан на английском.
– С удовольствием, господин…
– Финч, Уильям Финч. Гарсон, повторить! – бросил он уже на французском.
– С Энтони Форестером вы, случаем, не были соседями? – поинтересовался Янг.
– Был. Но теперь в этом подлунном мире он больше не может с кем-либо соседствовать.
– Узнаю юмор соотечественника. Полагаю, вам здорово досталось от этого инспектора, возомнившего себя Красавчиком Браммелом
[1174].
– Ага, досталось. На орехи. Наговорил такого, что хоть святых выноси. Вообразил, что я убийца. Обвинил в убийстве меня, человека, для которого главное в жизни занятие – убивать время. Вам он тоже устроил допрос с пристрастием?
– Ну конечно! Эти французы нас ненавидят, обвиняя в том, что мы сожгли святую, которая встала им поперек дороги, и разгромили императора, который их немало донимал. Сами переложили на нас грязную работу, а теперь чувствуют себя униженными и оскорбленными.
– Надеюсь, есть по крайней мере одна вещь, которую они нам прощают, – это говяжье филе на веревке. Прошу прощения, мне нужно позвонить поставщику, через минуту вернусь.
Фредерик Даглан бросился к телефонной кабинке, заперся в ней и стал цитировать тираду Макбета:
Что в воздухе я вижу пред собою?
Кинжал? Схвачу его за рукоять…[1175]
Тем временем Арчибальд Янг допил коньяк и заказал еще одну порцию.
На обратном пути Фредерик Даглан, намереваясь сесть напротив, специально зацепился ногой за ковер, пошатнулся, упал на Янга, незаметно положил бумажник в карман его пиджака, извинился и рухнул в кресло. Арчибальд тут же проявил беспокойство по поводу его лодыжки.
– Вывих был бы очень некстати.
– Что касается вывихов, то их я получаю только в установленном порядке. Для меня злейшим врагом является таможня.
– Какое совпадение! Для меня тоже, хотя я перевожу через границу лишь безобидные сувениры из Города света – миниатюрные Эйфелевы башни, гипсовые Триумфальные арки и малахитовые здания «Опера», которые вскоре затмят собой веджвудские бонбоньерки, китайские вазы эпохи династии Мин и бирманские статуэтки Будды. И за эти безделушки приходится платить непомерные пошлины…
– Я возьму над вами покровительство, любезный. Позвольте предложить вам еще коньяку. Гарсон!
Фредерик Даглан с трудом удержался от улыбки.
«Мысль о том, что я предлагаю тебе выпить за твой же собственный счет, милейший, приводит меня в совершеннейшее изумление. Воспользуйся моей щедростью, ведь деньжат у тебя сейчас не густо!»
Глава девятнадцатая
Пятница, 3 августа
Джина мечтала посетить Дворец ниток, тканей и одежды, но признаться в этом дочери, неизменно демонстрировавшей презрение к подобной ерунде, не осмелилась. Поэтому они сошли с фиакра на авеню Бурдонне и направились мимо Дворца металлургии и горнорудного дела к Марсовому полю. Таша заранее решила пойти на бесплатный концерт под открытым небом, посвященный азиатской части России. Оркестру предстояло исполнить фрагменты из «Князя Игоря» Бородина, «Руслана и Людмилы» Глинки, а также «Меланхолическую серенаду» Чайковского.
Джина и Таша даже не заметили, что за ними неотступно следовал еще один фиакр, пассажиром которого был не кто иной, как Робер Туретт. Теперь он наблюдал за ними с некоторого расстояния, сидя в последнем ряду. Волосы анималиста прикрывал цилиндр. Маленькая жена книготорговца занимала его значительно больше, чем музыканты, рассаживавшиеся под аккомпанемент настраиваемых инструментов.
Таша, даже не замечавшая оркестра, понимала, что попытка унять тревогу, вызванную откровениями Виктора, была чистой воды иллюзией. Обычно музыка избавляла ее от страхов, но в этот день ей удалось их только усыпить. Женщина на несколько мгновений забывала о реальности, успокаивалась, затем снова вздрагивала. В затылке ломило.
– Давай сходим куда-то еще, – прошептала Джина, – здесь ужасно жарко, а музыканты, к тому же, безбожно фальшивят.
Таша согласно кивнула. Они подождали, когда стихнет мелодия Чайковского, и, чтобы высвободиться из объятий слишком узких кресел, побеспокоили чету мелких рантье и какого-то господина с внешностью нотариуса.
– Кому не нравятся русские композиторы, – проворчала жена рантье, обращаясь к супругу, – пусть отправляется в «Мулен Руж» – там они, по крайней мере, будут слушать француза.
– Француза? Жак Оффенбах, конечно же, француз, но германского происхождения. К тому же еврей, – метко возразила ей Джина.
Стремясь обрести прохладу, они направились к станции «Марсово поле». Робер Туретт следовал за ними по пятам. Дамы во всех деталях рассмотрели афиши, выполненные Феликсом Зимом
[1176] для рекламы Венеции в Париже.
– Когда-то Виктор заманил меня в путешествие по Венеции, городу влюбленных, а теперь я с мамочкой увижу копию Пьяцетты
[1177]! И все это за какой-то франк!
Они тут же сели в черную лодку и поплыли по выложенным красным кирпичом каналам. Гондольер, орудовавший шестом, тут же затянул баркаролу
[1178].
Кампанила и колокольни собора Святого Марка, равно как и украшенные мозаикой площади и дворцы, хоть и были иллюзорными, но обусловленная ими перемена обстановки не могла не радовать глаз.
Оставив свою колясочку рикши недалеко от последнего причала для гондол, человек в бледно-зеленой ливрее притаился в темной нише у моста Вздохов. Обнаружить его присутствие было невозможно. В горле у него пересохло, но дрожи не было. Жертва вскоре будет в зоне досягаемости. Натягивая лук, он каждый раз испытывал восторг, будто к нему возвращалась юность. Он сжал челюсти. Гондола подошла к причалу.
По окончании маршрута, показавшегося им слишком коротким, Джина и Таша сошли на берег, все еще находясь под впечатлением от иллюзорных панорамных видов.
В этот момент толпа заволновалась, послышался шум. Они обернулись. Предметом всеобщего интереса стала следовавшая за ними гондола. Гондольер, в котором если и было что-то итальянское, то только костюм, орал:
– Я ничего не видел, там, внизу, темно хоть глаз выколи! Откуда мне было знать, что какой-то убийца отправит на тот свет моего пассажира!
Джина попыталась удержать дочь, но та уже прокладывала себя путь в толпе зевак. Таша подбежала к гондоле. В ней на животе лежал человек высокого роста. Его цилиндр закатился под скамью, явив взорам пышную седую шевелюру, которую она тут же узнала. Из спины Робера Туретта торчала стрела. Канал, набережная, толпа – все поплыло у женщины перед глазами, и она упала бы, если бы ее не подхватил рикша.
– Вот черт! – воскликнул он. – Они сегодня падают в обморок как мухи.
Джина бросилась к дочери и уложила ее на скамью с помощью рикши, который предложил отвезти молодую даму в больницу.
– Не исключено, что это солнечный удар. В последнее время народу умирает много, поэтому осторожность не помешает.
Таша, немного придя в себя, покачала головой в знак отказа ехать к врачу, но мать ее убедила. Рикша усадил ее в свою колясочку и отвез дам до дома 11 по авеню Сюффрен, где кучер муниципального фиакра, к счастью не участвовавший в забастовке, согласился направиться с ними в больницу «Шарите». Рикша прислонился к своей колясочке и вытащил из кармана йо-йо, которое в его руке тут же стало быстро опускаться и подниматься.
– Даже не знаю, как вас благодарить за проявленную учтивость, – прошептала ему Джина.
– Но, мадам, это же так естественно, – ответил он, с трудом скрывая облегчение, которое принесла ему эта неожиданная прогулка, позволившая избежать расспросов со стороны столпившихся вокруг трупа зевак.
Он спрятал йо-йо. Ему больше не нужно было изображать из себя лошадку.
Сходя с ума от беспокойства, Виктор, узнавший о произошедшем из рассказа кучера, запутался в пиджаке, забыл в экипаже шляпу и перчатки и спрыгнул на мостовую, игнорируя увещевания Жозефа, призывавшего следить за тем, чтобы в них не выпустили смертоносную стрелу. Под градом вопросов, пришедшихся явно некстати, Жожо разогнал любителей литературы, собравшихся в этот день в лавке.
– Тебя не поймешь, голубок, – тихо молвила Эфросинья, поднимаясь на второй этаж с твердым намерением устроить Мели разнос, – ты без конца жалуешься, что люди перестали читать, но когда самым удивительным образом в лавку валят покупатели, устраиваешь шум.
Таша коротала время в гостиной, распространяя вокруг запах эфира и жавелевой воды. Перед этим искушенный в своем деле доктор осмотрел ее, посоветовав носить дамские шляпки попросторнее. Когда Виктор заключил ее в объятия, она рассказала ему о мрачных событиях, имевших место пополудни.
– Такая внезапная смерть – это ужасно. Меня затошнило, я попыталась себя пересилить, вдруг потеряла сознание и упала на руки какому-то рикше.
Виктор без конца осыпал себя упреками. Это он был во всем виноват, убийца вполне мог расправиться с Таша и Джиной, нельзя было приплетать к этой охоте дорогого ему человека.
«Что делал Туретт в этой гондоле? Это не может быть совпадением. Почему его убили? И кто? Янг? Даглан? Даглан… ведь это он предложил привлечь к делу Таша. Разве не он попросил меня одолжить жену?»
– Кстати, а где Джина?
– Пошла в лавку. Ты разве с ней не встретился?
– Я отведу тебя на улицу Фонтен.
– Нет, лучше на улицу Сен-Пер. Алису на весь день взяли к себе Бодуэны, так что я смогу немного расслабиться и полежать в гостиной.
Не успела она подняться по винтовой лестнице и присоединиться к Джине, как в лавку, разогнав своим рвением последних покупателей, в траурном костюме ввалился комиссар Вальми, еще больше усилив тревогу Виктора и окончательно испортив ему настроение.
– Легри, я требую объяснений! Каким образом ваша жена оказалась у гондолы, в которой два часа назад нашли тело некоего Робера Туретта?
– Случайность. Таша со своей матерью отправилась на концерт и…
– Хватит нести этот хронический бред. Мне надоело, что вы постоянно выставляете меня на смех. И потом, повсюду грязь… Откуда берется эта пыль, от которой нигде нет спасения? Улицы запылены. Всемирная выставка – сплошное средоточие пыли. Ваши книги – ее рассадник. Я чувствую себя грязным, где можно помыть руки? Я задыхаюсь. Даже самый маленький солнечный лучик превращается в вихрь частичек пыли, которые тут же набрасываются на мою кожу!
Комиссар кашлял, ходил по всей лавке в поисках умывальника, затем направил свои стопы в подсобное помещение.
– Мне очень жаль, но водопровод у нас только на втором этаже, а там сейчас отдыхает теща, которая утром тоже была на Выставке.
– Сейчас у меня нет времени, но рано или поздно я вас прижму. Вашей супруге лучше? Как людям только в голову приходит куда-то ходить по такой жаре! Легри, вам дарована отсрочка – из-за кончины моего коллеги, комиссара полиции Андре, начальника восьмой следственной бригады. Моего друга. Он получил приказ следить за анархистами, наводнившими этим летом Париж, и умер от апоплексического удара. А все жара, этот адский зной. Ему было только сорок пять лет. Я пообещал провести ночь у гроба умершего.
– Примите мои соболезнования, – невнятно пробормотал Виктор.
– Не надо, вы не обязаны изображать скорбь, когда на самом деле ее не чувствуете! Беда никогда не приходит одна… И это в тот момент, когда совершено покушение на шаха… А теперь вот четвертый труп! Наслаждайтесь затишьем, оно носит временный характер. Мы с вами еще увидимся. Вскоре вас вызовут в префектуру, и там-то уж вы точно выложите все как на духу!
Комиссар Вальми ушел, тренькнув дверным колокольчиком. Жозеф, в котелке на голове и с тростью в руке, устремился на улицу.
– На этот раз я осуществлю мой план. И каковы бы ни были ваши возражения, разубедить меня вам не удастся. Стрелы!
– И где вы намереваетесь раздобыть сведения по этому вопросу?
– У антиквара с улицы Турнон.
– У Кермарека? А заигрываний с его стороны не боитесь? Ведь вам должно быть известно, что он питает страсть к мальчикам.
– Чтобы свет наконец засиял, я готов принести себя в жертву!
Лицо Виктора расплылось в ухмылке.
– Подобные тирады приберегите для ваших романов.
– С такими, как вы, Христофору Колумбу понадобилось бы пятьдесят лет, чтобы открыть Америку.
– А что, было бы неплохо! Подобную отсрочку индейцы обратили бы себе на пользу.
– Вот-вот, индейцы! Все указывает именно на них.
Лавка, стены которой были украшены бело-золотистыми деревянными панелями в духе Людовика XV, буквально ломилась от расписных спинетов и клавесинов. Подобное собрание прекрасно смотрелось бы в неоготическом поместье какого-нибудь коллекционера, неспособного даже прочесть партитуру. На инкрустированных столиках на одной ножке лежали классические гитары, учебные скрипки, смычки, а также балалайки и мандолины. Рядом с резной арфой стоял посудный шкаф, заполненный тарелками из севрского фарфора с изображением музыкантов, играющих на лютнях и мандолинах. Недавно антиквар приобрел несколько редких вещиц, выпущенных мануфактурой по производству мягкого фарфора, основанной в 1740 году в Венсенском замке и шестнадцать лет спустя переведенной в Севр. Жозеф не переставал восхищаться то кувшинчиком для шоколада, то горчичницей, то вазами, то чайным сервизом, выставленными в витрине, превозмогая желание открыть ее.
Максанс де Кермарек был худым, высоким человеком, облаченным в эксцентричный бархатный костюм цвета спелого граната, пришедшийся по вкусу парижской моли, ответственной за несколько дыр, до которых антиквару не было никакого дела. Тощий, с бородкой клинышком, он выходил из своего магазина только для того, чтобы съесть сэндвич с огурцом и выпить молока, сдобренного земляникой. При виде нагрянувшего к нему Жозефа он бросился вперед и протянул руку.
– Какой приятный гость! Мой дорогой господин Пиньо, вы хорошеете с каждым годом. Зрелый возраст сделает из вас современного Аполлона. Присаживайтесь. Чай? Кофе?
– Я на диете.
– Стройность – удел соблазнителя. Чем обязан радости вас лицезреть?
– Полагаю, вы слышали о той страсти, которую мой шурин и партнер питает к расследованию уголовных преступлений. Сейчас он выясняет обстоятельства серии убийств, совершенных с помощью лука и стрел с красным оперением. Я вспомнил, что вы провели юность в Соединенных Штатах, и…
– И правильно сделали! Мой отец водил дружбу с Джорджем Кэтлином
[1179], художником, запечатлевавшим на холсте культуру американских индейцев. Я как-то видел его у нас дома в конце 1850-х годов, когда был от горшка два вершка, – вкрадчиво заговорил антиквар, пододвигая свой позолоченный стул к тому, на котором съежился Жозеф. – Еще я встречался с Нейтом Солсбери, организатором выступлений Уильяма Фредерика Куди, прославленного охотника на бизонов, больше известного как Баффало Билл.
– Вот и славно. Значит, вы хорошо разбираетесь в луках и стрелах.
– Ну что вы… Так, самую малость! Это метательное оружие используется с незапамятных времен что в Европе, что на Востоке, что в Америке.
– Откуда родом может быть это древко и оперение?
Максанс де Кермарек взял обломок и стал вертеть его в руках.
– Задали вы мне задачку. Давайте подумаем… Подумаем… На первый взгляд стрела индейская. Оперение не в самом лучшем состоянии. Как мне кажется, это перо дикого индюка.
– Красный индюк? Таких в природе не существует!
– По всей видимости, его просто покрасили в красный цвет. Что касается древка, то это обыкновенный речной камыш.
– Он же растет где угодно!
– Разумеется, но взгляните вот сюда, оперение сделано без клея. Посмотрите внимательно, оно перевязано сухожилием какого-то животного, по-видимому, размоченным в воде. К сожалению, мне неизвестно, какое племя краснокожих пользуется подобными материалами. Вам нужно проконсультироваться у специалиста. Других улик у вас нет?
– Нет. А луки? Их тоже изготавливают из камыша?
– В целом их делают из ветвей деревьев – ясеня, дуба, клена, акации, – придавая гибкость путем нанесения на поверхность желатина, получаемого из расплавленных копыт животных семейства оленевых. Что касается тетивы, то если раньше ее делали из свитых сухожилий животных, то сегодня им на смену пришел металл. Длина стрелы составляет примерно шестьдесят сантиметров.
– Вы уверены, что эта стрела родом из Америки?
– Утверждать не буду, но скорее всего да.
Мозг Жозефа загудел от напряжения. Кем по национальности был Робер Туретт? Имя и фамилия звучат на французский лад, но это еще ничего не доказывает. А Мэтью Уолтер – он был американцем?
«Энтони Форестер: британец. Фредерик Даглан: француз, прикидывающийся англичашкой. Янг – шотландец, а в Шотландии соревнуются не столько в стрельбе из лука, сколько в том, кто дальше забросит ствол дерева. Да и потом, как-то неудобно расхаживать, пряча под пиджаком лук».
– Снаряжение лучника нельзя носить с собой незаметно, оно сразу бросается в глаза. Как вы думаете, господин Кермарек, где его можно спрятать здесь, в Париже, на Всемирной выставке в толпе туристов?
– Подобная задача требует творческого подхода, хотя ничего невозможного в этом нет. Я даже не знаю – среди рыбацких снастей, в достаточно большой, вытянутой в длину сумке, под плащом, в детской коляске, двуколке. Такой тайник можно оборудовать где угодно. Но лично я, мой дорогой Жозеф, знаю только один способ насладиться счастьем – это разить стрелой любви, подобно Купидону.
– Врожденные наклонности побуждают меня не столько к стрельбе из лука, сколько к пешим прогулкам, – заметил Жозеф, устремляясь к двери. – Крайне признателен за ваше неоценимое сотрудничество, господин Кермарек.
– С вами, молодой человек, я готов к тесному сотрудничеству по первому вашему желанию!
Оставшись один, Максанс де Кермарек вздохнул и погладил спинку стула, на котором до этого сидел Жозеф.
Фредерик Даглан миновал бульвар Бурдон, проехал вдоль русла канала Сен-Мартен, впадавшего в Сену, и свернул налево – на улицу Серизе. Ему не хотелось появляться в этом столичном квартале, который напоминал ему об идиллии с Жозеттой Фату, хотя до улицы Буле отсюда было больше километра. «Чердак Верцингеторикса» занимал целый квартал. Это название, высеченное на плоском ключе, дубликате украденного Фредериком у Янга, относилось к вещевому складу, который он без труда нашел в адресной книге. Накануне вечером Даглан по пневматической почте заказал наемный экипаж и незадолго до этого вступил во владение им у винного рынка
1.
[1180]Он потянул за вожжи, остановил лошадку, животное безропотное и покорное, и в награду подвесил ей сумку с овсом, в который кляча тут же опустила голову. Даглан спрыгнул на тротуар и заметил мальца, который грыз яблоко и краем глаза поглядывал на него. Фредерик знаком подозвал его к себе.
– Как насчет того, чтобы заработать пять франков? – спросил он, демонстрируя внутренности бумажника.
Пацан вытаращил глаза – он еще ни разу в жизни не видел пятифранковых монет – и, не говоря ни слова, тут же согласился.
– Дело нехитрое, ты покараулишь мой экипаж, а я, тем временем, схожу в этот дом за своими вещами.
Прямой как оловянный солдатик, мальчишка схватил поводья и кивнул головой, на этот раз с энтузиазмом, силясь подсчитать, сколько на такие деньжищи можно будет купить пирожных с кокосовым орехом, которые были его любимым лакомством.
Фредерик Даглан решительно вошел в вестибюль, в глубине которого за столом, заваленным бумагами, на табурете скрючилась миниатюрная старушка.
– Здравствуйте, мадам, я пришел забрать свои вещи, переданные вам на хранение, – заявил он, протягивая ключ.
– Фамилия? – хриплым голосом спросила она.
Он пошел ва-банк.
– Янг.
Старуха полистала толстую книгу, водя пальцем по колонке с подписями.
– Как пишется ваша фамилия?
– Я, н, г.
– Нет тут таких.
– Арчибальд, – добавил Даглан, подумав несколько секунд.
Палец вновь заскользил по разграфленной странице и остановился на подписи.
– Арчибальд Дункан Кэмерон? Правильно?
– Совершенно верно.
– По действующему тарифу вы должны нам десять франков пятьдесят сантимов.
Фредерик положил на стол несколько монет, которые исчезли с невероятной скоростью, заставив его усомниться в том, что они когда-то у него были.
– Квитанцию, пожалуйста.
– Сию минуту, как только вы вернете мне ключ.
Даглан направился по одному из коридоров, веером
расходившихся из вестибюля.
– Да нет, не туда, в тех залах хранятся шкафы и буфеты. Вам надо сюда, – проскрипела старуха, указывая в прямо противоположную сторону.
Фредерик двинулся по коридору, слабо освещенному газовыми рожками, стены которого состояли из пронумерованных ячеек. Он сверился с цифрами на ключе: 46. Соответствующая замочная скважина располагалась в аккурат перед ним.
Испытывая в душе волнение золотоискателя, который вот-вот найдет самородок, Даглан открыл ячейку. Все пространство занимали собой десять мешков из джутовой ткани. Он схватил один из них, удивившись, насколько легким тот оказался, и развязал стягивавшую его веревку. На лице его отразилось разочарование, тут же уступившее место выражению ликования. Несмотря на количество, все мешки можно было унести за один раз, зажав по пять в каждой руке, наподобие того как хватают за ботву овощи. Сила в руках еще оставалась, а до экипажа было рукой подать.
Фредерик завернул к насесту сторожихи, поставил ношу на пол, вернул ключ и взял квитанцию. Затем произнес: «До свидания, мадам», услышал в ответ недовольное ворчание и вернулся к экипажу, охраняемому все тем же пацаном, буквально повиснувшим на уздечке.
Зажав в руке пятифранковую монету, словно от нее зависела его жизнь, мальчишка убежал, даже не поблагодарив.
Даглан сложил мешки в экипаж, убрал сумку с овсом, крикнул: «Но, кокотка!» – и покатил к площади Бастилии. По дороге отвесил поклон духу Свободы, миновал Июльскую колонну, проехал по бульвару Бомарше, достиг площади Республики и взял курс на Северный вокзал. План его был предельно прост: оставить груз в камере хранения, вернуть экипаж хозяину с винного рынка, затем втихомолку забрать из «Отеля Трокадеро» штаны и бумажники.
Если Фредерик о чем-то и сожалел, то только о том, что ему приходится нещадно гнать першерона, который, учитывая почтенный возраст, вполне заслуживал отрадной пенсии на лоне природы. Но закончить жизнь, не заботясь о завтрашнем дне, что для человека, что для животного было роскошью – ее могли позволить себе либо те, кто родился с серебряной ложкой во рту, либо те, кого Провидение наделило талантом и предоставило шанс набить доверху приличную кубышку.
Фредерик тотчас же поклялся, что не будет ждать милостей от презираемого им общества. И пообещал устроить себе бессрочный отпуск, раз уж ему представился такой случай.
Глава двадцатая
Тот же день, ближе к вечеру
– Стрелы и лук родом из Северной Америки. Это нам что-нибудь дает в плане поиска виновного? Туретт рисовал пернатых в Соединенных Штатах, но его с почетом отправили на тот свет.
– Может, с ним свел счеты Янг?
– Кто их знает? Из действующих лиц остались только он да Даглан, – констатировал Виктор, когда Жозеф закончил свой доклад. – Полюбуйтесь! Эти два томика в восьмую часть листа и в переплете из шагреневой кожи представляют собой сборник стихов Джона Китса, изданный в Лондоне в 1848 году. Вам известно, что этот талантливый поэт умер в безвестности в возрасте двадцати шести лет?
– Ну да, ведь это ваш конек – менять тему разговора. Нужно немедленно схватить Даглана и припереть его к стенке. Я попрошу Джину еще раз нас подменить. Едем в «Пикколо».
– Не возражаю. Только вот забастовка кучеров сегодня распространилась уже на целый ряд компаний – «Метрополитен», «Абей», «Ваграм». Боюсь, как бы к этому движению не присоединилась и муниципальная «Урбен». Я возьму велосипед, вам придется ехать на раме.
– Чтобы вы рассекали туман, а я вам служил живым щитом? Тогда лучше на багажнике, буду обнимать вас за талию.
– Только не слишком нежно.
– Буду держать настолько твердо, насколько это потребуется.
– Сегодня не его день, он у нас не обедал, – недовольно проворчал Анхиз, открыв ресторан после того, как они забарабанили в дверь.
Виктор и Жозеф обескураженно переглянулись и решили поехать в «Отель Трокадеро».
– У меня вся филейная часть болит, – пожаловался Жозеф.
– А я совсем выдохся, ведь вы, мой дорогой, весите немало.
– Надо будет купить двухместный велосипед.
Продолжая нажимать на педали, Виктор, с трудом переводя дух, рассказал шурину, кем на самом деле был Финч. Услышав за спиной возмущенный ответ, он резко дернул руль, и машина вильнула в сторону.
– Даглан? Браво! Как, по-вашему, я могу вам помогать, если вы скрываете от меня такие важные сведения?
– Примите мои извинения. Я боялся, что вы попадете в ловушку, – ответил Виктор.
– Давите на чувства?.. Даглан заявил управляющему отеля, что у него умыкнули штаны. Это что – инсценировка? Этот разбойник на все способен!
Подъехав к отелю и подождав, когда улягутся мышечные спазмы, они оставили велосипед на хранение лакею и вдруг застыли как вкопанные. Перед ними, олицетворяя неотвратимость возмездия, с мрачным выражением на лице вырос комиссар Вальми.
– Бодрствование ночь напролет у гроба покойного, разговор с префектом Лепином по поводу безопасности шаха, допрос в комиссариате на улице Мениль преступника, повинного в покушении на него, обыск номера убитого Робера Туретта, жившего в «Палас Отеле», а теперь вот исчезновение Финча. Сегодняшний день относится к тем, которые укорачивают жизнь одному из лучших сыщиков префектуры и заставляют его жалеть о том, что он выбрал себе профессию, так плохо отражающуюся на душевном равновесии.
– Как видите, мы очень об этом сожалеем. У нас неожиданно возникли сомнения по поводу этого Финча, который недавно явился к нам в лавку и спросил издание…
– Легри, не рассказывайте мне сказки, плевать я хотел на ваши заявления. Вы должны знать, что Робер Туретт, несмотря на французское имя, был американцем из Нового Орлеана.
– Американцем! Но ведь это все меняет! – вскричал Жозеф.
– Да? В каком смысле? – поинтересовался Огюстен Вальми.
– Э-э-э… В том смысле, что его интересовали портреты индейских вождей работы Чарльза Берда Кинга!
– Это еще что за птица?.. Нужно будет навести о нем справки. Мое везение ограничилось лишь записной книжкой Туретта. Я почерпнул из нее кое-какие сведения и теперь хочу поделиться ими, на тот случай, если вы сможете меня в чем-нибудь просветить. А то я, надо признать, вконец запутался.
Пока Вальми читал, Жозеф заносил в свой собственный блокнот написанные Туреттом строки.
09/97
План «Марии С.» готов.
Кэмерон согласен. Форестер тоже.
Нужно найти простофилю-голубка.
02/98
Гавайи.
Посулили куш молодому японцу И. В. В Париже у него есть кузен.
05/98
Голубок взлетел. Одаренный ученик. Поступил матросом на «К.».
05/99
После захода в Сан-Франциско, Гонконг и Нью-Йорк «К.» отправляется в порт С.-Л.
10/99
План реализован. Л. устранен. Груз на борту. И. В. остался в С.-Л.
Со страховым возмещением все в порядке.
06/1900
Люди и товар в Париже.
– Ну что, господа? Не чувствуете потребности облегчить совесть, поделившись со мной теми или иными откровениями?
– И., В., К., С..-Л., наш Туретт проявлял неподдельный интерес к алфавиту… Это что, какой-то код? – предположил Жозеф.
Комиссар закашлялся.
– Пыль, нервы… Легри, чтобы объяснить, как среди бумаг Робера Туретта оказалась ваша визитная карточка, вам нужно будет превзойти себя в искусстве лжи, в котором вы большой мастер.
– Этот человек подошел ко мне в Большом дворце. Я дал ему визитку, потому что он художник-акварелист, к тому же, ему понравилась картина моей жены.
– Если не ошибаюсь, обнаженная мужская натура. Коллеги поделились со мной своим возмущением, они были шокированы этой похабщиной, которая меня тоже удивила, особенно со стороны столь изысканной дамы, как мадам Легри.
– Не думаю, что нагое мужское тело – в данном случае мое – может кого-то оскорбить. Но если вы на этом настаиваете, будь по-вашему. В свою очередь, обнаженная женская натура крайне редко вызывала возмущение, в противном случае музеи Европы не изобиловали бы пышнотелыми рубенсовскими нимфами.
– Давайте отвлечемся от изобразительного искусства и поговорим о совершенных на Выставке убийствах. Жду вас обоих в шесть часов у меня в кабинете в префектуре. Всегда к вашим услугам, господа.
Виктор вновь взгромоздился на седло, Жозеф опять за него ухватился. Он с большим трудом поднялся на холм Трокадеро и тут же потребовал устроить передышку. Они направились вдоль экспозиции Туниса. Прельщенные прохладой базара, они медленно фланировали среди лавчонок, то и дело окликаемые горшечниками, ткачами и жестянщиками, предлагавшими что-нибудь у них купить, пока, наконец, не уступили очарованию ресторанчика под открытым небом, где им подали чай с мятой, тарелку кедровых орешков и две порции пахлавы. Жозеф показал Виктору свои каракули и тот, схватившись рукой за подбородок, попытался расшифровать загадочный дневник Туретта.
– А ведь стиль-то сжатый. Так… Хорошо… Я так думаю, что Туретт был мозгом всей операции. Он сговорился с Дунканом Кэмероном, капитаном «Комодо», и Энтони Форестером, капитаном «Эсмеральды». Затем пристроил Исаму Ватанабе коком на «Комодо», направлявшийся в сенегальский порт Сен-Луи. Там что-то произошло. Некоего Л. убили, а Исаму бросили в Сен-Луи.
– Вы видели письмо, украденное Дагланом у Форестера?
– Да, я как раз собирался его перечитать. Л… Лакуто? Кто такой Лакуто?
– Затем, в море, – если вы в чем-то не согласны, можете меня перебить, – эти мерзавцы, вдохновившись историей с «Марией Селестой», устроили аферу. А в 1900 году, вместе с Туреттом и товаром, уже были в Париже, – продолжал Жозеф.
– С товаром? И что он собой представляет? Перья? Как Исаму добрался до Парижа? И какая ему была отведена роль? – спросил Виктор, допивая чай.
Поскольку Уолтер и Туретт были мертвы, опасность Кэндзи и Ихиро не грозила, по крайней мере до тех пор, пока они будут оставаться в своем убежище. Но это совершенно не мешало убийце посещать Выставку. Поскольку Даглан куда-то запропал, первым делом теперь нужно было перехватить шотландца.
Ровно в три часа Арчибальд Янг открыл ячейку 46 «Чердака Верцингеторикса». Он настолько остолбенел от изумления, что целых три минуты не мог сдвинуться с места, полагая, что стал жертвой кошмара. Но нет, это был не сон: ячейка действительно опустела. Несмотря на явную очевидность происходящего, он пошарил в ней рукой, чтобы убедиться окончательно. Арчибальд обнаружил, что в горле застрял ком, а сердце колотится как бешеное. Он бросился к конторке старухи, игравшей роль цербера.
– Там больше ничего нет! Меня обокрали! Вы слышите? Обокрали!
– Слышу, но никакой кражи не было, это ошибка. Вы просто дали свой ключ одному грубияну.
– Я? Сверьтесь со своими записями! Кто-то назвался моим именем!
Старуха ткнула пальцем в подпись, оставленную человеком, которого она прекрасно запомнила.
– Здесь написано ваше имя – «Арчибальд Дункан Кэмерон».
– Как он выглядел? Молодой? Пожилой? Француз?
– Невзрачный какой-то. В любом случае, у него был ключ от вашей ячейки, он мне его вернул.
Она открыла ящичек стола, погремела там связками и извлекла на свет божий ключ, как две капли похожий на тот, который держал в руке Янг.
– Это невозможно… – прошептал он. – Они все мертвы… Я не понимаю.
– Прошу прощения, сударь, но я должна забрать у вас ключ. Учитывая обстоятельства, я возьму с вас только половину суммы за аренду ячейки, пять франков двадцать пять сантимов.
Янг продолжал что-то бессвязно бормотать и качать головой, не выпуская из рук ключа, оставшегося для него единственным осязаемым утешением. Наконец он сунул его в карман, попятился к выходу, развернулся и ринулся к фиакру, не обращая внимания ни на старуху, ни на ее визгливые крики.
Арчибальд отпустил кучера, дошел по бульвару Бурдон до домика смотрителя шлюза и неподвижно застыл перед причалом Генриха IV, не замечая сновавших по Сене прогулочных пароходиков и барж. Грузчики, надрываясь, выгружали из трюмов песок и гальку. Носильщики, повязав шеи платками и нахлобучив на головы кожаные шляпы со свисающими на плечи полями, таскали на себе корзины с углем. Подозрительные типы с белыми от пыли лицами осуществляли перевалку гипса. В этой пестрой толпе толкались садоводы в поисках строительного камня и дамы с накинутыми на голову капюшонами, делавшие вид, что их заштопанные джутовые сумки дополняют собой корабельную снасть. Под паровыми лебедками, возвышавшимися над окрестным пейзажем, носились полуголые дети, собаки, кошки и куры. Царивший вокруг шум ничуть не мешал рыбакам, застывшим со своими удочками, и был не в состоянии пробудить от летаргии Арчибальда Янга, безразлично взирающего на тросы, наматывавшиеся на барабан, с помощью которых на противоположном берегу выгружали бочки, предназначенные для винного рынка.
Янг вернулся и сел у края шлюза. Он вытер платком лоб и прищелкнул языком, во рту у него пересохло. В этот момент до его слуха донесся приглушенный, свистящий голос. Он шел откуда-то снизу и будто рождался из тени тоннеля, соединявшего реку с Арсенальным портом.
– Арчибальд! Оно у меня, теперь я владею сокровищем. Иди сюда, рядом с тобой есть лестница, будь осторожен, не упади, там скользко…
Янг наклонился над водой, никого не увидел и выпрямился.
– Давай, одно-единственное усилие – и ты не будешь жалеть, что тебе пришлось заниматься акробатикой!
Янг посмотрел по сторонам. Смотритель шлюза куда-то запропал, на водной глади канала не было ни одной баржи. Он пошел на голос и, осторожно ступая, спустился вниз.
– Вот так, хорошо, здесь больше двух пролетов, держись за стену…
– Где вы?
В этот момент Арчибальд почувствовал удар, пошатнулся, выпрямился и увидел, что из бока у него торчит стержень. Совершенно не чувствуя боли, он спросил себя, что произошло.
Внизу послышался шорох.
Из тьмы вынырнули две руки, сомкнулись у него на шее и, несмотря на оказываемое им сопротивление, потащили назад.
Без двадцати четыре Арчибальд Янг, которого на самом деле звали Дунканом Кэмероном, испустил последний вздох.
Несколько мгновений спустя по бульвару Бурдон шагал человек в сером пальто и того же цвета котелке, из-под которого выбивалась прядь волос. В правой его руке выделывало пируэты йо-йо.
До того момента, как купавшиеся в порту мальчишки не ухватились за лодку, внешне казавшуюся пустой, прошло три четверти часа. В суденышке лежал на животе труп тучного господина. В его боку торчала стрела.
Кабинет комиссара Вальми украшали собой несколько репродукций Греза
[1181] и писанное гуашью неаполитанское полотно с изображением пылающего Везувия.
– Не думал, что вас интересуют вулканы, – бесцветным голосом заметил Виктор.
– Ваше невежество, Легри, может сравниться только с присущей вам наглостью. Мы с вами вместе овец не пасли, и вы обо мне ровным счетом ничего не знаете. Со своей стороны, я начинаю понемногу разбираться в ваших плутнях, равно как и в ваших, господин Пиньо, – до такой степени, что мог бы даже написать на эту тему роман. Впоследствии вы могли бы его издать, а я – подарить самым достойным читателям по экземпляру с моим автографом. Но хватит нести вздор. Полтора часа назад в морг доставили тело Арчибальда Янга. Раздев его, мы обнаружили, что он носил что-то вроде доспехов, делавших его намного толще и упитаннее. Стрела, якобы его убившая, застряла в толстой накладке на груди и поэтому не причинила никакого физического вреда.
– От чего же он тогда умер?
– Его задушили.
На столе были разложены предметы, найденные в карманах Янга: бумажник, плоский ключ, мелочь, платок и бечевка с небольшим плетеным шариком на конце.
– Господа, это так называемый обезьяний кулак. Он означает, что Янг либо сам служил на флоте, либо водил дружбу с моряками. Что касается ключа, то он привел нас к вещевому складу, расположенному неподалеку от того места, где обнаружили тело. Он стоит на улице Серизе и называется «Чердак Верцингеторикса». По словам дамы, ответственной за хранение, он недавно был у нее и жаловался, что его ячейку обчистили.
– Что у него уволокли? – спросил Жозеф в крайнем возбуждении.
– Если бы она знала, то рассказала бы нам! Но то, что мы выяснили, представляется «весьма забавным», если следовать столь дорогому вашему сердцу выражению, господин Пиньо. Она описала нам Уильяма Финча, постояльца «Отеля Трокадеро», у которого стащили штаны. Сей господин сегодня утром явился за вещами Арчибальда Янга, предъявив ключ, очень похожий на этот. Таким образом, я намерен выписать ордер на арест этого прескверного господина, и поскольку наша встреча преследует своей целью выяснить характер ваших с ним отношений, я предлагаю убить одним ударом сразу двух зайцев и рассказать, что вас с ним связывает.
На лицах Виктора и Жозефа отразилось выражение скорбного удивления, что не замедлило вывести комиссара Вальми из себя.
– Можете хранить молчание, но предупреждаю – если в ходе обыска, который я приказал провести в номерах Финча и Янга, обнаружится что-нибудь, вас компрометирующее, вы можете подвергнуться аресту!
Они вышли из префектуры, не сказав друг другу ни слова. На площади Дофина остановились под каштанами. Какая-то девчушка нарисовала посреди улицы классики и теперь прыгала на одной ноге, толкая носком подошвы коробочку из-под пастилок «Жеродель». Несколько клошаров, развалившись на скамье, потягивали прямо из горла красное вино. Устроившийся на железном стульчике сутяга то и дело теребил кипу документов, говорил сам с собой и удрученно качал головой.
– Мне явно пора в сумасшедший дом! – воскликнул Жозеф, испытывая облегчение от возможности сбросить долго сдерживаемое напряжение.
– Тщательно взвесив все предположения, я пришел к выводу, что единственный человек, соответствующий критериям идеального преступника, – это Даглан. Надо предупредить Кэндзи и Ихиро. Театр Лои Фуллер перестал быть для них безопасным местом, им нужно укрыться на улице Фонтен.
Разговор давался Виктору с трудом, на него навалилась такая усталость, что он с удовольствием уснул бы на оккупированной клошарами скамейке.
– Я займусь этим сам. Подготовьте Таша, вот будет потеха, если она встретит нас злобой! Но главное, на тот случай, если за нами шпионят, проследите, чтобы они с малышкой были в безопасности. Да встряхнитесь вы!
Виктор в знак согласия кивнул головой. Он боялся, что супруге сложившаяся ситуация явно не понравится. «Но раз уж она согласилась сотрудничать…»
Таша мало того, что пришла в бешенство, но еще и напрочь отказалась допускать, что убийцей мог оказаться Фредерик Даглан. Она защищала его с таким рвением, что Виктор даже почувствовал в душе легкий укол ревности.
– Кем бы ни был этот преступник, с учетом того, что мы все трое можем подвергнуться преследованиям с его стороны, я настаиваю, чтобы ты и Алиса были в безопасности. Запритесь в мастерской и не высовывайте оттуда носа, я буду в двух шагах от вас, в лаборатории. Хоть это ты мне можешь обещать? – спросил он.
Таша надула губки, больше для проформы, и уступила.
– Согласись, ты относишься ко мне не столько как к партнерше, сколько как к приживалке.
– Какая же ты приживалка? Ты – создание столь же редкое, как ваза из саксонского фарфора, и я люблю тебя больше всего на свете, – ответил Виктор Таша, поглаживая при этом по голове дочь. – Заприте дверь на два оборота ключа!
Виктор расхаживал по своей фотолаборатории, не отрывая глаз от циферблата часов: 7:31, 7:32, 7:33. Каждое движение секундной стрелки заставляло его нервничать все больше и больше. Голова напрочь отказывалась соображать. Его охватила такая же паника, какую он однажды испытал в детстве, когда вечером отец в виде наказания запер его в подвале дома на Слоун-сквер. К ноге прикоснулось что-то мягкое и пушистое. К крику, вырвавшемуся из его груди, примешался тонкий, пронзительный писк. Крыса.
Легри попытался успокоиться, вспоминая всю последовательность фактов, приведших к этому состоянию ожидания. Смерть Исаму. Смерть Форестера. Смерть…
Он застыл на месте. На него смотрели развешанные над печкой портреты детей за работой, букинистов и фокусников. Они кривили рты и напоминали маски театральных трагиков. В сумерках нашептывали чьи-то искаженные голоса. Кому они принадлежали? О чем говорили? Виктор прислонился спиной к раковине и заставил себя прислушаться. Из невнятного шепота явственно послышалось одно слово. Он бросился из лаборатории, позабыв повесить на дверь замок, пересек двор и ринулся к проезжавшему мимо фиакру.
– «Отель Трокадеро!»
Глава двадцать первая
Тот же день, вечер
Гедеон листал журнал, посвященный анатомии молодых пышнотелых девиц, выряженных в телесного цвета трико. Постороннее вмешательство оказалось для него столь неожиданным, что он разорвал страницу, смял журнал и засунул все под стойку. Щеки его сделались пунцовыми.
– Вы! Какого черта! Вы меня напугали!
– Что конкретно произошло после того, как обнаружили труп Энтони Форестера? Покопайтесь в своих воспоминаниях, это очень важно. Постарайтесь воспроизвести всю сцену так, будто она произошла только что.
– Ох! Опять эта история! Прямо наваждение какое-то! И это в тот самый момент, когда полиция переворачивает вверх дном номера господ Финча и Янга!
– Это поможет вам освежить память?
Виктор положил рядом с медным колокольчиком три монеты. Гедеон тут же схватил их и положил в карман.
– Ну хорошо, будем считать вопрос решенным. Мне нужно сосредоточиться. – Он прикрыл глаза и приложил пальцы к вискам. – Вспоминай, вспоминай… Старая Филаминта вывалилась из номера, истошно вопя. Ее крики взбудоражили весь персонал, который тут же ринулся на третий этаж, в двадцать шестой номер. Этот тип, пардон, господин Форестер, лежал в ванной, из его груди торчала стрела. Полетт грохнулась в обморок, а патрон…
– Как он был одет? Ну же, сделайте над собой усилие!
– В клетчатый пиджак и кальсоны. Башмаки кто-то засунул в биде. Мне очень стыдно, но покойник был настолько нелеп, что я не смог удержаться от смеха. Его штаны и бумажник искали повсюду, но они исчезли, как и у господина Финча.
– Кто был с вами, когда стало ясно, что Форестер убит? Подумайте хорошо, это крайне важно.
Пальцы Гедеона стали массировать виски, будто пытаясь пробуравить в них две дыры.
– Ну, там были… Господин Дутремон, главный администратор отеля, Жодье, дежурный администратор, горничная Полетт и Филаминта.
– А парень, с которым вы впоследствии говорили, этот рабочий с кухни, Курсон?
Гедеон отнял пальцы от висков и открыл глаза.
– Об этом воспоминаний у меня не сохранилось… то было настоящее безумие… Постойте! Нет… Но… Вот черт, в башке все перемешалось! Лучше спросите кого-нибудь другого. Если хотите, я могу вернуть вам деньги.
– Нет-нет.
– Как бы там ни было, перед самым прибытием полиции Курсон отдал мне фуражку и залег на дно в Старом Париже. Впрочем, это вы уже знаете.
– Он отдал вам фуражку или сообщил, где она находится?
– Он мне ее отдал, уточнив, что она принадлежит типу, расправлявшемуся с завтраком Форестера.
– Где можно найти Полетт и Филаминту?
– Сейчас они на кухне. Готовят чашки и приборы для завтрака, который будут подавать утром. Лестница в глубине вестибюля.
Филаминта проверяла чистоту бокала, глядя через него на свет газового рожка.
– Моя маленькая Полетт, уверяю вас, тот, кто мыл эту посуду, – большая свинья.
– В случае с Фердинандом это неудивительно, ведь если у нормальных людей на руках растут волосы, то у него – целые баобабы!
Виктор кашлянул.
– Мадам, Гедеон посоветовал мне навести у вас кое-какие справки. Я полицейский.
– Но на вас нет мундира, – проворчала старая Филаминта.
– Я только поступил на работу. Комиссар Вальми желает знать, был ли с вами Курсон в тот момент, когда нашли Форестера.
– Я была одна.
– Сначала да, а потом?
– Потом-потом! Потом в голове у меня помутилось. Курсон, говорите? Нет, его не было! Этот лодырь вечно бил баклуши и все где-то пропадал! Ох и надоели они мне, эти поденщики!
– Еще хуже Фердинанда – когда нужен, никогда не досвищешься, – добавила Полетт. – Тоже мне Эмабль
[1182]. Я тебе покажу Эмабля!
Виктор приложил к шляпе два пальца и в сильном возбуждении вновь поднялся наверх.
– Ну что? – спросил Гедеон.
– Его с вами не было.
– Теперь, когда наши дамы выразили свое мнение, я это тоже подтверждаю. К тому моменту он уже ушел.
Опасаясь столкнуться с Огюстеном Вальми, Виктор незаметно выскользнул из отеля, заторопился к мосту Альма и быстро спустился с холма Шайо, не обращая внимания на Выставку, пламеневшую тысячей огней.
– Боже праведный! Только бы я ошибся!
Довольный собой, Гедеон вернулся к чтению своего иллюстрированного журнала.
Виктор был неприятно удивлен, когда за вход в Старый Париж с него содрали четыре франка под тем предлогом, что пятница, тем более вечером, была самым многолюдным днем недели. Он оттолкнул уличного торговца, навязчиво предлагавшего купить специальный путеводитель, содержавший сто подлинных рисунков Альбера Робида́
[1183], но, заблудившись в этом лабиринте, где раньше ему приходилось бывать только днем, вскоре пожалел, что отверг его предложение. Работая локтями, он прокладывал себе дорогу среди сборища убогих, нищенок, ярмарочных циркачей, кокеток, мещан, гадалок, менестрелей с хриплыми голосами, натыкался на бледные подобия гамельнского крысолова с флейтами в руках, которых сопровождали Эсмеральды, одетые в какие-то обноски, запутался в ковре королевы Матильды, расстеленном поперек узкой улочки, и вклинился в толпу, собравшуюся вокруг Гюго – великана ростом в два метра двадцать девять сантиметров, чьи башмаки пятьдесят девятого размера приводили собравшихся в неописуемый восторг.
В конечном счете он добрался до таверны «Оловянный горшок». Толстобрюхий виночерпий в синем переднике и желтой фетровой шляпе без конца наполнял кувшины пивом из бочки.
– Могу я поговорить с патроном?
– Это я. Меня величают шевалье
[1184] Гавейн де Менильмонтан. Можете примостить свой августейший зад на табурет, красавчик. Боже мой, какая жара!
Шевалье Гавейн выпрямился и вытер шею клетчатым платком, в котором не было ничего рыцарского.
– Мне нужно задать вам всего один вопрос, – настойчиво произнес Виктор.
– Наберитесь терпения, я не могу разорваться. У меня ноги болят, спасу нет, а все эти растреклятые башмаки, чтоб им пусто было!
– У вас работает Эмабль Курсон?
– Курсон? Да-да, помню такого! Я нанял его на время проведения Выставки, он показался мне человеком надежным, но вдруг куда-то пропал вместе с костюмом, который я ему выдал. Знаете сколько стоит это барахло, еще сохранившее следы былого величия? Никакое золотое дно не даст столько самородков, чтобы возместить мне потерю этих тряпок!
– Где я могу его найти?
Шевалье Гавейн снял шляпу и завитой парик, явив миру лысый череп, который он вытер все тем же платком.
– Если бы я знал, то пошел бы и хорошенько его взгрел… На этой неделе я собирался оформить его официально… Поль!
К ним подошел парнишка в наряде маркитанта.
– Поль, ты знаешь, где живет этот Курсон, которого ты ко мне привел, а он дал деру в самый разгар сезона?
– Ну… по его словам, он остался без квартиры, потому что старик, у которого он жил, уехал в деревню. Мы с ним не раз вкалывали вместе в отелях и кафе, и когда вы взяли меня…
– Кто он, этот старик? – спросил Виктор.
– Господин Матильд, торговец прохладительными напитками. С трудом сводит концы с концами, таская без разрешения свою тележку под самым носом у легальных торговцев, владеющих монопольным правом утолять жажду. Где он живет, я не знаю.
Виктор бросился на улицу.
– Продавец прохладительных напитков! Тележка! Рикша! Боже праведный, сжалься надо мной, сделай так, чтобы я не опоздал!
Он несся как угорелый, не обращая внимания на прохожих, и даже опрокинул снаряжение общественного писаря, который тут же завопил:
– Вельзевул! Бегемот! На помощь, демоны с цепи сорвались!
Вокруг него стали собираться зеваки, пытаясь узреть порождений ада, но увидели лишь старика – забрызганного чернилами и размахивавшего ручкой перед носом уличных мальчишек, показывавших ему язык.
Небо подсвечивали мириады огней, но, несмотря на это, оно сохраняло свинцово-серый оттенок. Расположенные на Парижской улице заведения с равномерными интервалами изрыгали на улицу кучки людей, которые тут же рассыпались по берегам Сены, где их ждали прогулочные пароходики.
Вконец запыхавшись, Виктор подбежал к входу в театр Лои Фуллер и бросился на штурм двери, но та устояла. Он попытался вышибить ее плечом, набил синяков и тут услышал щелчок замка. Он выбил его? Или дверь открыли изнутри? Не видя перед собой ни зги, Легри осторожно двинулся вперед. Его окутали тьма и одиночество, казавшиеся еще более странными оттого, что вокруг царил мир веселья. Виктору показалось, что на него набросили удушливый саван.
Он чиркнул спичкой в вздрогнул. Затем ощупью направился в зрительный зал, пропитанный запахом пыли и ладана. Легри шел вдоль ряда стульев, загипнотизированный непроглядной тьмой театра, в котором час назад зрители аплодировали японской актрисе и американской танцовщице. Поглаживая спинки, он тщетно вглядывался во мрак. Разглядеть, не спрятался ли кто в оркестровой яме, было невозможно.
Хлопнула дверь. Виктора охватило инстинктивное желание бежать, но он устоял. Рядом кто-то был. Совсем близко. Он чувствовал трепещущее незримое присутствие человека, затаившегося в засаде. Легри припомнил, как ему описывал театр Жозеф. Вход за кулисы располагался справа.
Он зацепился за сиденье, взмахнул руками, хватаясь за пустоту, ладонь его прикоснулась к стене, затем соскользнула на ручку, которую он бесшумно открыл.
Справа различались какие-то тени, вполне возможно, что сценические костюмы, развешанные на вешалках и едва выступащие из тьмы в тусклом отблеске света, источник которого Легри определить не мог. Что-то было не так. Все эти тени, выстроившиеся в ряд, казались более осязаемыми чем простые кимоно. Он обо что-то споткнулся, чуть не растянулся на полу, нагнулся и увидел перед собой четыре ступеньки, ведущие на возвышение, на котором виднелся силуэт стойки с развешанной на ней одеждой. Спичка обожгла пальцы, Виктор чертыхнулся и зажег еще одну.
Он ударился о первую ступеньку, тихо выругался, покачнулся и протянул руку к стойке. За вешалками, бросая ему вызов, вибрировал красновато-коричневый светлячок. Но каждый раз, когда Легри был готов вот-вот определить его точное местоположение, он исчезал. Неужели он стал жертвой иллюзии? Может, он, подобно детям, которых так легко одурачить, тоже пытался поймать солнечный зайчик? Но ведь эта оранжевая запятая была как две капли воды похожа на пламя свечи. Виктор подпрыгнул и обернулся: сначала тишину нарушил шорох, затем послышался хруст. Может, одна из теней переместилась в сторону? Он съежился и попятился, совершенно не ориентируясь в пространстве, будто глаза ему завязали повязкой.
Вдруг его что-то ударило под солнечное сплетение. Легри выронил вторую спичку и пошатнулся от удивления и боли. Жилет был влажный и липкий. Виктор ощупал бок, из груди торчала стрела. Он задыхался, сердце колотилось как бешеное. Он стал медленно заваливаться назад. За спиной послышались глухие звуки. Вот они стали приближаться: шаги. Над ним склонилось лицо. Виктор, ослепленный пламенем свечи, заставил себя посмотреть на персонажа, прятавшегося за вешалками.
Лицо улыбалось. Лицо Эмабля Курсона. Он держал в руке изогнутый предмет, затем осторожно положил его к ногам. Виктор сразу же опознал в нем лук.
– Не двигайтесь, господин Легри, в противном случае вы можете потерять слишком много крови.
Эмабль убедился, что стрела была на месте. Виктор закричал. Курсон тут же приложил к ране носовой платок.
– Прижмите, и как можно сильнее. Дышите ровно, нам с вами нужно еще поговорить. Как вы догадались, что это я?
Виктор напрягся, чтобы открыть рот, но жажда и боль были так сильны, что он не знал, сможет ли говорить. И все же ему удалось прошептать:
– Я вспомнил наш разговор в «Оловянном горшке». Вы сказали, что после сообщения о смерти Форестера вместе с другими поднялись к нему в номер… и добавили, что на нем был клетчатый костюм – пиджак и брюки. Ложь. С Форестера сняли брюки и туфли… и в ванной он лежал в одних кальсонах… Вечером слово «брюки» стало мигать у меня в голове красной лампочкой.
– Но я же мог просто ошибиться.
– Нет, вы солгали сознательно. Вы не поднимались вместе с остальными, и у меня тому есть подтверждения. Субъект в рабочих шароварах и фуражке, которому вы якобы приносили завтрак, – чистой воды вымысел.
– Вы полагаете, господин Легри? Я в этом не уверен. Я продумал все тщательно, но все равно совершил ошибку…
Виктор задыхался, его одолевало желание уснуть, потерять сознание, оказаться как можно дальше от этого кошмара. Голос Эмабля доносился до него как сквозь вату:
– Я несколько раз заходил в лавку Бискорне, торгующую перьями. Просто так, от нечего делать. Откуда мне было знать, что меня выдаст фуражка… Не вертитесь, господин Легри, потеря крови будет для вас роковой, достаточно выдернуть эту стрелу и…
Слащавый Эмабль Курсон надел на себя маску сострадания, тем более отвратительную от того, что глаза его источали ненависть, граничившую с радостью.
Виктор закрыл глаза. Перед его мысленным взором встали два размытых силуэта, усиленно жестикулировавшие, умолявшие не покидать их. Ради любви к Таша и Алисе он был обязан оставаться в сознании и противостоять соблазну впасть в летаргию.
– Чтобы прийти к столь блестящему выводу, вам понадобилось время, господин Легри! Я воспользовался предоставленной вами задержкой, и теперь она щедро оплачена. Очень трудно заподозрить в скромном официанте умелого убийцу.
– Кто вы в действительности?
– Призрак.
Виктор почувствовал, что силы его покидают, и прибег к известному мнемотехническому приему, позволяющему сохранить голову холодной: стал повторять таблицу умножения.
– Почему? – спросил он, выталкивая из себя воздух.
– Хотите до всего докопаться, да?
– Где мои друзья?
– Вопрос не по теме, господин Легри. Неужели вы не хотите, чтобы я продолжил свой рассказ? Убийство Форестера было импровизацией. Сначала я оставил фуражку на кровати, чтобы все подумали, будто она принадлежит какому-нибудь посетителю. Но потом передал улику лакею и сообщил ему, где собираюсь прятаться. Из всех доступных мне алиби это было лучшим. Я прекрасно понимал, что сей кретин проболтается и что флики явятся меня допрашивать, но даже не предполагал, что эта чертова фуражка выведет вас на мой след. Когда покушение на вас закончилось неудачей, я решил раствориться в толпе зевак, съехавшихся на Выставку, и стал продавцом прохладительных напитков. Это дало мне возможность передвигаться, не привлекая к себе внимания. Затем превратился в рикшу – работа грязная, но ведь, не принеся себя в жертву, в рай не попадешь. Между нами говоря, ваш партнер – сущий идиот, он ничуть меня не заподозрил, хотя я следовал за ним буквально по пятам. Вы доставили мне много хлопот, но я не таю на вас зла и даже, странным образом, сожалею, что вынужден вас убить.
– Где они… Кэндзи? Жозеф? Ихиро?
Виктор созерцал пламя свечи, будто охваченный какой-то эйфорией, хотя и чувствовал во всем теле дрожь и не мог сдвинуться с места. Происходившее с ним напоминало опьянение – вокруг все вращалось и не имело направлений, ему предстояло вот-вот прийти в себя, предварительно пролив свет на тайну, заключавшуюся в том, что вселенная состояла из острых зубов, впивавшихся в плоть людей и безжалостно их перемалывавших… Дважды два – четыре, четырежды четыре…
Не говоря ни слова, Курсон выпрямился и натянул лук.
Когда он уже был готов выпустить стрелу, за его спиной послышался рык.
Эмабль подпрыгнул как ужаленный. В дверном проеме стоял бык с огромными рогами.
– Попробуй догони меня, червяк ты этакий! – вскричал сиплый голос.
Бык стал улепетывать со всех ног, по виду вполне человеческих, обо что-то споткнулся и выбежал на Парижскую улицу. Затем помчался зигзагами, будто преследуемая слепнями лошадь, и несся так до тех пор, пока не обожгло легкие. Куда только она подевалась, его былая прыть! Сейчас он не пожалел бы ничего, чтобы вернуть силу и ловкость, присущие ему в сорокалетнем возрасте.
Бык вырвался вперед, но силы таяли, а огонь, из которого он черпал энергию, стал превращаться в тлеющие угольки. Лодыжки сводило судорогой, пальцы ног молили о пощаде. Он развернулся и побежал в обратном направлении, преследуя единственную цель: заманить преследователя в зрительный зал.
Готовый в любую минуту рухнуть без чувств, бык внезапно остановился. Доспехи самурая мешали ему и сковывали движения. Он услышал топот погони, глотнул воздуха, продолжил свою неистовую гонку и скрылся в черном зеве театра.
Затем присел на корточки. Кто это дышит? Он сам? Виктор? Или, может, незнакомец?
В спину что-то с силой ударило. Мышцы непроизвольно сократились, его бросило вперед, он растянулся на полу. Щека уткнулась в шершавый ковер, он метнулся в сторону, изо всех сил стараясь избежать мучительного столкновения. Правая рука поднялась к бедру и ощупала бок. Из сегмента бамбуковых доспехов торчал острый, твердый предмет. Он не был уверен, что именно эта находка причиняет ему страдания, но боль усилилась, очаг ее переместился к лопаткам. На несколько мгновений у него закружилась голова.
Тело больше не слушалось. Его схватили за ноги и поволокли. По пути он заметил вереницу вешалок с висящими на них костюмами. Как отразить это нападение?
«Энергия отчаяния», – повторял в душе явившийся из прошлого голос. Тот самый голос, который много-много лет назад читал в Лондоне сказки маленькому мальчику по имени Виктор, с трепетом жаждущему узнать, как герой ускользнет от дракона, готового испепелить его своим обжигающим дыханием. Он собрал остатки сил, сосредоточил их в руках и схватил кусок ткани – длинную широкую полоску шелка. Пальцы впились в спасительную материю. Не обращая внимания на острую боль, вызванную резким движением, он выпрямился, молниеносно свернул ткань в жгут, зажал концы в руках и наугад набросил на шею противника. Затем стал с силой тянуть, не ослабляя хватки. Незнакомец пошатнулся и выпустил из рук лук, пытаясь освободиться. Кэндзи повалил его, прижал к полу и еще сильнее надавил на горло. Их губы почти касались друг друга, дыхание слилось воедино, но в объятиях этих двух людей нежности не было и в помине, каждый из них преследовал одну цель – заставить другого сдаться.
Кэндзи владел искусством оглушать противника, не убивая его. Эмабль Курсон, вместо того чтобы умереть, всего лишь лишился чувств. Когда его связали и заткнули кляпом рот, Кэндзи, опираясь на его лук, опустился на колени рядом с Виктором, чтобы осмотреть рану. Затем уверенным жестом выдернул стрелу.
– Мне очень жаль, но рана поверхностная, вам повезло, – проворчал он. – Болит?
– Самую малость, – ответил Виктор, скривившись. – А вы что, стали вдруг сентиментальным?
– Нет, подобного за мной никогда не водилось.
Кэндзи встал и исчез за вешалками.
Появление Жозефа, массировавшего затылок, было ознаменовано скрипом подошв и недовольным брюзжанием.
– Вот мерзавец, он застал нас врасплох и уложил на месте, когда до театра оставалось всего несколько шагов. Но у вас кровь!
– Где Ихиро? – спросил Виктор.
– Только что я видел его у входа, – согнувшись над Кэндзи, он вытаскивал из его доспехов какой-то штырь.
К ним, прихрамывая и опираясь на Ихиро, который и сам едва стоял на ногах, вновь подошел Кэндзи.
– Этот штырь называется стрелой, Жозеф, – изрек он. – К счастью, бамбуковые латы меня защитили, и она, надеюсь, нанесла лишь легкую царапину. Ждите здесь, я пойду за подмогой.
Он снял доспехи и бросил Жозефу японский пояс
оби.
– Прижмите к ране, а если он потеряет сознание, не вздумайте последовать его примеру, – приказал он.
Перед тем как уйти, Кэндзи убедился, что Курсон ничем не может им навредить. Вытянувшись на полу, тот приходил в себя и извивался, как уж, пытаясь избавиться от пут. Кэндзи затянул их еще сильнее. Из кармана Эмабля выпал какой-то разноцветный предмет и покатился по ступеням. Это было йо-йо.
Глава двадцать вторая
Четверг, 9 августа
Комиссар Вальми впервые надел светло-бежевый хлопковый костюм и теперь боялся, как бы не посадить на него пятно – стараниями животного, растения или человека. Так что когда он увидел Кошку, которую его брюки, лишенные даже намека на ворс, влекли к себе, как Эльдорадо, он из страха, что она начнет тереться о его ногу, запрыгнул на табурет. И тут же столкнулся с новой опасностью в виде пара, поднимавшегося над кастрюлей с компотом из персиков, с которого Алиса, забравшаяся на другой табурет, буквально не сводила глаз.
Виктор, прихрамывая и опираясь на трость, поспешил увести ее из кухни, где их – Таша, дочь и его самого – застал врасплох этот неожиданный визит.
– Пойдемте в мастерскую, там будет спокойнее, – предложил он, запихивая в рот на ходу корочку хлеба и несколько кружочков колбасы.
– Мадам, мое почтение, – произнес комиссар, которому только того и надо было.
Таша облегченно вздохнула. В компании этого маньяка, облеченного должностными полномочиями, она чувствовала себя неуютно.
– Ничего не поделаешь, барышни, надо полагать, что в этом случае вы обескураживаете представителей сильного пола! – заявила она дочери и Кошке.
Когда они пересекли двор, Виктор покопался в куче сваленных у стены холстов, извлек на свет божий бутылку коньяка и поставил на круглый столик на одной ножке два бокала.
– Глоток горячительного поможет вам успокоиться, комиссар. С вашей стороны было очень любезно приехать ко мне, зная, что мне трудно ходить! Ну что? Распутали клубок?
– Если бы вы с самого начала внесли ясность в сложившуюся ситуацию, мы бы не допустили сразу нескольких убийств. Но годы идут, а вы ничуть не меняетесь, воображая себя Всемогущим Господом, способным выпутаться даже
из самого затруднительного положения. Да, он во всем признался, исповедовался письменно, потому как с устной речью у него временные трудности. Господин Мори несколько переусердствовал. Хотите услышать его версию произошедшего?
– С удовольствием, комиссар.
Вальми достал несколько листков бумаги из рыжей кожаной папки, не удержавшись от удовольствия провести по ней ладонью, чтобы навести блеск.
– Протокольные фразы я опущу.
Он поудобнее устроился в плетеном кресле, презрев наполненный Виктором бокал, и погрузился в чтение бумаг.
Меня зовут Раймон Лакуто. Я родился во Флориде. Родители мои были французами. Стрелять из лука научился еще в детстве. Моим наставником был индеец из племени семинолов, он научил меня охотиться на экзотических птиц. В 1880 году я познакомился с художником-анималистом Робером Туреттом, специализировавшимся на птицах. Он стал покупать у меня перья самца цапли, за которыми все гоняются, чтобы использовать для украшения дамских шляп. Мы стали работать сообща. Я поставлял товар, он его сбывал. В 1885 году я отправился в Сенегал и купил там плантацию ценных пород дерева. На самом деле это было лишь прикрытие для контрабандных поставок птиц.
Два года назад ко мне прибился один матрос-азиат. Японец Исаму Ватанабе. Хотел меня ограбить и убить, но я оказался достаточно ловким для того, чтобы им манипулировать, и из врага превратил его в союзника. В обмен на дорогостоящие перья он посвятил меня в план Туретта.
– Вы следите за нитью повествования? Здесь Курсон совершает экскурс в прошлое, – сказал комиссар Вальми.
– Совершает, я все слышал.
Туретт нанял себе трех помощников. Двое первых – это капитан торгового судна Дункан Кэмерон и его боцман Мэтью Уолтер. Свое судно они внесли в морской регистр под названием «Комодо». Третий негодяй, англичанин Энтони Форестер, командовал «Эсмеральдой».
Они решили провернуть верное дельце, примеры которого в истории уже были…
Комиссар Вальми поднял голову.
– Полагаю, Легри, вы уловили намек. Так и вижу, как вы вместе с шурином штудируете газеты в поисках неразгаданных морских тайн, как тот выдуманный Робертом Льюисом Стивенсоном мальчишка, который бороздил океанские просторы в поисках Острова сокровищ.
Виктор поднял брови с видом простака, созерцающего луну.
– Понятия не имею, о чем вы говорите, комиссар.
– Из вас, Легри, получился бы чертовски хороший актер! Более того, вы надо мной смеетесь! Ваш дражайший партнер, господин Пиньо, раскрыл мне все ваши карты.
– Это была шутка, комиссар. Да вы пейте.
Вальми подозрительно посмотрел свой бокал на просвет.
– Не бойтесь, он чистый, – добавил Виктор.
Вальми неохотно сделал глоток, поперхнулся и вернулся к чтению.
Чтобы не бросить на себя тень, они решили найти простофилю. Им как раз и был Исаму Ватанабе, японский эмигрант с Гавайев, достаточно решительный, чтобы принять участие в этой афере, его где-то откопал Туретт…
– Почему именно его, комиссар?
– Легри, вы решительно прошли мимо своего истинного призвания. С такими способностями вам надо было заделаться ясновидящим. На вопрос «почему именно его?» Лакуто ответил:
По целому ряду причин. Исаму Ватанабе был парией, бежавшим с плантаций сахарного тростника, и стремился любой ценой выбиться в люди. В Париже у него был кузен, некий Ихиро, которого он ни разу в жизни не видел, но у которого, тем не менее, надеялся остановиться.
Чтобы завоевать доверие японца, Туретт несколько месяцев подряд усиленно обучал его французскому, а под конец устроил так, что он стал членом экипажа парусника под командованием Дункана Кэмерона. Как только он оказался на борту, шотландец тут же выложил, что от него требуется: высадиться в сенегальском порту Сен-Луи, встретиться со мной, всадить мне в голову пулю и переправить на «Комодо» килограмм редчайших перьев.
Что касается Туретта, то он, тайком от остальных, приехал во Францию. Главарем шайки был именно он. Трое сообщников сговорились встретиться во время Выставки в одном из отелей Трокадеро. Они усиленно делали вид, что не знакомы друг с другом. Дункан Кэмерон, якобы сгинувший в море, изменил внешность и стал Арчибальдом Янгом.
– Какая запутанная история, – заметил Виктор, от паров коньяка ставший клевать носом.
– Тогда слушайте внимательно и не перебивайте!
Несколько месяцев спустя «Комодо» встал на якорь в порту Сен-Луи, чтобы погрузить на борт груз ценных пород дерева. Исаму Ватанабе нанял грузчиков и стал наводить обо мне справки. Он был намного изворотливее, чем могло показаться, и предложил мне сделку: жизнь в обмен на партию экзотических перьев, которая составляла бы небольшое состояние. Кроме того, он потребовал в этом деле долю. Я, конечно же, согласился. Он рассказал мне все: о дате встречи сообщников в Париже, о месте хранения краденого товара и даже о вещевом складе в столице, точный адрес которого, к сожалению, на тот момент известен не был. Мы решили, что он в точности выполнит намеченный план, за исключением, разумеется, моего убийства. Я передал ему небольшой тюк с перьями, который он пронес на «Комодо». Сам он остался в Сен-Луи и спрятался в припортовом борделе, принадлежащем одной моей подруге. Туда же отправился и я.
С тех пор мы стали неразлучны, как два бревна одного плота. Я оплатил ему каюту на пассажирском судне, следовавшем из Сен-Луи в Марсель. Оттуда он добрался до Парижа и остановился у своего кузена Ихиро Ватанабе.
Что же касается меня, то я поклялся выследить этих подлецов и свести с ними счеты. И во всем мире больше не было убежища, способного их спасти.
В нескольких милях от Гибралтара Дункан Кэмерон, он же Арчибальд Янг, с помощью Мэтью Уолтера воспроизвел ту же схему, которая когда-то была опробована на «Марии Селесте»: пожар на борту, смятение и растерянность, экипаж из пяти-шести человек садится в спасательную шлюпку, которая впоследствии, конечно же, идет ко дну, ведь выживших так никто никогда и не нашел.
Двое сообщников в другой шлюпке, с грузом перьев, гребут к берегу и высаживаются в Гибралтаре. Все было подготовлено с особой тщательностью. «Эсмеральда» в открытом море произвела осмотр «Комодо», превратившимся в корабль-призрак. Капитан Энтони Форестер привел бесхозный корабль на буксире в порт и получил вознаграждение, призванное покрыть расходы троих заговорщиков в Париже.
Я, со своей стороны, тоже вернулся в столицу.
Благодаря письму, написанному одной из моих любовниц, венгерской графиней, содержавшей в Сен-Луи дом свиданий, я получил временную работу в одном из четырех отелей Трокадеро, том самом, где остановились сообщники, замыслившие мою смерть. Я назвался Эмаблем Курсоном и стал рабочим на кухне…
Огюстен Вальми промокнул лоб и спрятал бумаги в папку.
– Легри, у вас холодной воды не найдется? Спиртное никогда не шло мне на пользу. Нет-нет, не вставайте, я сам схожу.
В туалетной комнате Вальми, прихвативший свой бокал, выплеснул из него содержимое, сполоснул, протер безупречно чистым платком, извлеченным из кармана, и вымыл руки. Затем вновь уселся напротив Виктора, поставил бокал на круглый столик на одной ножке и монотонно продолжил:
– Я буду краток. Руководствуясь твердым намерением отправить четырех человек на тот свет и продать сокровище, Лакуто-Курсон для начала убивает стрелой Исаму, который знал его настоящее лицо и, таким образом, представлял собой угрозу. Затем переворачивает все вверх дном в его лачуге, вспарывает постельные принадлежности, но все безуспешно: перьев, которые он желает себе вернуть, нигде нет. Тогда он приходит к выводу, что кузен Исаму, Ихиро Ватанабе, перевез их на улицу Сен-Пер. Проблема лишь в том, что на улице Сен-Пер обнаруживается не один, а двое японцев. И какой из них тот, кто ему нужен?
– А как он узнал, что Ихиро укрылся здесь?
– Он следил за ним. Для этого ему даже пришлось прождать всю ночь под открытым небом, спрятавшись под навесом заведения магазинчика упаковочных товаров напротив книжной лавки «Эльзевир». Я могу продолжать?
– Окажите любезность, комиссар.
– Лакуто-Курсон готов на все, чтобы получить адрес вещевого склада, где сообщники спрятали львиную долю перьев. Но беда в том, что ему, помимо прочего, еще нужно появляться на работе, какой бы временной она ни была. Разливать кофе и одновременно вести слежку очень трудно. Поэтому он покидает наблюдательный пост на улице Сен-Пер, возвращается в «Отель Трокадеро» и ждет удобного момента. Покрутившись на кухне, идет в гардеробную, накладывает грим, меняет униформу на белый костюм с панамой и не спускает глаз с входа в надежде увидеть одного из троих. Но увы, все эти господа уходят, когда он занят на кухне. Наконец, через четыре дня судьба его вознаграждает – Форестер покидает отель в подходящий момент. Лакуто-Курсон на скорую руку сочиняет записку с угрозами и незаметно опускает ее в карман Энтони. В ней упоминается вещевой склад. Он убежден, что Форестер его к нему приведет. Но тот начинает артачиться, возвращается в отель, одевается, отправляется на улицу Сент-Огюстен и выходит из дома с дамой, которая подцепила его в Швейцарской деревне. Они ужинают у «Максима», вечером возвращаются вместе в отель и предаются… не будем говорить чему.
Огюстен Вальми потер руки и скривился от отвращения.
– Примерно в полночь дама уходит. Действовать Лакуто-Курсон не может – по этажу шляется коридорный – и поэтому утром решается на импровизацию, предлагая доставить в номер поднос с завтраком. Он пытает Форестера, чтобы тот назвал адрес вещевого склада, но тот ничего не знает. Курсон пронзает его стрелой и, чтобы запутать дело, изобретает персонажа, который якобы был в номере, не забывая оставить улики в виде собственной фуражки с частичками древесной пыли сосны, произрастающей в Ландах. Это, Легри, наводит на след вас и полностью сбивает с верного пути меня. Лакуто-Курсон растворяется в Старом Париже. Но он не учел одного профессионального прохвоста, вашего друга Уильяма Финча, порушившего все его планы. Мне нет нужды и дальше напрягать голосовые связки, продолжение вам хорошо известно. Вы и сами стали для Курсона мишенью и лишь чудом избежали смерти… После того как он ушел из «Отеля Трокадеро», у него появились все возможности организовать слежку. Но этот Уильям Финч испарился! Неужели ему хватило наглости увезти в багаже украденные на вещевом складе перья? И как его на самом деле зовут? Ведь, по моему убеждению, он такой же коммерсант из Бристоля, как вы – таитянский танцовщик.
Виктор налил себе еще коньяку и залпом выпил, стараясь украдкой улизнуть от будничных реалий.
– Таитянский танцовщик… А что, замечательный выход из той трудной ситуации, в которой я оказался. Торговец из Бристоля, как же это обыденно. Уильям Финч – человек скверной профессии, давайте пожелаем ему в самое ближайшее время найти другое ремесло и перестать обирать невинных жертв. Впрочем, «невинных» – это громко сказано. Прошу прощения, комиссар, что не могу поделиться с вами никакими откровениями, я не могу больше оставлять жену и дочь без защиты, даже несмотря на легкий хмель в голове.
Виктор неуверенным шагом двинулся к двери, комиссар не отставал от него ни на шаг.
– Легри, вы отъявленная шельма. Не имея доказательств, я не могу выдвинуть против вас обвинения, но знайте – для меня это дело еще не закончено. Что бы ни случилось, я поймаю этого Уильяма Финча и заставлю его вывалить мне всю подноготную вашего с ним сотрудничества!
Эпилог
Воскресенье, 26 августа
Губка качалась на ленивых волнах канала. Вдруг перед ней грозно выросла стена. Ей не хотелось к ней плыть, но течение безудержно влекло ее вперед. Позади нарастал грохот машины: к шлюзу подходила баржа. «Я пропала!» В тот момент, когда судно ее уже чуть было не раздавило, губка почувствовала, что ее кто-то схватил и резко взмыла в небо.
– Кто ты? – спросила она у черной птицы.
– Ворона. Моя подруга, стрекоза, превозносила тебя на все лады. Но какая же ты тяжелая!
Птица открыла клюв, и губка стремглав полетела вниз, шлепнулась на поверхность бескрайней синей водной глади и тут же заметалась, переворачиваясь с боку на бок. Вода была отвратительной на вкус и соленой.
Волна вынесла ее на песчаную косу, где ее схватила чья-то маленькая ручка.
И ребенок побежал по берегу, счастливый от того, что теперь у него будет возможность укрепить крепостные рвы своего замка.
«Конец»
, – написала Айрис внизу страницы блокнота.
Она на мгновение прислушалась. Дети спали, их дыхание сплеталось в синкопическую мелодию, время от времени нарушавшую мерный храп Жозефа.
По-прежнему сжимая в пальцах перьевую ручку с резервуаром для чернил, позаимствованную у мужа, Айрис села в столовой за стол, положила перед собой стопку листов серой бумаги верже и принялась за письмо, запланированное еще несколько дней назад.
Дорогая мадемуазель Бонтан!
Я уже очень давно не подавала о себе известий. Я в восторге от того, что вы решили продать свой пансион юных девиц в Сен-Манде и смогли приобрести дом вашей мечты неподалеку от столь прекрасного города Ниццы, о котором я от вас премного наслышана. Надеюсь в один прекрасный день навестить вас вместе с детьми, ведь им совершенно не подходит пагубный климат столицы, хотя судьба будто преднамеренно привязывает нас к Парижу и к северу в целом. Хотя окончательно еще ничего не решено, я, девушка, никогда не увлекавшаяся чтением, вот-вот стану женой хозяина книжной лавки. Как бы там ни было, Виктор и Таша намереваются переехать в Лондон, где мой брат хочет открыть букинистическую лавку в квартале Слоун-сквер, в котором прошли его детство и юность. Он признался мне в этом недавно, после одного из своих полицейских расследований, от которых я неизменно приходила в отчаяние, а его супруга сходила с ума от страха. На этот раз оно чуть не обернулось трагедией, Виктор был ранен, к счастью, несерьезно, хотя он до сих пор хромает, а его нервная система расшатана. Вы, наверное, читали об этом деле, связанным с контрабандой перьев, в газетах, которые писали о нем с неподдельным упоением, поэтому не буду вам докучать, повторяя все еще раз.
Можете себе представить, какое влияние проекты Виктора оказали на меня и Жозефа. Если они уедут, то отец и Джина – мать Таша и моя свекровь – отправятся вслед за ними! Кэндзи тоже влюблен в Лондон, но мысль о расставании со мной и детьми его глубоко огорчает, поэтому он вырвал у меня клятву несколько раз в год пересекать Ла-Манш. Я предпочла бы путешествовать по югу, но северные края решительно не отпускают меня от себя! Жозеф, вероятнее всего, станет единовластным капитаном на борту книжной лавки «Эльзевир», что, с одной стороны, наполняет его душу чувством благодарности, но с другой – в высшей степени пугает. Муж всегда в себе сомневался, хотя неплохо разбирается в авторах и книжном деле. К тому же, его романы, пользующиеся успехом, грозят отнимать время, которое нужно будет посвящать торговле. Поэтому он желает, чтобы я помогала ему хозяйничать в этой лавке, где прошло столько счастливых лет. Разве я могу отказать ему в поддержке?
В то же время у меня тоже есть своя отдушина – сказки, которым я посвящаю редкие часы досуга и которые затем иллюстрирует Таша. На днях я как раз закончила очередную и теперь собираюсь передать ее издателю. Вскоре Дафна и Артур прочитают мое скромное творение. Дафна с каждым днем проявляет все больше интереса к музыке и фортепиано, демонстрируя в этом плане определенные способности. Артур похож на отца, листает книги, попадающие ему под руку, и питает слабость к иллюстрациям Кристофа.
Виктор и Таша собираются на несколько недель съездить в Англию и снять там дом. Я подозреваю, что брат намерен повстречаться там с владельцами синематографов. Отец Таша намерен открыть в Лондоне «Никельодеон»[1185] и приглашает Виктора к участию в этом проекте. Впрочем, он говорит об этом уже несколько лет, с тех пор как стал тесно общаться с Жоржем Мельесом, три года назад открывшим студию в Монтрёй-су-Буа.
Пинхас Херсон стал отцом маленького мальчика по имени Джереми. Таша полагает, что матерью малыша является подруга ее детства Дуся, хотя полной уверенности у нее нет. Четыре месяца назад та прислала ей из Калифорнии письмо, сообщая, что Нью-Йорк стал для нее невыносим и что она переезжает в Лос-Анжелес. Точного адреса она не оставила, но заверила, что сообщит его, как только найдет квартиру. И ни малейшего намека на ребенка. Пинхас в этом плане хранит молчание. Таша и Джина волнуются, и хотя поначалу не приняли этого малыша, теперь озаботились его судьбой и не понимают, почему их держат в неведении. Рулея, сестра Таша, живущая в Кракове, тоже об этом ничего не знает.
Как грустно, когда семья разъезжается! Напрасно я предвкушала приключение, у меня в голове не укладывается, как можно расстаться с теми, кого любишь всем сердцем. Видимо, я принадлежу к навсегда ушедшим временам. XX век будет эпохой массового переселения! Впрочем, вы сами указали этот путь.
Что касается Эфросиньи, то она связана с нами неразрывными узами и заставить ее отдалиться от нас могла бы только смерть. Она нередко донимает меня своими «ах, как же он тяжек, этот мой крест» и «Иисус-Мария-Иосиф», но если бы она не заведовала нашим хозяйством, мне, полагаю, было бы трудно вести дом и воспитывать наших озорников. Кухарка из меня никакая, да и домоводство никогда не входило в число моих добродетелей!
Если отец и Джина в самом деле уедут, мы с Жозефом поселимся на втором этаже книжной лавки, что позволит значительно сэкономить на квартирной плате и даст Эфросинье возможность не ограничивать себя во всем в преклонном возрасте. Она привыкла к Мели, нашему второму ангелу-хранителю, и ссоры между ними случаются все реже и реже. Что же касается консьержки, мадам Баллю, она из кожи вон лезет, лишь бы быть нам полезной. Она в восторге от того, что смогла вернуться в мансарду, сдаваемую ей моим братом, который желает преподнести ей сюрприз и переписать на нее, чтобы она стала там полноценной хозяйкой!
Ихиро Ватанабе, некоторое время в этой мансарде обитавший, был похищен – других слов я не нахожу – Эдокси Аллар, этой эпатажной экс-исполнительницей канкана и русской графиней, которая настолько им увлеклась, что даже поселила в своей квартире на улице Сент-Огюстен.
Виктор, Жозеф и Кэндзи продолжают принимать верных клиенток, которых раньше мы имели обыкновение называть «бабами», – мадам де Флавиньоль, которая питает слабость к моему брату и будет очень огорчена его отъездом, мадам де Гувелин с ее обожаемыми собаками, Хельгу Беккер, эту немецкую даму, которая сначала была без ума от велосипеда, затем от автомобиля, а сейчас, чтобы утешиться после несостоявшегося замужества, воспылала страстью к летающим аппаратам! Теперь ее бог – некий бразилец по имени Альберо Сантос-Дюмон, которому она проходу не дает своими домогательствами.
Я вполне обошлась бы без визитов некоей Валентины, навещающей нас время от времени – она какое-то время назад развелась, а Жозеф когда-то был в нее безнадежно влюблен – но недавно мне стало известно, что эта дама обручилась с Рено Клюзелем, журналистом и племянником главного редактора «Паспарту». Я этому очень рада, хотя и удивляюсь, как можно выбирать спутником жизни и отцом своих детей мужчину моложе себя.
Всемирная Выставка в самом разгаре, ее двери закроются в ноябре. Мы готовимся к банкету, в котором примут участие двадцать две тысячи мэров со всей Франции. Он, с позволения сказать, будет ферматой[1186] этого изумительного праздника, несколько омраченного убийствами.
Давайте же попросим судьбу, чтобы до завершения этого апофеоза века она уберегла нас от своих дальнейших превратностей.
Примите, дорогая мадемуазель, самые искренние заверения в моем дружеском к вам расположении.
Виктор втихомолку вышел из квартиры, в которой глубоким сном спали Алиса, Таша и Кошка. Закурил сигарету, сделал глубокую затяжку, и гнетущий груз ночи, уже не первой, когда он не мог сомкнуть глаз, тут же отступил. Изгнать образ и заменить его другим, утопить в Темзе летевшую в него стрелу, раздавить под тяжестью лондонского Тауэра это острое древко с оперением, предназначенное его убить. Сможет ли он справиться с этим источником его бессонницы, выдержит ли до 14 октября, на которое намечен их отъезд? Виктор очень на это надеялся. Испытывая в душе облегчение от того, что в руке у него был конверт, ставший чем-то вроде талисмана, он подошел к фонарному столбу напротив входной двери дома 36-бис и еще раз пробежал глазами полученное накануне письмо.
Мой дорогой господин Легри,
точнее – дорогой Виктор!
Узнав из газет о развязке этого дела, я считаю необходимым довести до вас мою точку зрения, потому что уверен – вы до самого конца во мне сомневались. Я не работаю ради денег и больше не жажду богатства. Я предпочел бы стать Робин Гудом, если, конечно, такой человек когда-либо существовал в жизни, а не только в легенде. Вам не хуже меня известно, что выгода в этом мире стала самоцелью, по крайней мере для богачей, которым надо все больше и больше в ущерб большинству, с трудом сводящему концы с концами. Сегодня деньги стали идолом, ради которого все без исключения общественные системы попирают даже самые возвышенные идеалы человечества. У меня остается сокровище, за которое я буду бороться до последнего вздоха, это сокровище – возможность ответить отказом. Но я не настолько глуп, чтобы не позаботиться о спокойной старости и не уберечь себя от нищеты.
Я поселюсь вдали от этой клоаки. Желаю вам реализовать все надежды и чаяния до того, как весь этот строй погрузится в хаос.
Искренний друг ваш и вашего бесстрашного шурина,
Фредерик Даглан
P. S. Перья, из-за которых были совершены все эти убийства, теперь дрейфуют посреди Ла-Манша. Я оставил себе строго ограниченное количество для удовлетворения моих потребностей. Может, в один прекрасный день на песчаном берегу Нормандии вы найдете одно из них, выброшенное на отмель среди водорослей и ракушек?
Вы его поднимете, положите в карман и в дни, когда вас будет охватывать меланхолия, будете его поглаживать, вспоминая о тех захватывающих приключениях, которые мы с вами пережили вместе.
Или же подарите его восхитительной женщине, вашей жене, которую я очень хотел бы видеть моей собственной супругой.
Послесловие
«Существование, которое мы ведем, перестало быть жизнью. Фантазия и праздное времяпрепровождение во всех сферах пребывают в агонии. Но что вы хотите в эпоху автоматических баров, вокзальных буфетов, готового платья и продажной любви?» – спрашивает безвестный брюзгливый парижанин, цитируемый Робером Бюрнананом
1.
[1187]
Надо признать, что появление в 1877–1900 годах велосипеда, кинематографа, автомобиля, метрополитена, ацетилена, телефона, дирижабля, электрического трамвая, фонографа, газовой лампы и других чудесных изобретений с лихвой удовлетворило аппетиты даже самых ненасытных.
На церемонии открытия улицы Реомюра президент муниципального совета Пьер Боден взволнованно воскликнул: «Мы можем быть уверены, что научные открытия неотделимы от демократии и что их объединенными усилиями рождается человечество более высокого порядка, основанное на философии разума и добра».
Но январь 1900 года подвергает это утверждение сомнениям! 6-го числа газеты всего мира возвестили, что страшный голод в Индии унес тысячи человеческих жизней.
В Южной Африке продолжается Вторая англо-бурская война, начавшаяся в октябре 1899 года, равно как и осада Мафекинга (13 октября 1899 – 17 мая 1900).
9 июня достигает своего апогея Боксерское восстание в Китае – этим термином на Западе назвали радикальное народное движение, состоявшее из крестьян, лодочников, грузчиков, ремесленников, участники которого практиковали боевые искусства. Более полувека великие мировые державы жадно стремились получить доступ к богатствам Китая и наладить поставки местных товаров, в том числе опиума, в котором, в первую очередь, была заинтересована Великобритания. Это восстание в корне перевернуло экспансионистские воззрения Франции, Англии, Италии, Австро-Венгрии, Соединенных Штатов, Германии, России и Японии – государств, которые на одной из гравюр были изображены делящими «китайский пирог».
10 июня 1900 года убивают японского министра Сугияму. 20 июня та же участь постигает и германского барона фон Кеттелера. В Пекине начинается осада дипломатических представительств иностранных государств, которые по такому случаю объединяются в союз. Она продлится пятьдесят пять дней и закончится поражением «боксеров».
В Пекин вступают западные войска – объединенная армия восьми держав, которая затем, нагрузившись трофеями, возвращается по домам. Китай «умиротворен».
Правители мира добиваются уступок. Китайское правительство обязуется:
– извиниться перед Германией за убийство барона фон Кеттелера и в знак признания своей вины возвести ему несколько памятников;
– уплатить Японии репарации за убийство министра Сугиямы;
– наказать всех чиновников, выступавших на стороне «боксеров»;
– сровнять с землей оборонительные сооружения в Дагу и обеспечить безопасность на дороге между Пекином и морем;
– запретить импорт вооружений и за тридцать девять лет уплатить странам Запада 1587 миллионов франков золотом в виде репараций.
Договор, который положит конец конфликту, будет ратифицирован в сентябре 1901 года.
Во Франции ежегодный «Вестник Бюро долгот» сообщает, что XX век начнется 1 января 1901 года, и объявляет, что часы на циферблате теперь должны обозначаться цифрами от нуля до двадцати четырех.
Тогда же, в январе, Верховный суд за подготовку антиправительственного заговора приговаривает Поля Деруледа к десяти годам каторги, а Жюля Герена – к десяти годам тюремного заключения.
Пост президента Палаты депутатов занимает Поль Дешанель, во главе Сената стоит Арман Фальер. Что же до главы государства, Эмиля Лубе, то он правит страной скромно и незаметно. Его розовощекое лицо и монтелимарский акцент пользуются большей симпатией, чем угрюмость подлинного руководителя правительства, неразговорчивого главы кабинета Вальдека-Руссо. Тем временем среди левых депутатов восходит звезда сорокатрехлетнего Поля Думера.
Начало года омрачает пожар в «Комеди-Франсез», произошедший в четверг, 8 марта. На 13:45 назначен спектакль, но около полудня театр охватывает огонь. Вскоре вся сцена, зрительный зал и салады уже окутаны пламенем. Затем наступает очередь верхних этажей, на которых расположены грим-уборные актеров. Объявляется всеобщая эвакуация. Двадцатидвухлетняя артистка Джейн Анрио гибнет в огне.
15 марта на площади Шатле, в театре, который вот уже год носит то же самое название, Сара Бернар выходит на сцену в наряде «Орленка», созданном юным кутюрье Полем Пуаре, одновременно работающим у Жака Дусе. При виде актрисы публика в зале, где некоторые места продаются по шестьсот франков, приходит в восторг. Эдмон Ростан, столь же бледный, как и его герои, производит фурор. Что, впрочем, не мешает Жюлю Ренару написать в своем «Дневнике»: «В глазах зрителей застыло восхищение, они будто стоят перед прекрасным водопадом: вскоре им захочется уйти».
14 апреля проходит церемония официального открытия Всемирной выставки. В этот день ее посещают 118 630 человек. Объявляется апофеоз цивилизации. Генеральный комиссар Альфред Пикар заявляет: «Выставки 1900 года должна стать философией и обобщением века, одновременно величием, благодеянием и красотой; она будет отражать собой просвещенный дух Франции и, как и раньше, продемонстрирует самые передовые достижения прогресса».
Экипажи на авеню де ла Мотт-Пике останавливаются, чтобы уступить дорогу веренице автомобилей, в которых можно разглядеть кремовые манишки, зеленые мантии академиков и красные облачения членов городского правления. На парижан, очарованных этим волшебным городом, обрушивается лавина речей.
15 мая президент Республики со своим кортежем под звуки «Марсельезы» дефилирует от Марсова поля до моста Йены мимо Дворца электричества и Эйфелевой башни (которую в этом году посетят свыше миллиона человек). На прогулочных пароходиках толкаются муниципальные советники и депутаты, Эмиль Лубе под звуки гимна Российской империи открывает мост Александра III, в итоге между Домом Инвалидов и Елисейскими полями открывается новая перспектива.
«Посетителей Всемирной выставки 1900 года (…) ждут лишь зрелища, отличающиеся высокой нравственностью», – трубит «Иллюстрасьон». «И мать может без малейших опасений взять туда свою дочь», – добавляет месье Пикар.
И тогда вся страна, а за ней и гости из-за рубежа устремляются на эту гигантскую ярмарку, где рядом расположились венецианские гондолы, деревянные дома северных народов, дворцы в стиле «бозар», архитектурные решения в стиле «модерн» с их спиралями и переплетением лиан, статуи Родена. Прокатиться на самодвижущемся тротуаре – рискованная авантюра: каким бы смельчаком ни был человек, он все равно может потерять равновесие, даже катя на самой малой скорости и держась за поручень. Но чтобы украдкой поглазеть на яванских и мавританских танцовщиц, сладострастно извивающихся в четырех углах этого гигантского караван-сарая, можно пренебречь любой опасностью! Принц де Саган, в белых гетрах и лакированных туфлях, соседствует рядом с элегантным Бони де Кастелланом и очаровательной Эмильеной д’Алансон, которая в телесного цвета трико показывает в Летнем цирке своих дрессированных кроликов.
По данным издания «Парижская выставка», публикуемого издательским домом «Ашетт и компания», «по периметру Выставки расположены 45 входов», не считая главного. Выставка открыта с 8 утра до 11 вечера. Билеты нужно покупать в Билетном союзе и предъявлять в одну из касс – сами они их продажей не занимаются. Цена варьируется в зависимости от дня и времени посещения. В среднем она составляет один франк.
Оказавшись на территории, за некоторые аттракционы нужно платить дополнительно. Работают обменные кассы, отделения крупных банков, пункт медицинского обслуживания, семь почтовых отделений, пункты уплаты таможенной и ввозной городской пошлин, общественные телефонные кабины, позвонить с которых можно с помощью специальной карточки стоимостью в двадцать франков. Весьма внушительна служба охраны порядка, есть агенты на велосипедах и спасатели – на тот случай, если кто-то будет тонуть в Сене. У ворот Рапп расположился специальный комиссариат. Для посетителей, желающих оставить на хранение велосипед или автомобиль, предусмотрены гаражи. Наконец, по пути можно встретить множество дезодорированных туалетных кабин, которые англичане называют «ватерклозетами» или WC – обычных (десять сантимов), с умывальником (двадцать пять сантимов) и более роскошных с горячей водой (шестьдесят пять сантимов).
У каждого входа на Выставку туристы сражаются за автомобили с надписью British driver и Deutscher Führer
[1188]. Либо подзывают рикшу.
Ожидались с визитами многочисленные монархи. Но замечены были лишь Оскар II, король Швеции и Норвегии, да Его Величество Мозафереддин-шах, увешанный бриллиантами, на которого тут же было совершено покушение – некий Франсуа Сальсу пытался выстрелить ему в голову. Русский царь предпочел остаться дома. В ходе своего триумфального турне по Европе Поль Крюгер, президент Южно-Африканской республики Трансвааль, вышел на балкон отеля «Скриб», чтобы поблагодарить толпу, устроившую ему овацию. Также Выставку почтили своим присутствием принц Уэльский, король Бельгии Леопольд II и великий князь Владимир Александрович.
В десятках ресторанов можно попробовать (как выбрав из меню, так и заказав комплексный обед стоимостью от 1,25 до 3,5 франка) гастрономические изыски со всех уголков мира, хотя предпочтение явно отдается французской и китайской кухням. За благосклонность гурманов борются ласточкины гнезда и нормандские морские языки. У стойки Иерусалима можно купить склянку воды из реки Иордан, запечатанную пробкой с гербом царя Соломона.
Один из самых посещаемых аттракционов расположен на правом берегу между мостом Альма и переходом, соединяющим западные ворота с Дворцом армии и флота. Это Старый Париж, занявший почти шестьсот квадратных метров на набережной Дебийи, с его улочками и навсегда исчезнувшими сооружениями: воротами Сен-Мишель, башней Лувра, церковью Сен-Жюльен-де-Менетрие, бывшими торговыми рядами, Гран-Шатле, башней Архиепископства, домами Мольера, Теофраста Ренодо и Николя Фламеля, а также Пре-о-Клер, ярмаркой Сен-Лоран и другими исчезнувшими достопримечательностями. Город Средневековья, эпохи Ренессанса, а также XVI и XVII веков, воссозданный в камне благодаря талантам писателя и художника Альбера Робида́. Не ограничиваясь одним лишь архитектурным антуражем, он добавил мастерские ремесленников, харчевни, выступления бродячих артистов, а также целую костюмированную армию статистов, которая встречает посетителей.
Обретает законную силу Германский гражданский кодекс. С 23 по 27 сентября в Париже проходит международный конгресс социалистов.
28 мая в ходе шумного заседания Палаты депутаты расходятся во мнениях касательно дела Дрейфуса.
2 июня Сенат объявляет амнистию, которая не распространяется на капитана Альфреда Дрейфуса и тех, кто был осужден по приговору Верховного суда.
10 ноября Франсуа Сальсу за покушение на шаха приговаривают к пожизненной каторге.
В Соединенных Штатах президентом вновь избирают Уильяма Мак-Кинли.
В декабре одобрен закон, позволяющий женщинам с дипломом об окончании факультета права заниматься профессией адвоката, предварительно приняв присягу. Первыми этим пользуются мадемуазель Ольга Пети, русская по происхождению, и мадемуазель Жанна Шовен. Чтобы предстать перед председателем суда в мантии и адвокатской шапочке, им потребовались долгие месяцы борьбы и решительных демаршей.
Дамы курят все больше и больше.
Артур Эванс начинает на Крите раскопки древнего города Кносс.
10 декабря: М. Дж. Келси удается передать на расстояние свыше трехсот метров сообщение по беспроводному телефону, на свет появляется дальний предок мобильного телефона.
В 1900 году Андре Мишлен и его брат Эдуард выпускают в свет первый «Красный гид Мишлен», приуроченный к Всемирной выставке.
Из-под печатного станка выходит первый номер журнала «Двухнедельные тетради», во главе которого стоит Шарль Пеги, а также:
«Смех» философа Анри Бергсона;
«Толкование сновидений» Зигмунда Фрейда;
«Дневник горничной» Октава Мирбо;
«Клодина в школе», подписанная именами Вилли и Колетт;
«Удивительный волшебник из страны Оз» Лаймена Фрэнка Баума;
«Сын волка» Джека Лондона;
«Лорд Джим» Джозефа Конрада;
«Завещание чудака» Жюля Верна.
Издатель Поль Оллендорф публикует «Притчи» Льва Толстого.
«Коробейник» Ги де Мопассана, первоначально опубликованный в 1893 году в «Фигаро», выходит в составе одноименного посмертного сборника.
Двадцатидевятилетний Поль Валери служит делопроизводителем в Военном министерстве.
Жорис-Карл Гюисманс заведует одним из департаментов Министерства внутренних дел.
Поль Клодель служит консулом в Китае. Он уже написал такие свои произведения, как «Золотая голова», «Город» и «Девица Виолена».
Альфонс Алле публикует свой рассказ «Не бейтесь в истерике».
Вечером поэт Франсуа Коппе на перекрестке Севр и Монпарнас у Дома Инвалидов курит сигарету на террасе «Кафе де Вож» и кланяется Раулю Поншону, который с тростью в руке отправляется на ежедневную прогулку в Версаль.
Поль Маргерит издается тиражом в 5000 экземпляров и получает за авторские права 2500 франков. Тиражи братьев Рони не превышают 1500 экземпляров.
14 июня 1900 года в римском «Театро Констанци» ставят оперу Джакомо Пуччини «То́ска», созданную по пьесе Викторьена Сарду.
Люсьен Гитри готовит в театре «Порт-Сен-Мартен» спектакль «Западня» по одноименному роману Эмиля Золя.
2 марта в «Театр-Антуан» проходит премьера «Рыжика». Эта одноактная пьеса Жюля Ренара создана по его одноименному роману, вышедшему в свет в 1894 году.
12 декабря в том же театре дают «Статью 330», пьесу Жоржа Куртелина, в основу которой легло обвинение его друга Ла Брижа в оскорблении общественной нравственности, выдвинутое за то, что тот демонстрировал свой зад пассажирам самодвижущегося тротуара. От знаменитой остроумной шутки этой пьесы хохочет весь Париж: «Девять раз из десяти закон улыбается тому, кто его нарушает, напоминая добропорядочную девицу, улыбающуюся своему насильнику».
Альфред Жарри публикует пьесу «Убю прикованный», которая будет поставлена на сцене лишь в 1937 году.
Среди новорожденных, которые приходят на эту грешную землю, будущие писатели, поэты, сценаристы, режиссеры, ученые: Жак Превер, Луис Бунюэль, Фредерик Жолио-Кюри, Антуан де Сент-Экзюпери, Робер Деснос, Натали Саррот…
Колесо времени делает очередной оборот. Наш бренный мир покидают скульпторы, философы, романисты: Джон Рескин, Александр Фальгьер, Фридрих Ницше. После шестимесячного путешествия по Италии в самый разгар Международной выставки в Париж приезжает сорокашестилетний Оскар Уайльд. Он встречается с друзьями, в том числе с Рашильд, но в основном проводит время, запершись в номере «Отеля Эльзас», где безуспешно пытается писать и перечитывает Бальзака. Он созерцает обои в красный цветочек и заявляет: «Или я, или они». Побеждают обои. К смертному одру Уайльда являются друзья: Жан Риктюс, Раймон де ла Тейад и Робер д’Юмьер. Господа Дюперье, владельцы отеля, кладут в гроб венок с надписью «Нашему постояльцу». На религиозной церемонии в церкви Сен-Жермен-де-Пре присутствуют с полсотни человек, в том числе Пьер Луи, Поль Фор и Стюарт Меррилл. Среди них и Лорд Дуглас.
Троица в составе Мориса Дени, Вюйара и Боннара эпатирует обывателей. Каждому из них от тридцати до тридцати трех лет.
Ренуару пятьдесят девять, несмотря на прогрессирующий паралич рук, он продолжает писать, прикрепив кисть к запястью. Дега тем временем постепенно теряет зрение.
Тулуз-Лотреку тридцать шесть, Вильяму Бугро – семьдесят пять.
В Париж приезжает молодой художник по имени Пабло Пикассо.
Клода Дебюсси считают гением. Он только что написал свои «Ноктюрны». Но лишь в 1902 году его опера «Пелеас и Мелисанда» с триумфом пройдет в «Опера-Комик».
Жюль Массне и Камиль Сен-Санс – уже признанные композиторы.
2 февраля Гюставу Шарпантье приносит славу его музыкальный роман «Луиза», который в марте ставят в «Опера-Комик». Недовольный знаменитой любовной сценой («С того дня, когда я отдалась»), он за неделю переписывает ее и приводит в более гармоничный вид.
Публика начинает говорить о некоем дебютанте по имени Морис Равель, чью «Павану на смерть инфанты» сыграют в 1902 году.
Семьи, стремящиеся к развитию и знаниям, по воскресеньям посещают концерты оркестров Ламурё и Коло́нна.
Вилли ведет музыкальную рубрику в журнале «Искусство и критика». Свои статьи он подписывает псевдонимом «Работница Летнего цирка». Его каламбуры приводят читателей в восторг: «Пришлось стерпеть
Славянский марш Чайковского. Я
кронштадтирую, что эта
мужика села в лужу глубиной в целую
версту. Публике делать нечего –
икры не дают!» Или еще: «Г-н Рейнальдо Ан сочинил «Луковку», до этого был «Моцарт» Музыку г-н Ан по-прежнему сочинять не хочет»
[1189]. Вилли появляется на людях вместе с женой Колетт и их общей подругой актрисой Полер.
Что касается Леона Блюма, то он ведет театральную хронику в «Ревю бланш» братьев Натансон.
По маршруту: ворота Майо – Сюрен – Валь-де-Грас начинает курсировать электрический трамвай, открывается вокзал д’Орсе и первая линия метрополитена. Из-за 50 000 конных экипажей на улицах образуются гигантские заторы. Свой вклад в это вносят и редкие автомобили.
Во время летнего зноя метрополитен остается единственным в столице местом, где царит прохлада. Все наслаждаются чистотой трех вагонов, из которых один первого класса, и дружелюбием контролерш в полицейских головных уборах.
Фуникулер Монмартра взбирается на холм Сакре-Кер, а на главном куполе самого собора возвышается крест – в ожидании, когда закончатся работы.
В магазине «Бон Марше» – у которого на Выставке есть собственный павильон – продается лучшее в Париже белье. Акции этого универмага, выпущенные в 1880 году, в 1900 году котируются по 320 000 франков, каждая из них приносит владельцу по 18 000 прибыли.
В Сен-Жермен-л’Осеруа звонарь только что установил механизм, позволяющий сорока четырем колоколам церкви воспроизводить военные марши времен Людовика XIV, и в полдень весь квартал начинает печатать шаг.
Заведение Делиньи на набережной Орсе в 1900 году становится самым дорогим бассейном столицы: 60 сантимов за вход плюс 10 су за купальный костюм, халат и полотенце. 1 франк 10 сантимов за полчаса плавания – это роскошь.
На холме Шайо не видно ни одного дома. Анатоль Франс расположил здесь особняк графа Мартен-Беллема («Красная лилия»). Пожарная каланча, датируемая концом XVIII века, будет снесена в 1902 году.
Бульвар Распай состоит из разрозненных кварталов, непонятным образом пронумерованных, и врезается в улицу Севр.
Авеню Гранд-Арме постепенно завоевывают заводы по производству велосипедов и автомобилей.
Парк и дворец Багатель все еще являются частной собственностью сэра Ричарда Уоллеса, создателя прославленных чугунных фонтанчиков питьевой воды.
На улицах города установлено лишь 983 электрических фонаря. Если Выставка сияет его огнями, то в повседневную жизнь парижан электричество входит очень медленными темпами.
Чтобы стать полицейским, нужно иметь рост как минимум 1,7 метра.
В 1900 году создается велосипедная полицейская бригада.
Выпущена почтовая марка, на которой изображена сидящая Марианна, олицетворение Республики, с лавровым венцом на голове. В одной руке у
нее Декларация прав человека, в другой – скипетр правосудия. Ее стоимость для почтовых отправлений по Франции составляет 15 сантимов. В большой моде иллюстрированные почтовые открытки. Персонал почтового ведомства приносит клятву никогда не читать написанного на них текста.
Письмо, отправленное по пневматической почте Парижа, стоит 6 су и доходит до адресата менее чем за два часа.
Хотя телефон еще остается редкостью, некоторые не боятся использовать его для международного общения: 1 апреля г-н Колер, прославленный владелец шоколадных фабрик, открывает линию, соединяющую Париж с Лозанной. За трехминутный разговор с семьей, живущей в кантоне Во, он платит четыре франка.
Кучера подчиняются режиму «усредненности», при котором каждый из них платит хозяину строго определенную сумму (та же система используется гарсонами кафе и билетершами). Их штаб-квартира расположена в одном из кабачков на улице Кусту, которым заправляет некая энергичная дама, известная как «извозчичья мамаша». Помимо прочего, в ее обязанности входит и улаживание конфликтов.
Вдоль тротуаров, в скверах, садах и лесах Парижа произрастает около 90 000 деревьев.
В городе насчитывается 1 200 000 квадратных метров деревянной мостовой.
Работает 350 цветочных, газетных и музыкальных киосков. Сотни тумб Морриса, временных ларьков и туалетных кабин для мужчин переполнены рекламой.
На улице Монтескье в ресторане Дюваля, считающемся законодателем бульонов, в зале работают лишь мужчины. Александру Дювалю, сыну основателя этой промышленной гастрономии Пьера-Луи Дюваля, приходит в голову мысль обрядить в униформу официанток, работающих в других его заведениях. Он изобретает систему контроля счетов, действующую с помощью карточек.
В «Элизе-Монмартр», где дебютировала Луиза Вебер, будущая Ла Гулю, свирепствует пожар.
В «Городе света» во множестве появляются новые статуи: в саду Елисейских Полей устанавливают каменного Альфонса Доде, в начале авеню дю Буа (ныне авеню Фош) возвышается Жан-Шарль Альфан, в свое время облагородивший Булонский и Венсенский леса, а также парк Бют-Шомон, в то время как перед мэрией XIX округа, на площади Арман Каррель, воздвигают памятник Жану Масе, автору «Истории кусочка хлеба».
За время Всемирной выставки произошло два несчастных случая. 29 апреля в результате обрушения пешеходных мостков, соединяющих Небесную сферу с Марсовым полем, десять человек погибли и девять получили ранения. А 18 августа рушится балюстрада на бульваре Латур-Мобур. Итог: пятеро погибших и множество раненых.
Венсенский лес используется для проведения спортивных состязаний. В нем устраивают пробные полеты воздухоплавателей, скачки, гонки на велосипедах и автомобилях, соревнования по плаванию и теннису.
Летом Эмиль Лубе переезжает в Рамбуйе, чтобы укрыться от зноя, дождаться банкета мэров, возобновления работы палат парламента, занятий в учебных заведениях, а также открытия охотничьего сезона.
В конце августа Альфред Пикар, прозванный «Папашей Банкротством», главенствует при награждении лауреатов различных премий. Раздают медали и дипломы. На них фигурируют изображения молодой дамы, читающей рядом с прилежным молодым человеком (символ лирической поэзии), и матери, которая кормит грудью новорожденного (символ физической силы).
22 сентября наступает сто восьмая годовщина провозглашения Первой республики и банкет мэров. Из 36 772 приглашенных в Париж согласились приехать 22 000. Каждый из 1215 метрдотелей командует 18 официантами. На террасах Тюильри от стола к столу тянется огромная телефонная сеть общей протяженностью более километра. Все кричат: «Да здравствует Республика! Да здравствует Лубе!» После банкета гостям становится жарко, их мучает жажда, они расстегивают жилеты и идут, слегка пошатываясь. Над лесом соломенных канотье и котелков возвышаются таблички с названиями принимающих участие в торжестве департаментов.
В год проведения Всемирной выставки Париж поглощает тонны съестного, что, впрочем, не мешает синьору Джованни Суччи, который с 8 сентября по 8 октября сидит в опечатанной официальным лицом стеклянной клетке, ввести моду на воздержание от пищи. Чтобы восхититься его смелостью, платят по 10 су и аплодируют, сидя на стуле и затягиваясь сигаретой. Некоторые подозревают надувательство, но никто не ропщет – средства будут перечислены в фонд «Корочка хлеба».
Всемирную выставку посетили почти 51 миллион человек, из них 2,5 миллиона – филиал в Венсенском лесу. Все эти толпы любопытных сохранят волнующие воспоминания об этом мероприятии, которое станет вехой в их жизни.
Для проведения столь грандиозного показа общественные фонды и частный капитал собрали 120 миллионов франков. Семь месяцев роскоши и блеска, в ходе которых правительство Республики все же нашло время на то, чтобы принять так называемый закон Мильерана, запрещающий женщинам, а также юношам и девушкам в возрасте от 16 до 18 лет работать больше 10 часов в день. В обществе потихоньку начинают говорить о том, чтобы сделать воскресенье выходным днем.
Праздник заканчивается 12 ноября, под дождем, выступающим в роли дурного предзнаменования. Появляются судебные исполнители, шлепающие в туфлях по грязи. В их обязанности входит составление актов, а при необходимости и арест имущества. Ведь ни один подрядчик, принявший участие в этом зрелище, состояния не сколотил. Многие, по уши в долгах, отказываются удовлетворять требования кредиторов. Кассы на Парижской улице пусты.
Огни гаснут, дворцы приходят в запустение, аллеи покрываются рытвинами.
На площади Согласия, над монументальным входом, получившим название «ворота Бине», все это время стояла огромная статуя Парижанки со шляпкой в виде символической барки столицы на голове, которую Пакен обрядил в домашний халат с роскошным декольте. Когда ее снимают, пропитанная водой голова отваливается, и каштаны на Кур-ла-Рен, тоже сочащиеся влагой, становятся свидетелями странного зрелища: коллекционеры, в числе которых несколько американцев, дерутся за этот экспонат. Легенда гласит, что голову увез домой какой-то богатый венгр. Что с ней случилось потом, не знает никто…
Предзнаменование, грозящее миру, который, по замыслу устроителей, должна была символизировать Всемирная выставка…
Пройдет всего несколько лет, и окопы Соммы и Вердена разверзнутся под ногами дам, увешанных перьями и драгоценностями, кучеров фиакров, торговцев удовольствиями, университетских профессоров в пенсне, денди в цилиндрах, продавцов газет, грузчиков с Торговых рядов, рабочих в фуражках и с непокрытыми головами, сторонников и противников Дрейфуса, девиц легкого поведения и дам полусвета, танцовщиц из «Мулен Руж», символистов и натуралистов, английских туристов и русских великих князей, массовки из «Опера» и официанток, подающих бульон в заведениях Дюваля. Эпоха на рубеже веков, которую после Первой мировой войны назовут «Прекрасной», закончится 3 августа 1914 года.
1
Известный лондонский франт.
(Прим. ред.)
(обратно)
2
Эммануэль де Груши (1766–1847) — маршал Франции. Должен был преследовать потерпевших поражение при Линьи пруссаков, но упустил инициативу и не подоспел на помощь Наполеону I при Ватерлоо.
(обратно)
3
Развалины дворца простояли на набережной д'Орсэ до 1898 года, когда Орлеанская железнодорожная компания построила вокзал д'Орсэ.
(обратно)
4
Прозвище короля Генриха IV Бурбона.
(обратно)
5
Тайши Кийонаги (1752–1815) — японский рисовальщик, живописец и иллюстратор, прославившийся работами на театральные сюжеты и женскими портретами.
Андо Хирошиге (1797–1858) — японский художник-пейзажист.
(обратно)
6
Большое спасибо
(нем.).
(обратно)
7
Между бульварами Монпарнас и Пуассоньер.
(обратно)
8
За тройное убийство Анри Пранзини был казнен 1 сентября 1887 г.
(обратно)
9
Гусара Гуффе убили 26 июля 1889 г., дело закончилось арестом Мишеля Эйро и Габриэль Бониар.
(обратно)
10
Ксавье де Монтепен (1823–1902) — популярный романист. Самое знаменитое его произведение — «Разносчица хлеба».
(обратно)
11
Боссюэ Жак Бенинь (1627–1704) — французский католический писатель, богослов.
(обратно)
12
Популярный в XIX в. в странах Европы и Америки винный напиток, содержащий кокаин.
(обратно)
13
Полицейский, герой некоторых романов Эмиля Габорио.
(обратно)
14
Уголь для рисования.
(обратно)
15
Известный в 1890-е годы обитатель Латинского квартала, представитель богемы, самоучка, «оруженосец» Верлена, оплативший издание мемуаров поэта после его смерти в 1896 году.
(обратно)
16
Старинная мера жидкостей.
(обратно)
17
Имеется в виду герой одноименной пьесы П. Корнеля.
(обратно)
18
П. Верлен. «В пещере».
Пер. Ф. Сологуба.
(обратно)
19
Виже-Лебрён, Элизабет (1755–1842) — французская художница.
(обратно)
20
Эдуард Дрюмон (1844–1917) — католический журналист. В 1890 г. Морис Баррес писал: «Антисемитизм был всего лишь немного постыдной традицией старой Франции, когда весной 1886 года Дрюмон оживил его скандальным текстом». В том же году вышла книга «Иудейская Франция», ставшая одним из самых продаваемых изданий второй половины XIX в.
(обратно)
21
Портативная электрическая лампа, описанная в романе «Путешествие к центру Земли».
(обратно)
22
Здесь обыгрывается название улицы Сен-Пер, где располагается магазин, в котором работает Жозеф. Saints-Pères переводится как «святые отцы».
(обратно)
23
По-французски:
Attention, Danger, Vengeance.
(обратно)
24
Адольф-Леон Вилетт (1857–1926) — художник, рисовальщик, литограф, пастелист, плакатист. Стал известен благодаря работе в кабаре «Ша-Нуар». Создал гротескные образы Пьеро и Коломбины, имевшие большой успех у публики. Был яростным антисемитом.
(обратно)
25
Луиза Абема (1858–1927) — французская художница, гравер и скульптор.
(обратно)
26
Одилон Редон (1840–1916) — французский живописец, один из основателей «Общества независимых художников».
(обратно)
27
Панорама, от греческого
pan (все) и
orama (вид), была изобретена в 1787 году ирландцем Робертом Баркером. Внутри ротонды, в объемном изображении, был помещен непрерывный ряд гигантских живописных сцен.
(обратно)
28
Ш. Бодлер. «Лебедь». (сб. «Цветы зла»)
Пер. Эллиса (Л. Кобылинского).
(обратно)
29
Настоящее имя — Этьен Марен (1807–1874), начинал как актер на сцене Бельвильского театра, имел невероятный успех. В 1831 году он перебрался в Париж, где сам Александр Дюма привел его в театр «Порт Сен-Мартен»
(обратно)
30
Жан Эжен Робер-Уден (1805–1871) — иллюзионист, выступавший в черном костюме, чтобы исключить все подозрения в нечистой игре. Первым начал использовать в своих фокусах диковинное в то время электричество. В 1845 г. представлял в Пале-Ройяль программу под названием «Фантастические вечера», в 1854 г. открыл на бульваре Итальянцев собственный театр.
(обратно)
31
Гюстав Эмар, наст, имя — Оливье Глу (1818–1883) — французский писатель, автор обширного цикла историко-приключенческих романов, написанных под влиянием Ф. Купера и Т. Майн Рида: «Охотники Арканзаса» (1858), «Пираты прерий» (1859), «Бандиты Аризоны» (1882) и др.
(обратно)
32
По-французски «изумруд» — é
meraude, фамилия «де Морэ» —
de Maurée, то есть анаграмма слова é
meraude.
(обратно)
33
Натуралистическая кадриль.
(обратно)
34
Настоящее имя — Ипполит-Леон Ривай. (1804–1869).
(обратно)
35
Стихотворение из цикла «Цветы зла» (1857), посвящено Виктору Гюго.
Пер. П. Якубовича.
(обратно)
36
В этой катастрофе погибло сорок пять человек и свыше ста были ранены.
(обратно)
37
Винный рынок просуществовал на левом берегу Сены, на месте теперешнего комплекса зданий факультета естественных наук на улице Жюсьё, вплоть до 1960 г.
(обратно)
38
Пер. Д. Дверия.
(обратно)
39
Ныне вокзал Аустерлиц.
(обратно)
40
Раньше эта река протекала через Пятый и Тринадцатый округа Парижа; ныне целиком забрана в трубы.
(обратно)
41
Расположен на перекрестье улицы Монмартр и рыбного рынка.
(обратно)
42
Поль Надар (1856–1939) — сын
Гаспара-Феликса Турнашона (1820–1910), известного в истории как Надар и ставшего легендой еще при жизни величайшего фотографа XIX века, писателя, журналиста, художника-карикатуриста, путешественника, воздухоплавателя, создателя военной авиационной разведки задолго до появления самой авиации, исследователя парижских катакомб. Поль Надар унаследовал дело отца, став под его руководством блестящим фотографом-портретистом.
(обратно)
43
Намек на известную картину Ж.Л. Давида «Портрет мадам Рекамье».
(обратно)
44
Американец Макинтош во второй половине XIX века наладил массовое производство каучуковых презервативов.
(обратно)
45
Настоящее имя
Луиза Вебер (1869–1929).
(обратно)
46
Кано — одна из школ японской живописи, существующая со 2-й половины XV в. и названная по имени своих основателей Кано Масанобу и Кано Мотонобу. В живописи кано периода расцвета (конец XVI — 1-я половина XVII века) отдельные детали, приобретая некоторую условность, целиком подчиняются орнаментально-декоративному строю композиции (Кано Эйтоку, Кано Санраку, Кано Танью и др.).
(обратно)
47
См. роман «Происшествие на кладбище Пер-Лашез».
(обратно)
48
Леон Мишель Гамбетта (1838–1882) — французский политический деятель, был слеп на один глаз.
(обратно)
49
Купорос (купоросное масло, купоросный спирт) — устаревшее название концентрированной серной кислоты.
(обратно)
50
В дословном переводе «перекресток раздавленных».
(обратно)
51
Карточная игра.
(обратно)
52
Клеман Маро (1497–1544) — французский поэт и гуманист эпохи Возрождения.
(обратно)
53
Антуан Франсуа Прево (аббат Прево) (1697–1763) — один из крупнейших французских писателей XVIII в., автор романа «История кавалера де Грие и Манон Леско».
(обратно)
54
Песня Мориса Марка
. Пер. М. Фаликман.
(обратно)
55
«Элизе-Монмартр» — известное в ту пору кабаре.
(обратно)
56
Орифламма (от
aureum — золото и
flaiama — пламя), запрестольная хоругвь аббатства Сен-Дени, которую со времен короля Филиппа I до 1415 г. выносили на поле сражения. В 1096 г. орифламма приняла форму раздвоенного красного стяга и стала знаменем Французского королевства.
(обратно)
57
Чарльз Фредерик Уорт (1825–1895) — модельер, один из первых представителей высокой моды.
(обратно)
58
Эфирное масло
иланг-иланга получают из цветков крупного дерева кананги душистой;
юфть — вид выделанной кожи:
(обратно)
59
Аурелиан Шоль (1833–1902) — французский журналист, драматург и писатель.
(обратно)
60
Прозвище
Кутла дю Роше, комиссара полиции нравов, в обязанности которого входило следить, чтобы танцовщицы не выходили за рамки приличия.
(обратно)
61
Настоящее имя
Люсьен Бёз.
(обратно)
62
Прозвище танцовщицы буквально означает «канализационная решетка».
(обратно)
63
Шимоза — взрывчатое вещество, употреблялось при изготовлении артиллерийских снарядов.
(обратно)
64
Биби Лапюре — личность, популярная в Латинском квартале в 1890-е годы. Самоучка, владел разными кустарными промыслами, был на побегушках у Верлена. После смерти поэта в 1896 г. Биби Лапюре немало заработал, опубликовав свои воспоминания.
(обратно)
65
Кабаре, основанное в 1885 г. бывшим певцом «Ша-Нуар» Аристидом Брюаном.
(обратно)
66
Искусственный международный язык, изобретенный в 1879 г. Шлейером и не вошедший в употребление. В переносном значении — речь из мешанины непонятных слов, тарабарщина.
(обратно)
67
Название кабаре
«Ша-Нуар» (Chat Noir) в переводе означает «черный кот».
(обратно)
68
Аристид Брюан (1851–1925) — поэт, шансонье, комедиант и владелец кабаре.
(обратно)
69
Имеется в виду Монмартр.
(обратно)
70
Тетушкой Анастасией французы называют цензуру.
(обратно)
71
Анри Ривьер (1827–1883) — французский художник, автор литографий, гравюр и акварелей.
(обратно)
72
Институт Франции — объединение пяти академий; здание построено на деньги, завещанные кардиналом Мазарини.
(обратно)
73
От «всё или ничего»; от «зачем».
(обратно)
74
Стейнлен, Теофиль-Александр (1859–1923) — французский художник, представитель символизма, мастер жанровой и социально-критической графики.
(обратно)
75
Ксанроф, настоящее имя
Леон Фурно (1867–1953) — французский юморист, драматург, шансонье.
(обратно)
76
Пьеса и роман французского писателя
Альфонса Доде (1840–1897).
(обратно)
77
Уголовный процесс, проходивший во Фракции в 1889–1890 гг. и имевший большой общественный резонанс.
(обратно)
78
Зинаида Флерио (1829–1890) — французская писательница, печаталась в «Журналь де Женес» и в серии «Розовая библиотека».
(обратно)
79
Брюммель — французское произношение ставшей нарицательной фамилии английского денди
Джорджа Брайена Браммэла (1778–1840).
(обратно)
80
Ш. Бодлер. «Украшенья» (сб. «Цветы зла»).
Пер. В. Микушевича.
(обратно)
81
Роман Ксавье де Монтепена, вышедший в 1881 г.
(обратно)
82
На этой улице находился муниципальный ломбард.
(обратно)
83
Агент сыскной полиции, герой серии романов Эмиля Габорио.
(обратно)
84
Нини переводится как «Лапки кверху».
(обратно)
85
Оперетта Ж. Оффенбаха.
(обратно)
86
Антуан Андре (1858–1948) — французский режиссер, теоретик театра, приверженец натурализма, основатель «Театр Либр» — «Свободного театра».
(обратно)
87
Фирма «Panhard & Levassor» в 1891 г. выпустила первый французский автомобиль.
(обратно)
88
Французский писатель, один из родоначальников жанра классического детективного романа.
(обратно)
89
Римский амфитеатр, древнейшая сохранившаяся на территории Парижа постройка.
(обратно)
90
Маленький городок неподалеку от Парижа.
(обратно)
91
Цитата из романа Алена Лесажа «Хромой бес».
Пер. Е. Гунста.
(обратно)
92
Во французском языке название города
Лион произносится так же, как слово
«лев».
(обратно)
93
Популярная английская колыбельная.
(обратно)
94
См. роман «Происшествие на кладбище Пер-Лашез».
(обратно)
95
Агент сыскной полиции Лекок — персонаж популярных детективов французского писателя Эмиля Габорио.
(обратно)
96
В 1891 г. службы проходили в нижней часовне.
(обратно)
97
В средние века так назывался район Парижа, заселенный нищими, бродягами, попрошайками и прочими маргиналами.
(обратно)
98
См. роман «Происшествие на кладбище Пер-Лашез».
(обратно)
99
Цитата из романа Александра Дюма-отца «Анж Питу» (1851).
(обратно)
100
Настоящее имя
Эмма Беранже Баньи (1836–1881). Французская писательница второй половины XIX века, автор свыше тридцати романов о жизни военных в провинции.
(обратно)
101
Роман
Карла-Жориса Гюисманса (1848–1907), вышедший в 1879 г.
(обратно)
102
По-французски Анфан-Руж
(Enfants-Rouges) означает «красные дети».
(обратно)
103
Откровение Иоанна Богослова, глава 6, строка 12.
(обратно)
104
Виктория — открытая коляска.
(обратно)
105
Уильям Хогарт (1697–1764) — английский художник, иллюстратор, гравер и теоретик искусства.
(обратно)
106
Бедекер Карл (1801–1859) — немецкий издатель путеводителей, носящих его имя («бедекеров»), быстро ставшее нарицательным для изданий такого вида.
(обратно)
107
Бернард Куоритч — известный лондонский книготорговец.
(обратно)
108
Джордж Истмен (1854–1932) — американский бизнесмен и изобретатель, основатель компании Eastman Kodak.
(обратно)
109
Жорж де Пейребрюн (Нума Поль Адриен Эмери, урожд. Матильда Жоржина Элизабет де Пейребрюн; 1848–1917) — французская писательница.
(обратно)
110
Жюль Мари (1852–1992) — французский романист.
(обратно)
111
См. роман «Роковой перекресток».
(обратно)
112
Находится по адресу бульвар Мажента, 22.
(обратно)
113
Песня «Жалоба Равашоля», написанная Жюлем Жуа (Жу).
(обратно)
114
Печатался в газетах с 20 февраля по 21 июля 1892 года.
(обратно)
115
Пер. В. Парнаха.
(обратно)
116
Высказывание принадлежит
Пьеру Кийяру (1864–1912) — поэту-символисту, драматургу, журналисту, переводчику.
(обратно)
117
Джон Томсон (1837–1921) — один из первых фотожурналистов в мире, путешествовал по Китаю и снимал жизнь китайского народа в конце XIX в.
(обратно)
118
Шарль Негр (1820–1880);
Шарль Марвиль (1816–1879) — французские фотографы.
(обратно)
119
Беф-брезе — кулинарный термин, означающий процесс сложного отваривания мяса и получаемое в результате блюдо.
(обратно)
120
Гратен дофинуа — запеченный картофель.
(обратно)
121
Шипперке — порода собак.
(обратно)
122
Вид соревнований, когда нужно доехать до финиша или догнать соперника по бумажным «следам», которые он нарочно оставляет.
(обратно)
123
Согласно легенде, на Святую неделю церковные колокола улетают в Рим, а, возвращаясь, оставляют в садах сласти для детей.
(обратно)
124
Стиль оформления переплетов растительным узором в сочетании с узорами в виде спиралей, овалов и квадратов, изобретенный в XVI веке Николя Эвом, придворным переплетчиком при Генрихе III и Генрихе IV.
(обратно)
125
Крепкий алкогольный напиток, в который добавляют острые пряности.
(обратно)
126
Debauve & Gallais — французские кондитерские:
Сюльпис Дебав (1757–1836) — французский химик, создатель рецепта шоколада;
Антуан Галлэ — его племянник и продолжатель дела.
(обратно)
127
Лафорг Жюль (1860–1887) — французский поэт, один из первых декадентов;
Мария Крысиньская (1857–1908) — французская поэтесса и пианистка польского происхождения, внесла существенный вклад в развитие авангардизма 1880-х годов и верлибра.
(обратно)
128
Жан Расин. «Гофолия».
(Пер. Ю. Корнеева).
(обратно)
129
Пьер-Жозеф Редуте (1759–1840) — французский художник и ботаник бельгийского происхождения, королевский живописец и литограф, мастер ботанической иллюстрации. Его альбом акварельных иллюстраций «Лилейные» (1802) со скидкой на инфляцию является самой дорогой печатной книгой в истории после «Птиц Америки» Дж. Одюбона.
(обратно)
130
Эльзевиры — семья голландских типографов-издателей XVI–XVIII вв. Эльзевирами называются также выпущенные их типографией книги, напечатанные особым шрифтом «эльзевир»; «Французский кондитер» — кулинарная книга, содержащая преимущественно рецепты изготовления кондитерских изделий самого разного вида; считается большой редкостью; издана в Амстердаме в 1655 г. Лодевейком-младшим и Даниилом Эльзевирами.
(обратно)
131
Анимизм — форма первобытного мышления, приписывающего всем предметам душу.
(обратно)
132
Берта Моризо (1841–1895) — французская художница-импрессионистка.
(обратно)
133
27 марта 1892 года Равашоль совершил второй теракт, взорвав дом под номером 39 на улице Клиши. Погиб адвокат Бюло, семнадцать человек получили ранения.
(обратно)
134
Шарль Бодлер, «Красота»
(пер. Эллиса).
(обратно)
135
Альфонс Бертильон (1853–1914) — французский юрист, изобретатель системы
бертильонажа — системы опознавания преступников по их антропометрическим данным.
(обратно)
136
Эмиль Лубе (1838–1929) — французский политический деятель.
(обратно)
137
Пьер Лоти — псевдоним
Жюльена Вио (1850–1923), французского моряка и романиста, создателя жанра «колониального романа».
(обратно)
138
Жан Франсуа де Лагарп (1739–1803) — французский драматург и теоретик литературы.
(обратно)
139
См. роман «Убийство на Эйфелевой башне».
(обратно)
140
Скримшоу (англ.
scrimshaw) — резные безделушки из раковин и кости, которые мастерили и коллекционировали моряки.
(обратно)
141
Мэттью Кэлбрейт Перри (1794–1858) — военный и политический деятель США, офицер и коммодор Военно-морских сил США.
(обратно)
142
Книги, не имеющие ценности (они хранятся на самых высоких полках, как соловьи, живущие на верхушке деревьев).
(обратно)
143
Юбер-Мартен Казен (1724–1795) — издатель и букинист из Реймса. Положил начало публикации собраний сочинений в форматах 18 и 24, которые назвал своим именем.
(обратно)
144
В 1891 году букинистам было разрешено постоянно держать ящики на парапетах. До этого они каждый вечер увозили их в специальных повозках.
(обратно)
145
Кабилы — берберский народ, живущий в горных районах Северного Алжира.
(обратно)
146
Жак Буше де Перт (1788–1868) — французский археолог, один из основателей научной археологии.
(обратно)
147
В русском переводе пьесы Мольера (настоящее имя — Жан-Батист Поклен) закрепилось название «Смешные жеманницы».
(обратно)
148
Речь идет о французском написании фамилии Декарта
(René Descartes) и латинском (Renatus Cartesius).
(обратно)
149
Виви — уменьшительное от имен Иветта и Виктор.
(обратно)
150
Памплюш (арго) — Париж.
(обратно)
151
Валован — пирожок из пресного слоеного теста с разными начинками.
(обратно)
152
Кохинхина — принятое в исторической географии название юго-восточной части полуострова Индокитай, в XIX в. — французская колония;
Тонкин и Аннам — центральная и северная части Вьетнама;
Формоза — (китайск. Тайвань), остров у юго-вост. берегов Китая,
Пескадор — муниципалитет в Бразилии;
Черные флаги — название воинственных обитателей верхнего течения Красной реки в Тонкине.
(обратно)
153
Псише — старинное напольное зеркало в поворотной раме для установки в наклонном положении.
(обратно)
154
Король Филипп Красивый (1268–1314), желая сравняться богатством с тамплиерами и покончить с их могуществом, приказал их арестовать. Глава ордена, Жак де Моле, был приговорен к сожжению после несправедливого процесса и умер, проклиная короля и его потомков.
(обратно)
155
Жак Делиль (1738–1813) — французский поэт.
(обратно)
156
Брандебур — мужской плащ с короткими рукавами, застегивающийся на пуговицы.
(обратно)
157
Из эпиграммы французского писателя и филолога-полиглота Анри Этьена (1531–1598).
(обратно)
158
Пьеса Альфреда де Виньи, представленная 12 февраля 1835 года.
(обратно)
159
Песня французского поэта Жана-Пьера Беранже (1780–1857).
Пер. В. Курочкина.
(обратно)
160
Le Héron
(фр.) — цапля.
(обратно)
161
Аграф — нарядная пряжка или застежка.
(обратно)
162
Кретон — плотная хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения из предварительно окрашенной пряжи, широко применявшаяся для драпировок и обивки мебели.
(обратно)
163
Латинское выражение
Deus ex machina (бог из машины) означает прием в античной драматургии, когда автор пьесы затруднялся в поиске развязки пьесы и в финале выводил на сцену одного из богов Олимпа — при помощи механических приспособлений он неожиданно появлялся и легко разрешал все конфликты.
(обратно)
164
Анри Бергсон (1859–1941) — один из крупнейших философов XX века, представитель интуитивизма и философии жизни.
(обратно)
165
Консерватория искусств и ремесел (CNAM) — одно из самых престижных учебных заведений Франции.
(обратно)
166
Кличка собаке дана в честь Ангеррана де Мариньи, советника короля Франции Филиппа Красивого. Де Мариньи знаменит своим участием в уничтожении ордена тамплиеров.
(обратно)
167
Игра слов: по-французски «неряха» —
maritorne, Жозеф думает, что это может быть имя, Marie Torne.
(обратно)
168
Деру лед Поль (1846–1914) — французский политический деятель, литератор;
Эдуард Адольф Дрюмон (1844–1917) — французский политический деятель и публицист, автор широко известной в свое время антисемитской книги «Еврейская Франция» (1886);
Жип, наст, имя Сибиль Габриэль Мари Антуанет де Рикети де Мирабо, графиня де Мартель де Жанвиль (1849–1932) — французская писательница, автор многочисленных дамских романов.
(обратно)
169
Купе — зд. двухместная карета.
(обратно)
170
Ныне вокзал Аустерлиц.
(обратно)
171
Doré — позолоченный
(фр.).
(обратно)
172
Мина — мера сыпучих тел, равная 78 л.
(обратно)
173
Филеас Фогг — герой произведения Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней», который вместе со своим камердинером Паспарту совершает кругосветное путешествие.
(обратно)
174
Жорж Эжен Осман, более известный как барон Осман (1809–1891) — французский государственный деятель, префект департамента Сена (1853–1870), сенатор (1857), член Академии изящных искусств (1867), градостроитель, во многом определивший современный облик Парижа.
(обратно)
175
Жан Вальжан и Козетта — герои романа Виктора Гюго «Отверженные» (1862).
(обратно)
176
Жерар де Нерваль, «Король Туле».
(обратно)
177
Популярный роман Рене Марикура.
(обратно)
178
Пляска святого Вита (или хорея) — нервная болезнь, симптомом которой является судорожное расстройство движений.
(обратно)
179
Выражение
deme'nager a la cloche de bois (съезжать на деревянном колоколе) означает, что человек уезжает в спешке, как правило, не оставляя нового адреса. В XIX веке, когда родился этот речевой оборот, люди, снимая жилье, вынуждены были порой покидать его «по веревке» или, проще говоря, через окно.
(обратно)
180
Как холодно!
(итал.)
(обратно)
181
Песня Мориса Марка.
(обратно)
182
Фальцбейн — инструмент, служащий для фальцовки, притирки ткани, окатки рубчика, нанесения бига и других операций вручную.
(обратно)
183
Пунсон — металлический брусок, пластинка с рельефным изображением буквы или знака, употребляемые для выдавливания матрицы (в типографском деле).
(обратно)
184
Зубы во рту (арго).
(обратно)
185
Знаменитый магазин золотых и серебряных изделий.
(обратно)
186
Июльская колонна — монумент на площади Бастилии в Одиннадцатом округе Парижа, на вершине которого находится позолоченный «Гений свободы» работы Огюста Дюмона.
(обратно)
187
Голландская Ост-Индия — колониальные владения Нидерландов на островах Малайского архипелага и в западной части острова Новая Гвинея. Образовалась в 1800 году в результате национализации Голландской Ост-Индской компании и существовала до японской оккупации в марте 1942 года.
(обратно)
188
Коктейль из яиц, молока, сахара и рома. В России распространен близкий по составу гоголь-моголь.
(обратно)
189
Старинный темпераментный испанский танец.
(обратно)
190
Немецкая пословица.
(обратно)
191
«Театр Франсе» — Французский национальный театр, один из старейших в Париже, единственный репертуарный театр во Франции.
(обратно)
192
Французская пословица.
(обратно)
193
Пьер Эжен Марселей Бертло (1827–1907) — французский физик, химик и общественный деятель. Занимался исследованиями взрывчатых веществ.
(обратно)
194
Гильотина (арго).
(обратно)
195
Шаранта — департамент Франции.
(обратно)
196
Chat perche (фр.) — игра, похожая на русские догонялки.
(обратно)
197
Кампонг (гампонг) — сельская община в Индонезии; ампо — лепешки, употребляемые в пищу на острове Ява, в состав которых входит глина, — они немного перебивают аппетит и могут привести к смерти;
тандак — национальный индонезийский танец.
(обратно)
198
Виктор Тиссо (1845–1917) — известный французский писатель-публицист швейцарского происхождения, редактировал ряд газет и периодических изданий в Швейцарии и Франции, путешествовал по Европе и издавал книги по результатам этих поездок.
(обратно)
199
Луи-Филипп I (1773–1850) — король Франции с 1830 по 1848 гг., получил прозвища «король-гражданин» и «король-груша», представитель Орлеанской ветви династии Бурбонов, последний монарх Франции, носивший титул короля.
(обратно)
200
Имеется в виду Июльская революция — восстание против действующей монархии во Франции.
(обратно)
201
Стоячий на каркасе веерообразный кружевной воротник.
(обратно)
202
Жюль Габриель Жанен (1804-874) — французский писатель, критик и журналист, член Французской академии.
(обратно)
203
Жюль Лафорг (1860–1887) — французский поэт-символист. При жизни выпустил три книги — два сборника стихотворений и драматическую поэму «Феерический собор».
(обратно)
204
Стихотворный цикл Поля Верлена.
(обратно)
205
Жан Мореас (Иоаннес А. Пападиамантопулос; 1856–1910) — французский поэт. Ему принадлежит термин «символизм», получивший теоретическое обоснование в его «Манифесте символизма». Мореас обосновал «романскую школу», которая была первым проявлением неоклассицизма во французской модернистской поэзии.
(обратно)
206
Жорис-Карл Гюисманс (1848–1907) — французский писатель, первый президент Гонкуровской академии (с 1900); Морис Баррес (1862–1923) — французский писатель, журналист и политик, известный своими шовинистскими и антисемитскими взглядами.
(обратно)
207
Книга Пророка Аввакума, глава 3, стих 6.
(обратно)
208
Жорж Мельес (1861–1938) — французский предприниматель, режиссер, один из основоположников мирового кинематографа. В течение последних десяти лет руководил небольшим театром «Робер-Уден», названным так по имени его основателя — знаменитого фокусника-иллюзиониста.
(обратно)
209
Казальс Огюст-Фредерик (1865–1941) — французский поэт и иллюстратор.
(обратно)
210
Кюммель — тминная водка.
(обратно)
211
Офиклеид — духовой музыкальный инструмент в виде подковообразной конической трубки, в узкий спирально отогнутый конец которой вставлен чашеобразный мундштук.
(обратно)
212
Глотка
(фр.).
(обратно)
213
Люксембургский музей — размещался в Люксембургском дворце, там хранились картины Рубенса, Я. Йорданса, с 1818 г. — произведения современных французских художников;
Верцингеторикс (82 до н. э. — 46 до н. э.) — вождь кельтского племени арвернов в Галлии.
(обратно)
214
Воробей, жаворонок, зяблик, синица
(фр.).
(обратно)
215
Снегирь
(фр.).
(обратно)
216
Фернан Кормон, полное имя Фернан-Анн Пьестр Кормой (1845–1924) — французский художник-реалист.
(обратно)
217
Бомбарда — одно из первых артиллерийских орудий, применявшихся при осаде и обороне крепостей в XIV–XVI вв., а также на кораблях.
(обратно)
218
Брака — штаны у древних галлов.
(обратно)
219
Битва при Герговии — сражение между римской армией под командованием Гая Юлия Цезаря и галльской армией под командованием Верцингеторикса, произошедшее в 52 году до н. э. около галльского города Герговии.
(обратно)
220
Французский мясной суп с овощами.
(обратно)
221
Крепинетта — плоская сосиска.
(обратно)
222
Турень — бывшая провинция Франции со столицей в городе Тур. Во время политической реорганизации территории Франции в 1790 году территория Турени была разделена между департаментами Эндр и Луара.
(обратно)
223
Пекари — род нежвачных парнокопытных млекопитающих семейства свиней.
(обратно)
224
Сардана — каталонский танец.
(обратно)
225
Сальтарелла — итальянский и испанский танец.
(обратно)
226
Французское выражение
decouvrir le pot aux roses, означающее «раскрыть все тайны», дословно переводится как «найти горшочек роз».
(обратно)
227
«К тебе, моя милая, стремится мое сердце»
(идиш).
(обратно)
228
«Либр пароль» — газета, основанная Эдуардом Адольфом Дрюмоном (1844–1917) — французским политическим деятелем и публицистом, автором широко известной в свое время антисемитской книги «Еврейская Франция» (1886).
(обратно)
229
Трансформизм предшествовал эволюционному учению. Трансформисты считали, что под влиянием изменений внешней среды из одних видов растений и животных развиваются другие виды.
(обратно)
230
Фонтанчики Уоллеса — фонтанчики питьевой воды, идея установки которых принадлежит создателю знаменитой коллекции Уоллеса — английскому баронету Ричарду Уоллесу, получившему в 1870 году наследство и пожелавшему сделать подарок любимому городу.
(обратно)
231
Песня Мориса Марка.
(обратно)
232
Намек на книгу Р. Л. Стивенсона «Путешествие с ослом в Севенны».
(обратно)
233
Фрэнсис Гальтон (1822–1911) — английский исследователь, географ, антрополог и психолог; основатель дифференциальной психологии и психометрики.
(обратно)
234
Хендрик Антон Лоренц (1853–1928) — выдающийся голландский физик, лауреат Нобелевской премии.
(обратно)
235
Дагомея — государство на побережье Западной Африки, окончательно завоевано Францией в 1894 году.
(обратно)
236
Так называли Париж из-за большого количества фонарей.
(обратно)
237
Жорж Роденбах (1855–1898) — бельгийский франкоязычный писатель-символист;
Жюль Ренар (1864–1910) — французский писатель, с 1907 г. — член Гонкуровской академии.
(обратно)
238
Жорж ле Фор (1856–1953) — французский писатель, автор многочисленных фантастических и научно-популярных романов;
Поль Бурже (1852–1935) — французский критик и романист, достигший громкой известности своими психологическими романами;
Марсель Прево (1862–1941) — французский писатель, писавший о пагубном влиянии образования на молодых женщин.
(обратно)
239
Жюль Мелин (1838–1925) — французский политический и государственный деятель, председатель совета министров Франции, министр сельского хозяйства.
(обратно)
240
Поль Дюран-Рюэль (1831–1922) — французский коллекционер.
(обратно)
241
Жан Ришпен (1849–1926) — французский поэт, писатель и драматург;
Октав Мирбо (1848–1917) — французский писатель, член Гонкуровской академии;
Жан Лоррен (Поль Дюваль; 1855–1906) — французский поэт и прозаик, символист. Активно занимался журналистикой, вел театральную хронику, публиковал путевые записки;
Анри Франсуа Бек (1837–1899) — французский драматург, одним из первых порвавший с условностями как классицистского, так и романтического театра.
(обратно)
242
Забастовка шахтеров в Кармо в 1892 году была вызвана увольнением шахтера Кальвиньяка в связи с избранием его мэром города. Против 2800 безоружных шахтеров было брошено 1500 жандармов и солдат. В результате 80-дневной забастовки Кальвиньяк был восстановлен на работе. Это была первая политическая забастовка рабочих во Франции.
(обратно)
243
Жозеф Анри Рони-старший (Анри-Жозеф-Оноре Бекс; 1856–1940) — французский писатель бельгийского происхождения. До 1909 писал вместе с младшим братом Серафеном Жюстеном Франсуа, взявшим позднее псевдоним Рони-младший. Награжден орденом Почетного легиона (1897). Член Гонкуровской академии, с 1926 ее президент. С 1980 г. во Франции вручается премия Жозефа Рони-старшего за лучшее произведение в жанре научной фантастики по двум номинациям — роман и новелла.
(обратно)
244
Герберт Вендт, «В поисках Адама» (Париж, 1954).
(обратно)
245
Строки из «Времени вишен», слова Жан-Батиста Клемана, музыка Антуана Ренара. Песня написана в 1866–1868 гг., опубликована в Париже издательским домом Эгро. —
Примеч. авт.
(обратно)
246
Между 1885-м и 1901 гг. на этом месте возведено новое здание Сорбонны. —
Примеч. авт.
(обратно)
247
Годиллоты — армейские ботинки, часть обмундирования Национальной гвардии во время осады Парижа. Названы по фамилии фабриканта Алексиса Годилло (1816–1896), производившего военную амуницию. —
Примеч. авт.
(обратно)
248
Жан-Батист Клеман. «Капитан-к-стенке», 1872 г. —
Примеч. авт.
(обратно)
249
Забывашки — сорт вафельных трубочек. В 1783 г. Ретиф де ла Бретон писал, что торговцы забывашками в Париже уступили место уличным сводникам, которые расхваливали свой «товар» на каждом углу; встретить их можно было повсюду до 1914 года. —
Примеч. авт.
(обратно)
250
Мелона — жесткая фетровая шляпа. —
Примеч. перев.
(обратно)
251
Имеется в виду остров Шату на Сене в окрестностях Парижа. —
Примеч. перев.
(обратно)
252
Жан-Батист Клебер (1753–1800) — французский полководец, на Войне Первой коалиции (1793–1797) сражался с прусскими войсками, затем участвовал в Наполеоновских войнах. —
Примеч. перев.
(обратно)
253
Песенка, пользовавшаяся успехом в войсках времен Первой империи. —
Примеч. авт.
(обратно)
254
Жан-Батист Клеман. «Ватага Рикики», 1885 г. —
Примеч. авт.
(обратно)
255
Пьер Маэль — псевдоним двух французских романистов, Шарля Косса (1862–1905) и Шарля Венсана (1851–1920). —
Примеч. авт.
(обратно)
256
Геридон — круглый столик на одной ножке. —
Примеч. перев.
(обратно)
257
Парижский салон — регулярная экспозиция Академии изящных искусств, проводится с XVII века. Самая престижная художественная выставка Франции. —
Примеч. перев.
(обратно)
258
Линия укреплений, включающая крепостную стену с фортами, была возведена вокруг Парижа между 1841-м и 1845 гг. по плану Адольфа Тьера. —
Примеч. авт.
(обратно)
259
Ныне ворота Пантен. —
Примеч. авт.
(обратно)
260
Драма Анисэ Буржуа и Фердинана Дюге. —
Примеч. авт.
(обратно)
261
Драма Огюста Макэ. —
Примеч. авт.
(обратно)
262
Безделье, ничегонеделанье (ит.). —
Примеч. перев.
(обратно)
263
Строфа из стихотворения Теофиля Готье (1811–1872) «Первая улыбка весны».
Пер. В. Брюсова. —
Примеч. авт.
(обратно)
264
Бернар Палисси — французский художник-керамист XVI века. —
Примеч. перев.
(обратно)
265
Реплика из «Севильского цирюльника» Бомарше. —
Примеч. авт.
(обратно)
266
Янтарь по-французски — ambre, отсюда и название «амбрекс». —
Примеч. перев.
(обратно)
267
«Се человек» (лат.), слова Понтия Пилата об Иисусе Христе. —
Примеч. авт.
(обратно)
268
В 1870 году французские пушки били от силы на 1600 м, тогда как дальнобойность прусской артиллерии составляла 7 км. —
Примеч. авт.
(обратно)
269
Мокрица — другое название звездчатка; растение семейства гвоздичных. —
Примеч. перев.
(обратно)
270
Империал — второй, открытый этаж в омнибусах. —
Примеч. перев.
(обратно)
271
Роман-фельетон — «роман с продолжением», главы которого публикуются в периодическом печатном издании в течение определенного периода времени. В XIX веке этот жанр был очень популярен во Франции. —
Примеч. перев.
(обратно)
272
Рене Беранже (1830–1915) — политический деятель. —
Примеч. авт.
(обратно)
273
Бал Четырех Муз («Катзар») — ежегодный праздник студентов Школы изящных искусств в Париже. —
Примеч. авт.
(обратно)
274
Поль-Пьер Брока (1824–1880) — французский хирург, анатом, этнограф и антрополог. —
Примеч. перев.
(обратно)
275
Слова Франциска I. —
Примеч. авт.
(обратно)
276
См. роман «Тайна квартала Анфан-Руж». —
Примеч. авт.
(обратно)
277
Изобретение Этьена-Жюля Марея (1830–1904). Патент получен 28 июня 1893 г. —
Примеч. авт.
(обратно)
278
Жак Неккер (1732–1804) — женевский банкир, при Людовике XVI генеральный контролер финансов. Был отправлен в отставку 11 июля 1789 г., что вызвало уличные волнения. 14 июля вооруженная толпа парижан пошла на штурм Бастилии, началась Французская революция. —
Примеч. перев.
(обратно)
279
Роман выйдет в свет в 1912 г. под названием «Боги жаждут». —
Примеч. авт.
(обратно)
280
Чертово колесо, или Ferris’ Tension Wheel, — один из аттракционов, представленных на Всемирной выставке в Чикаго, проводившейся с 1 мая по 30 октября 1893 г. —
Примеч. авт.
(обратно)
281
Лой Фуллер (1862–1928) — американский танцовщик из города Фуллерсбурга близ Чикаго. —
Примеч. авт.
(обратно)
282
Одилон Редон (1840–1916) — французский живописец, график и художественный критик, один из основателей символизма. —
Примеч. перев.
(обратно)
283
Берта Моризо (1841–1895) — французская художница-импрессионистка. —
Примеч. перев.
(обратно)
284
Антонио де ла Гандара (1861–1917) — французский художник, прославившийся портретами представителей высшего света. Выставка проходила с 15-го по 30 марта в доме номер 11 на улице Ле Пелетье. —
Примеч. авт.
(обратно)
285
Французская народная детская песенка. —
Примеч. перев.
(обратно)
286
Г-н Лепин сменил г-на Лозе на посту префекта 11 июля 1893 г. —
Примеч. авт.
(обратно)
287
Слова Анри Назэ и Гастона Вильмера, музыка Франсиска Шасэня, 1871 г. —
Примеч. авт.
(обратно)
288
Музыкальный темп «значительно быстро» (ит.). —
Примеч. перев.
(обратно)
289
Из сочинения г-на дю Камфрана «Старый литератор». —
Примеч. авт.
(обратно)
290
Впервые подобная фраза появилась во французской прессе 30 сентября 1836 г. За сто с лишним лет до этого London Post начала публиковать первый в мире роман-фельетон — в выпусках с 7 октября 1719 г. по 17 октября 1721 г. был напечатан «Робинзон Крузо» Даниеля Дефо. —
Примеч. авт.
(обратно)
291
Потерна — закрытый ход сообщения, галерея внутри крепостных сооружений. —
Примеч. перев.
(обратно)
292
Производство электрических тахископов осуществлялось немецкой фирмой Siemens. —
Примеч. авт.
(обратно)
293
Изобретен в 1876 г. французом Эмилем Рейно (1844–1918). Этот оптический прибор создавал иллюзию плавного движения при быстром вращении цилиндра с восемью или двенадцатью рисунками. Патент получен 14 января 1889 г. —
Примеч. авт.
(обратно)
294
Французский национальный праздник. День взятия Бастилии. —
Примеч. перев.
(обратно)
295
Вот в чем вопрос (англ.). —
Примеч. перев.
(обратно)
296
См. роман «Происшествие на кладбище Пер-Лашез». —
Примеч. авт.
(обратно)
297
Сочинение Жюля Барбе д’Оревильи (1808–1889). —
Примеч. авт.
(обратно)
298
«Слиянье ладана, и амбры, и бензоя: // В нем бесконечное доступно вдруг для нас…» Из стихотворения «Соответствия» в переводе Эллиса. —
Примеч. перев.
(обратно)
299
Из стихотворения «К Авелю». —
Примеч. перев.
(обратно)
300
Первая строка стихотворения без названия из сборника «Песни сумерек». —
Примеч. перев.
(обратно)
301
Драматургия Вильяма Бюнаша, музыка Луи Варнея. —
Примеч. авт.
(обратно)
302
Панталоны с широкими, расклешенными штанинами, вошедшие в моду к 1880 г. Названы по фамилии портного с улицы Тампль. —
Примеч. авт.
(обратно)
303
Пурпуэн — короткая мужская куртка в обтяжку; изначально служила поддоспешником, затем ее стали носить как верхнюю одежду. —
Примеч. перев.
(обратно)
304
Имеется в виду Франко-прусская война 1870–1871 гг. —
Примеч. перев.
(обратно)
305
Касуле — бобовое рагу с мясом, запеченное в горшочке. —
Примеч. перев.
(обратно)
306
Из сборника «Поэтические раздумья» (1820 г.), стихотворение «Озеро».
Пер. А. Фета. —
Примеч. авт.
(обратно)
307
Жорж Куртелин (настоящая фамилия Муано; 1858–1929) — французский писатель.
Катулл Мендес (1848–1909) — французский поэт, драматург и романист. —
Примеч. авт.
(обратно)
308
Кот из басни Лафонтена «Кот, Ласочка и Кролик». —
Примеч. авт.
(обратно)
309
Во времена галла Сакровира на месте французского города Отена был галльский оппидум Бибракта. —
Примеч. перев.
(обратно)
310
«Желтый карлик» — карточная игра. —
Примеч. перев.
(обратно)
311
Герой романа Оноре де Бальзака «Утраченные иллюзии». —
Примеч. авт.
(обратно)
312
По-французски слова «янтарь» и «амбра» звучат одинаково — ambre. —
Примеч. перев.
(обратно)
313
Роман Поля Феваля (1817–1887). —
Примеч. авт.
(обратно)
314
См. роман «Тайна квартала Анфан-Руж». —
Примеч. авт.
(обратно)
315
Верцингеториг (ок. 80 г. до н. э. — 46 г. до н. э.) — вождь арвернов, возглавивший в 52 г. до н. э. восстание галльских племен против Цезаря. —
Примеч. перев.
(обратно)
316
Главный редактор журнала «Плюм». —
Примеч. авт.
(обратно)
317
Известные в то время писатели. Сборник рассказов Рейно «Рог фавна» высоко оценил Верлен. —
Примеч. авт.
(обратно)
318
Тюрьма Санте в Париже. —
Примеч. авт.
(обратно)
319
Фрикандо — мясо, нашпигованное салом. —
Примеч. перев.
(обратно)
320
Режан (
Габриэль-Шарлотт Режу, 1856–1920) — французская актриса, звезда «прекрасной эпохи». —
Примеч. перев.
(обратно)
321
Почему бы нет? (англ.) —
Примеч. перев.
(обратно)
322
Театрофон, разработанный Мариновичем и Шварвади, призван был соединить микрофоны, установленные в крупных парижских театрах, с центральным телефонным бюро на улице Людовика Великого. —
Примеч. авт.
(обратно)
323
Коклен-младший, он же
Эрнест Александр Оноре Коклен (1848–1909) — французский драматический актер, чей старший брат тоже служил в театре. —
Примеч. перев.
(обратно)
324
Из басни Жана де Лафонтена «Обезьяна и Леопард» в переводе П. Порфирова. —
Примеч. перев.
(обратно)
325
Исторический герб Англии — три льва на красном поле. Различия между львами и леопардами в геральдике обусловлены только позой, поворотом головы, а не физическими признаками или цветом шкуры, то есть выглядят они одинаково. —
Примеч. перев.
(обратно)
326
В Средние века земли на юго-западе Франции входили в состав герцогства Аквитания, герб которого — леопард с синими когтями на красном поле. —
Примеч. перев.
(обратно)
327
Генри Морган Стэнли (1841–1904) — английский журналист и путешественник. —
Примеч. перев.
(обратно)
328
«По Черному континенту» (англ.), первое издание вышло в 1878 г. —
Примеч. авт.
(обратно)
329
Давид Ливингстон (1813–1873) — шотландский миссионер и исследователь Африки. —
Примеч. перев.
(обратно)
330
Защитник Парижа в 1814 г. Памятник работы Гийома установлен в 1863 г. —
Примеч. авт.
(обратно)
331
Жюль Шере (1836–1932) — французский художник, мастер цветной литографии, создатель плакатного стиля, давшего развитие модерну. —
Примеч. перев.
(обратно)
332
Впоследствии магазин Дюфайеля. —
Примеч. авт.
(обратно)
333
Илоты — в древней Спарте земледельцы на промежуточном положении между крепостными и рабами. —
Примеч. перев.
(обратно)
334
Альфред Капю (1857–1922) — французский журналист, писатель и драматург. —
Примеч. перев.
(обратно)
335
«Гэндзи-моногатари» («Повесть о принце Гэндзи») — классика японской литературы, произведение придворной дамы Мурасаки Сикибу (конец X — начало XI вв.). —
Примеч. перев.
(обратно)
336
См. роман «Роковой перекресток». —
Примеч. авт.
(обратно)
337
В начале сентября 1870 г. у города Седан сдались французские войска генерала Мак-Магона, вместе с ними в плен попал Наполеон III, 27 октября капитулировал Мец, 4 декабря — Орлеан, что довершило поражение Франции во Франко-прусской войне. —
Примеч. перев.
(обратно)
338
Национальное собрание 1 марта 1871 г. одобрило мирный договор с объединенной Германией, по которому Франция теряла Эльзас и Лотарингию и обязана была выплатить 5 млрд франков контрибуции. Это событие вызвало бурные протесты французской общественности, в том числе Виктора Гюго, и привело к восстанию Парижской коммуны. Адольф Тьер (1797–1877) тогда был главой кабинета министров Французской Республики. —
Примеч. перев.
(обратно)
339
Баденге — прозвище императора Наполеона III. —
Примеч. авт.
(обратно)
340
Альфред Барбу (1846–1907) — французский литератор. Издание, о котором идет речь, вышло в 1881 г. —
Примеч. авт.
(обратно)
341
Впервые опубликован в 1872 г. —
Примеч. авт.
(обратно)
342
Цитируется в переводе Г. Шенгели. —
Примеч. перев.
(обратно)
343
Михаил Александрович Бакунин (1814–1876) — русский анархист.
Жан Жак Элизе Реклю (1830–1905) — французский географ и один из теоретиков анархизма.
Жан Грав (1854–1939) — французский анархист. —
Примеч. авт.
(обратно)
344
Настоящее имя
Альфонс Виктор Шарль Галло (1864–1930). Вокруг него сплотились выдающиеся сотрудники: Жорж Дарьен, Феликс Фенеон и Тристан Бернар. —
Примеч. авт.
(обратно)
345
Альфонс Але (1855–1905) — французский юморист; учился на аптекаря, но бросил занятия и стал писателем. —
Примеч. авт.
(обратно)
346
Ипполит Байяр (1801–1887) — один из создателей жанра постановочной фотографии. —
Примеч. перев.
(обратно)
347
Луи Жак Манде Дагер (1787–1851) — французский театральный художник и химик. Вошел в историю как человек, причастный к изобретению первого из получивших широкое распространение способов фотографии, названного им в свою честь дагеротипией. —
Примеч. перев.
(обратно)
348
Джакомо Леопарди (1798–1837) — итальянский поэт. —
Примеч. авт.
(обратно)
349
«Чудесный месяц май, когда вернешься ты?» — из французской песни XV века. —
Примеч. перев.
(обратно)
350
Сюрте — Главное управление национальной безопасности, сыскное отделение французской полиции. —
Примеч. перев.
(обратно)
351
Венгерка — короткая куртка из сукна с нашитыми на груди поперечными шнурами по образцу формы венгерских гусар;
брандебур — петлица, обшитая шнуром (на мундире). —
Примеч. перев.
(обратно)
352
Карточная игра. —
Примеч. авт.
(обратно)
353
Мартиг — город на Средиземном море северо-западнее Марселя. —
Примеч. перев.
(обратно)
354
«Май настал веселый, месяц всех услад» — из стихотворения Теодора де Банвиля «Первое солнце». «Господи! Святые твои сделались пищей для тигров и леопардов» — из трагедии Жана Расина «Эсфирь». —
Примеч. перев.
(обратно)
355
Это посвящение предшествует тексту «Времени вишен» в сборнике «Chansons», напечатанном в 1885 г. типографией «Робер и Кº» в Париже. —
Примеч. авт.
(обратно)
356
Произведение Лудовико Ариосто (1474–1533). —
Примеч. авт.
(обратно)
357
Каррик — мужское пальто с несколькими пелеринами. —
Примеч. перев.
(обратно)
358
Венсан д’Энди (1851–1931) — французский композитор. Севеннскую симфонию для фортепьяно с оркестром (второе название Симфония на тему песни французских горцев) сочинил в 1886 г. —
Примеч. авт.
(обратно)
359
Николя Пуссен (1594–1665) — живописец, основатель французского классицизма. —
Примеч. перев.
(обратно)
360
Гюстав Моро (1826–1898) — французский художник-символист, вдохновлялся мистическими и фантастическими сюжетами. —
Примеч. перев.
(обратно)
361
Карбонарии — политическая организация, созданная в Италии в начале XIX в.; в переводе с итальянского — «угольщики», назывались так потому, что первые их собрания проходили в лесах. —
Примеч. авт.
(обратно)
362
Альфонс Бертильон (1853–1914) — французский криминалист, создатель системы приемов установления личности и полицейской регистрации преступников. —
Примеч. перев.
(обратно)
363
Кто знает? (ит.) —
Примеч. перев.
(обратно)
364
Ульгат — прибрежный городок в Нормандии. —
Примеч. перев.
(обратно)
365
Огюст Вайян, «Дневник моего взрыва». —
Примеч. авт.
(обратно)
366
Равашоль (
Франсуа Клод Кенигштайн; 1859–1892) — французский анархист. —
Примеч. перев.
(обратно)
367
Так называли итальянцев, чья религиозность казалась французам фанатичной и странной. —
Примеч. авт.
(обратно)
368
Умеренные социалисты, политическая партия, созданная Полем Бруссом. —
Примеч. авт.
(обратно)
369
Эдвард Дженнер (1749–1823) — английский врач, открывший в 1796 г. способ иммунизации человека против вируса оспы посредством вакцинации (так называемый дженнеровский метод). —
Примеч. авт.
(обратно)
370
Альбер Де Дион (1856–1946) — один из зачинателей французского автомобилестроения. —
Примеч. перев.
(обратно)
371
Теофраст Ренодо (1586–1653) — французский врач и филантроп, один из основателей современной журналистики.
Доминик Франсуа Араго (1786–1853) — французский астроном, физик и государственный деятель. —
Примеч. перев.
(обратно)
372
Из сборника Виктора Гюго «Песни улиц и лесов» (1865 г.).
Цит. в пер. Льва Пеньковского. —
Примеч. перев.
(обратно)
373
Жан Ришпен (1849–1926) — французский поэт, писатель и драматург, представитель натурализма в поэзии.
(обратно)
374
Кабошон — способ обработки драгоценного или полудрагоценного камня, при котором он приобретает гладкую выпуклую отполированную поверхность без граней.
(обратно)
375
Саликорн — трава, произрастающая на соленых песках залива, по вкусу напоминает корнишоны или маринованные огурцы.
(обратно)
376
Жан-Франсуа Милле (1814–1875) — французский художник, один из основателей барбизонской школы.
(обратно)
377
Планисфера — изображение сферы на плоскости в нормальной (полярной) стереографической проекции.
(обратно)
378
Равноугольная цилиндрическая проекция Меркатора — одна из основных картографических проекций. Разработана Герардом Меркатором для применения в его «Атласе».
(обратно)
379
Роман Виктора Гюго.
(обратно)
380
Ныне улица Люсьен-Санпе в Десятом округе Парижа.
(обратно)
381
Маршмеллоу — аналог пастилы, зефироподобные конфеты.
(обратно)
382
Ныне улица Жана Жореса в Девятнадцатом округе.
(обратно)
383
Район Парижа.
(обратно)
384
P. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ».
Пер. Н. К. Чуковского.
(обратно)
385
Клод Николя Леду (1736–1806) — французский архитектор. Упомянутая ротонда — все, что осталось от заставы Ла Виллетт и заставы Пантен, которые были сооружены в 1789 г. и сожжены в 1871 г., во времена Коммуны.
(обратно)
386
Комическая опера в трех актах, либретто Луи Клервиля, Поля Сиродена и Виктора Конинга, музыка Шарля Лекока (1872).
(обратно)
387
Комическая опера в трех актах, либретто Анри Шиво и Альфреда Дюрю, музыка Жака Оффенбаха (1879).
(обратно)
388
Перистиль — прямоугольные двор и сад, площадь, зал, окруженные с четырех сторон крытой колоннадой.
(обратно)
389
Шипперке — порода собак.
(обратно)
390
Фридрих фон Флотов (1812–1883) — немецкий композитор.
(обратно)
391
Его звали Эмиль Анри. Покушение состоялось в понедельник, 12 февраля 1894 года, в 20 часов 52 минуты, неделю спустя после казни анархиста Вайяна.
(обратно)
392
Организация, основанная в 1894 году следователем Туркестана и Тибета Габриелем Бонвало (1853–1933) с целью пропаганды иммиграции в колонии.
(обратно)
393
Carpe diem — латинское выражение, означающее «наслаждайся моментом» или «будь счастлив в эту секунду» (дословно «лови день»), часто переводится как «лови момент».
(обратно)
394
Таде Натансон (1868–1951) основал журнал вместе с братьями: Александр был исполнительным директором, Луи-Альфред писал под псевдонимом Альфред Атис.
(обратно)
395
Вюйар Жан Эдуард (1868–1940) — французский художник, представитель символизма и модерна, член группы «Наби».
(обратно)
396
Икарийские игры — жанр циркового искусства, в котором сочетаются элементы антипода и акробатики. Используя как трамплин ноги партнеров (нижних), лежащих на специальных приспособлениях, акробаты (верхние) перелетают от одного нижнего к другому.
(обратно)
397
Стихотворение «Простодушные».
Пер. И. Толубова.
(обратно)
398
Игра слов: второй слог фамилии «Ренуар»,
нуар — означает
черный.
(обратно)
399
«Прощай, любимая»
(баскск.).
(обратно)
400
Имя фарисея, задававшего наивные вопросы Христу. Синоним слова «дурачок».
(обратно)
401
Анри Жюльен Феликс Руссо (1844–1910) — французский живописец-самоучка, один из самых известных представителей наивного искусства, или примитивизма. Воевал в Мексике и запечатлел на полотнах свои воспоминания.
(обратно)
402
Гарсоньерка — однокомнатная квартира для холостяка.
(обратно)
403
Полный текст «Племянника Рамо» увидел свет в 1892 году стараниями архивиста Комеди Франсез Жоржа Монваля, откопавшего у букинистов сборник рукописей, где среди прочих находился и подлинник произведения Дидро.
(обратно)
404
Пётр Коместор(лат. Petrus Comestor, также известен под именем Пётр Едок) — французский католический богослов и церковный историк XII века, автор «Церковной истории», которая является систематическим изложением исторических фактов.
(обратно)
405
Шесть гобеленов, составляющих «Даму с горностаем», в 1835 г. обнаружила в замке де Буссак Жорж Санд. С 1883 г. они хранятся в музее Клюни.
(обратно)
406
Луи-Пьер Анкетиль (1723–1808) — французский историк.
(обратно)
407
Ныне улица Анри-Тюро.
(обратно)
408
Этот квартал был снесен в 1927–1928 гг.
(обратно)
409
Песня Фредерика Бера (1801–1855) «Моя Нормандия» имела огромный успех в эпоху Июльской монархии, за год было продано сорок тысяч экземпляров нот.
(обратно)
410
Мари Годебска, Мися (1872–1950) — великолепная пианистка, ученица Габриеля Форе, вышла замуж за Таде Натансона в пятнадцать лет.
(обратно)
411
Музыка Констерно, слова Жозефа Дессекса, впервые был исполнен в 1856 году в Шамбери.
(обратно)
412
Словарь французского языка, названный по имени составителя — Эмиля Литтре (1801–1881).
(обратно)
413
Учение алхимиков.
(обратно)
414
Жозеф, или Жозефен Пеладан (1859–1918) — автор эзотерических исследований и романов, в том числе большого цикла «Латинский закат».
(обратно)
415
Жерар Анакле Венсан Анкосс по прозвищу
Папюс (1865–1916) — публиковал множество статей и трактатов по оккультизму и создал Орден мартинистов.
(обратно)
416
Станислас де Гуайта (1861–1897) — оккультист, французский поэт ломбардского происхождения, автор знаменитой книги «Мистическая роза», вышедшей в 1885 г.
(обратно)
417
Вид обезьян.
(обратно)
418
См. роман «Происшествие на кладбище Пер-Лашез».
(обратно)
419
Танцевальный зал на улице Дуан, 16. Днем там иногда проходили политические собрания.
(обратно)
420
Ныне — улица 8 мая 1945 года.
(обратно)
421
Так называли тех, кто бежал за фиакром, чтобы потом перенести багаж путешественников к дверям дома.
(обратно)
422
Бранль — старофранцузский быстрый народный танец, напоминающий хоровод.
(обратно)
423
Герой романа Жюля Верна «Путешествие к центру Земли».
(обратно)
424
В 1768 г. Себастьян Эрар, сын скромного страсбургского краснодеревщика, приехал в Париж, где сделал свое первое пианино.
(обратно)
425
Марк-Антуан Десожье (1772–1827), «Застольная песня».
(обратно)
426
Мидинетка — молодая парижская швея; в переносном значении — простушка, наивная, легкомысленная девица.
(обратно)
427
Коррик — мужское пальто с несколькими пелеринами.
(обратно)
428
В августе 1889 года, близ Лиона, был найден расчлененный труп судебного исполнителя по фамилии Гуффе. Полиция выяснила, что труп был отправлен из Парижа в Лион в чемодане.
(обратно)
429
Автор — М. Мейроне.
(обратно)
430
Немецкий инженер
Отто Лилиенталь (1848–1896) изобрел аппарат, состоявший из двух крыльев, руля и хвоста, обтянутого кретоном. Назывался этот аппарат
shirting. Во время двухтысячного полета Лилиенталь погиб.
(обратно)
431
Абсурд
(нем.).
(обратно)
432
Название набивной ткани, производившейся на мануфактуре под Парижем, в местечке Жуи-ан-Жоза.
(обратно)
433
Построенный в 1852 г. архитектором Хитторфом Зимний цирк вмещал до 5000 зрителей и был последним из столичных цирков, имевших постоянное здание.
Виктор Франкони (1810–1897) руководил Летним и Зимним цирками Парижа.
(обратно)
434
Песня, с огромным успехом исполнявшаяся в 1893 году Иветт Гильбер.
(обратно)
435
Библиофилический термин, обозначающий литературу эротического содержания или книги «второго ряда».
(обратно)
436
Тюсор — шелк типа чесучи;
сюра — шелковая ткань.
(обратно)
437
Так и случится в июне 1894 г.
(обратно)
438
2 августа 1893 г.
(обратно)
439
Роман вышел в 1893 г.
(обратно)
440
Второй этаж омнибуса.
(обратно)
441
На жаргоне — «пойти спать».
(обратно)
442
Отрывок из стихотворения Шарля Фремина «Сорокалетие» из сборника «Песни лета», вышедшего в 1900 г.
(обратно)
443
См. роман «Роковой перекресток».
(обратно)
444
Цыган по фамилии Зальц расписал когда-то стены харчевни сценами с изображением преступлений Ласнера и Тропмана.
(обратно)
445
Жуи Жюль (1855–1897) — французский поэт, выходец из пролетарской семьи, автор многочисленных народных песен на политические и общественные темы, которые распевали на улицах Парижа.
(обратно)
446
Карточная игра.
(обратно)
447
Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ».
Пер. Н. К. Чуковского. Гл. 15.
(обратно)
448
Этот квартал, расположенный между улицами Бельвю и Манен, был обязан своим названием старинным гипсовым карьерам. Камень, который там добывали, отправляли в Америку, в Нью-Йорке из него строили дома.
(обратно)
449
Эти события произошли 18 февраля 1868 года в театре «Одеон».
(обратно)
450
Пер. Т. Щепкиной-Куперник.
(обратно)
451
Мятные леденцы на основе сиропа из цукатов в виде маленьких, покрытых белыми бороздками разноцветных пирамидок.
(обратно)
452
Игра слов: по-французски слова
velpeau (Вельпо) и
vieille реаи (старая шкура) звучат похоже.
(обратно)
453
Буффало Билл (1846–1917) — американский военный, охотник на бизонов, создатель шоу «Дикий Запад».
(обратно)
454
Толстая шерстяная материя вроде фланели.
(обратно)
455
Курительный прибор у восточных народов, сходный с кальяном, но имеющий, в отличие от него, длинный рукав вместо трубки.
(обратно)
456
См. роман «Леопард из Батиньоля».
(обратно)
457
Карточная игра, в которой нужно угадывать одну из трех перевернутых карт.
(обратно)
458
1-я Книга Царств, 17: 49.
(обратно)
459
Луций Целий Фирмиан Лактанций (Lucius Caecilius Firmianus Lactantius; около 250 — около 325) — ритор из Африки, принявший в 303 г. христианскую веру. За образованность и красноречие заслужил впоследствии от гуманистов эпохи Ренессанса почетное звание «христианского Цицерона».
(обратно)
460
Оперетта
Жака Оффенбаха (1819–1880).
(обратно)
461
Поль Феваль (1816–1887) — французский писатель, автор популярных приключенческих романов (так называемых романов плаща и шпаги).
(обратно)
462
Популярный французский писатель Понсон дю Террайль (1829–1871), один из создателей жанра романа-фельетона (иначе — романа в выпусках, романа с продолжением), пытаясь превзойти успех Эжена Сю и в подражание ему написал приключенческий роман о разбойнике Рокамболе, давший начало саге «Похождения Рокамболя, или Драмы Парижа».
(обратно)
463
Фернан и Морис Пеллутье. «Рабочая жизнь во Франции» Книжная лавка Рейнвальда, братья-издатели Шлейхеры, 1900.
(обратно)
464
Жюль Симон (1814–1896) — французский философ, публицист, политик и государственный деятель, возглавлял кабинет министров Франции с 12 декабря 1876 года 17 мая 1877 года, член Французской академии.
(обратно)
465
Жорж Морис Палеолог (1859–1944) — французский политик, дипломат, занимавшийся на набережной Орсе так называемыми «спецрасследованиями» и финансированием секретных служб.
(обратно)
466
Александр Зеваэс. «История Третьей Республики. 1870–1926».
(обратно)
467
Орден, основанный в 1845 г.
(обратно)
468
«Пти журналь», 24 сентября 1894 года.
(обратно)
469
Школа канторов.
(обратно)
470
Видимо, давая прозвище Иде, члены ассоциации намекали на ее занятия музыкой и высокий рост: восьмушка — это нота длительностью 1/8 такта. —
Примеч. перев.
(обратно)
471
«Плакса Жан и Весельчак Жан» — французская народная детская песенка. —
Примеч. перев.
(обратно)
472
Игра слов: прозвище героя
Fourre-tout («мешанина», «вверх дном») — созвучно с фамилией философа Фурье и идеями социалистов-утопистов о необходимости радикальных изменений «с ног на голову». —
Примеч. перев.
(обратно)
473
Каламбур в том, что во французском языке слово piston (поршень) имеет другое значение: протекция, блат. —
Примеч. перев.
(обратно)
474
Pichet (франц.) — кувшин. —
Примеч. перев.
(обратно)
475
Марк Аврелий. «Размышления». Пер. А.К. Гаврилова. —
Примеч. перев.
(обратно)
476
Мец — знахарь (от латинского
medicus и французского
médecin — врач). —
Примеч. авт.
(обратно)
477
«Путешествие молодого Анахарсиса в Грецию в середине четвертого столетия до нашей эры», автор — аббат Жан-Жак Бартелеми (1716–1795). —
Примеч. авт.
(обратно)
478
Пьер Карле де Шамблен де Мариво (1688–1763) — французский комедиограф и романист, автор романа «Удачливый крестьянин», который Юбер перепутал «Совращенной поселянкой» Никола Ретиф де ла Бретонна (1734–1806); «Лжец» — пьеса Корнеля. —
Примеч. авт.
(обратно)
479
Хосе-Мария Эредиа (1842–1905) — французский поэт кубинского происхождения. —
Примеч. перев.
(обратно)
480
Лиана де Пужи (Анна-Мари де Шассень; 1869–1950) — французская танцовщица, писательница и куртизанка, одна из звезд Бель Эпок. —
Примеч. перев.
(обратно)
481
Персеиды — метеорный поток, ежегодно появляющийся в августе со стороны созвездия Персея. —
Примеч. перев.
(обратно)
482
Автор Поль Феваль (1816–1887) — французский писатель, автор популярных приключенческих романов (так называемых романов плаща и шпаги), при жизни пользовался не меньшим успехом, чем Бальзак и Дюма. Роман издан в 1893 г. —
Примеч. авт.
(обратно)
483
Самым известным романом Феваля считается «Горбун» (1857), а Жозеф и сам горбат. —
Примеч. перев.
(обратно)
484
Альбер Робида (1848–1926) — французский карикатурист, иллюстратор и писатель. В 1880-ые написал футуристическую трилогию, став предтечей стимпанка. —
Примеч. перев.
(обратно)
485
Чакас — герой романа «Натчезы» Франсуа Рене Шатобриана (1768–1848);
барон де Сигоньяк — герой романа «Капитан Фракасс» Теофиля Готье (1811–1872). —
Примеч. авт.
(обратно)
486
Ныне площадь 18 июня 1940 года. —
Примеч. авт.
(обратно)
487
Зольник — бункер, расположенный в нижней части (под колосниковой решёткой) топки паровоза, служащий для сбора золы и шлаков, образовавшихся в результате сгорания топлива. —
Примеч. перев.
(обратно)
488
Игра слов: французское слово
culotté имеет несколько значений: одетый в брюки; обкуренный, покрытый нагаром; наглый, нахальный. —
Примеч. перев.
(обратно)
489
Карл Ауэр фон Вельсбах (1858–1929) — австрийский химик, в 1885 г. изобрел и запатентовал газокалильную сетку, многократно усиливающую яркость газового пламени, использовавшегося тогда для освещения — т. н. «ауэровский колпачок». —
Примеч. перев.
(обратно)
490
Фортюне Дю Буасгобей (1821–1891) — французский писатель, автор полицейских романов-фельетонов;
Пьер Заккон (1817–1895) — французский писатель, стал популярен благодаря публикации фельетонов в дешевых газетах;
Поль д’Ивуа — французский писатель, автор приключенческих романов. —
Примеч. перев.
(обратно)
491
Эжен де Мирекур (Шарль Жан Батист Жако; 1812–1880) — французский писатель, автор еженедельного периодического сборника «Современники». —
Примеч. авт.
(обратно)
492
Жан-Луи Форен (1852–1931) — французский художник, график, книжный иллюстратор;
Каран д’Аш — псевдоним известного французского карикатуриста Эммануэля Пуаре. —
Примеч. перев.
(обратно)
493
Таде Натансон (1868–1951), вместе со своими братьями Александром и Луи-Альфредом (его писательский псевдоним — Альфред Ати), руководил литературно-художественным журналом «Ревю бланш». —
Примеч. авт.
(обратно)
494
Карточная игра. —
Примеч. перев.
(обратно)
495
В переводе с французского пассаж д’Анфер означает «Дорога в ад»; полуэтаж расположен обычно между первым и вторым этажами. —
Примеч. перев.
(обратно)
496
Картина известного французского художника Жака Луи Давида (1748–1825). —
Примеч. перев.
(обратно)
497
Речь идет о сражении между французами и англичанами в 1364 году.
Бертран Дю Геклен, (1320–1380) — французский полководец, прозванный Орлом Бретани, коннетабль Франции с 1369, участник Столетней войны, одерживает победу над армией Карла Злого. Жена дю Геклена, Тафен Рагнель, занимавшаяся астрологией, предсказывает французам победу. —
Примеч. перев.
(обратно)
498
Дю Геклену посвящены историческая повесть Дж. У. Дипинга «Бертран Бретонский» (1908), серия новелл Грейс Уитхем «Бертрам» (1914), исторический роман А. Конан Дойля «Белый отряд» (1891), драмы Вольтера «Аделаида Дю Геклен» (пост. 1734, изд. 1765) и П. Деруледа «Мессир Дю Геклен» (1895). —
Примеч. перев.
(обратно)
499
Альфред Валлетт (1858–1935) — французский литературный деятель, основавший в 1890 году вместе с женой Рашильдой ежемесячник «Меркюр де Франс», самый авторитетный символистский журнал;
Реми де Гурмон (1858–1915) — французский писатель, эссеист, художественный критик. —
Примеч. перев.
(обратно)
500
Роман Жюля Ренара был переведен на русский язык Н. Жарковой и Б. Песисом под названием «Рыжик». —
Примеч. перев.
(обратно)
501
«Трубадур» — опера в четырех действиях Джузеппе Верди (премьера состоялась 19 января 1853 года в Риме). —
Примеч. перев.
(обратно)
502
La bourbe в переводе с французского — грязь, тина. Бурб — бесплатный родильный дом, где обстановка и уход были значительно хуже, чем в платных лечебницах. —
Примеч. перев.
(обратно)
503
Доминик Франсуа Араго (1786–1853) — французский астроном, физик и политический деятель, с 1809 — член Парижской Академии наук. —
Примеч. авт.
(обратно)
504
Меридианный круг — астрономический прибор, предназначенный для определения координат светил;
параллактический треугольник — треугольник на небесной сфере, образованный пересечением небесного меридиана, вертикального круга и часового. —
Примеч. перев.
(обратно)
505
Урбен Жан Жозеф Леверрье (1811–1877) — известный французский астроном, с 1853 г. — директор Парижской обсерватории. —
Примеч. перев.
(обратно)
506
Феликс Франсуа Жорж Филибер Зим (1821–1911) — французский пейзажист, представитель «барбизонской шкоды». —
Примеч. перев.
(обратно)
507
Вудвилл Лэтем (1837–1911) — артиллерийский офицер и профессор химии университета Западной Вирджинии, один из изобретателей кинопленки и проектора для публичных показов, разработал в 1895 г. прибор под названием эйдолоскоп — для съемки и широкоформатного воспроизведения движущегося изображения. —
Примеч. перев.
(обратно)
508
Ледрю-Роллен Александр Огюст (1807–1874) — французский политический деятель, в 1849 г., являясь одним из руководителей мелкобуржуазной оппозиционной группы «Новая Гора», возглавил июньскую демонстрацию в Париже против реакционной внешней политики правительства Луи Бонапарта;
Консидеран Виктор (1808–1893) — социалист-утопист, последователь Ш. Фурье, представитель мелкобуржуазной демократической оппозиции. —
Примеч. перев.
(обратно)
509
Марк Аврелий. Наедине с собой. Размышления. —
Примеч. перев.
(обратно)
510
Ребек — старинный смычковый струнный инструмент. —
Примеч. перев.
(обратно)
511
Bric-à-brac (фр.) — старый хлам. —
Примеч. перев.
(обратно)
512
Пьер Лоти, наст, имя Луи Мари Жюльен Вио (1850–1923) — французский офицер, романист и коллекционер. —
Примеч. перев.
(обратно)
513
Мадемуазель Марс (наст, имя Анн-Франсуаз-Ипполита Буте-Сальвета, 1779–1847) — французская актриса, игравшая на сцене Комеди Франсез 33 года;
псише — напольное овальное зеркало. —
Примеч. перев.
(обратно)
514
Вальтесс де Ла Бинь (наст, имя Люси Эмили Делабинь, 1848–1910) — французская актриса, писательница, куртизанка. —
Примеч. перев.
(обратно)
515
Переименована в 1897 году в улицу Арсена Юссе. —
Примеч. авт.
(обратно)
516
Финансировал строительство особняка Вальтесс де Ла Бинь, что его и разорило. —
Примеч. авт.
(обратно)
517
Маркиза Паива (Лахман, Эсфирь Борисовна, 1819–1884) — европейская куртизанка еврейского происхождения, одна из ярких символических фигур Второй империи. Родилась в Москве, приехав в Париж, вышла замуж за немца Хенкеля Доннерсмарка, который построил для нее особняк на Елисейских Полях (дом 25), открытый для посещения и в наши дни. —
Примеч. авт.
(обратно)
518
Тильбюри — легкий двухколесный экипаж. —
Примеч. перев.
(обратно)
519
Эмиль Ожье (1820–1889) — французский драматург, автор известных пьес, член Академии. —
Примеч. перев.
(обратно)
520
Пикон — алкогольный напиток, приготовленный путем вымачивания апельсиновых корочек, горечавки и коры хинного дерева. —
Примеч. перев.
(обратно)
521
Бювет — специальное сооружение над минеральным источником или близ него. —
Примеч. перев.
(обратно)
522
Эдмон Одран (1842–1901) — французский композитор. —
Примеч. перев.
(обратно)
523
«Корневильские колокола» — оперетта Робера Планкетта (1848–1903). —
Примеч. перев.
(обратно)
524
Эмма Кальве (1862–1942) — французская оперная певица, в 1892 г. исполнила партию Кармен в «Опера Комик». —
Примеч. авт.
(обратно)
525
Шарль Баре. «О человеке, который хорошо устроился», 1909. —
Примеч. авт.
(обратно)
526
«Дуэт индюшек» из оперетты «Маскотта» (Э. Одран, 1880). —
Примеч. перев.
(обратно)
527
См. роман «Талисман из Ла Виллет». —
Примеч. авт.
(обратно)
528
Эжен де Мирекур (наст имя Шарль Жан Баптист Жако, 1812 1880) — французский писатель. —
Примеч. перев.
(обратно)
529
«Клозери де Лила» танцевальный зал (сад) в Париже, который посещала главным образом молодежь Латинского квартала. Сначала танцевали только летом. Бюллье открыл там увеселительное заведение, которое работало круглый год. Боборыкин вспоминал о парижских студентах, которые посещали «бал Бюллье», как кратко называли прежнюю «Клозери де Лила». (Боборыкин. Т. 1. С. 475). —
Примеч. перев.
(обратно)
530
Игра слов: по-французски
Oreille («ухо») созвучно с именем философа,
Aurèle. —
Примеч. перев.
(обратно)
531
Лансье — английский бальный танец, напоминающий кадриль. —
Примеч. перев.
(обратно)
532
Слово
crucifères имеет во французском языке два значения: крестоносцы и крестоцветные. —
Примеч. перев.
(обратно)
533
Бюсси Роже де Рабютен (1618–1893) — французский военачальник и писатель. —
Примеч. перев.
(обратно)
534
Альфред Ассолан (1827–1886) — французский романист, автор в числе прочего романа «Приключения капитана Коркорана». —
Примеч. авт.
(обратно)
535
Гастон Пари — филолог-романист, один из крупнейших фольклористов XIX — начала XX вв. —
Примеч. перев.
(обратно)
536
Лиманда — рыба семейства камбаловых; то же, что ершоватка. —
Примеч. перев.
(обратно)
537
Современное название Карьер-сюр-Сен. —
Примеч. авт.
(обратно)
538
Альфонс Мари Луи де Ламартин (1790–1869) — французский поэт-романтик, историк, политический деятель. —
Примеч. перев.
(обратно)
539
Кир — смесь белого вина и ликера из черной смородины. —
Примеч. перев.
(обратно)
540
Мюскаде — легкое белое вино с фруктовым вкусом. —
Примеч. перев.
(обратно)
541
Джон Рёскин (1819–1900) — английский писатель, художник, теоретик искусства, литературный критик и поэт; оказал большое влияние на развитие искусствознания и эстетики второй половины XIX начала XX вв. —
Примеч. перев.
(обратно)
542
Антонио де ла Гайдара (1861–1917) — французский художник. —
Примеч. перев.
(обратно)
543
Марсель Швоб (1867–1905) — французский писатель-символист и переводчик, писал притчевую фантастическую прозу;
Маргарита Морено (1871–1948) — актриса;
Жан Мореас (1856–1910) — французский поэт-символист, автор «Манифеста символизма» (1886);
Фелисьен Ропс (1833–1898) — бельгийский художник-символист. —
Примеч. перев.
(обратно)
544
Августа Мария Анна Холмс (1847–1903) — французский композитор, ученица Сезара Франка. —
Примеч. авт.
(обратно)
545
Альбер Самен (1858–1900) — французский поэт-символист;
Стюарт Мерилл (1863–1915) — французский поэт американского происхождения. —
Примеч. перев.
(обратно)
546
Жан Эдуар Вюйар (1868–1940) — французский художник-символист. —
Примеч. перев.
(обратно)
547
Ныне авеню Фош. —
Примеч. авт.
(обратно)
548
Рейнальдо Ан (1874–1947) — французский композитор, пианист, музыкальный критик, дирижер и руководитель оркестра, один из наиболее известных музыкантов Бель Эпок. —
Примеч. перев.
(обратно)
549
См. роман «Талисман из Ла Виллетт». —
Примеч. авт.
(обратно)
550
Юг Ребель — прозвище французского литератора
Жоржа Грассаля де Шофаля (1867–1905). —
Примеч. авт.
(обратно)
551
Жюль Франсуа Эли Леметр (1723–1793) — французский критик и писатель. —
Примеч. перев.
(обратно)
552
Мэй Белфорт — ирландская певица, модель Тулуз-Лотрека: он написал пять ее портретов, сделал несколько литографий и к началу выступлений певицы в «Пти казино» создал для нее афишу. —
Примеч. перев.
(обратно)
553
Мэри Кассат (1844–1926) — знаменитая американская художница и график, импрессионист; прожила большую часть жизни во Франции, была дружна с Эдгаром Дега;
Поль Дюран-Рюэль (1831–1922) — французский коллекционер, связанный с импрессионистами. Одним из первых стал оказывать финансовую поддержку художникам и организовывать персональные выставки. —
Примеч. перев.
(обратно)
554
Леон Серполле (1858–1907) — французский изобретатель, создатель паровых котлов, двигателей и автомобилей. —
Примеч. перев.
(обратно)
555
Клуб создан в 1895 году. —
Примеч. авт.
(обратно)
556
Открытый экипаж с несколькими поперечными сиденьями. —
Примеч. перев.
(обратно)
557
Ныне Сен-Лё-ла-Форе; Таверни стала независимым муниципалитетом в 1915 г. —
Примеч. авт.
(обратно)
558
Ландо — четырехместная карета с откидывающимся верхом. —
Примеч. перев.
(обратно)
559
Медок — сорт вина. —
Примеч. перев.
(обратно)
560
См. роман «Тайна квартала Анфан-Руж». —
Примеч. авт.
(обратно)
561
Всемирно известная французская фирма по производству кукол, основанная в 1843 году Пьером-Франсуа Жюмо. В 1877 году под руководством его сына Эмиля Жюмо создается знаменитая кукла «Bébé Jumeau», которая не раз занимала первые места на всемирных выставках и удостоилась статуса национальной куклы. —
Примеч. перев.
(обратно)
562
Полишинель — кукла или вырезанная из картона фигурка с горбом спереди и сзади, в колпаке, изображающая комический персонаж французского кукольного театра или карнавала. —
Примеч. перев.
(обратно)
563
Праксиноскоп — оптический прибор, запатентованный в 1877 году Эмилем Рейно, — первое устройство, в котором кинематографический принцип смены отдельных кадров уступил место видео- и телевизионному принципу развертки — постепенной частичной замене одного кадра другим. —
Примеч. перев.
(обратно)
564
Каламбур заключается в том, что Овидий по-французски пишется
Ovide и совпадает по звучанию со словосочетанием
os vides, что в переводе означает «полые кости». —
Примеч. перев.
(обратно)
565
Дюкудре намекает на текст Нового Завета о воскрешении Лазаря. —
Примеч. перев.
(обратно)
566
Слова Гастона Хабрекорна (1866–1917), знаменитого французского шансонье конца XIX века, автора т. н. «чувственных песен». —
Примеч. авт.
(обратно)
567
Виктор Бальтар (1805–1874) — французский архитектор, представитель неоклассицизма. Впервые применил металл и стекло для перекрытий зонтичного типа при строительстве павильонов Центрального рынка в Париже. —
Примеч. перев.
(обратно)
568
Легкий двухколесный экипаж с одним сиденьем и без козел на высоком ходу. —
Примеч. перев.
(обратно)
569
Суккуб — в средневековых легендах демоница, посещающая ночью молодых мужчин и вызывающая у них сладострастные сны. —
Примеч. перев.
(обратно)
570
Консулат, или эпоха консульства — период в истории Франции (1799–1804), когда страной управляли три консула, должность первого консула занимал Наполеон Бонапарт. —
Примеч. перев.
(обратно)
571
Из элегии
Альфонса Ламартина (1790–1869) «Долина».
Пер П. Межакова. —
Примеч. перев.
(обратно)
572
Позднее — театр «Атене». —
Примеч. перев.
(обратно)
573
Обиходное название знаменитого «Словаря французского языка», названного по имени его составителя, филолога и философа Эмиля Литтре (1801–1881). —
Примеч. перев.
(обратно)
574
Фернан Ксо (1852–1899) — французский журналист. —
Примеч. перев.
(обратно)
575
Франсуа Коппе (1842–1908) — французский поэт, драматург и прозаик, представитель парнасской школы, с 1884 года — член Французской академии;
Октав Мирбо (1848–1917) — французский писатель, романист, драматург и публицист, член Академии Гонкуров;
Анри Бек (1837–1899) — французский драматург;
Морис Баррес (1862–1923) — французский писатель, член Французской академии с 1906. —
Примеч. перев.
(обратно)
576
Фома Кемпийский (Томас Хемеркен; 1378/1380—1471) — средневековый голландский теолог. —
Примеч. перев.
(обратно)
577
Вестготы — германское племя, представлявшее собой одну из двух главных ветвей племенного союза готов; считаются одними из предков современных испанцев и португальцев. —
Примеч. перев.
(обратно)
578
Еженедельное юмористическое издание, которое выходило в Париже с 1984 года. —
Примеч. перев.
(обратно)
579
Молескин — торговая марка итальянской компании «Modo&Modo», производящей канцелярские товары, преимущественно записные книжки. Классический молескин представляет собой черную тетрадь в твердом переплете, запирающуюся на эластичную ленту, с закладкой. —
Примеч. перев.
(обратно)
580
Эдуард Альфред Мартель (1859–1938) — французский ученый, географ, картограф, основоположник спелеологии. —
Примеч. перев.
(обратно)
581
Гамельнский крысолов — персонаж средневековой немецкой легенды: музыкант, обманутый магистратом города Гамельна, отказавшимся выплатить вознаграждение за избавление города от крыс, с помощью колдовства увел за собой городских детей, сгинувших затем безвозвратно. —
Примеч. перев.
(обратно)
582
Жавелева вода — раствор хлорноватисто-натриевой или калиевой соли в воде; приготовлена впервые на заводе в городке Жавель близ Парижа в 1792 г. Применялась для отбеливания тканей и выведения пятен.
— Примеч. перев.
(обратно)
583
Песня Аристида Бриана, писателя, актера, шансонье, 1891 г. —
Примеч. авт.
(обратно)
584
Морской петушок (vongole) — тип одного из самых маленьких моллюсков, живущих в раковине. —
Примеч. перев.
(обратно)
585
См. роман «Тайна квартала Анфан-Руж». —
Примеч. авт.
(обратно)
586
Лонде Альберт (1858–1917) — французский исследователь, медик. В 1878 г. в больнице Сальпетриер использовал способ хронофотографии душевнобольных для изучения протекания заболевания. Также применял сконструированный им аппарат для изучения баллистики. Фотографии Лонде воспринимаются теперь и как художественные произведения. —
Примеч. перев.
(обратно)
587
Название газеты «La Croix» переводится с французского как «Крест» Видимо, речь идет о каком-то религиозном издании. —
Примеч. перев.
(обратно)
588
Франсуа Бероальд де Вервиль (1556–1626) — французский писатель конца XVI — начала XVII вв. —
Примеч. перев.
(обратно)
589
Зуав — военнослужащий легкой пехоты во французских колониальных войсках, части которой формировались, главным образом, из жителей Северной Африки, а также добровольцев-французов. Зуавы участвовали в различных войнах Франции в XIX XX вв. —
Примеч. перев.
(обратно)
590
Бильбоке — игрушка, состоящая из шарика и деревянной чашечки на стержне, в которую ловят шарик, подбрасывая его. —
Примеч. перев.
(обратно)
591
Леопольд Аарон, известный как Эмиль Артон, французский бизнесмен, замешанный в скандале, связанном со строительством Панамского канала. —
Примеч. авт.
(обратно)
592
Моцарт, «Женитьба Фигаро», конец первого акта. —
Примеч. авт.
(обратно)
593
Жорж Оне (1848–1918) — французский новеллист, представитель модернизма. Автор ряда сценариев к фильмам. —
Примеч. перев.
(обратно)
594
Фредегонда (ок. 545–597) — франкская королева. —
Примеч. перев.
(обратно)
595
Либретто оперы «Фредегонда» написал
Луи Галле (1835–1898), а музыку —
Эрнест Гиро (1837–1892). Окончил и оркестровал оперу
Шарль-Камиль Сен-Санс (1835–1921). —
Примеч. авт.
(обратно)
596
Жорж Мельес (1861–1938) — французский предприниматель, режиссер, один из основоположников мирового кинематографа. —
Примеч. перев.
(обратно)
597
На первых сеансах братья Люмьер демонстрировали сценки, в основном снятые с натуры: «Выход рабочих с фабрики», «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота», «Завтрак младенца», «Вылавливание красных рыбок» и др. —
Примеч. перев.
(обратно)
598
Аджюдан — старшее унтер-офицерское звание во французской армии. —
Примеч. перев.
(обратно)
599
Ховы — коренные жители Мадагаскара. —
Примеч. перев.
(обратно)
600
Амедей Пьер Ленард Бьенэме (1843–1930) — военный и политический деятель, контр-адмирал с 1895 года, вице-адмирал с 1900 года, автор книги «Война на море 1914–1915: ошибки и возмездие». —
Примеч. перев.
(обратно)
601
Восточный канал — водный путь во Франции, включающий канализованную р. Мёз (Маас), небольшой отрезок канала Марна — Рейн, р. Мозель (верхнее течение) и канал Мозель — Сона. Соединяет систему внутренних водных путей Бельгии и Франции. Сооружен в 1882 г. —
Примеч. перев.
(обратно)
602
Пьер Ларусс (1817–1875) — французский лексикограф, основал в 1852 году издательство «Ларусс», выпустившее в 1856 году первый том «Большого Универсального Словаря XIX века». С 1856 по 1876 год было выпущено 15 томов этого словаря. После смерти Пьера Ларусса его дело унаследовал племянник Клод Оже. В 1889 году он издает Полный Иллюстрированный Словарь, а с 1906 года приступает к ежегодному выпуску довольно увесистого однотомного «Малого Иллюстрированного
Ларусса». —
Примеч. перев.
(обратно)
603
«Севильский цирюльник» (1775), д. I, явл. 2;
Теодор Ботрель (1868–1925) — бретонский фольклорный поэт и певец;
Роми — литературный псевдоним французского писателя, историка, журналиста, антиквара и радиоведущего Роббера Микеля (1905–1995). —
Примеч. перев.
(обратно)
604
Цитируется по книге Роми «Большой успех и пирожки» (Gros Succus et petits fours), издательство Serg, 1967. —
Примеч. авт.
(обратно)
605
Себастьян Фор (1858–1942) — один из наиболее видных лидеров анархистского движения во Франции, основатель метода индуктивной педагогики, оратор, автор нескольких книг и основатель анархистского периодического издания «Ле Либертер» («Освободитель»). —
Примеч. перев.
(обратно)
606
Анри Бриспо (1846–1928) — французский художник, писавший в стиле Бэль Эпок. Особую известность ему принесли жанровые сценки и изображение фигур в интерьере. Автор ряда рекламных афиш, в т. ч. для синематографа братьев Люмьер. —
Примеч. перев.
(обратно)
607
«О чем ты думаешь?» («Звено»), песня Робера Ламуре и Анри Буртера, 1954. —
Примеч. авт.
(обратно)
608
Эфраим Микаэль (1866–1890) — поэт-символист; «Осень Микаэля» (1886) — единственный сборник его стихотворений, опубликованный при жизни автора.
(обратно)
609
Драга — судно, оснащенное многочисленными черпаками для подъема со дна водоемов породы, содержащей полезные ископаемые.
(обратно)
610
См. роман «Свидание в пассаже д’Анфер».
(обратно)
611
См. роман «Убийство на Эйфелевой башне».
(обратно)
612
«Танец времени».
Слова Марка Мориса, музыка Пьера Арве.
(обратно)
613
Шуточная песенка французского композитора Эдуарда Дерансара, мелодию которой использовал Жюль Массне (1842–1912) в опере «Вертер» (1887).
(обратно)
614
Ратафия — разновидность ликера, настойка на спирту спелых плодов и ягод с добавлением сахара.
(обратно)
615
Жан Ришпен (1849–1926) — поэт и писатель. Приобрел известность благодаря сборнику стихов «Песнь оборванцев» (1876). В 1908 году был избран членом Французской академии.
(обратно)
616
Жан Ришпен. Идиллия бедных. Из сб. «Песнь оборванцев».
Пер. С. Андреевского.
(обратно)
617
«Alea jacta est» (
лат.) — «Жребий брошен». Так якобы сказал Юлий Цезарь, пересекая реку Рубикон.
(обратно)
618
Леер — съёмное или стационарное ограждение открытых палуб, которое служит для предупреждения падения людей за борт.
(обратно)
619
Имеются в виду путевые заметки английского писателя и поэта Р. Л. Стивенсона (1850–1894) «Путешествие с ослом в Севенны» (1879).
(обратно)
620
Пулэ (
фр. poulet) — «цыпленок».
(обратно)
621
Жавель (жавелевая вода) — хлористый раствор, зеленовато-желтая едкая жидкость, которую употребляли для беления ткани и при стирке белья.
(обратно)
622
Хронофотография — киносъемка или фотосъемка движущегося объекта через короткие равные интервалы; в 1893 году французский физиолог Этьенн Марей (1830–1904) изобрел этот метод для изучения полета птиц и насекомых.
(обратно)
623
Открытие состоялось 25 марта 1896 года по инициативе барона Пьера де Кубертена.
(обратно)
624
Лаковое дерево (лат. Toxicodendron vernicifluum) — растение семейства Сумаховых, вид рода Токсикодендрон, произрастающее в Китае, Корее и Японии. В плодах содержится около 25 % жирного масла, из которого получают так называемый «японский чёрный лак».
(обратно)
625
Эжен Рене Пубель (1831–1907) — префект департамента Сена (1883–1896); ввел в употребление металлические урны для мусора, которые были названы по его фамилии poubelles.
(обратно)
626
Реми де Гурмон (1858–1915) — писатель, эссеист, художественный критик; антинационалистическая статья «Игрушечный патриотизм» (1891), написанная с симпатией к немецкой культуре, вызвала шумную полемику в прессе.
(обратно)
627
Гратен — блюдо из картофеля, запеченного ломтиками с сыром, сливками и специями.
(обратно)
628
Имеется в виду особая порода бесхвостых кошек с острова Мэн. Согласно легенде, кошка опаздывала на Ноев ковчег и Ной, затворяя дверь, нечаянно прищемил ей хвост; кошка-девятихвостка — плеть с девятью и более хвостами, на конце которых либо узлы, либо крючья, либо острые наконечники.
(обратно)
629
Пьер Декурсель (1856–1926) — автор бульварных романов, в том числе «Преступление святого», «Пьющая слезы» и «Два малыша», которые пользовались огромным успехом.
(обратно)
630
Поль Дюран-Рюэль (1831–1922) — один из первых коллекционеров; оказывал финансовую поддержку художникам, особенно импрессионистам, которым организовывал персональные выставки.
(обратно)
631
Pauvre Lélian — анаграмма имени
Paul Verlaine; Эжени Кранц — бывшая танцовщица, став любовницей Верлена, вскоре разорила его.
(обратно)
632
Старинная песня на лимузенском диалекте окситанского языка, который отличается от литературного французского тем, что в нем звук [ое] часто заменяется звуком [а].
(обратно)
633
Бареж — тонкая шерстяная материя.
(обратно)
634
См. роман «Встреча в пассаже д’Анфер».
(обратно)
635
Вишневый пирог из дрожжевого теста.
(обратно)
636
Клео де Мерод (1875–1966) — танцовщица, звезда бель эпок. Ее писали Дега, Тулуз-Лотрек, Болдили и фотографировали Леопольд Ройтлингер и Феликс Надар; почтовые открытки с ее изображениями были чрезвычайно популярны в конце XIX — начале XX в., а журнал «Иллюстрасьон» избрал ее королевой красоты.
(обратно)
637
Рене Лалик (1860–1945) — ювелир и стеклянных дел мастер, один из выдающихся представителей стиля модерн. Создавал динамичные, необычных форм произведения;
Эмиль Галле (1846–1904) — дизайнер, представитель стиля модерн, автор художественных произведений из стекла;
Самюэль Бинг (1838–1905) — немецкий керамист, знаток декоративно-прикладного искусства и коллекционер, переехал в Париж в 1871 г.
(обратно)
638
«Самаритен» — самый большой универмаг в Париже, открыт в 1869 году. Здание выполнено в стилях ар деко и ар нуво. Получил название от насоса, который качал воду из Сены у Нового Моста для нужд центральной части Парижа.
(обратно)
639
См. роман «Талисман из Ла Виллетт».
(обратно)
640
Жорж Оне (1848–1918) — новеллист, представитель модернизма. Автор ряда сценариев к фильмам.
(обратно)
641
Тереза Авильская (1515–1582) — испанская религиозно-мистическая писательница, монахиня ордена кармелиток, канонизирована в 1622 г., причислена к Учителям Церкви (1970);
Франциск Ксаверий (1506–1552) — католический святой, один из основателей ордена иезуитов; один из самых успешных миссионеров в истории христианства;
Бенедикт Иосиф Лабр (1748–1783) — католический святой, нищенствующий монах и юродивый;
Святой Рох (ок. 1295–1327) — защитник от чумы; по преданию, собака дворянина по имени Готхард принесла умиравшему от голода святому Роху хлеб и стала его помощником.
(обратно)
642
Роза Лимская (1586–1617) — первая католическая святая Латинской Америки, покровительница Перу и всей Южной Америки.
(обратно)
643
Птифуры — маленькие печенья с начинкой.
(обратно)
644
Пьер Сесиль Пюви де Шаванн (1824–1898) — художник, представитель символизма.
(обратно)
645
Папеэте — административный центр французских владений в Океании (Французская Полинезия), находится на острове Таити.
(обратно)
646
Парижские прачки в те времена полоскали белье в Сене, забираясь в старые лодки, стоявшие на приколе у берега.
(обратно)
647
Гюстав Эмар (наст. имя
Оливье Глу, 1818–1883) — писатель, автор историко-приключенческих произведений, в том числе об индейцах.
(обратно)
648
Поль Бурже (1852–1935) — критик и романист, достигший громкой известности своими психологическими романами;
Жерар Анкосс (псевдоним
Папюс; 1865–1916) — известный оккультист, маг и врач.
(обратно)
649
Мишель Эжен Шеврёль (1786–1889) — французский химик-органик, за свои достижения был принят в члены-корреспонденты Петербургской АН (1853).
(обратно)
650
Жюль Греви (1807–1891) — политический деятель, президент Франции (Третья республика, 1879–1887).
(обратно)
651
Кур де Роан представляет собой цепочку из трех двориков, датируемых XV в. и оставшихся от дворца Архиепископа Руана, название которого со временем трансформировалось в Роан.
(обратно)
652
Филипп II Август, Филипп Кривой (1165–1223) — король Франции (1180–1223); сын короля Людовика VII Молодого и его третьей жены Адели Шампанской.
(обратно)
653
Гюстав ле Гре (1820–1884) — выдающийся французский фотограф XIX в., изобретатель технических новшеств, в частности, негатива на вощеной бумаге.
(обратно)
654
«Мне мизинчик нашептал» — франц. поговорка.
(обратно)
655
Остров Иль-дю-Дьябль во Французской Гвиане.
(обратно)
656
Эдуар Дельпи (1849–1911) — поэт, писатель и драматург; брат известного актера немого кино Альбера Дельпи.
(обратно)
657
Предположительно созданный оператором
Феликсом Мегишем (1871–1949), одним из первых кинорепортеров.
Кинетограф (кинетоскоп) — оптический прибор, позволявший демонстрировать движущиеся картинки с фонограммой, слышимой через наушники и записанной на фонографе. Изобретен в 1891 г. Томасом Эдисоном.
(обратно)
658
Алексис Эммануэль Шабрие (1841–1894) — композитор романтического направления, наиболее известный своей рапсодией для оркестра «Испания» и «Радостным маршем». Творчество Шабрие оказало влияние на таких композиторов, как Дебюсси, Равель, Стравинский, Рихард Штраус.
(обратно)
659
Нард — травянистое растение семейства валерьяновых и добываемое из него ароматическое вещество; мирра — пахучая смола некоторых видов деревьев.
(обратно)
660
Вигонь — рыхлая пушистая пряжа, изготовленная преимущественно из хлопка и его отходов с примесью отходов шерстопрядильного производства (шерстяных очесов).
(обратно)
661
См. роман «Тайна квартала Анфан-Руж».
(обратно)
662
Вальми — селение, близ которого 20 сентября 1792 г. войска революционной Франции одержали первую победу над войсками австро-прусских интервентов и французских дворян-эмигрантов.
(обратно)
663
В 1896 г. Николай II совершил большое турне по Европе, посетив Данию, Великобританию и Францию.
(обратно)
664
Бернар Ле Бовье де Фонтенель (1657–1757) — писатель, философ, популяризатор науки, предшественник просветителей;
Себастьен-Рош Николя де Шамфор (1741–1794) — писатель, мыслитель, моралист;
Антуан Ривароль (1753–1801) — писатель.
(обратно)
665
Жан Мореас — французский поэт; наст, имя Яннис Пападиамандопулос; родился в 1856 г. в Афинах, умер в 1910 г. в Париже.
(обратно)
666
Сборник опубликовал 12 сентября 1896 г. издатель Леон Ванье, который скончался буквально через неделю после его выхода в свет.
(обратно)
667
Памятник работы скульптора Огюста де Нидерхаузерна-Родо будет открыт лишь 28 мая 1911 г.
(обратно)
668
Франсуа Мари Аруэ Вольтер (1694–1778) — один из крупнейших французских философов-просветителей, писатель, публицист;
Жан Лерон Д’Аламбер (1717–1783) — философ-энциклопедист, математик, астроном, член Парижской Академии наук (с 1746 г.) и Французской академии;
Алексис Пирон (1689–1773) — драматург, поэт и юрист;
Жан-Жак Руссо (1712–1778) — выдающийся писатель, мыслитель, композитор;
Оноре Габриэль Рикетти де Мирабо (1749–1791) — один из самых известных политических деятелей Франции эпохи Великой Французской революции.
(обратно)
669
Клуазоне — перегородчатая эмаль.
(обратно)
670
Запатентованное в конце XIX в. средство для удаления пятен жира и краски.
(обратно)
671
Нансук — тонкая хлопчатобумажная бельевая ткань, сходная по выделке с полотном.
(обратно)
672
Жан Калас (1698–1762) — торговец из Тулузы, был осужден за убийство, которого не совершал, из-за того, что исповедовал протестантскую веру; его дело стало во Франции символом религиозной нетерпимости.
(обратно)
673
Поль Феваль (1816–1887) — писатель, автор популярных приключенческих романов (так называемых романов плаща и шпаги); при жизни был не менее популярен, чем Бальзак и Дюма.
(обратно)
674
Антуан Рудольф Шевалье (1507–1572) — протестант, знаток еврейского языка, вследствие религиозных преследований бежал в Англию, где преподавал французский язык будущей королеве Елизавете I, затем — в Страсбург и Женеву; вернулся во Францию, но вынужден был снова бежать в Англию, где с 1568 г. преподавал в Кембридже. Автор «Rudimenta hebraïæ linguae» (1560); переводов с еврейского на латинский и эпитафии Кальвину на еврейском языке.
(обратно)
675
Жан Иньяс Изидор Гранвиль (наст, фамилия Жерар; 1803–1847) — рисовальщик-иллюстратор;
Родольф Топфер (Тёпффер) (1799–1846) — франкоязычный швейцарский писатель и рисовальщик-карикатурист.
(обратно)
676
Александр Шовло (1797–1861) — архитектор-новатор; называл свои кварталы «деревнями».
(обратно)
677
Абель Эрман (1861–1950) — писатель, драматург, член Академии.
(обратно)
678
Клара Вард (1873–1916) — американская киноактриса, вышла замуж за бельгийского князя Караман-Шиме;
Режан (Габриэль-Шарлотт Режу, 1856–1920);
Лиана де Пужи (
Анна-Мари де Шассень; 1869–1950);
Эмильена д’Алансон (
Эмили Андре; 1869–1946);
Каролина Отеро, или Прекрасная Отеро (1868–1965) — актрисы и танцовщицы, звезды бель эпок.
(обратно)
679
Мари-Антуан Карем (1784–1833) — знаменитый повар, «король поваров и повар королей», как его называли современники.
(обратно)
680
Кир — смесь белого вина и ликера из черной смородины.
(обратно)
681
Игра слов. Французское слово
pêcheur означает и «рыбак», и «грешник».
(обратно)
682
Игра слов: топоним звучит как словосочетание «Добрый Господь».
(обратно)
683
Идиома, означающая «заниматься любовью».
(обратно)
684
Дэвид Ливингстон (1813–1873) — шотландский миссионер, выдающийся исследователь Африки.
(обратно)
685
Жиго — жаркое из крупного куска сочной баранины или телятины.
(обратно)
686
Жюль Жюи (1855–1897) — поэт, автор чрезвычайно популярных в народе песен на политические и общественные темы.
(обратно)
687
Себастьен-Рош Николя де Шамфор (
фр. Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort; 1741–1794) — писатель, мыслитель, моралист. Остался в истории книгой наблюдений и афоризмов «Максимы и мысли, характеры и анекдоты», изданной после его смерти одним из друзей (1795), из которой и взята приведенная выше цитата.
(обратно)
688
См. роман «Происшествие на кладбище Пер-Лашез».
(обратно)
689
Саварен (
фр. savarin) — выпечка из дрожжевого теста, французский вариант ромовой бабы. Корж покрывают абрикосовым джемом, пропитывают сиропом на основе рома или красного вина с пряностями.
(обратно)
690
Так дети дразнили нытиков и плакс.
Прим. авт.
(обратно)
691
Достоверный случай.
Прим. авт.
(обратно)
692
«Змея», «подлюга» — созвучно с франц.
Charogne.
(обратно)
693
Теодор Герцль (
нем. Theodor Herzl; 1860–1904,) — еврейский общественный и политический деятель, основатель Всемирной сионистской организации, провозвестник еврейского государства и основоположник идеологии политического сионизма. Был журналистом, писателем, доктором юриспруденции.
(обратно)
694
Эме-Жюль Далу (
фр. Aimé-Jules Dalou; 1838–1902) — скульптор, представитель натуралистической школы. «Триумф Республики» — грандиозная скульптура, которая красуется на Национальной площади в Париже.
(обратно)
695
См. роман «Талисман из ла Вилетт».
(обратно)
696
Жорж Трауц (1808–1879) — немецкий переплетчик. В 1830 г. эмигрировал во Францию и поступил на работу в мастерские Антуана Бозонне. До 1848 г. переплеты мастерской Бозонне подписывались «Бозонне−Трауц», а затем Трауц, вероятно, выкупил дело, и переплеты с маркой «Трауц−Бозонне» вскоре стали самыми известными во Франции XIX в.
(обратно)
697
Пер. Н. Я. Рыковой.
(обратно)
698
Франсуа Коппе (
фр. François Édouard Joachim Coppée; 1842–1908) — поэт, драматург и прозаик, представитель парнасской школы, член Французской академии. Коппе был одним из самых популярных и широко читаемых поэтов своего времени, но вскоре его творчество стало предметом насмешек и пародий «проклятых поэтов» (Верлена, Рембо, Кро), а затем предано забвению. Его стихи отмечены несколько назидательным патриотизмом, чувствительностью, вниманием к повседневности, интересом к чувствам простого человека (за что Коппе получил прозвание «поэта бедняков»).
(обратно)
699
Серполе, Гарднер-Серполе (
Serpolet, Gardner-Serpolet) — марка французского автомобиля. Выпускалась с 1889-го по 1907 г. Трицикл «Серполле 4/6CV» (1891) имел четырехместный кузов, мощность двигателя 4–6 л. с., максимальную скорость 25 км/ч.
(обратно)
700
Пентаур (сб. Pa-en-ta-uret — принадлежащий богине Uret) — имя, довольно часто встречавшееся в Египте во время Нового царства в придворном и чиновничьем мире. От некоторых из Пентауров дошли папирусы с их подписью. После одного из них, жившего при Рамзесе II, сохранились две интересные рукописи. Первая заключает в себе обрывки легенды об изгнании гиксосов и трактат дидактического характера о пользе ученья и преимуществах чиновничества; вторая — так называемый эпос о битве с хетами при Кадеше. Пентаур был простым переписчиком этих произведений, известных в науке под его именем.
(обратно)
701
Ш. Бодлер. Призрак. II Аромат. Сб. «Цветы зла».
Пер. Эллиса.
(обратно)
702
Гиньоль (фр. Guignol), Ньяфрон (фр. Gnafron) — перчаточные куклы ярмарочного театра, появившегося в Лионе в конце XVIII — начале XIX века. Гиньоль изображал рабочего шелковой мануфактуры, а его друг Ньяфрон — едкого на язык сапожника-выпивоху.
(обратно)
703
Алексис-Эммануэль Шабрие (
фр. Alexis-Emmanuel Chabrier, 1841–1894) — композитор романтического направления, наиболее известный своей рапсодией для оркестра «Испания» и «Радостным маршем». Творчество Шабрие оказало влияние на таких композиторов, как Дебюсси, Равель, Стравинский, Штраус. Трилогия юмористических песен («Виланелла маленьких утят», «Баллада толстых индюков», «Пастораль розовых поросят») укрепили его репутацию оригинального композитора и музыкального остроумца.
(обратно)
704
Кадет Руссель — герой народной песни. Его настоящее имя
Гийом Жозеф Руссель (
Guillaume Joseph Roussel; 1743–1807). Он был младшим ребенком в семье, за что и получил прозвище Кадет (cadet — малыш). В двадцатилетием возрасте он переехал в Осер, где был слугой, лакеем, мелким чиновником в суде. С началом Революции эксцентричный Кадет становится «добрым революционером», активным участником событий. По-видимому, его активность была чрезмерной, потому что в 1792 году Кадет становится героем сатирической песни Гаспара де Шеню (Gaspard de Chenu). В песне Руссель представлен непутевым человеком, у которого, за что бы он ни брался, ничего не получается. Интересно, что песня, высмеивающая революционера, очень быстро стала необычайно популярной.
(обратно)
705
«Нантский узник» (
фр. Dans les prisons de Nantes) — старинная бретонская песня о заключенном, который хитростью и с помощью дочери тюремщика сбежал из темницы. Речь идет о песне XVII века «Король приказал бить в барабаны» («Le Roi a fait battre tambour»), сюжет которой напоминает историю любви Людовика XIV и мадам де Монтеспан. В песне королева посылает сопернице отправленный букет, и та, понюхав его, умирает.
(обратно)
706
«Баллада о короле Рено» восходит к XIII в. В ней рассказывается о короле, который, будучи смертельно ранен в живот, возвращается к жене, матери и новорожденному сыну, где и умирает. Его супруга, не выдержав горя, просит землю поглотить ее, что и происходит.
(обратно)
707
Эрнест Лаженесс (
фр. Ernest La Jeunesse, наст. имя
Harry Caën, 1874–1917) — критик, журналист, иллюстратор, известный своими критическими статьями;
Катюль Мендес (
фр. Catulle Mendès, 1841–1909) — поэт, основатель журнала «Revue fantaisiste»; за напечатанную там первую, крайне фривольную поэму, подвергся тюремному заключению. Был одним из основателей «Parnasse contemporain», где печатал строго выдержанные в классическом духе поэмы. Автор многочисленных драматических пьес сказочно-романтического содержания.
(обратно)
708
Орельен Шолль (
фр. Aurelien Scholl, 1833–1902) — журналист; с семнадцати лет, работая в парижской прессе, выдвинулся в ряды наиболее видных хроникеров; сотрудничал в «Figaro», им самим основанном «Voltaire», а с 1875 г. в «Evénement», легко и изящно беседуя обо всех предметах, от политики до моды, от искусства до спорта, оставаясь злым и опасным полемистом там, где дело касалось просветительских идей или его личности.
(обратно)
709
Джон Бойд Данлоп (
англ. John Boyd Dunlop; 1840–1921). Изобрёл надувную велосипедную шину, которую запатентовал в 1888 г.; оно было использовано и при производстве автомобильной шины.
(обратно)
710
Эдуард Роше (Eduard Rochet) и
Теофиль Шнейдер (Theophile Schneider) — основатели автомобильной марки «Роше-Шнейдер», одной из старейших в мире. С 1898 г. она выпускала легковые автомобили, а в начале XX в. в программу вошли грузовые автомобили с цепным приводом, четырех- и восьмицилиндровыми моторами мощностью до 70 л. с. Во время Первой мировой войны «Роше-Шнайдер» выпускала грузовики для французской армии. Производство легковых автомобилей было возобновлено в 1918 г.
(обратно)
711
Надар (
фр. Nadar; наст. имя
Гаспар Феликс Турнашон, фр. Gaspard-Félix Tournachon; 1820–1910) — знаменитый фотограф, карикатурист, романист и воздухоплаватель. Стиль его портретов был простым и строгим. Как правило, он снимал людей стоящими, использовал только верхний свет и однотонный фон. Основное внимание уделял лицу, жестам, позе, стараясь выявить индивидуальные особенности модели. Автор фотопортретов Шарля Бодлера, Гюстава Курбе, Сары Бернар и др. Надар стал снимать при электрическом свете, создал серию снимков о жизни подземного Парижа. Запатентовал идею фотографирования с воздушного шара.
(обратно)
712
Карамболь — разновидность бильярда, а также определение удара, при котором биток (шар, по которому нанесен удар) совершает последовательное соударение с двумя прицельными шарами.
(обратно)
713
Ж. Ротру. Венцеслав (1648). Жан Ротру (
фр. Jean Rotrou, 1609–1650) — драматург, пьесы которого пользовались успехом, сравнимым с успехом Корнеля; пользовался покровительством кардинала Ришелье; был чрезвычайно плодовит; пьеса «Венцеслав» — одна из наиболее известных его произведений.
(обратно)
714
Тильбюри (
тильбери) — легкая открытая двухколёсная карета, с крышей или без, разработана в начале XIX века лондонской фирмой «Тильбюри».
(обратно)
715
Утрехтский бархат — название происходит от провинции Утрехт (Нидерланды); ткань из шерсти, изготовленная в бархатной технике.
(обратно)
716
Ордалии (от
англосакс. ordol,
лат. ordalium — приговор, суд) — в широком смысле то же, что и «Божий суд»; в узком — суд путём испытания огнём и водой. При испытании водой нужно было достать кольцо из кипятка; испытуемого опускали в холодную воду связанным и т. п.; при испытании огнём испытуемый должен был держать руки на огне, проходить через горящий костёр и держать в руках раскалённое железо. Выдержавший испытания признавался оправданным, не выдержавший — виновным.
(обратно)
717
Либерти — сорт блестящей мягкой (обычно шелковой или полушелковой) ткани.
(обратно)
718
Жюль Лермин (1839–1915) — автор популярных фантастических и научно-фантастических романов; некоторые были опубликованы под псевдонимом Уильям Кобб.
(обратно)
719
Речь идет о спецэффектах во французском короткометражном художественном фильме «Замок дьявола» (
фр. Le manoir du diable, 1896), одном из первых из первых в мире опытов воплощения на экране фантастических образов. По сюжету в декорациях старинного замка появляется летучая мышь, которая вдруг превращается в Мефистофеля. Мефистофель наколдовывает магический котёл. Из котла появляются мороки — призраки, скелеты, ведьмы и т. д., — которыми дьявол пугает попавшие в его власть души. Одна из душ совершает крестное знамение и Мефистофель исчезает.
(обратно)
720
В 1896 году Николай II совершил большую поездку по Европе; завершением поездки стало его прибытие в Париж.
(обратно)
721
Берлина (берлинская карета) — элегантная четырехместная карета, использовавшаяся для торжественных выездов.
(обратно)
722
Феликс Фор (
фр. Félix Faure, настоящее имя
Франсуа-Феликс Фор, 1841–1899) — политический деятель, президент (1895–1899) Французской Третьей республики.
(обратно)
723
Цитата из книги
Дж. Гран-Картре (John Grand-Carteret) «Le musée pittoresque du voyage du Tsar».
(обратно)
724
«Жак-фаталист» (
фр. «Jacques le fataliste») — роман Д. Дидро (1773–1774), написанный во время пребывания автора в России и Голландии. Сопровождая верхом своего хозяина, Жак-фаталист беседует с ним обо всем понемногу: о рангах, о свободе, детерминизме, галантных похождениях и т. д.
(обратно)
725
Песня шансонье Винсена Испа, которую он исполнял в кабаре «Ша нуар».
(обратно)
726
Германский император Вильгельм II приходился внуком королеве Виктории.
(обратно)
727
Менелик II (1844–1913) — император (негус, или негус негести, «царь царей») Эфиопии (Абиссинии) с 1889 г. Основал на территории провинции новую столицу империи — Аддис-Абебу.
(обратно)
728
Гораций Герберт Китченер (1850–1916) — фельдмаршал, барон, виконт, граф. В 1895–1898 г., будучи командующим англо-египетскими войсками, руководил подавлением восстания махдистов (сторонников мусульманского проповедника
Мухаммеда Ахмеда, провозгласившего себя
Махди, то есть спасителем, мессией) в Судане. Разгромил армию махдистов и отдал своим войскам их столицу Омдурман на разграбление. Приказал вырыть из могилы тело Махди и бросить в Нил. В результате Судан был превращен в английскую колонию.
(обратно)
729
Фердинанд Брюнетьер (
Ferdinand Brunetiere, 1848–1907) — литературовед, историк литературы и критики. Отказывался причислять Верлена к символистам, что стало поводом для конфликта.
(обратно)
730
«Парад Жирной Коровы» (фр. Promenade du Boeuf Gras) — традиционный карнавал, который проводится в Париже с 1274 г. Возглавляет праздничную процессию самая откормленная корова.
(обратно)
731
Марка «Болле» (
фр. Bollée) — одна из самый старых и знаменитых во Франции, но ее автомобили не сохранились до наших дней. Фирма принадлежала семейству Болле, хотя каждый из его представителей имел собственную компанию и выпускал свои машины независимо от другого.
(обратно)
732
Спиридон «Спирос» Луис (1873–1940) — греческий легкоатлет, чемпион летних Олимпийских игр 1896 г. Выиграв марафон Луис стал национальным героем.
(обратно)
733
Карл-Вильгельм Отто Лилиенталь (1848–1896) — немецкий инженер, один из пионеров авиации, объяснивший причины парения птиц.
(обратно)
734
Виконт Альбер де Дион, увидев маленькую паровую машинку, увлекся ею, познакомился с ее создателями Д. Бутоном и М. Трепарду и предложил свою материальную поддержку. В 1895 году Дион начал выпускать автомобили, работавшие на бензине, и разработал совместно с Бутоном легкий экипаж — трицикл. Трицикл представлял собой компактную одноместную тележку, нечто среднее между детским трехколесным велосипедом и мотоциклом, имевшую трубчатую раму на трех велосипедных колесах и обычный велосипедный руль, седло и педальный привод на два задних колеса.
(обратно)
735
Трицикл Панара и Левассора — автомобиль, созданный фабрикантом Рене Панаром и инженером и гонщиком Эмилем Левассором.
(обратно)
736
Перевод В. Кормана.
(обратно)
737
Роберт Уильям Поль (
англ. Robert W. Paul, 1869–1943) — английский кинорежиссёр, продюсер, механик и оптик. Почти одновременно с братьями Люмьер создал съемочную кинокамеру, а в марте 1896 г. получил патент на проекционный аппарат под названием биоскоп (впоследствии переименованный в аниматограф).
(обратно)
738
Альфред Жарри (
фр. Alfred Jarry, 1873–1907) — поэт, прозаик, драматург. Гротескная кукольная драма «Король Убю» в 1896 г. была поставлена известным режиссером Орельеном Люнье-По. На представлении разразился скандал, который сравнивают со скандалом на премьере драмы Виктора Гюго «Эрнани». Жарри еще и переводил стихи и прозу; умер в забвении; его творчество заново открыли Аполлинер и сюрреалисты.
(обратно)
739
Альфред де Мюссе (
фр. Alfred de Musset, 1810–1857) — поэт, драматург и прозаик, представитель позднего романтизма. Власть разврата над душой человека — постоянная тема его драматических произведений, из которых особенного внимания заслуживает «Лорензаччо». На границе идиллического и трагического, под прикрытием легкого юмора, Мюссе затрагивает самые тонкие струны душевной жизни.
(обратно)
740
«Людские тайны» — 16-томный исторический роман Эжена Сю (1804–1857).
(Примеч. пер.)
(обратно)
741
Балет Лео Делиба, премьера состоялась в 1870 г. Либретто Шарля Нюите и Артюра Сен-Леона по мотивам повести Э.Т.А. Гофмана «Песочный человек».
(Примеч. авт.)
(обратно)
742
Книга для чтения Ж. Брюно (псевдоним Огюстины Тюильри; 1833–1923), получившая награду Французской академии и соответствующая школьной программе 1882 г.
(Примеч. авт.)
(обратно)
743
Бон-пуэн — принятое в некоторых французских школах средство поощрения учеников младших классов; определенное количество таких картонных карточек с картинками и надписями, как правило познавательными, можно обменять на подарок от учителя.
(Примеч. пер.)
(обратно)
744
Дворец Гарнье — здание, где с 1875 г. размещается знаменитый французский оперный театр, известный как Гранд-Опера, Парижская опера, или Опера Гарнье. Названо по имени архитектора Шарля Гарнье (1825–1898).
(Примеч. пер.)
(обратно)
745
«Фауст» — опера Ш. Гуно (1859). «Неистовый Роланд» — опера А. Вивальди (1727).
(Примеч. пер.)
(обратно)
746
Пралина — обжаренный и засахаренный миндаль.
(Примеч. пер.)
(обратно)
747
«Бычий глаз» — круглое слуховое окно.
(Примеч. пер.)
(обратно)
748
Виктор Эммануил 11(1820–1878) — король Италии.
(Примеч. пер.)
(обратно)
749
Janitor — сторож, привратник
(лат.). (Примеч. пер.)
(обратно)
750
Имеются в виду книги парижского издателя Пьера-Жюля Этцеля (1814–1886).
(Примеч. пер.)
(обратно)
751
Сочинение Николя Шорье, издательство «Цитера», 1782 г.
(Примеч. авт.)
(обратно)
752
Орельен Шоль (1833–1902) — французский журналист, писатель и драматург.
(Примеч. авт.)
(обратно)
753
Жонгляж с помощью ног лежа на спине.
(Примеч. пер.)
(обратно)
754
«Таис» — опера Ж. Масоне (1894). На либретто по трагедии У. Шекспира
«Отелло» написали оперы Дж. Россини (1816) и Дж. Верди (1887).
(Примеч. пер.)
(обратно)
755
На улице Вивьен находится Парижская фондовая биржа.
(Примеч. пер.)
(обратно)
756
Здесь и далее курсивом выделены слова, которые персонажи романа произносят по-русски.
(Примеч. пер.)
(обратно)
757
Империал — верхний, открытый этаж в омнибусе.
(Примеч. пер.)
(обратно)
758
Лоран Тайяд (1854–1919) — французский поэт-сатирик, эссеист и переводчик.
(Примеч. пер.)
(обратно)
759
См. роман «Убийство на Эйфелевой башне».
(Примеч. авт.)
(обратно)
760
Официальное название Парижской оперы как государственного учреждения с 1669 г. — Королевская академия музыки.
(Примеч. пер.)
(обратно)
761
Берлина — дорожная карета.
(Примеч. пер.)
(обратно)
762
Фамилия балерины — Mauri, японца — Mori; по-французски произносятся одинаково.
(Примеч. пер.)
(обратно)
763
В 1964 г. поверх аллегорических фресок Жюля-Эжена Лёнёвё (1819–1898) свод зрительного зала Опера Гарнье расписал Марк Шагал.
(Примеч. авт.)
(обратно)
764
Микадо — древнее титулование верховного правителя Японии.
(Примеч. пер.)
(обратно)
765
Абсент с кофе.
(Примеч. авт.)
(обратно)
766
Роман-фельетон — «роман с продолжением», главы которого публикуются в периодическом печатном издании. В XIX в. этот жанр был очень популярен во Франции.
(Примеч. пер.)
(обратно)
767
Родольф Салис (1851–1897) — художник, основатель «Черного кота», первого кабаре в Париже (1881).
(Примеч. авт.)
(обратно)
768
Мари-Анна де Бовэ (1855-19…) — французская романистка и патриотка, поборница эмансипации.
(Примеч. пер.)
(обратно)
769
Пушкин А. С. «Евгений Онегин».
(Примеч. пер.)
(обратно)
770
Памятник на площади Данфер-Рошро в Париже, прославляющий героизм жителей города Бельфора во времена Франко-прусской войны 1870–1871 гг.
(Примеч. пер.)
(обратно)
771
Анри Казалис (1840–1909) — французский поэт-декадент, писал также под псевдонимом Жан Лаор.
(Примеч. пер.)
(обратно)
772
Анри де Тулуз-Лотрек (1864–1901) — французский художник-постимпрессионист. В детстве сломал обе ноги, после чего они перестали расти, и физический дефект остался на всю жизнь.
(Примеч. пер.)
(обратно)
773
Подлинная программа концерта, состоявшегося в Парижских катакомбах 2 апреля 1897 г.
(Примеч. авт.)
(обратно)
774
На городском жаргоне это значит «умер».
(Примеч. авт.)
(обратно)
775
«Вильгельм Телль» — опера Дж. Россини (1829).
(Примеч. пер.)
(обратно)
776
Музыка Жюля Массне, либретто Жана Ришпена. Премьера оперы состоялась 16 марта 1891 г.
(Примеч. авт.)
(обратно)
777
Лирическая драма в пяти актах Эмиля Золя, музыка Альфреда Брюно; опера впервые исполнена 19 февраля 1897 г.
(Примеч. авт.)
(обратно)
778
«Валькирия» — вторая часть оперной тетралогии Р. Вагнера «Кольцо нибелунга» (1870).
(Примеч. пер.)
(обратно)
779
Мария Кшисинская (1845–1908) — французская поэтесса, романистка и литературный критик.
(Примеч. авт.)
(обратно)
780
Франсуа Коппе (1842–1908) — популярный в свое время и во Франции, и в России поэт из группы парнасцев, прозаик и драматург.
(Примеч. пер.)
(обратно)
781
Барон Жорж Эжен Осман (1809–1891) — французский государственный деятель, префект департамента Сена, в который входит Париж, и градостроитель, во многом определивший облик французской столицы.
(Примеч. пер.)
(обратно)
782
Финеас Тейлор Барнум (1810–1891) — антрепренер и основатель знаменитого американского цирка, мастер мистификаций.
(Примеч. пер.)
(обратно)
783
Находилась в доме номер 14 по бульвару Монмартр.
(Примеч. авт.)
(обратно)
784
Камиль Николя Фламмарион (1842–1925) — французский астроном и популяризатор науки, редактор научных отделов нескольких журналов.
(Примеч. пер.)
(обратно)
785
Из сонета «Завоеватели».
(Примеч. авт.)
(обратно)
786
«Трофеи» — сборник сонетов Жозе-Мариа де Эредиа.
(Примеч. пер.)
(обратно)
787
Парнасцы — группа французских поэтов во главе с Теофилем Готье, приверженцы искусства ради искусства.
(Примеч. пер.)
(обратно)
788
Жоашен дю Белле (1522–1560) — французский поэт, теоретик творческого объединения «Плеяда» и близкий друг Ронсара.
(Примеч. пер.)
(обратно)
789
«Все женщины так делают» (ит.).
(Примеч. пер.)
(обратно)
790
«Путешествие юного Анахарсиса в Грецию в половине IV века до начала вульгарной эры», сочинение аббата Жан-Жака Бартельми, 1788 г.
(Примеч. авт.)
(обратно)
791
Бланкетт — мясное рагу под белым соусом.
(Примеч. пер.)
(обратно)
792
Жорж Мельес (1861–1938) — один из основоположников французского кинематографа, режиссер и предприниматель, владелец театра «Робер Уден». Помимо прочего, снял первый в истории научно-фантастический фильм «Путешествие на Луну» (1902).
(Примеч. пер.)
(обратно)
793
В конце карнавала по улицам города водят откормленного и украшенного лентами быка.
(Примеч. пер.)
(обратно)
794
Бернар Лазар (1865–1903) — литературный критик и политический журналист.
(Примеч. авт.)
(обратно)
795
Жан Жорес (1859–1914) — французский социалист, философ, историк.
(Примеч. пер.)
(обратно)
796
Шарль Фурье (1772–1837) — французский философ и социолог, приверженец идей утопического социализма.
(Примеч. пер.)
(обратно)
797
«Аида» — опера Дж. Верди (1871).
«Сид» — опера Ж. Массне (1885).
(Примеч. пер.)
(обратно)
798
Жорж Куртелин (1858–1929) — французский писатель и драматург.
(Примеч. пер.)
(обратно)
799
Здесь и в следующей реплике цитируется пьеса Альфреда Жарри «Убю-король», премьера которой состоялась в 1896 г. (пер. А. Миролюбовой).
(Примеч. пер.)
(обратно)
800
Альфонс Але (1855–1905) — французский юморист.
(Примеч. пер.)
(обратно)
801
Поташ — карбонат калия.
(Примеч. пер.)
(обратно)
802
Опера Моцарта. Впервые поставлена в 1791 г.
(Примеч. пер.)
(обратно)
803
Тамино и
Царица Ночи — персонажи оперы Моцарта «Волшебная флейта».
(Примеч. пер.)
(обратно)
804
Доброе утро, господин Пиньо (нем.).
(Примеч. пер.)
(обратно)
805
Первым такое определение носа дал Теофиль Готье.
(Примеч. авт.)
(обратно)
806
С 1910 г. улица Будапешт.
(Примеч. авт.)
(обратно)
807
Гюстав Кайботт (1848–1894) — коллекционер, художник и меценат, финансировавший выставки импрессионистов. Завещал коллекцию из 68 картин (в том числе Э. Мане, К. Моне, П.-О. Ренуара, Э. Дега, П. Сезанна) французскому правительству, с тем чтобы она была выставлена в Люксембургском дворце, а затем в Лувре, но особого восторга эта инициатива не встретила — во французском искусстве конца XIX в. все еще доминировало академическое направление.
(Примеч. пер.)
(обратно)
808
Выражение, на жаргоне клерков означающее «умер».
(Примеч. авт.)
(обратно)
809
Во дворце Броньяра находится Парижская фондовая биржа.
(Примеч. пер.)
(обратно)
810
Все такое прочее (ит.).
(Примеч. пер.)
(обратно)
811
Бурре — старинный овернский народный танец.
(Примеч. пер.)
(обратно)
812
Эдуар Дрюмон (1844–1917) — французский политик и публицист, основатель антисемитской партии.
(Примеч. пер.)
(обратно)
813
Перистиль — пустое пространство, окруженное с четырех сторон крытой колоннадой.
(Примеч. пер.)
(обратно)
814
Тюрбан — Турецкий банк.
Баронесса — Вексельный банк.
Кораблик — Трансатлантическая компания.
(Примеч. авт.)
(обратно)
815
«Гавас» — французское информационное агентство, на базе которого в 1944 г. создано «Франс Пресс».
(Примеч. пер.)
(обратно)
816
Особая военная школа
Сен-Сир — учебное заведение, выпускавшее кадры для высшего офицерства и жандармерии.
(Примеч. пер.)
(обратно)
817
Генри Морган
Стэнли (1841–1904) — английский журналист и путешественник.
(Примеч. пер.)
(обратно)
818
Доктор Ливингстон, полагаю?
(англ.). Давид Ливингстон (1813–1873) — шотландский миссионер и исследователь Африки.
(Примеч. пер.)
(обратно)
819
Трофеи — архитектурное орнаментальное украшение в виде военных доспехов, музыкальных инструментов и прочих символов.
(Примеч. пер.)
(обратно)
820
Либретто Фердинана Лемера. Опера в трех актах создана в 1877 г. в Веймаре.
(Примеч. авт.)
(обратно)
821
Жан-Батист-Антуан Оже, барон де Монтийон (1733–1820) — филантроп и экономист, родился и умер в Париже, завещал Институту Франции ренту на учреждение трех премий, в том числе за добродетель.
(Примеч. авт.)
(обратно)
822
См. главу «Торпиль» романа «Блеск и нищета куртизанок».
(Примеч. авт.)
(обратно)
823
Г. Флобер «Саламбо» (пер. Н. Минского).
(Примеч. пер.)
(обратно)
824
Может быть… Кто знает…
(англ.) (Примеч. пер.)
(обратно)
825
Роланд — персонаж героической эпопеи французского Средневековья «Песнь о Роланде» и поэмы Лодовико Ариосто «Неистовый Роланд».
(Примеч. пер.)
(обратно)
826
Ла Гулю — буквально «обжора» или «большеротая»
(фр.). (Примеч. пер.)
(обратно)
827
Аристид Брюан (1851–1925) — знаменитый в свое время шансонье, выступавший помимо прочего в кабаре «Черный кот» Родольфа Салиса и в собственном кабаре «Мирлитон» на Монмартре.
(Примеч. пер.)
(обратно)
828
Альма — египетская танцовщица.
(Примеч. пер.)
(обратно)
829
Валентен ле Дезоссе (Валентин Бескостный) — настоящее имя Жюль Этьен Эдме Ренадин (1843–1907), танцовщик канкана и партнер Ла Гулю (1866–1929) в кабаре «Мулен-Руж».
(Примеч. пер.)
(обратно)
830
Габриэль Тапье де Селейран — кузен Тулуз-Лотрека.
Поль Сеско — фотограф.
Жанна Авриль — танцовщица канкана в «Мулен-Руж».
Феликс Фенеон — публицист, художественный критик, писатель.
(Примеч. пер.)
(обратно)
831
С 1905 г. улица Дез-О.
(Примеч. авт.)
(обратно)
832
С 1930 г. место, где когда-то был парк Пасси с минеральными источниками, а затем поместье Делессер, занимают три авеню — Рене Буалева, Марселя Пруста и Парк-де-Пасси.
(Примеч. авт.)
(обратно)
833
Клодина Александрина Герен де Тансен (1682–1749) — французская куртизанка и писательница, основательница литературного салона.
(Примеч. пер.)
(обратно)
834
Особняк мадам де Ламбаль, затем частная лечебница, которой руководили, помимо прочих, доктор Антуан-Эмиль Бланш и доктор Мерио.
(Примеч. авт.)
(обратно)
835
«Царство и народ Сиама»
(англ.). (Примеч. пер.)
(обратно)
836
Какэмоно — японский свиток из бумаги или шелка с рисунком или иероглифами.
(Примеч. пер.)
(обратно)
837
Кейт Гриневей (1846–1901) — английская художница, прославившаяся иллюстрациями к романам для юношества.
(Примеч. авт.)
(обратно)
838
Жюль Амедэ Барбе д’Оревильи (1808–1889) — французский писатель и публицист, родился и вырос в Нормандии.
(Примеч. пер.)
(обратно)
839
Котантен — полуостров на французском побережье Ла-Манша. в Нормандии.
(Примеч. пер.)
(обратно)
840
Феликс Фор (1841–1899) — президент Французской Республики в 1895–1899 гг.
(Примеч. пер.)
(обратно)
841
Из стихотворения Виктора Гюго «Песня Гавроша», сборник «Все струны лиры».
(Примеч. авт.)
(обратно)
842
Мари Франсуа Сади Карно (1837–1894) — президент Французской Республики в 1887–1894 гг.
(Примеч. пер.)
(обратно)
843
Потерна — закрытый ход сообщения, галерея внутри крепостных сооружений.
(Примеч. пер.)
(обратно)
844
См. роман «Роковой перекресток».
(Примеч. авт.)
(обратно)
845
Клянусь никогда не есть свинок!
(англ.) (Примеч. пер.)
(обратно)
846
Эпоха
Реставрации во Франции — периоде 1814-го по 1830 гг., время возвращения к власти Бурбонов.
(Примеч. пер.)
(обратно)
847
Альпака — модная в конце XIX века во Франции легкая, слегка блестящая шерстяная ткань.
(Примеч. пер.)
(обратно)
848
Жан-Батист Люлли (1632–1687) — композитор, скрипач, дирижер итальянского происхождения, создатель французской национальной оперы.
(Примеч. пер.)
(обратно)
849
Расин «Андромаха» (пер. И. Шафаренко и В. Шора).
(Примеч. авт.)
(обратно)
850
Жак Оффенбах написал оперетту «Орфей в аду» (1858).
(Примеч. пер.)
(обратно)
851
Такая практика существовала во Франции с XVIII в. Прокатчицы стульев получали скромное дневное жалованье и десять процентов от проданных «билетов». В 1974 г. последние представительницы этой профессии покинули городские сады.
(Примеч. авт.)
(обратно)
852
Коррез — департамент во Франции.
(Примеч. пер.)
(обратно)
853
Сальпетриер — приют для престарелых и душевнобольных в Париже.
(Примеч. пер.)
(обратно)
854
Сеятельница — аллегорический образ Франции.
(Примеч. пер.)
(обратно)
855
Северин (Каролина Реми: 1855–1929) — французская писательница и журналистка.
(Примеч. пер.)
(обратно)
856
Жюль Ферри (1832–1893),
Леон Гамбетта (1838–1882) — французские политические деятели, республиканцы, неоднократно занимавшие высокие посты в правительстве, адвокаты и публицисты.
(Примеч. пер.)
(обратно)
857
Ростан Э. «Сирано де Бержерак» (пер. Вл. Соловьева).
(Примеч. пер.)
(обратно)
858
Пьер Мари Рене Эрнест Вальдек-Руссо (1846–1904) — французский адвокат и государственный деятель. Публично отстаивал невиновность Альфреда Дрейфуса.
(Примеч. пер.)
(обратно)
859
Жан Ротру (1609–1650) — французский драматург, пользовавшийся у современников не меньшей славой, чем Пьер Корнель (1606–1684).
(Примеч. пер.)
(обратно)
860
Пер. Вл. Соловьева.
(Примеч. пер.)
(обратно)
861
Рюи Блаз — главный герой одноименной драмы В. Гюго.
(Примеч. пер.)
(обратно)
862
Теофиль-Александр Стейнлен (1859–1923) – французский художник, представитель реализма и модерна. –
Примеч. пер.
(обратно)
863
Музей Гревен – один из старейших в Европе музеев восковых фигур на бульваре Монмартр. –
Примеч. пер.
(обратно)
864
Каррик – мужское пальто с несколькими пелеринками. –
Примеч. пер.
(обратно)
865
Шарль Крессан (1685–1768) – мастер-мебельщик.
– Примеч. пер.
(обратно)
866
«Дело вдовы Леруж» – детективный роман Эмиля Габорио (1832–1873).
– Примеч. пер.
(обратно)
867
Месье Лекок – полицейский следователь, главный герой нескольких детективных романов Эмиля Габорио.
– Примеч. пер.
(обратно)
868
Жюль Лафорг (1860–1887) – французский поэт-символист.
– Примеч. пер.
(обратно)
869
Павильон Флоры – часть Луврского дворца.
– Примеч. пер.
(обратно)
870
«Обозрение Старого и Нового Света» – литературно-художественный и политико-философский журнал, издающийся в Париже с 1829 г. С 1831 г. его возглавлял Франсуа Бюлоз (1803–1877), привлекший к сотрудничеству множество видных французских деятелей науки и культуры – Сент-Бёва, Гюго, Бальзака и др.
– Примеч. пер.
(обратно)
871
«Жизнь и суждения Тристрама Шенди, джентльмена» – роман английского писателя Лоренса Стерна (1713–1768).
– Примеч. пер.
(обратно)
872
Шкварка-Биби – кличка позаимствована у персонажа романа Эмиля Золя «Западня» из цикла «Ругон-Маккары» (пер. М. Ромма).
– Примеч. пер.
(обратно)
873
Имеются в виду издания книгопечатных домов Альда Мануция и семьи Эльзевир.
– Примеч. пер.
(обратно)
874
Князь Саганский (Шарль Бозон де Талейран-Перигор; 1832–1910) считался образчиком мужской элегантности. –
Примеч. авт.
(обратно)
875
Медон – юго-западный пригород Парижа.
– Примеч. пер.
(обратно)
876
Макадам – щебеночное покрытие.
– Примеч. пер.
(обратно)
877
Жорж Шарпантье (1846–1905) – издатель писателей-натуралистов Золя, Флобера, Мопассана, Доде, братьев Гонкур, Гюисманса и пр. –
Примеч. авт.
(обратно)
878
Крылатая фраза Ламартина.
– Примеч. пер.
(обратно)
879
Как же меня допекла эта дурында, вот ведь глупая гусыня
(лимузенский диалект). –
Примеч. авт.
(обратно)
880
Песня XV века. –
Примеч. авт.
(обратно)
881
Жорж Буланже (1837–1891) – французский генерал и военный министр, предводитель антиреспубликанского движения.
– Примеч. пер.
(обратно)
882
«Ла Скала» и
«Батаклан» – знаменитые в XIX в. парижские мюзик-холлы; открыты соответственно в 1874-м и 1864 гг
– Примеч. пер.
(обратно)
883
Песня Л.-С. Дезорма на стихи Л. Делормеля и Л. Гарнье о том, как семья буржуа посетила военный парад 14 июля в Лоншане, восхваляя генерала Буланже и французскую армию. Впервые исполнена в 1886 г. в мюзик-холле «Ла Скала» в Париже.
– Примеч. пер.
(обратно)
884
Имеются в виду события Июльской революции 1830 г., закончившейся переходом власти от Бурбонов к Орлеанскому дому и установлением либерального режима.
– Примеч. пер.
(обратно)
885
Мари Эрнест Поль Бонифас, граф де Кастеллан-Новжан (1867–1932) – французский политический деятель и признанный денди.
– Примеч. пер.
(обратно)
886
Жан-Батист Кольбер (1619–1683) – французский государственный деятель, интендант финансов при Людовике XIV.
– Примеч. пер.
(обратно)
887
Начало католической молитвы к Деве Марии («Ave Maria»).
– Примеч. пер.
(обратно)
888
Виктор Бальтар (1805–1874) – французский архитектор.
– Примеч. пер.
(обратно)
889
Потаж – протертый суп.
– Примеч. пер.
(обратно)
890
См. роман «Убийство на Эйфелевой башне». –
Примеч. авт.
(обратно)
891
Геридон – круглый столик на одной ножке.
– Примеч. пер.
(обратно)
892
Слова, произнесенные Жанной д’Арк 12 июня 1429 г. во время битвы за Жаржо. –
Примеч. авт.
(обратно)
893
Притч. 19:17.
(обратно)
894
Экарте – карточная игра.
– Примеч. пер.
(обратно)
895
Роман-фельетон – «роман с продолжением», главы которого публикуются в периодическом печатном издании. В XIX в. этот жанр был очень популярен во Франции.
– Примеч. пер.
(обратно)
896
См. роман «Маленький человек из Опера».
– Примеч. пер.
(обратно)
897
Жан Вальжан – персонаж романа В. Гюго «Отверженные».
– Примеч. пер.
(обратно)
898
Феликс Фор (1841–1899) – президент Французской Республики в 1895–1899 гг.
– Примеч. пер.
(обратно)
899
Пикет – карточная игра.
– Примеч. пер.
(обратно)
900
Батай – карточная игра.
– Примеч. пер.
(обратно)
901
Анри Мартен (1860–1943) – художник-импрессионист.
Жан-Поль Лоран (1838–1921) – художник и скульптор.
– Примеч. пер.
(обратно)
902
Амбруаз Воллар (1866–1939) – знаменитый в свое время торговец произведениями искусства, коллекционер и издатель.
– Примеч. пер.
(обратно)
903
Пьер Тримуйа (1858–1929) – французский поэт-песенник и писатель-юморист.
– Примеч. пер.
(обратно)
904
Жоашен дю Белле (1522–1560) – французский поэт, теоретик творческого объединения «Плеяда» и близкий друг Ронсара.
– Примеч. пер.
(обратно)
905
Сейчас это часть улицы Птит-Трюандри. –
Примеч. авт.
(обратно)
906
На западе и юго-западе эта карточная игра называется «бриск». Писаных правил у нее нет. –
Примеч. авт.
(обратно)
907
Клеопатра Диана де Мерод (1875–1966) – французская танцовщица, очень популярная в конце XIX в.
Чулалонгкорн (1853–1910) – король Таиланда.
– Примеч. пер.
(обратно)
908
Речь идет о
деле Дрейфуса. Подробнее см. послесловие к роману К. Изнера «Маленький человек из Опера».
– Примеч. пер.
(обратно)
909
Имеется в виду Эмиль Золя.
– Примеч. пер.
(обратно)
910
Манюэль Робб (1872–1936) – французский художник и гравер.
– Примеч. пер.
(обратно)
911
Боже мой!
(нем.) – Примеч. пер.
(обратно)
912
Тони Жоанно (1803–1853) – французский живописец, иллюстратор и гравер.
– Примеч. пер.
(обратно)
913
Лиана де Пужи (1869–1950) – танцовщица, куртизанка и писательница; в свое время была знаменита не меньше, чем Сара Бернар.
– Примеч. пер.
(обратно)
914
Ромейн де Хооге (1645–1708) – голландский художник, гравер и скульптор.
– Примеч. пер.
(обратно)
915
Крапетт – карточная игра.
– Примеч. пер.
(обратно)
916
Рене Беранже (1830–1915) – французский политический деятель, адвокат.
Луи Адольф Тьер (1797–1877) – политический деятель и историк; был премьер-министром и президентом Французской Республики.
– Примеч. пер.
(обратно)
917
Орленок – прозвище Наполеона II (1811–1832), единственного законного сына Наполеона I Бонапарта.
– Примеч. пер.
(обратно)
918
Пикет – вино из виноградных выжимок.
– Примеч. пер.
(обратно)
919
Отрывок из романа Поля Феваля «Черные мантии». Здесь и далее цит. в пер. Н. Смирнова, Н. Свистунова, Е. Морозовой.
– Примеч. пер.
(обратно)
920
Сесиль Сорель (1873–1966) – французская актриса.
– Примеч. пер.
(обратно)
921
Оноре д’Юрфе (1568–1625) – французский писатель.
– Примеч. пер.
(обратно)
922
Жак Бенинь Боссюэ (1627–1704) – французский богослов и католический писатель.
– Примеч. пер.
(обратно)
923
Жорж Онэ (1848–1918) – популярный в свое время романист и драматург.
– Примеч. пер.
(обратно)
924
Слова Сганареля из комедии Мольера «Дон Жуан, или Каменный гость»
(пер. А. Федорова).
(обратно)
925
Куплеты букиниста с Нового моста из балета, представленного публике в 1650 г. –
Примеч. авт.
(обратно)
926
Этьен Доле (1509–1546) – французский писатель, поэт, издатель и филолог.
– Примеч. пер.
(обратно)
927
Боже мой, Париж!
(англ.) – Примеч. пер.
(обратно)
928
Прощайте, сэр
(англ.). – Примеч. пер.
(обратно)
929
В 1920 г. это заведение перекупила авейронка Марселлина Казес, и пивной ресторан Липпманнов получил название «Липп». –
Примеч. авт.
(обратно)
930
Жан Мореас (1856–1910) – поэт-символист.
Лоран Тайяд (1854–1919) – поэт-сатирик, эссеист и переводчик.
Жан Муне-Сюлли (1841–1916) – прославленный театральный актер.
– Примеч. пер.
(обратно)
931
Брецель – немецкий соленый крендель с тмином.
– Примеч. пер.
(обратно)
932
Гевурцтраминер – немецкий сорт белого вина.
– Примеч. пер.
(обратно)
933
Альфред Жарри (1873–1907) – французский поэт, прозаик и драматург.
– Примеч. пер.
(обратно)
934
Бурбонский дворец – место заседания Национального собрания Франции.
– Примеч. пер.
(обратно)
935
Альбер де Мен (1841–1914) – французский государственный деятель клерикально-монархических взглядов.
– Примеч. пер.
(обратно)
936
Жюль Мари (1851–1922) – французский романист.
– Примеч. пер.
(обратно)
937
Кюммель – тминная водка.
– Примеч. пер.
(обратно)
938
«Большая тайна Бау» и «Убийство как одно из изящных искусств»
(англ.). – Примеч. пер.
(обратно)
939
Жан Фруассар (ок. 1337 – после 1404) – один из самых знаменитых летописцев эпохи Средневековья. Его «Хроники» – важный источник по истории Столетней войны.
– Примеч. пер.
(обратно)
940
Мари Элизабет Луиза Виже-Лебрен (1755–1842) – французская портретистка.
– Примеч. пер.
(обратно)
941
См. роман «Маленький человек из Опера».
– Примеч. пер.
(обратно)
942
Тромплёй (фр. «обман зрения») – изображение, создающее оптическую иллюзию объема.
– Примеч. пер.
(обратно)
943
Издано А. Лакруа в Брюсселе в 1863 г., Verboeckhoven & Cie Éditeurs.
(обратно)
944
Филипп Огюст Матиас Вилье де Лиль-Адан (1838–1889) – французский поэт и писатель.
– Примеч. пер.
(обратно)
945
Парижский салон – регулярная экспозиция Академии изящных искусств, проводится с XVII в. Самая престижная художественная выставка Франции.
– Примеч. пер.
(обратно)
946
Имеется в виду Франко-прусская война 1870 г.
– Примеч. пер.
(обратно)
947
Лола Монтес (Элизабет Розанна Гилберт; 1821–1861) – ирландская актриса и танцовщица, выдававшая себя за испанку; фаворитка короля Баварии Людвига I.
Марселина Деборд-Вальмор (1786–1859) – французская поэтесса.
Селеста Могадор (1824–1909) – танцовщица.
– Примеч. пер.
(обратно)
948
Мадлен Лемер (1845–1928) – французская художница, прозванная «императрицей роз».
– Примеч. пер.
(обратно)
949
Альфонс Але (1855–1905) – французский юморист; учился на аптекаря, но бросил занятия и стал писателем.
– Примеч. пер.
(обратно)
950
Жанна Авриль (1868–1943) – танцовщица канкана в «Мулен-Руж».
– Примеч. пер.
(обратно)
951
Шарль Леандр (1862–1934) – французский художник.
– Примеч. пер.
(обратно)
952
Абель Эрман (1861–1950) – французский писатель, эссеист и драматург.
– Примеч. пер.
(обратно)
953
Лангедойль – северофранцузский диалект.
– Примеч. пер.
(обратно)
954
Имеется в виду Луи-Наполеон Бонапарт, племянник Наполеона. Речь идет о государственном перевороте 2 декабря 1851 г.
– Примеч. пер.
(обратно)
955
Голова здорова´, ума с ноготок
(лимузенский диалект). –
Примеч. авт.
(обратно)
956
Библиофил Жакоб – псевдоним Поля Лакруа (1806–1884), французского писателя и эрудита. –
Примеч. авт.
(обратно)
957
«Последние стихи Лафорга» (1890 г.), изданы друзьями поэта Феликсом Фенеоном и Эдуаром Дюжарденом. –
Примеч. авт.
(обратно)
958
Статуя, созданная в 1889 г., была уничтожена фашистскими оккупантами во время Второй мировой войны. –
Примеч. авт.
(обратно)
959
Музей в Париже в Люксембургском саду.
– Примеч. пер.
(обратно)
960
Мари-Жорж-Жан Мельес (1861–1938) – французский предприниматель и один из первых кинорежиссеров.
– Примеч. пер.
(обратно)
961
Воочию
(лат.). – Примеч. пер.
(обратно)
962
Бернар Палисси (1510–1589) – французский естествоиспытатель и художник по керамике.
– Примеч. пер.
(обратно)
963
Жорис-Карл Гюисманс (1848–1907) – французский поэт и писатель.
Реми де Гурмон (1858–1915) – писатель, критик и эссеист.
– Примеч. пер.
(обратно)
964
Жорж Эжен Осман, барон
(1809–1891) – префект департамента Сена, в который входит Париж, и градостроитель, во многом определивший облик французской столицы.
– Примеч. пер.
(обратно)
965
Строительство здания закончено в 1878 г. Сначала больница называлась Менильмонтанской, переименована в феврале 1879 г. –
Примеч. авт.
(обратно)
966
Современная авеню Гамбетта. –
Примеч. авт.
(обратно)
967
Антуан-Жан Гро (1771–1835) – «придворный» художник Наполеона.
– Примеч. пер.
(обратно)
968
Жак де Вокансон (1709–1782) – французский механик.
Жозеф-Мари Жакар, или
Жаккард (1752–1834) – ткач и изобретатель станка для узорчатых тканей.
– Примеч. пер.
(обратно)
969
Шекспир У. «Буря». –
Примеч. авт.
(обратно)
970
Персонажи романа Поля Феваля «Горбун, или Маленький парижанин».
– Примеч. пер.
(обратно)
971
«Разгром» – первый том тетралогии «Эпоха».
(обратно)
972
Всякими прочими
(ит.). – Примеч. пер.
(обратно)
973
Казимир Жак Франсуа Делавинь (1793–1843) – французский поэт и драматург.
– Примеч. пер.
(обратно)
974
«Дети Эдуарда», художник Поль Деларош. –
Примеч. авт.
(обратно)
975
Ги Молле (1905–1975) – французский государственный деятель, премьер-министр Четвертой республики.
– Примеч. пер.
(обратно)
976
Вильжюиф, Гренель, Вожирар – парижские предместья.
– Примеч. пер.
(обратно)
977
Большой дворец изящных искусств – культурный и выставочный центр в стиле боз-ар рядом с Елисейскими полями; построен специально ко Всемирной выставке 1900 г.
– Примеч. пер.
(обратно)
978
См. послесловие к роману «Маленький человек из Опера». –
Примеч. авт.
(обратно)
979
Jean-Denis Bredin: L’Affaire, Julliard, 1983. –
Примеч. авт.
(обратно)
980
Имеется в виду
английская королева Виктория (1819–1901). – Примеч. пер.
(обратно)
981
См. роман «Маленький человек из Опера». –
Примеч. авт.
(обратно)
982
Бульвар Клиши — центр ночной жизни Парижа (
Здесь и далее «звездочками» отмечены примеч. пер.).
(обратно)
983
Rue des Martyrs — «улица мучеников» по аналогии с «Горой мучеников», Монмартром.
(обратно)
984
Aутодафе —
зд.: приговор, который будет приведен в исполнение.
(обратно)
985
1 Подлинный текст афиши, опубликованный театром-кабаре «Небытие» в конце октября 1899 года (
Здесь и далее цифрами обозначены примеч. автора.).
(обратно)
986
1 Шарль Ле Барги, (1858–1936) — секретарь «Комеди-Франсез» с 1887 по 1916 г.
(обратно)
987
Известные французские актеры «Комеди-Франсез» в XIX–XX вв.
(обратно)
988
Одеон — Знаменитый парижский театр.
(обратно)
989
Сцена из «Сатирикона» Петрония: разбогатевший вольноотпущенник Трималхион, невежественный и кичливый, созывает на пир образованных бродяг и хвастается познаниями в искусстве и литературе.
(обратно)
990
Речь идет о деле Дрейфуса. Подробнее см. послесловие к роману К. Изнера «Маленький человек из Опера».
(обратно)
991
Анатоль Франс (1844–1924) — знаменитый французский романист и критик. Эдуард Вюйар (1868–1940) и Пьер Боннар (1967–1947) — живописцы.
(обратно)
992
Почтовый стан, или почтовая станция — место, где путешественники отдыхали и меняли почтовых лошадей.
(обратно)
993
Жан Огюст Доменик Энгр (1780–1867) — французский художник, лидер европейского академизма XIX в.
(обратно)
994
«Чтение для всех» — парижский журнал к. XIX — н. XX вв.
(обратно)
995
1 Уличный шансон, исполняемый певицей Эжени Бюффе.
(обратно)
996
1 Дезире Макар — торговец лошадьми и хозяин живодерни, его имя стало нарицательным.
(обратно)
997
Имеется в виду Вторая англо-бурская война (1899–1902 гг.)
(обратно)
998
1 С 1955 года сквер Опера-Луи-Жуве.
(обратно)
999
Названия японских городов.
(обратно)
1000
Синоним «харакири».
(обратно)
1001
Босацу — в японской буддийской мифологии бодхисаттва, который воплощает дух просветления.
(обратно)
1002
Французские актрисы к. XIX вв.
(обратно)
1003
Фарандола — провансальский хороводный танец.
(обратно)
1004
Жанна Дельвер (1877–1949) — знаменитая французская актриса.
(обратно)
1005
Опопанакс, гелиотроп — растения, ароматические смолы.
(обратно)
1006
Мушка, или желтый карлик — старинная карточная игра с необычными правилами.
(обратно)
1007
Рудольф Фальб (1838–1903) — немецкий ученый-астроном.
(обратно)
1008
Пьер-Жан Беранже (1780–1857) — французский поэт-сатирик.
(обратно)
1009
Пер. А. Н. Апухтина.
(обратно)
1010
1 Роман был опубликован в 1894 году.
(обратно)
1011
Шлемазл, мешуга (
евр.) — сумасшедший, не в своем уме.
(обратно)
1012
Сатин-либерти — сорт блестящей мягкой шелковой (полушелковой) материи.
(обратно)
1013
Баденге — насмешливое прозвище Наполеона III.
(обратно)
1014
Эмма Кальве (1858–1942) — французская оперная певица.
(обратно)
1015
Мидинетка (
устар.) — молодая парижская швея.
(обратно)
1016
Николя Пуссен (1594–1665) — французский художник-классицист.
(обратно)
1017
Безик — карточная игра.
(обратно)
1018
Жан-Батист Грёз (1725–1805) — французский художник-жанрист.
(обратно)
1019
Зд.: полумера, временная помощь.
(обратно)
1020
Из пьесы «Полиевкт» (акт 1, сцена 1), 1642 г.
(обратно)
1021
1 Роман Мориса Леблана, автора книг об Арсене Люпене, вышедший в 1898 году.
(обратно)
1022
Гектор Берлиоз (1803–1869) — французский композитор и дирижер.
(обратно)
1023
Тильбюри — легкая открытая карета.
(обратно)
1024
Старое название парка Монсо — Фоли де Шартр.
(обратно)
1025
Kenavo — бретонское слово, означающее «до свидания».
(обратно)
1026
Terminado (
исп.) — закончен, завершен, готов.
(обратно)
1027
Робер-Уден Жан Эжен (1805–1871) — знаменитый французский иллюзионист.
(обратно)
1028
1 Жорж Мельес (1861–1938) — французский режиссер, один из основателей кинематографа.
(обратно)
1029
* В 1798 году в Париже некий Робертсон терроризировал зрителей своим «фантаскопом». Сидя в темноте, публика действительно верила, что присутствует при сверхъестественных явлениях призраков и скелетов.
(обратно)
1030
Зуавы — название элитных частей пехоты французских колониальных войск.
(обратно)
1031
Остеохондроз, заболевание позвоночника.
(обратно)
1032
Пифия (
др. — гр.) — жрица-прорицательница.
(обратно)
1033
Альфонс Карр (1808–1890) — французский писатель и публицист.
(обратно)
1034
Набоб — некогда титул правителей в Индии.
Здесь: богач.
(обратно)
1035
Верцингеторикс (82 до н. э. — 46 до н. э.) — вождь, возглавивший восстание галльских племен против Цезаря.
(обратно)
1036
Дамаст — материя с шелковой основой и шерстяным утком.
(обратно)
1037
Огюстен Эжен Скриб (1791–1861) — французский драматург, специализировавшийся на комедиях и водевилях.
(обратно)
1038
Жерар де Нерваль (1808–1855) — французский поэт-романтик, автор исторических драм и оперных либретто.
(обратно)
1039
Один из первых бульварных театров в Париже.
(обратно)
1040
Verba volant, scripta manent (
лат.) — слова улетают, написанное остается.
(обратно)
1041
Микадо — древний титул правителя Японии.
(обратно)
1042
Леер (
нидерл.) — туго натянутый трос на судне.
(обратно)
1043
Маниту — «великий дух» в мифологии индейцев.
(обратно)
1044
Вольтижировка — вид конного спорта с акробатическими упражнениями.
(обратно)
1045
1 Режиссеры фильмов, соответственно, — Джеймс Стюарт Блэктон (США), Шибата Цунекиши (Япония), Джеймс Уильямсон (Великобритания), Фруктуос Хелаберт (Испания).
(обратно)
1046
Агуардиенте — испанская водка.
(обратно)
1047
Гратен — блюдо, запеченное в духовке до образования корочки.
(обратно)
1048
Горгульи — фантастические животные.
(обратно)
1049
Фризы — декоративные украшения собора.
(обратно)
1050
Шпалеры — система решеток с вьющимися растениями.
(обратно)
1051
Ригель — несущие элементы постройки.
(обратно)
1052
Кипсек — альбом гравюр, рисунков, репродукций.
(обратно)
1053
Вальполичелла — итальянское вино.
(обратно)
1054
По-французски фраза «Президент еще в сознании?» (Le président a-t-il encore sa connaissance?) может быть понята как «Президент еще принимает свою знакомую?».
(обратно)
1055
Юнион-Джек — флаг Великобритании.
(обратно)
1056
Диплодок — род динозавра.
(обратно)
1057
Перевод Марка Фрейдкина. (
Здесь и далее звездочками отмечены примечания переводчика.)
(обратно)
1058
Пешеходный мост Инвалидов представлял собой временное сооружение, построенное специально к Всемирной выставке 1900 г. чуть ниже по течению от моста Инвалидов.
(обратно)
1059
Большое колесо – колесо обозрения диаметром 100 м и весом 40 тонн, построенное специально к выставке. До 80 гг. XX века являлось крупнейшим в мире.
(обратно)
1060
Во время выставки во Дворце иллюзий был установлен телескоп с объективом диаметром 1,25 м, позволявший увидеть Луну с расстояния 1 м. На тот момент был самым большим в мире.
(обратно)
1061
«Ты снова дома, жив и здоров,/И пусть с ревом клокочет вода, Джек…/Не забывай своего старого корабельного друга…/И ПОМНИ О МАРИИ СЕЛЕСТЕ» (
англ.).
(обратно)
1062
Лои Фуллер (1862–1928) – американская актриса и танцовщица, ставшая основательницей танца модерн.
(обратно)
1063
Роман Джерома К. Джерома. Английское название: «Three Men in a Boat (To Say Nothing of the Dog)». Эта книга, опубликованная в 1889 году, в 1894 году была переведена на французский и пользовалась таким огромным успехом, что ее подпольные тиражи составили миллион экземпляров. (
Здесь и далее цифрами обозначены примечания автора.)
(обратно)
1064
Выставка десятилетия проводилась в рамках Всемирной выставки. В ней были представлены около 6500 произведений современного искусства работы 3000 художников из 29 стран.
(обратно)
1065
Анри Бергсон (1859–1941) – один из наиболее значимых философов XX века, представитель интуитивизма и философии жизни.
(обратно)
1066
Октав Мирбо (1848–1917) – французский писатель, романист, драматург, публицист и художественный критик. Член Академии Гонкуров.
(обратно)
1067
Джером К. Джером, «Трое в лодке, не считая собаки», глава XV. Перевод с англ. М. Салье.
(обратно)
1068
Ихэтуаньское (оно же Боксерское) восстание (1898–1901) – мятеж против иностранного вмешательства в экономику, внутреннюю политику и религиозную жизнь Китая.
(обратно)
1069
Гюстав Эмар (настоящее имя Оливье Глу, 1818–1883) – французский писатель, автор приключенческих романов, один из классиков жанра «вестерн» в литературе.
(обратно)
1070
Виадук Отей – бывший мост через Сену. Снесен в 1959 году, в 1963 году на его месте был возведен мост Гарильяно.
(обратно)
1071
Каломель – редкий минерал из класса галогенидов, хлорид ртути.
(обратно)
1072
Жозефина Богарне была женой Наполеона. Здесь автор использует игру слов: Beauharnais (на русский язык передается как «богарне») в раздельном написании означает «красивая сбруя».
(обратно)
1073
См. роман «Полночь в Часовом тупике».
(обратно)
1074
Альберто Сантос-Дюмон (1873–1932) – пионер авиации. Разработал, построил и испытал первый управляемый воздушный шар.
(обратно)
1075
Билли Бонс – один из персонажей романа Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ» (1883).
(обратно)
1076
См. роман «Леопард из Батиньоля».
(обратно)
1077
Международное общество спальных вагонов и скорых европейских поездов – основано в Бельгии в 1872 году. На рубеже XIX–XX веков осуществляло львиную долю ночных пассажирских перевозок в Европе.
(обратно)
1078
С 1945 года – Авеню Нью-Йорк.
(обратно)
1079
Очень приятно… – Это не проблема… – В этом изумительном Париже можно без труда найти развлечение (
англ.).
(обратно)
1080
Простите, я думал, вы француз (
англ.).
(обратно)
1081
«Бульон Дюваль» – сеть ресторанов, созданная Александром Дювалем. Славилась своими бульонами и супами.
(обратно)
1082
Уильям Тернер (1775–1851) – британский живописец, мастер романтического пейзажа, предтеча французского импрессионазма.
(обратно)
1083
«Виши-Селестен» – французская марка минеральной воды, принадлежащая ныне компании «Нептун», которая входит в группу «Альма».
(обратно)
1084
Тумба Морриса – в Париже уличная высокая тумба цилиндрической формы для вывешивания афиш, названная по имени парижского печатника Габриэля Морриса.
(обратно)
1085
Оберланд – горная часть кантона Берн в Швейцарии.
(обратно)
1086
Да (
англ.).
(обратно)
1087
Партитура опубликована издательством «Вуари и компания», Париж, ул. Ришелье, 81.
(обратно)
1088
Жорж Гурса (1863–1934) – французский художник-карикатурист.
(обратно)
1089
Игра слов. Часть фамилии «Лакуто» по-французски звучит похоже на прилагательное «дорогой, дорогостоящий».
(обратно)
1090
Рокамболь – герой цикла романов Понсона дю Террайля. Умный, коварный злодей, впоследствии перешедший на сторону добра.
(обратно)
1091
«Бифштекс» – презрительное прозвище, которым французы называют англичан.
(обратно)
1092
Флик – разговорное прозвище полицейских во Франции.
(обратно)
1093
Бога ради (
англ.).
(обратно)
1094
Английское слово «young» переводится как «молодой» или «младший».
(обратно)
1095
Пешедралом, на своих двоих (
лат.).
(обратно)
1096
«Камо грядеши» – роман Генрика Сенкевича.
(обратно)
1097
Тарар – горный массив неподалеку от Лиона.
(обратно)
1098
Настоящее имя Мольера – Жан-Батист Поклен, Мольер – лишь его сценический псевдоним.
(обратно)
1099
Тории Киёнага – знаменитый японский художник (1752–1815).
(обратно)
1100
Аквилегия – род травянистых многолетних растений семейства лютиковых.
(обратно)
1101
В Италии – шестьсот сорок, в Германии – двести тридцать одна, сотня – во Франции, в Турции – девяносто одна, но в Испании уже тысяча три (
ит.).
(обратно)
1102
Ария Лепорелло, слуги Дон Жуана.
(обратно)
1103
Слова, слова, слова (
англ.).
(обратно)
1104
Хендрик Аверкамп (1585–1634) – голландский живописец. Был глухонемым от рождения, за что получил прозвище Немой из Кампена.
(обратно)
1105
Якоб ван Рёйсдал (1628–1682) – наиболее значительный голландский художник-пейзажист.
(обратно)
1106
Франс Хальс (1582–1666) – выдающийся портретист, представитель так называемого Золотого века голландского искусства.
(обратно)
1107
Питер Брейгель Старший (1525–1569) – голландский живописец и график, мастер пейзажа и жанровых сцен.
(обратно)
1108
В книге, открытой наугад (
лат.).
(обратно)
1109
Поль Верлен, из книги «Мудрость», перевод Валерия Брюсова.
(обратно)
1110
Обезьяний кулак – веревочный узел. Свое название получил из-за схожести со сжатым кулаком. Применялся в качестве стопорящего узла в парусном флоте.
(обратно)
1111
Жозеф Кристоф (1662–1748) – французский художник, его учителем был Бон Булонь Старший.
(обратно)
1112
Николя Буало (1636–1711) – французский поэт, критик, теоретик классицизма.
(обратно)
1113
Жан-Батист Люлли (1632–1687) – французский композитор, скрипач и дирижер, создатель французской национальной оперы.
(обратно)
1114
Пьер Миньяр (1612–1695) – французский художник.
(обратно)
1115
Луи Жан-Мари Добантон (1716–1799) – французский натуралист, соавтор «Естественной истории» Бюффона.
(обратно)
1116
Доминик Виван-Денон (1747–1825) – французский гравер, египтолог-любитель, основатель и первый директор Луврского музея.
(обратно)
1117
Жан-Жак Одюбон (1785–1851) – американский натуралист и художник.
(обратно)
1118
Сапер Камамбер – герой комиксов Кристофа (настоящее имя – Жорж Коломб, 1856–1945), действие которых разворачивается во время франко-прусской войны.
(обратно)
1119
Камиль Сен-Санс (1835–1921) – французский композитор, дирижер, музыкальный критик и писатель.
(обратно)
1120
Фернан Кормон (1845–1924) – французский художник-реалист.
(обратно)
1121
Альбер Пьер Рене Меньян (1845–1908) – французский художник и иллюстратор.
(обратно)
1122
Шарль Котте (1863–1925) – французский художник, в 1900 году входил в группу живописцев, отрицавших модных по тем временам постимпрессионистов.
(обратно)
1123
«Похороны предводителя галлов» – героическое полотно Фернана Кормона.
(обратно)
1124
Паскаль Даньян-Бувре (1852–1929) – французский художник-реалист.
(обратно)
1125
Вильям Бугро (1825–1905) – французский живописец, крупнейший представитель салонного академизма, автор картин на мифологические, аллегорические и библейские сюжеты.
(обратно)
1126
Эдуард-Жан-Батист-Детайль (1848–1912) – французский художник-реалист.
(обратно)
1127
«Психея и Амур» – картина Вильяма Бугро.
(обратно)
1128
«Почетная капитуляция гарнизона Ханинга» – полотно Эдуарда Детайля.
(обратно)
1129
Жорж-Антуан Рошгросс (1859–1938) – французский художник, декоратор и иллюстратор.
(обратно)
1130
Жюль-Жозеф Лефевр (1836–1911) – французский салонный художник, специализировался на изображении обнаженных девушек.
(обратно)
1131
Мадам де Севинье (1626–1696) – писательница, чьи «Письма» стали самым знаменитым в истории французской литературы эпистолярием.
(обратно)
1132
Уильям Хогарт (1697–1764) – английский художник, иллюстратор, автор сатирических гравюр.
(обратно)
1133
Чарльз Берд Кинг (1785–1862) – американский художник-портретист.
(обратно)
1134
«Гран-Гиньоль» – парижский театр ужасов, один из родоначальников и первопроходцев жанра «хоррор».
(обратно)
1135
«Театр веселых авторов» – театр под открытым небом, созданный к Всемирной Выставке 1900 года. Его репертуар состоял из шести спектаклей, сочиненных, как утверждалось в проспектах, «самыми веселыми авторами Парижа».
(обратно)
1136
Жорж Куртелин (1858–1929) – французский писатель и драматург.
(обратно)
1137
См. роман «Полночь в Часовом тупике».
(обратно)
1138
В описываемые времена в Буживале на берегу Сены была установлена машина Марли, питающая водой парк Версаля.
(обратно)
1139
Зверь с двумя спинами – метафора, содержащая в себе намек на занятия любовью. Одними из первых ее использовали Шекспир – в трагедии «Отелло» и Франсуа Рабле – в романе «Гаргантюа и Пантагрюэль».
(обратно)
1140
Эмиль Лубе (1838–1929) – французский политический деятель, президент Франции (Третья республика, 1899–1906).
(обратно)
1141
«Берлинер Цайтунг», «Глас Навоола», «Коррьере делла Сера», «Де Телеграаф», «Диариу де Нотисиаш», «Дагенс Нюхетер» – немецкая, чешская, итальянская, нидерландская, португальская и шведская газеты.
(обратно)
1142
Камо грядеши (
лат.).
(обратно)
1143
«Желтый карлик» – карточная игра, в которой ключевую карту, бубновую семерку, называют «желтым карликом».
(обратно)
1144
Мари-Анн де Бове – французская писательница, феминистка и патриотка. Родилась в 1855 году в г. Мец. Обстоятельства и дата смерти неизвестны, ее последнее произведение было опубликовано в 1935 году, когда ей было 80 лет.
(обратно)
1145
Ныне набережная Андре Ситроена.
(обратно)
1146
Битва при Сольферино – крупнейшее сражение австро-итало-французской войны, состоявшееся 24 июня 1859 года между объединенными войсками Франции, Пьемонта и Сардинии против австрийской армии. Одним из героев этой битвы был генерал Шарль-Проспер Дьё (Charles-Prosper Dieu, 1813–1860). «Dieu» в переводе с французского означает «Бог».
(обратно)
1147
Нынешняя улица Ив-Тудик.
(обратно)
1148
Безонь – судно, преимущественно использовавшееся для транспортировки грузов в нижнем течении Сены.
(обратно)
1149
Марнуа – грузовой корабль, чаще всего использовавшийся в верхнем течении Сены.
(обратно)
1150
Лавандьер – судно, на котором перевозились грузы по каналу Сен-Дени.
(обратно)
1151
«Госпожа Бовари» – произведение Гюстава Флобера, «Отверженные» – Виктора Гюго, «Робинзон Крузо» – Даниеля Дефо, «Кузен Понс» – Оноре де Бальзака, «Маленькая Фадетта» – Жорж Санд, «Пармская обитель» – Стендаля, «Дамское счастье» – Эмиля Золя. «Цветы зла» – стихотворный сборник Шарля Бодлера. Что касается романа «Принцесса Клевская», то этот роман был опубликован в 1678 году анонимно, но его автором многие считают мадам де Лафайет.
(обратно)
1152
«Гений христианства» – философский трактат Франсуа Рене де Шатобриана (1768–1848).
(обратно)
1153
Васи – традиционная японская бумага, производится из волокон коры так называемого бумажного дерева. Отличается высоким качеством и прочностью.
(обратно)
1154
Ныне авеню Фош.
(обратно)
1155
Пьер Луи (1870–1925) – французский поэт, писатель и мистификатор, разрабатывавший эротическую тематику и вдохновенно воспевавший лесбийскую любовь.
(обратно)
1156
Крапетта – карточная игра.
(обратно)
1157
Жюль де Гастин (настоящее имя Жюль Бенуа, 1847–1920) – французский журналист и писатель, автор ряда романов и водевилей.
(обратно)
1158
Хакама – первоначально в Японии кусок материи, обертываемый вокруг бедер, позднее – длинные широкие штаны в складку, похожие на юбку.
(обратно)
1159
Камисимо – костюм, который самураи и придворные носили в эпоху Эдо.
(обратно)
1160
Кеса – героиня японского эпоса, повествующего о несчастной любви женщины к самураю Морито.
(обратно)
1161
Клод Проспер Жолио де Кребийон (1707–1777) – французский писатель, сын поэта и драматурга Проспера Жолио де Кребийона.
(обратно)
1162
Марсуэн (фр.
marsouin) – морская свинка.
(обратно)
1163
Игра слов: французское слово «pignouf», созвучное с фамилией Пиньо, переводится как «хам, грубиян, свинья».
(обратно)
1164
Мари Франсуа Сади Карно (1837–1894) – французский инженер и политический деятель, президент Франции в 1887–1894 годах. 24 июня 1894 года был убит итальянским анархистом Санте Казерио.
(обратно)
1165
Рене Бине (1866–1911) – французский архитектор, художник и теоретик искусства.
(обратно)
1166
Бони де Кастеллан (1867–1933) – французский политический деятель, в Прекрасную эпоху считался главным законодателем вкусов.
(обратно)
1167
Клео де Мерод (1875–1966) – французская танцовщица, звезда Прекрасной эпохи.
(обратно)
1168
По замыслу создателей театра, его передняя стена должна была изображать собой юбку или шаль с оборчатым краем.
(обратно)
1169
«Гран Магазен дю Лувр» – универмаг в Париже, основан в 1855 году, окончательно закрыт в 1974 году.
(обратно)
1170
Дерианур – алмаз весом 182 карата, считающийся самым крупным и прекрасным бриллиантом иранских шахов.
(обратно)
1171
Основано в 1885 году.
(обратно)
1172
Сюлли-Прюдом (настоящее имя Рене Франсуа Арман Прюдом, 1839–1907) – французский поэт и эссеист, первый лауреат Нобелевской премии по литературе (1900).
(обратно)
1173
«Шабане» – знаменитый парижский бордель. Располагался неподалеку от Национальной библиотеки. Был закрыт в 1946 году.
(обратно)
1174
Джордж Брайан Браммел, он же Красавчиик Браммел (1778–1840) – английский денди, законодатель моды в эпоху Регентства.
(обратно)
1175
У. Шекспир, «Макбет», акт II, сцена I, перевод Ю. Корнеева.
(обратно)
1176
Феликс Зим (1821–1911) – французский живописец архитектурных и морских видов в стиле «барбизонской школы».
(обратно)
1177
Пьяцетта – небольшая площадь в Венеции, расположена между площадью Святого Марка и каналом.
(обратно)
1178
Баркарола – народная песня венецианских гондольеров.
(обратно)
1179
Джордж Кэтлин (1796–1872) – американский путешественник и живописец, в течение восьми лет изучал жизнь 48 индейских племен.
(обратно)
1180
Вплоть до 1960-х годов располагался на левом берегу, на месте нынешнего факультета естественных наук Университета Пьера и Марии Кюри.
(обратно)
1181
Жан-Батист Грез (1725–1805) – знаменитый французский живописец-жанрист.
(обратно)
1182
Эмабль (aimable) переводится с французского как «приятный, милый».
(обратно)
1183
Альбер Робида (1848–1926) – французский карикатурист, иллюстратор и писатель-футурист.
(обратно)
1184
Средневековое обращение «шевалье» дословно означало «рыцарь».
(обратно)
1185
«Никельодеон» – кинотеатр в США начала XX века, в котором фильмы демонстрировались за 5 центов (5-центовую монету в обиходе называли «никелем»).
(обратно)
1186
Фермата – продление звука или паузы при исполнении музыкального произведения, особенно в конце.
(обратно)
1187
«Париж 1900», издательство «Ашетт», 1951.
(обратно)
1188
Английский водитель (
англ.) и немецкий водитель (
нем.)
(обратно)
1189
В оригинале игра слов: «Луковка» по-французски –
Ciboulette, что также может быть понято на слух как
six boulettes, то есть «шесть неудачных произведений»; «вместе с “Моцартом” их будет уже семь».
(обратно)
Оглавление
Клод Изнер
«Убийство на Эйфелевой башне»
ПРОЛОГ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ГЛАВА ВТОРАЯ
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ГЛАВА ПЯТАЯ
ГЛАВА ШЕСТАЯ
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Клод Изнер
«Происшествие на кладбище Пер-Лашез»
Пролог
Колумбия, провинция Каука
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Послесловие
Клод Изнер
«Роковой перекрёсток»
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвёртая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Глава тринадцатая
Глава четырнадцатая
Эпилог
Клод Изнер
«Тайна квартала Анфан-Руж»
ПРОЛОГ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ГЛАВА ВТОРАЯ
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ГЛАВА ПЯТАЯ
ГЛАВА ШЕСТАЯ
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
ЭПИЛОГ
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Клод Изнер
«Леопард из Батиньоля»
ПРОЛОГ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ГЛАВА ВТОРАЯ
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ПЯТАЯ
ГЛАВА ПЯТАЯ
ГЛАВА ШЕСТАЯ
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
ЭПИЛОГ
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Клод Изнер
«Талисман из Ла Виллетт»
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ГЛАВА ВТОРАЯ
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ГЛАВА ПЯТАЯ
ГЛАВА ШЕСТАЯ
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
ЭПИЛОГ
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Клод Изнер
«Встреча в Пассаже д’Анфер»
ПРОЛОГ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ГЛАВА ВТОРАЯ
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ГЛАВА ПЯТАЯ
ГЛАВА ШЕСТАЯ
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
ЭПИЛОГ
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Клод Изнер
«Мумия из Бютт-о-Кай»
Пролог
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Глава тринадцатая
Глава четырнадцатая
Глава пятнадцатая
Глава шестнадцатая
Глава семнадцатая
Глава восемнадцатая
Глава девятнадцатая
Глава двадцатая
Глава двадцать первая
Эпилог
Послесловие
Клод Изнер
«Маленький человек из Опера де Пари»
ПРОЛОГ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ГЛАВА ВТОРАЯ
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ГЛАВА ПЯТАЯ
ГЛАВА ШЕСТАЯ
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Эпилог
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Клод Изнер
Коричневые башмаки с набережной Вольтера
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвёртая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Глава тринадцатая
Глава четырнадцатая
Глава пятнадцатая
Глава шестнадцатая
Глава семнадцатая
Глава восемнадцатая
Глава девятнадцатая
Глава двадцатая
Эпилог
Послесловие
Клод Изнер
Полночь в Часовом тупике
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Глава тринадцатая
Глава четырнадцатая
Глава пятнадцатая
Глава шестнадцатая
Глава семнадцатая
Глава восемнадцатая
Эпилог
Послесловие
Клод Изнер
Дракон из Трокадеро
Глава первая
Пятница, 20 июля 1900 года
Глава вторая
Суббота, 21 июля
Глава третья
Воскресенье, 22 июля
Глава четвертая
Тот же день, ближе к вечеру
Глава пятая
Понедельник, 23 июля
Глава шестая
Вторник, 24 июля
Глава седьмая
Среда, 25 июля, утро
Глава восьмая
В тот же день, после полудня
Глава девятая
Четверг, 26 июля
Глава десятая
Вечер того же дня
Глава одиннадцатая
Пятница, 27 июля
Глава двенадцатая
Суббота, 28 июля
Глава тринадцатая
Воскресенье, 29 июля
Глава четырнадцатая
Понедельник, 30 июля, восемь часов утра
Глава пятнадцатая
Тот же день, вечер
Глава шестнадцатая
Вторник, 31 июля
Глава семнадцатая
Среда, 1 августа
Глава восемнадцатая
Четверг, 2 августа
Глава девятнадцатая
Пятница, 3 августа
Глава двадцатая
Тот же день, ближе к вечеру
Глава двадцать первая
Тот же день, вечер
Глава двадцать вторая
Четверг, 9 августа
Эпилог
Воскресенье, 26 августа
Послесловие
*** Примечания ***