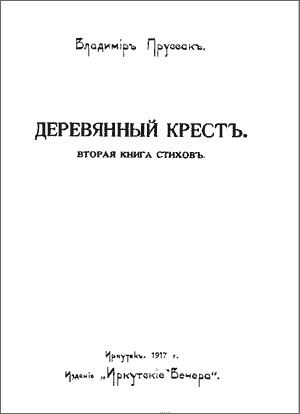Владимир Васильевич Пруссак
Цветы на свалке
Цветы на свалке*
1915
 (обратно)
(обратно)
Поэтезы
«Поэты вписаны в угрюмые реестры…»
Поэты вписаны в угрюмые реестры.
Кусочки славы. Золоченый культ.
Я не участник вашего оркестра;
Не сяду я за дирижерский пульт.
Что мне за радость в сильных камертонах?
Налажу сам звенящую мечту!
Хочу венца, хотя бы из картона,
И популярность славе предпочту.
Парнас не для меня. Я розовый бездельник.
Люблю кричащий, пестротканый хлам.
Хочу признания, хотя бы на неделю,
Хочу известности, рецензий и реклам.
(обратно)
«Потише, люди! Поэт в ударе…»
Потише, люди! Поэт в ударе.
Он быстро нижет сплетенья строк;
Он мчится с Музой в угарной паре;
В его движеньях – всевластный рок.
Пред ним – разбитые скрижали
Законов мести, живой тоски.
Перед святыней не задрожали
Порывы творческой руки.
Вдали – унылые колонны
Когда-то доблестных вождей.
Поэт суровей и непреклонней,
Проникновенней других людей.
Все гимны жизни, все битвы чести,
Все ласкословья, все цепи бурь
Поэту радостные вести:
Он претворил их в свою лазурь.
У ног его – рыданья женщин
Им обесчещенных, шутя;
Он бурной прихотью увенчан,
Он ясный старец и дитя.
Не докучай заветом ветхим,
Не омрачай его лица:
Вся ценность жизни наивной Гретхен
Мотивы страсти в душе певца.
Цветут улыбки. Гремят аккорды.
Взвивают мысли пируэт.
Любуйся дерзким, любуйся гордым
И преклоняйся, – ведь он поэт.
(обратно)
«Я молился с сектантами о Христовом пришествии…»
Я молился с сектантами о Христовом пришествии;
На раденьях скакал святострастным хлыстом;
Полюбив чернокнижников, потаенно волшебствовал,
Перед тайнами Дьявола простираясь пластом.
Восходя на высоты, отдаваясь подполью,
Я всюду искал золотых перемен;
Некрасивых безумцев обнаженные боли
Увлекали меня в отвратительный плен.
Мне внушал откровенья бриллиантовый опиум.
Нестерпимых кошмаров, снежнорозовых грез
Непреложным религиям, социальным утопиям
Поучал, зеленея, нежножгучий шартрез.
Поцелуев невинных ароматные шелесты
Обещали влюбленности боязливый урок.
В четких стансах Искусство со мной ликовало,
Напевая напевно за напевом напев.
Удивляясь голодным, я спускался в подвалы,
Раздувая мятежно старобронзовый гнев.
Оступался, блуждая красноватыми кручами,
И валялся под нарами арестантских палат,
Слушал жуткое пенье ядовитых наручников,
Утомленно одергивал надоевший халат.
Замыкаясь печатями неподвижных канонов,
Эксцессировал рьяно, буднепылью томим.
Невозможные прихоти наперед узаконив,
Оставался свободным и собою самим.
(обратно)
«Кую безжизненные звенья…»
Кую безжизненные звенья
Моих рифмованных минут,
Не понимая вдохновенья.
В моих стихах – упорный труд
И жиловатое терпенье.
Стремясь найти родимый кров,
В чаду растерянно блуждаю
Не мною сложенных костров,
Пока безвольно подражаю
Картинам старых мастеров.
Но в серых строчках силы дремлют,
Неискушенные ни в чем,
Как бы готовясь душным днем
Пролиться на сухую землю
Животрепещущим ключом.
Законодателей презрев,
Доселе чуждыми словами
Я обозначу свой напев;
Рисую четкими строфами
Мою любовь и гулкий гнев.
(обратно)
«Я знаю, дамы! Я знаю, барышни…»*
Я знаю, дамы! Я знаю, барышни,
Чего вы ждете от скользких рифм!
Вы улыбаетесь угарочно,
Напоминая хищных нимф.
В моих стихах, – больной эротикой
Проникнут каждый ассонанс,
И потому вы так восточнитесь,
Легко впадая в любовный транс.
Я – добродушное превосходительство.
В своем надушенном саду
Я принимаю снисходительно
Восторженные billets-doux.
Вы так экстазны в эстетной блузочке;
Вы так эксцессны, demoiselle!
Я вас порадую изящной музыкой
Своих надуманных новелл.
Я изменю, змея созвучьями,
Моей манерной dame de coeur.
Вы просмакуете измученно
Пытальной ласки хмельной ликер.
Нельзя наивничать с кумирами…
Ах, Вы подумали такую чушь!
Я вам не стану декламировать
Мои стихи – pour la bonne bouche.
Мы покатаемся на скетинге,
Взаиможажды лелея боль.
Потом развратно поаскетничать
Автомобилим в «Metropole».
Нам будет томно в шикарном номере;
Мы сядем вместе на софу.
Я расскажу, как рифмы померли,
Когда запели эго-фу.
Вы засмеетесь истерически,
Когда под утро, – какой пассаж! –
Нам помешает электричество
И слишком стянутый корсаж.
Упрямой волей блаженных постников,
Янтарной страстью палачей
Овальные означу оттиски
На перламутровом плече.
Часу в девятом мою наложницу
Пропустит заспанный консьерж.
Я продаю в себе художника
За поцелуи demi-vierge.
(обратно)
(обратно)
«Ты в ассонансах – праздный шут…»
Футуристу
Ты в ассонансах – праздный шут,
Укравший дивное созвездье.
Тебе готовит строгий суд
Нелицемерное возмездье.
Но все же ты – правдивый бог,
Одетый в грязные лохмотья.
Тебе – украшенный чертог;
Хулители – на эшафоте.
Окутай дерзкие мечты
Покровом суеверной ткани
Юродствуй ради красоты,
Кощунствуй в ярких изысканьях.
И поражений и побед
Пребудь как бы сторонний зритель,
Еще непризнанный поэт,
Уже осмеянный мыслитель.
(обратно)
Зазыв
«Свежие орехи! Тепленькие пончики!..»
Свежие орехи! Тепленькие пончики!
Улично интимен семейный ресторан.
Новая поэза! Только что закончена!
Мы не настоящие. Мы синемоэкран.
Избранное общество: бурные ораторы,
Девушки, поэты, лучшие певцы.
Заострим ракетно! Затанцуем кратерно!
Легкого мгновения поспешные ловцы.
Смейтесь упоительно! Радуйтесь влюбленно!
Лунно оволшебнен каждый силуэт.
Девушки, не медлите: будьте благосклонны.
Брызгай звуколасками, ликующий поэт!
Правда заапрелилась розовой феерией.
Взорван смехострелами удушливый туннель.
Оживают мамонты! Олазурен Блерио!
Рифмы чисто вымыли грязную панель.
Мы не размышляем, убедившись в чем-то!
Вечер фиолетится. Одиннадцать часов.
Будем целоваться! Бешено экспромтить!
Будем звездосказкой! Грезою лесов!
(обратно)
«Больше я не фокусник, чинно напомаженный…»
Больше я не фокусник, чинно напомаженный.
Сразу мы покончили тягучие дела.
Стало ослепительно. Радостно и радужно.
Скинули оковы дерзкие тела.
Светлые поэты! Безрассудно выстроим
Пышными поэзами украшенный сераль,
Чтобы покраснели важные филистеры,
Чтобы растерялась терпкая мораль.
Девушки движеньями гордо грациозными
Сдержанной корректности поставили капкан.
Правила приличия закиданы мимозами!
Пляшет целомудрие безнравственный канкан!
Льются и лепечут легкие мелодии.
Мраморные статуи рассыпали сирень.
Пламенно взвивается воздушное бесплодие,
Стелятся томления возжаждавших сирен.
Пиршество за пиршеством! Оргия за оргией!
Томные танцовщицы сменяют Лорелей!
После будем умными, насытившись восторгами,
Будем озадачивать трухлявых королей.
(обратно)
«Капельку внимания! Правда или ересь?..»
Капельку внимания! Правда или ересь?
Правда ли, что я разнузданный апаш?
Сядьте вот сюда. Потягивая херес,
Выслушайте доводы почтеннейших папаш.
Кельнерши, подайте бурного шампанского
Честным недомыслиям свидетельских скамей!
Правда ли, что я напевами шаманскими
Пачкаю наследниц чопорных семей?
Будто, огримасничав несчетности милльонов
Дедовских шкатулок, банков и контор,
Нынче эти девушки бонтонностям салонов
Ярко предпочли целующий простор?
Только лицемеры! Только фарисеи,
Им уже наскучили костлявые года.
Скопища условностей улыбчиво рассеяв,
Нынче я свободен. Я любим всегда.
(обратно)
(обратно)
Мои знакомые
«Неужели проиграна жизнеценная ставка?..»
Неужели проиграна жизнеценная ставка?
Нерасцветший порыв навсегда похоронен?
Повстречалися мы на эсеровской явке:
Я случайно замедлил, объезжая районы.
Я – партийный оратор. Вы – моя оппонентка.
Деловая дискуссия замерла увертюрно.
Мы, конечно, товарищи. Но бывали моменты…
Но бывали моменты ожиданий лазурных.
Вам казались героями все комитетчики;
За стальными партийцами Вы хотели угнаться…
Уставали над шрифтом полудетские плечики,
Вы кидали на улицы грозоклич прокламаций.
Невиданий три года. Судьбосмеха зломессы.
Вы – сестра милосердия в отвоеванном Львове;
Я – забытый премьер в нашумевшем процессе;
Я – пожизненный данник Сибири суровой.
Вы усердно хлопочете в санитарной каретке:
Перевяжете раны, приготовите корпию…
Наша юная песня не была трафареткой:
Лировальсы глушились лейтмотивами скорби.
В плоскопресном Иркутске я картавлю о Бисмарке,
У банкирской конторки заскучав оманжеченно;
Поредели в речах вихрекрылые искорки,
Я какой-то негибкий. Я совсем обесцвеченный.
Ах, как это негаданно! Вы – сестра милосердия!
Вы – бунтарским инстинктам распевавшая гимны.
Душу мне убаюкали, словно музыка Верди,
Ваши милые письма пугливой интимностью.
Вы уехали слушать смертозов пулеметов.
В утомленных траншеях Вы дрожите промозгло.
Кровоболь подбирается неспешащими взлетами,
Вырывая у раненых помертвевшие возгласы.
Я настроен печально. Я молюсь на иконы,
Потому что боюсь: как-то Вы на позициях?
Я прикован к Иркутску статьями закона…
Неужель нам не встретиться? Неужель не проститься?
Вспоминается ласково, вспоминается солнечно:
Я ходульничал глупо, несмешно привередничал.
Помнишь пряные споры? Помнишь, славная Сонечка,
Гектографские пятна на красивом передничке?
(обратно)
«Вечерами волшебными, вечерами морозными…»*
Вечерами волшебными, вечерами морозными
Дребезжал в передней звонок.
Я в любви признавался размеренной прозою,
Из признаний сплетая пышноцветный венок.
Вы ко мне приходили, – такая желанная,
Вы садились в качалку, горжетом шурша,
Ваше модное платье хохотало воланами;
Вы – княгиня Московии; Вы – дурман гашиша.
Михайловский и Нелли. Саша Черный и Фихте.
Груды книг в переплетах и тонких брошюр.
И повсюду букеты заплаканной пихты
И смягчающий свет голубой абажур.
На столе загрустил терракотовый Будда.
Я к нему наклонился: если можешь, прости.
Ты живешь у меня без молитвы и чуда,
А богов пробуждают только тайны любви.
И покинув раздумье и оставив унылое,
Ярко связанный с Вами мечтой непрерывною,
Я садился у ног Васнецовской Княгини,
Отравляясь глазами порочно-наивными.
Вы шутили язвительно. Вы смеялись опасно.
Я почти что поверил в откровенья грехов.
Настроение портил оскорбительно ясный,
Раздражающий запах заграничных духов.
Вы хотели обычного. Вы хотели реальности.
Вы считали поэта за смешного раба.
Я люблю полутоны. Я хочу беспечальности,
А действительность часто похотливо груба.
Достижений не нужно поэту капризов.
Для него достиженья – не Ваши. Не те.
Облечен вдохновеньем, изумрудными ризами,
Я мечтал об Искусстве, о живой красоте.
О дорических храмах с простыми колоннами,
О смешных статуэтках, оправленных чернью…
Вы твердили, качаясь, о Ваших поклонниках.
Что давно добиваются tete-a-tete в «Модерне».
А меня называли музейною древностью,
Ископаемым зверем, немым птеродактилем…
Я рассеянно слушал, далекий от ревности,
Замечтавшись о ямбах, хореях и дактилях.
Вы теряли терпенье. Соблазнительно кроткая,
В обаянии Вашем уже не уверены,
Вы ходили по комнате быстрой походкою,
Улыбаясь досадливо, улыбаясь растерянно.
А минуты лукавые танцевали ускоренно,
В кек-уоке безудержном уводили часы.
Мы смущенно молчали. Мы как будто повздорили.
Вы играли шелками светло-русой косы.
Наконец, Вы прощались. И, оправивши платье,
Пожимали мне руку. Надевали жакет.
Напряженно шептали, удлиняя пожатье,
Где мы снова увидимся, без ненужного «нет».
«Я работаю в банке. Телефон триста десять.
Позвоните! А дома – от пяти до семи».
Я распахивал дверь. Удивившийся месяц
Извивался от смеха: «Ты дурак, топ ami».
Я садился к столу. Пережитым ослабленный,
Я молился сонетами, как святыми молебнами.
А потом – триолеты переписывал набело
Вечерами морозными, вечерами волшебными…
(обратно)
«Девочка в коричневом. Быстрая цыганочка!..»*
Девочка в коричневом. Быстрая цыганочка!
Девочка с улыбкою неопытной Кармен!
Смелая дикарочка, печальная и пьяная,
Томная капризница предместья Сен-Жермен.
Волосы рассыпались тонкоструйным ливнем;
Взгляды замыкают ласковым кольцом;
Вы меня считаете славным и наивным
Мальчиком-поэтом, искренним лжецом.
Нам встречаться некогда: Вы боитесь физики.
Двадцать шесть билетов надо назубок.
Будем равнодушничать? Или станем близкими?
Сможет ли огрезиться дешевенький лубок?
Часто я гадаю: нравится – не нравится.
Будто разбираю пестрое драже.
Рыжая – кокетлива. Черная – красавица.
Здесь – хочу бездумно. Там – настороже.
С Вами как-то иначе. С Вами как-то звездочно.
Только что взгрустнется, – улыбнешься вновь.
С Вами не опошлишься. Не захочешь модничать.
Может быть, влюбленность? Может быть, любовь?
Свежие распуколки мурлыкают свирельно,
С темными сугробами ликуя в унисон.
Гроздья робковстреч – целующий в Апреле
Ночью полнолунною черемуховый сон.
Жадного желания нету – вот ни столечко.
Наши поцелуи – призрак на горе.
Яблонька цветущая. Тающее облачко.
Льдинка голубая в чистой Ангаре.
Ждать великопостий – не смеяться масленице.
Радости бояться – накликать беду.
Слушай, гимназисточка, детка-семиклассница,
Вечером, в субботу? – Радостный, приду!
(обратно)
«Это было прелестно: будуара интимней…»*
Это было прелестно: будуара интимней.
Вы меня угощали: «Ах, пожалуйста, кушайте!»
Было очень удобно, – не хотелось идти мне, –
За игрушечным столиком, на сиденьях подушчатых.
На террасе, капризно утомившись поэзами,
Восхитительным трио мы сидели за ужином.
Бутерброды с икрой – словно платье с плерезами,
Разноцветным печеньем беловазы нагружены.
На забавной тарелочке закружились редиски;
Самовар ярко блещущий недовольно пофыркивал;
Слишком острого сыра желтоватые диски
Вы изогнутым ножиком вензелями исчиркали.
Наше трио сегодня собралось повечерничать:
Эта – нежная девушка, голубая и тихая;
Этот – юный поэт, только ритмом очерченный,
И затем поэтесса – воплощение прихоти.
Вам уже фимиамят, поэтесса изысков!
Вожделением славы Вы уже укололися!
Вас я понял в размерах. Вас почувствовал близко,
О смеющихся рифмах напевая вполголоса.
Эдельвейс чернокудрый! Вам, конечно, знакомо
Преклонение рыцарей со щитами и шпорами,
Иногда лучезарных, словно Лаго-ди-Комо,
Иногда утомленных саблезлобными спорами.
Но во всех Вы искали только красочной темы
Для точеного вымысла. Наблюдали покойно.
В Вашем парке поэз расцветут хризантемы;
Станет сказочно пышно; станет знойно-левкойно.
Вот о чем я раздумался на стеклянном балконе,
Над изящной лужайкой, сплошь усыпанной клевером.
Тучи четко белели на сапфировом склоне,
А закат опрокинулся багровеющим веером.
Голоса где-то близко разлились разлинованно.
Заскрипели ступеньки, словно ободы роликов,
И вбежавшая бонна рассказала взволнованно,
Что бродячая кошка задушила семь кроликов.
(обратно)
(обратно)
Поцелуйные пляски
«Ах, уж эти гимназистки! Как недавно белый крем…»*
Ах, уж эти гимназистки! Как недавно белый крем
Подслащал хитросплетенья непреклонных теорем!
Это было так недавно: ну, вот только что вчера.
А теперь она влюбленно устранила вечера
В те малиновые дали, где ликующий июль
Отуманил остромысли, опустил счастливый тюль.
Сердце ищет, сердце верит, что придет желанный срок,
Что какой-то долгожданный даст улыбчивый зарок
В том, что любит он до гроба, в том, что любит навсегда.
Что пройдут совсем бесследно лицемерные года.
Сердце верит. Зачернели напряженные глаза,
А в моих глазах ответно засветилась бирюза.
Разве я такой постылый? Разве с рифмой не знаком?
Разве плохо я целую, поцелую вечерком?
Ты пойми: склонился, шепчет, что люблю я – старый клен…
Ты пойми! Пойми и сдайся, потому что я влюблен.
Ты послушай, – убеждают удивленные грачи,
Что поэтовы признанья неизменно горячи.
Если кончена тоскливость подневольно душных лет,
В лес пойдем, моя голубка; захвати пушистый плед.
И пускай на чинный ужин позовет упрямый гонг;
Плед отлично заменяет неудобное chaiselongue.
Дни польются, будут ночи, вдохновенны и легки,
И засветят в жуткой чаще голубые светляки.
(обратно)
«Мы друг другу надоели…»*
Мы друг другу надоели.
Ну, и пусть.
Смех моей виолончели
Гонит грусть.
Льется сдержанно и гордо
Нежный Григ.
Иногда мои аккорды
Словно крик.
Помню загородный домик
И тюрбо.
На окне раскрытый томик
О. Мирбо.
У пруда плясали феи
По весне.
Колдовали ритмозмеи
В полусне.
В упоеньи онемелом
На реке
Был я в лунном, бледно-белом
Парике.
Месяц легкой пылью пудрил
Беглый вал.
Я взволнованные кудри
Целовал.
Это было, поманило,
Но давно…
Это было? Было! Было…
Все равно.
(обратно)
«Мы давно не встречались. Так лучше. Я рад…»
Мы давно не встречались. Так лучше. Я рад.
Я спокоен: мне встречи не нужно.
Не хочу обещаний и горьких наград
И влюбленности бледно недужной.
Вы куда-то уехали. Будьте здоровы.
Улыбнулся ли Вам на прощанье вокзал?
На перроне я не был. Восхищенно суровый
Ваш поклонник у поезда с чемоданами ждал.
Поклонитесь ему. Он мне нравится: славный.
Я ему не завидую: Вы смеетесь над ним.
Он поправит пенсне. Покраснеет забавно
И ответить не сможет: ведь он нелюбим.
Вы его оскорбите изменой упорной.
Не забудьте, Вы слышите? Поклонитесь ему!
Он хороший. Он преданный. Нежно покорный.
Я ему с удовольствием руку пожму.
Вы воротитесь скоро. Всего две недели.
Вас я встречу опять боязливой тоской.
Я – Вы знаете? – счастлив. Ароматная Нелли
И простая Ахматова подарили покой.
На Страстной отговею. На Пасхе кудрявой
В балаганы и цирк непременно пойду.
Заслонюсь я от Вас пьянорваной оравой,
В оглушительном гуле избуду беду.
Почему мне так грустно? Почему мне так холодно?
Почему так безжизненно замирает перо?
Огорченное сердце предательски молодо.
Коломбина уехала. Но остался Пьеро.
Почему я сегодня какой-то покинутый?
В окна сумрачно бьется озлобленный град;
А любовь за кулисы опять отодвинута.
Мы давно не встречались. Так лучше. Я рад.
(обратно)
«Облака – проворней белки…»*
Облака – проворней белки.
Небо – синего стекла;
О любовной переделке
Говорят колокола.
Размалеванный Петрушка;
Развеселый балаган;
Разноцветная игрушка;
Залихватский барабан.
Нынче праздник красной Пасхи;
Вьются пестрые платки;
Дразнят слаженные наспех
Невысокие лотки.
Сладким запахом встревоженный,
Покупаю сласти.
Шоколадное мороженое
Я люблю до страсти.
Накупил фигурок паточных
Две большие горсти;
И, накушавшись достаточно,
Запиваю морсом.
Эх, прокатят – не обманут
Сивогривые коньки;
Звонко звякают в кармане
Медным звоном пятаки.
Балаганному веселью
Не предвидится конца;
Закружились карусели,
Закружили молодца.
Кони мчат, весну почуя;
Эй, захватывает дух!
Мне не нужно, не хочу я
Ваших ласковых присух.
Чтоб забылось поскорее
Ваше бледное лицо,
Мне досталось в лотерее
Обручальное кольцо.
Сожаленья мне не надо;
Жизнь упорно хороша.
Улыбается прохлада,
Полы платья вороша.
Лихо скомкана папаха.
Душу тешит летний звон;
Запляши, пляши, деваха,
Загуляй, гуляй, челдон.
Облака проворней белки,
Небо синего стекла;
О любовной переделке
Говорят колокола.
(обратно)
«На затопленный остров, где накидан булыжник…»*
На затопленный остров, где накидан булыжник,
Где капризные струйки засвирелили бально,
Где зимой упражняется снегорежущий лыжник,
А теперь мягкотравье и смешные купальни,
Перешли мы вприпрыжку по трясучей плотине,
Декламируя Игоря, несравненного Игоря
Каплежемчуг поэзы. Пахло высохшей тиной
И духами Rigaud и фабричною пригарью.
В этот вечер мы стали упоенно моложе.
Рифмовздохи за нами волочилися шлейфом.
Вы немножко устали, и на каменном ложе
Насладиться решили оприроденным кейфом.
Засмеялись и поняли, что не надо инертнить,
Что жасминовый вечер надо сделать удачным.
Поцелуем поэзы хорошо одессертнить;
Надо сделаться пряным, легкомысленно-дачным.
Завалторнели хищно напряженные нервы,
Губы жадно заныли и поверили прочно.
Я взглянул выжидательно: нет, уж лучше Вы первой.
Может быть, Вы хитрите? Или, просто, нарочно?
Изогнулись, приблизились эти губы-кораллы,
Обожгли и овеяли легкокудрой насмешкой.
А в душе заиграли огневые хоралы;
Заиграли, сказали: «Ну, целуй же! Не мешкай!»
Ах, с трагической миной мы у жизни не просим
Ни какой-то там верности, ни «любви до могилы».
Я для Вас – грезошалость. Я за номером восемь.
Для меня Вы мгновенье неожиданной силы.
Об одном пожалею: почему Вы не дама?
Почему предложенья Вам не сделал Рокфеллер?
О, тогда бы лакеи изогнулись рядами,
Услыхав над отелем оручневший пропеллер.
О, тогда бы в отеле Вы тихонько сказали,
Чтобы я приходил, если буду в ударе.
Был бы я не в гостиных, не в украшенной зале,
Был бы я в полумраке, был бы я в будуаре.
Впрочем, мы и теперь не замрем, не застынем
Вот на этих булыжниках, в этом царстве сосновом.
Поцелуйте до боли! Или нужно идти нам?
Это очень досадно. Но увидимся снова?
А покамест приличия завалили сугробно,
Стал я вновь неуклюжим, словно парень в азяме.
Мы друг другу понятны; друг для друга удобны;
С эротическим вздохом мы расстались друзьями.
(обратно)
«Ударили воду тяжелые весла…»*
Ударили воду тяжелые весла.
Разрезала ночь желтизна метеора.
Вы стали спокойной, уверенно взрослой,
Как будто читающей вечную Тору.
На лодке визгливо разбили бутылку,
Гармоники дружно ведут серенаду.
Целуйте по-прежнему: красочно-пылко.
Зачем осторожность? Оставьте «не надо».
Что будет, то будет. Сверкающей жаждой
Исполнены души до самого края.
Не нужно повторностей. Только однажды.
Судьба не догонит. Судьба не карает.
В лазурные страны умчавшись безвольно,
В угарных желаньях могли мы признаться
И нежно простились, когда колокольня
Сквозь сон прохрипела: «Двенадцать. Двенадцать».
А мне захотелось воскликнуть: «Останься!»
Как будто бы разум похитило сердце.
Ах, я Санчо-Панса, смешной Санчо-Панса,
На призрачном троне обманутый герцог.
(обратно)
«Туманное утро. Предутренний сон…»
Туманное утро. Предутренний сон
Спокойной березовой рощи.
Я молод. Я ранней любовью спасен.
Все кажется ближе. Все кажется проще.
Подернуты ветви прозрачным пушком.
Очнулся, раскрылся, смеется подснежник.
Сегодня мы вместе. Сегодня вдвоем.
В глаза посмотрели внимательно-нежно.
Немудрые души слагают хвалу:
Проснувшийся ворон, ожившая плесень.
Рассветно колеблясь, возник поцелуй,
Застенчиво робок, почти бестелесен.
Лесная молитва алмазно чиста.
Колышется бледно-зеленое piano.
Приблизились лица. Целуют уста.
Касаются жадно. Впиваются пьяно.
Согласно ликует проснувшийся лес.
Туман озолочен косыми лучами.
Светло знаменуя свершенье чудес,
Журчат поцелуи, рокочут ручьями.
(обратно)
«Гремел оркестр на скетинг-ринке…»
Гремел оркестр на скетинг-ринке;
Июнь прощальным дышал огнем.
Мне нужно, детка. Смахни слезинки.
Забудь о сказке. Забудь о нем.
К чему любовные насилья?
Тоскливонежность блаженных ков?
Спадая, снова громоздились,
Края зубчатых облаков.
Зачем упреки? К чему усталость?
Сожги остаток весенних дней!
Луна с Верленом состязалась
Красивой сменностью теней.
Как 6ы ступенью гигантских лестниц
Качался в небе Млечный Путь.
Ах, этот месяц! Счастливый месяц!
Не нужно, правда. Скорей забудь.
Смахни слезинки. Вернись к игрушкам.
Пиши в альбомы, сбирай букет.
Ночной дозорный бил в колотушку,
Как будто мальчик играл в крокет.
(обратно)
«О, мечтам заплатил я сероскучною данью!..»*
О, мечтам заплатил я сероскучною данью!
И мечты засмеялись, навсегда улетая.
Вы чуть-чуть опечалились, говоря: «До свиданья,
Проведу я все лето на кумысах Алтая».
Я молился тоскуя, – да, не правда ли, странно?
Чтобы дольше сверкала бирюзовая гамма.
А потом – я уеду в некультурные страны;
А потом – Сан-Франциско; а потом – Иокогама.
Вас я нежно измучивал, целовал Ваши губы,
В лилоалой аллее олелея лилейно.
Но мечты засмеялись, захихикали грубо,
Захихикали грубо, засмеялись елейно.
Уничтожу все письма: я сожгу их на свечке;
Вспоминая предсмертно, что меня Вы ласкали.
Неужели револьвер пожалеет осечки?
Неужели ужалит цианистый кали?
Ну, довольно. Зачем же растревоживать нервы?
Разве мало бессонниц и угрюмой мигрени?
В жизни много влюбленностей, – это во-первых.
Если высох подснежник, приласкают сирени.
(обратно)
«Мне будет другом, мне будет братом…»
Мне будет другом, мне будет братом,
Кто рифму новую найдет,
Кто повторит тьсячекратно
Моих мечтаний гибкий ход.
Кто нас полюбит, – таких беспутных?
Кто нам подругой захочет стать?
Кто в наших прихотях минутных
Сумеет с нами не устать?
Любви не нужно. Стихи и песни
И афоризмов холодный плеск.
Скажи, что лучше, что интересней,
Чем ясной мысли сухой гротеск?
Мы одиноки. Но мы поэты.
В изнеможении склонясь,
Лелеем рифмы стихом эстета.
Любви не нужно. Не нужно Вас.
(обратно)
(обратно)
Шампанские поэзы
«Вы помните, царица Гиперборейских стран…»*
Вы помните, царица Гиперборейских стран,
Сгорающих мальчишек, эффектный ресторан?
В отдельном кабинете смешное еп trois,
В молочно-белом свете хмельное ирруа?
Цветы струили ласки. Причесанный позор
Коврами запечатал давно привыкший взор.
Тяжелые каскады оранжевых гардин
Разлили по кушетке холодный гренадин.
Воспел в концертном зале скучающий рояль
Моей наивной грусти поруганный Грааль.
Вы были в этот вечер безумно хороши;
Я страсть мою разменивал на ломкие гроши.
Для Вашего Изящества я чистил ананас;
Ваш спутник дикой ревностью поглядывал на нас.
Я понял: я невольник, срывающий Анчар.
Не в силах я разрушить костер постыдных чар.
(обратно)
«Разбирая перчатки в магазине Кальмеера…»*
Разбирая перчатки в магазине Кальмеера,
Мы сплетали остроты в голубой causerie,
Вы играли намеками, словно бархатным веером;
Аромат недомолвок; флиртороз тропари.
Каламбуром ответным драпируясь хламидно,
Я нескромной беседе малевал смехофоны.
Но Вы рассказали – и совсем неожиданно,
О Вашем поклоннике обыдень граммофонную.
Мне стало неловко. Мне сразу припомнились
Ходившие в городе нехорошие сплетни.
Вы, наверно, забыли, как мы познакомились;
Этот вечер душистый угасающе-летний.
И как-то мгновенно потухли сомнения,
Дремавшие робко зеленым огнем.
Когда-то я был наилучшего мнения
О вас и о нем.
А, впрочем, не нужно. Ажурную чувственность
Вы умеете быстро и хищно развязывать.
Соблюдая умеренность, утончайте искусственность,
В откровенных улыбках сохранив недосказанность.
Мне очень обидно! Я скажу Вам по-братски:
Вы не знаете, чем привлекают камены.
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(обратно)
«Я помню фонтаны горящих минут…»
Я помню фонтаны горящих минут.
Красивое тело дрожало упруго.
Слова улыбаются, быстро бегут,
Бегут вперегонку, хватают друг друга.
Фонарь электрический гаснет вдали.
Прельстительно звякнула Ваша подвязка.
Слова, спотыкаясь, с усилием шли,
Как будто по дюнам песчаным и вязким.
Ко мне на плечо прилегла голова.
Раскрытою страстью взволнованы груди.
Слова наклонились. Заснули слова.
Отинены мысли в огнистой запруде.
(обратно)
IV
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(обратно)
«Эй, послушайте, девица за четырнадцать рублей!..»
Эй, послушайте, девица за четырнадцать рублей!
Ваши руки огрубели, но глаза – светлей лилей.
Целый день Вы за уборкой. Целый день Вы у плиты.
Оглянитесь: в этот вечер дали темно-золоты.
Вечер быстро исчезает. Вечер нынче невелик.
Да, Вы знаете, в «Эдеме» – превосходнейший шашлык?
И достать всегда возможно кахетинского вина…
Перед барыней отлучка не такая уж вина.
Не хотите ли, поедем, вот сейчас, туда, в «Эдем»?
Ждет покорно у калитки мой коричневый тандем.
О, не нужно одеваться: мы в отдельный кабинет.
Что же, что же Вы молчите? Поскорее, да иль нет?…
В Ангаре переплеснулась переливная вода,
Я почувствовал, услышал Ваше сдержанное «да».
(обратно)
«Она отдавалась, закурив пахитоску…»
Она отдавалась, закурив пахитоску,
На брошенном в угол собольем манто,
Иногда напевая ариетту из «Тоски»,
Иногда воплощая грезонегу Ватто.
Шляпа с яркими перьями раздавила меренги;
Запятнало ковры дорогое аи;
Я сжигаю расчетливо, я сжигаю за деньги
Восхищеннонаивные идеалы мои.
На прозрачном белье паутинное кружево,
Мастерицей брюссельской сплетенное встарь…
Продавайся! И в этой игре обнаруживай
Оскорбленную душу, поникший алтарь.
Вы умелым художником бесподобно одеты.
Не поможет шампанское, – отуманит гашиш.
О, лазурная вера! О, забытые где-то
Полудетские сны! Побледнела? Молчишь?
Побледней! Никакая извращенная прихоть
Не заменит улыбок светлоглазых подруг.
Если б искренних слез! Если б искренний крик хоть!
Если б звонко распался эротический круг!
(обратно)
(обратно)
Горная радость
«Развиваются, рвутся клочья черного дыма…»
Развиваются, рвутся клочья черного дыма;
Убегал я из города, убежал нелюдимо;
Убежал я от книг, поцелуев и дел,
Потому что свободным побыть захотел.
В душном городе давит неотвязчивый страх;
Счастье можно почувствовать только в горах.
Остановки. Туннели. Виадуки. Мосты.
Снова мысли мои убеленно чисты.
Горы. Хищно вздымаются красноватые скалы.
Слышны мощные всплески голубого Байкала.
Я не слышу жужжанья манерных речей;
Небывалые были протрелил ручей.
Разноцветные мхи обвивают утес.
Всюду смелую радость рассыпал Христос.
Хорошо притаиться в июньской глуши:
Только сосны да кручи. Кругом ни души.
(обратно)
«Пламенное Солнце ранит нежный Вечер…»
Пламенное Солнце ранит нежный Вечер.
Кровью истекает раненое Солнце.
Алой кровью Солнца залит белый глетчер;
В волнах заиграли желтые червонцы.
Алое на белом. Пурпур в горностаях.
Тающие розы в снежных покрывалах.
Волны – словно чаек белокрылых стая;
Гребнепена – нити мутного опала.
Солнце догорело. Дальний глетчер замер;
Медленно закрылся облаком печали.
Волны потемнели. Черносиний мрамор.
Волны умолкают. Тише. Замолчали.
(обратно)
(обратно)
Молитвы
«Божья Матерь, строгая Владычица!..»
Божья Матерь, строгая Владычица!
Пресвятая Дева Богородица!
Если юному соблазн попритчится,
Он Твоей заступой огородится.
В мире счастье – скверна. Жизнь греховная.
Истомленный тяжестью чугунною,
Я скуюсь пречистыми оковами, –
В монастырь с безжалостным игуменом.
Приими меня в обитель дальнюю!
Чудотворным укрывая пологом,
Душу скорбную, нетронуто-печальную,
Ты не выдай на смех лютым ворогам.
Плоть бунтарскую смирю веригами;
Обессилю тело власяницею;
Искушенный дедовскими книгами,
Дух плененный станет вольной птицею.
(обратно)
«Храм Василия Блаженного…»
Храм Василия Блаженного.
Лики сумрачных божниц.
В одинокую моленную
Я вхожу. Склоняюсь ниц.
Этот храм, – обитель Грозного.
Опустив усталый взор,
Он бредет тропой морозною
Помолиться в свой притвор.
Слышу шорохи под сводами…
Царь великий, это ты ль?
Он крадется переходами,
Опираясь на костыль.
Слышу скрип дверей узорчатых;
Свет свечи прорезал мглу;
Распахнул киот трехстворчатый,
Распростерся на полу.
Боже, властью неуемною
Ты за что меня взыскал?
Верно ль я судьбину темную
Государства разгадал?
Я – Владыка, Я – Помазанник.
Княжьей власти не хочу.
Я заморскими алмазами
Божьи ризы расцвечу.
Я послал своих опричников
По опальным городам;
Возмещу десятерично я
Возмутившимся рабам.
Наша власть – самодержавие.
Послушанье – ваш удел.
Наши цепи не заржавели;
Царский гнев не оскудел.
Пусть тяжелые наручники
И невольничий ярем
Наказуют ненаученных
Преклоняться пред царем.
Я труды подъемлю страшные,
Одинок в родном краю.
Но зато утешусь брашнами
Божьей трапезы в раю.
От двенадцати евангелий
Православный выйдет люд,
И тогда святые ангелы
Душу царскую возьмут.
Упокоюсь в райских сенях я,
Позабуду здешний смрад.
Приими мои моления!
Ты всесилен! Свят! Свят! Свят!
Но прервал ночное бдение
Легкий треск – трамвайный звон –
И рассеялось видение,
Разошелся старый сон.
(обратно)
«Леший, леший, будь мне братом!..»
Леший, леший, будь мне братом!
Сделай книжника – лесным!
Хищным, смелым и косматым,
Неуемным и простым.
Я хочу веселым зверем
Целовать седые мхи;
Я в лесу построю терем,
Декламируя стихи.
Шерстью длинной обрасту я,
Буду рыкать и шипеть,
Мать-Пустыню Пресвятую
Лешьим сердцем буду петь.
Что мне серенькие книги,
Серый город – скучный враг;
Настоящею шишигой
Буду прятаться в овраг.
Побреду в каменоломню,
Отточу сверкучийстих;
Позабуду и не вспомню
Грохот пыльных мостовых.
(обратно)
«Солнце! Море!..»
Солнце! Море!
Кровь! Свет! Любовь!
Жертвы готовь!
В праздничном хоре,
в праздничной пляске
Солнечной ласке,
Теплу,
Морю премудрому,
Силам могучим
Кричим хвалу!
Пляшем, скачем!
Пламеннокудрые,
От вас получим
Мясо горячее,
Кровь и жир!
Мудрые, вечные,
Людям дали радость любить,
Новую радость: убить;
Бегущую кровь радостно пить.
Добрые, вечные!
Каменные наконечники
Надели нам на копья,
Чтобы верней поражать врага.
Но ваша воля строга:
Если забудем,
Жертв приносить не будем,
Глянете вы исподлобья;
Море погонится за нами,
Затопит остров волнами…
Нет! Мы жертвы вам принесем,
Вам благодарные крики пошлем.
Кричим и поем
В радостном хоре
Вновь и вновь:
Кровь! Свет! Любовь!
Солнце! Море!
Море спокойно было,
Тихо сверкало вдали.
Солнце любовно светило
Первенцам мощной земли.
(обратно)
«Жарким вечером томимый…»*
Жарким вечером томимый,
У болотного протока,
Где зеленая осока,
Окруженный синим дымом,
Хороню свою печаль,
Заклинаю злую даль.
Вон, – ширяют по болоту
Неулыбы сизой тучей,
В душу просятся обманом
Навести тоску-заботу;
По-низам, в траве пахучей,
Белым стелются туманом.
Собралась в тоске заумной
Немочь ржавая в кусты,
Чтобы плакаться неслышно,
Неизбывно, неиздумно
Над судьбою никудышной,
Над задавленною долей,
Над неявленною волей.
К сердцу бледные цветы
Привораживают боль.
Мутит душу гоноболь:
Задурманивает разум,
Отшибает память разом.
Я кощунственной стихирой
Умолю болотный морок:
Бледным людям лютый ворог,
Я устал грешить случайно;
Дайте слиться с вашим миром,
Приобщите серой тайне!
Вихрю молодости ранней
Очертить глухие грани;
Очи девушек счастливых
Затуманить нестыдливо
Похотливою любовью;
Взбудоражить кровь украдкой
И приникнуть к изголовью
Смертоносной лихорадкой.
Пылкость чувства, яркость мысли
Мертвым разумом исчислить;
Вдохновениям нетленным
Заградить пути несмело,
Задразнить извечным пленом.
Несменяемым пределом.
Обезволить, обезличить,
Притупить лихие кличи
И, пресытившись пороком,
Истомясь бесплодной скукой,
В утомлении жестоком,
Ядовитою гадюкой
Уползти зеленой тиной,
Кочковатою низиной.
(обратно)
«Господи, спаси, спаси меня!..»
Господи, спаси, спаси меня!
Некуда идти. Измучен страхом.
Некого просить. Скитаюсь без огня.
Трудные победы стали прахом.
Близко я к безумцам подходил;
Знаю их удушливые стоны.
Сумраки дымящихся кадил
Мне открыли влажные притоны.
Остановлен дерзостный полет.
Давит голову железный обруч.
Сумасшествие ползет ко мне, ползет,
Извивается жеманной коброй.
У меня душа отравлена навек.
Все мои видения нелепы.
Вынести не может человек
Тайну зла чудовищного склепа.
Я устал. Тоскливо изнемог.
Помощи не вижу ниоткуда.
Не спастись! Уснул счастливый бог.
Не уйти! На свете нету чуда.
(обратно)
(обратно)
Стихи об умершем Петербурге
«Как пыль металла,
Лазурь тускла».
(Верлен).
(обратно)
«Черные лужи на грязной земле…»*
Черные лужи на грязной земле.
Спутанных туч нависли волокна.
Домов не видно в белесой мгле;
Горят в пустоте освещенные окна.
Тихий, размеренный ропот реки;
Вдаль уходящие стены.
Скучные песни моей тоски,
Невольной измены.
Капли дождя рыдают упорно,
Холодом жгут.
Яркие дни догорели позорно;
Серый туман умерших минут.
Порывистый ветер. Осенняя слякоть.
Дымное небо. Седая трава.
Значит, все кончено? Хочется плакать;
Жалобно стихли ненужные слова.
Фабричный гудок закричал повторно.
Прощай. Зовут.
Капли дождя рыдают упорно,
Холодом жгут.
(обратно)
«Меня ты спрашиваешь: кто я?..»*
Брату Евгению.
Меня ты спрашиваешь: кто я?
Я не пророк. Я не поэт.
Боец, не знающий покоя?
Быть может, да. А, впрочем, нет.
Я не мыслитель. Не герой.
Я в перезвонах глупых конок.
Я Петербургской мостовой
Невоплотившийся ребенок.
Я всюду. Между экипажей,
В трамваях, мчащихся звеня,
В монастырях стою на страже,
И в тюрьмах видели меня.
В искристом мраке мазаграна,
В очарованиях кино,
В огнях вечерних ресторанов
Меня заметили давно.
В законодательных палатах,
В дворцах уныло ворожу,
Предав бессильных и крылатых
Во власть седому миражу.
Когда, предвестник близкой стужи,
Осенний дождь заморосит,
И черной грязью скроют лужи
Печальных папертей гранит,
В аллеях тусклых фонарей,
Под лошадиный топот звонкий
С подругой юною моей,
Распутной уличной девчонкой,
По длинным улицам брожу,
К ней страстью нежною пылая,
Ее, кощунственно вздыхая,
Прекрасной Дамой наряжу.
Она сумеет поклониться
И вам значительно вещать.
И вы начнете ей молиться
И стансы пышные слагать.
Когда же кончится потеха,
Она придет от вас домой,
Мы будем корчиться от смеха
И угощаться колбасой.
А вы, с растерянной улыбкой,
Статью напишете в журнал,
О той, что вам предстала зыбко
И вот – ушла, и сон – пропал.
Когда по набережным гулким
Запляшет белая метель,
Свистя и воя в переулках
И снег взметая на панель,
Рассыпясь хохотом и звоном,
Рванется вновь из Невских льдов
И загудит протяжным стоном
По длинным нитям проводов,
Одев красивые одежды,
Иду в публичный маскарад,
Где вы, в надежде без надежды,
Себе сменяете наряд.
Я улыбнусь. Я стану в позу.
Скажу: свершилось. Я пришел.
И вы с молитвенной угрозой
Меня взведете на престол.
Проспекты Северной Пальмиры,
Глубокомысленно слепа,
Зальет усталая толпа,
Молясь найденному кумиру.
Но я обманывать привык
Смешно-доверчивую массу:
Я скорчу глупую гримасу,
Бесстыдно высунув язык.
Вы побежите прочь толпами,
Теряя шапки и пальто,
Крича безумными глазами:
«Опять не то? Не то! Не то!»
Вы мягко дремлете в безличье,
Погружены в упорный сплин,
Пока не выдумает кличей
Переодетый властелин.
Плетя таинственные нити
Моих насмешливых измен,
За ним вы рьяно устремитесь
И попадете в душный плен.
Вы улыбнетесь безукорно.
Храня исполненный кивот,
Пока крикливые уборы
Холодный ветер не сорвет.
Тогда, в мистической печали,
Вы назовете князем мглы,
Кому напрасно расточали
Неудержимые хвалы.
Мне скучно здесь. С моей подругой
В Пределы Полюса пойдем.
Восторгом вихря взвизгнет вьюга,
Сверкая северным огнем.
Весенним утром – рано, рано
Нас позовет бесцельный путь;
Серозеленого тумана
За нами заклубится муть.
Уйдем, уйдем. А напоследок,
Кончая сумрачный гротеск,
Мы сообщим счастливый блеск
Фасадам мраморных беседок.
Вы соберетесь – праздник Мая
Свободно встретить в первый раз;
Простив минувшее; слагая
О наших прихотях рассказ.
А может быть, еще вернее,
Из мшистых северных болот
Нежданно выпрыгнет, чернея,
Осклизлых леших хоровод,
И на ковре зеленой тины
Пойдет шаманская игра,
Когда провалится в трясины
Столица гордого Петра.
Из плена каменных объятий
На волю выйдет водный бес,
И зашуршит на топких гатях
Еловый невысокий лес.
Как будто все: дворцы со львами
И строгой прелестью колонн,
Заводы с желтыми огнями
Моя мечта, мой хмурый сон.
Я бледной немочью изранен:
Где начинается мечта,
Где разделяющая грани
Несокрушимая черта?
Прощай, однако. Перекрестки
Пустынных улиц вновь зовут.
Сегодня снег сухой и жесткий.
Сегодня чуда сладко ждут.
(обратно)
«Умер Петербург, великая столица!..»
Умер Петербург, великая столица!
Город снов обманутых, неконченных поэм.
Умер Петербург. Мне хочется молиться,
Хочется закончить скорбный реквием.
Умер Петербург, прибежище поэтов.
Город грозных толп, рокочущей молвы;
Город, отразивший северные светы,
Всплесками свинцовыми царственной Невы.
Странною мечтой таинственно влекомый,
Жизнь я отдал Городу, безмерной жертве рад.
Что же ты раскроешь, гордо-незнакомый,
Плещущий надеждой юный Петроград?
(обратно)
(обратно)
Мерцания
«Мысли, реченья, цвета…»
Мысли, реченья, цвета,
Всюду одна красота.
Горный журчащий поток,
Речи неясный намек,
Гроздья лукавящих числ
Зиждет нездешняя мысль,
Радуют песни любви.
Если ты хочешь, – живи.
Жизнь – опечаленный рай.
Смейся. Люби. Умирай.
(обратно)
«Огонь молодой одалиски…»*
Огонь молодой одалиски,
Смиренного нищего нужды,
Мне все одинаково близко
И все одинаково чуждо.
Внимаю душой равнодушной,
Равно без участья и страха,
Биению страсти послушной,
Молитве святого монаха.
Ни с кем убежденно не споря,
Не знаю живого участья;
Не знаю соленого горя,
Не знаю кичливого счастья.
Ничью дорогую обитель
Спокойным стихом не нарушив,
Я зритель. Внимательный зритель.
Слежу обнаженные души.
Как много влачащихся слизней!
Художников слова немного.
Искусство значительней жизни,
Искусство правдивее бога.
Вся жизнь – хоровод водевилей;
Но я поклоняюсь химерам:
Гигантским полотнам де Лиля,
Больному рисунку Бодлера.
Мне кажется – грубо вульгарен
Ветшающий замок природы.
Прекраснее солнца Верхарен,
Бальмонт голубей небосвода.
Слагаю – и я, недостойный,
Причудливых строчек узоры.
Ритмично. Безбурно. Спокойно.
Беззвучно стихают укоры.
(обратно)
«Добро. Чистота. Справедливость…»
Добро. Чистота. Справедливость.
Какие чужие слова!
Усмешка кривится брезгливо,
Покорно болит голова.
Новеллы. Комедии. Драмы.
Сказанья, ожившие встарь.
Повсюду настроены храмы,
У каждого светлый алтарь.
А я не имею престолов,
Богов никаких я не чту;
Зажгу ароматные смолы,
Свою возвеличу мечту.
Где силы добра и химеры?
Кто знает границы? Скажи!
Не нужно твердить лицемерно
О правде и дерзостной лжи.
Я знаю одни полутоны,
Приемлю одну светотень;
Тоскливо-негромкие стоны
Колышут мерцающий день.
Грехи. Преступленья. Беспутства.
Не знаю. Никак не пойму.
Искусство, больное Искусство,
Создавшее светлую тьму!
(обратно)
«Бунина я вечером читал…»
Бунина я вечером читал.
Загрустив, задумался немного.
Мне казалось, будто я устал.
Тихая, неясная тревога…
Старая, неявленная быль,
Иногда мерцающая слабо.
Сосны. Снег. Порывистый ковыль.
Чернолесье. Каменные бабы.
У реки погаснувший костер,
На лугах веселая охота;
Без конца раскинулся простор.
Без конца родимые болота.
На пригорке белый монастырь;
Высока церковная ограда.
Тяжела надозерная ширь,
Но живой печали сердце радо.
Утомленье – сладкая тюрьма;
Из неволи сердца не исхитишь.
Здесь грешил мятежный Кутерьма,
В озеро ушел Великий Китеж.
Струги плыли быстрою рекой.
В бой с татарами пошли, не струсив.
Бунин верной, четкою строкой
Поманил меня дождливой Русью.
Целый вечер у него в плену;
Но сейчас прошло очарованье.
Слушаю байкальскую волну
В поезде, на розовом диване.
(обратно)
«Перехожие калики…»
Перехожие калики
Запевают старый сказ.
Слишком яркая безликость
Утомила нас.
Богатырские заставы,
Белый камень-алатырь;
Заколдованные травы,
Тихий монастырь.
Нету резких очертаний,
Электрических огней.
Никнет родина в тумане,
Я невольно с ней.
(обратно)
«В городе душно и пыльно…»
В городе душно и пыльно,
Как будто копилась гроза.
Меня огорчила нестильность:
У меня заслезились глаза.
Я зашел в молочную Глика,
Прошел в обеденный зал.
Поправил в петличке гвоздику
И чаю подать приказал.
Проворилась девушка Уля;
Меня поразили чуть-чуть
Движения дикой козули
И пышно несмятая грудь.
«Я калиф доходной молочной»,
Смеялся хозяин в углу.
А я знал: он смеется нарочно,
Противясь прижавшему злу.
А я знал: у смешного калифа
Недавно единственный сын
Не вынес пятнистого тифа
И он остался один.
Я подумал: сегодня вторник.
Завтра в банк пойду скучневеть.
Замечтал: напечатаю сборник
И стану смеяться и сметь.
Тогда названьем maestro
Прикрою причуды ума.
Мажорились крики оркестра,
В убогом фойе синема.
Повседневности липкая тина.
Грезоявей бенгальская нить.
Я бросил на чай полтинник
И снова пошел бродить.
(обратно)
«Аляповатое барокко…»
Аляповатое барокко
Я на мгновенье полюбил:
Оно давало мне уроки
Роскошества излишних сил.
Нагроможденья золотые,
Тяжелоценная парча,
Тельцы, художником литые,
Меня взманили, горяча.
Моя любовь – стрельчатость арок,
Двойной готический узор,
Где пламень веры странно ярок,
Где фанатичен каждый взор.
Но видеть гордые колонны
Непосвященному нельзя.
В пыли дорог, по горным склонам
Моя далекая стезя.
Я должен быть с надеждой слитым
И в безнадежности проклясть,
Чтоб в этом храме к черным плитам
Я мог с рыданием припасть.
(обратно)
«Марк Ильич, Вы помните вчерашнее?..»
Марк Ильич, Вы помните вчерашнее?
М. Фельдману
Марк Ильич, Вы помните вчерашнее?
Помните картины Левитана?
Нам обоим показались страшными
Эти дали, полные тумана.
Я твердил: мистической вуалью
Светлый мир властительно окутан
И скорбит, задавленный печалью,
Холоден, угрюм и неуютен.
А для Вас – все линии исчислены,
Напомажены, приглажены, умыты;
Словно дети няней в садик присланы
Умные, веселые и сытые.
Это ложь. Мы пленники без голоса.
Все томимся жалобой одною.
Ах, мой друг, недаром Ваши волосы
Серебрятся ранней сединою.
Перестанем. Споры утомили.
Слышите? Уже сыграли зорю.
Доставайте томики де Лиля,
Северяниным раздумье олазорив.
(обратно)
(обратно)
Косоворотка
«Я уничтожил перед обыском…»
Я уничтожил перед обыском
Фотографическую карточку,
Где ты – туманная с апрельским проблеском,
Казалась девочкой в наивном фартучке.
Прости, хорошая. Звонка тревожного
Я ждал наверно, часов в одиннадцать.
Я ждал неволи, замка острожного,
И было поздно. Куда мне кинуться?
Пути отрезаны. Пути прослежены.
Меня травили. За мной охотились.
А за окном кусты оснежены:
Зима о неге позаботилась.
О, скоро ротмистр с улыбкой бальною
Протянет ордер: «Вы арестованы».
Я жалко вздрогнул. Моя печальная,
Тебе разлука уготована.
Но ты скажи суровой матери,
Что я в Сибири останусь пламенным,
Что буду гордым я и на каторге,
Умру безмолвно, умру под знаменем.
Звонят. Еще. Надежды канули.
Я письма жгу твои. Я вынул маузер.
А на столе шток-розы вянули…
Прости, любимая. Ты будешь в трауре.
(обратно)
«Нет, полюбить я не смогу…»
Нет, полюбить я не смогу
Просторы сумрачной Сибири;
Ее тоскливую тайгу,
Ее безрадостные шири.
Чужая, дикая страна!
То солнцем проклятые степи,
То снежной глади целина,
То жалко стонущие цепи.
Всегда покрыты синим льдом
Ее нетронутые скалы;
Я не зажгусь ее огнем,
Огнем сурового Байкала.
(обратно)
(обратно)
Проволочные заграждения
I
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(обратно)
«Внезапно вскинувшейся сворой…»
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Внезапно вскинувшейся сворой
Поэты, злобно и остро,
Ведут с чужим Искусством споры,
Постыдно пачкая перо.
Они грозят упорной местью
Поэтам вражеской земли…
Не с ними я! Не с ними вместе!
Не в этой бешеной пыли!
Пускай я грешен. Грешен многим;
Убогий, вялый и пустой
И олимпийского порога
Недосягающий мечтой;
И празднословлю и лукавлю,
Но никогда и ни строкой
Я не возвысил в этой травле
Уже окрепший голос мой.
Меня приветствуют нападки,
Полупрезрительный отпор
И снисходительность украдкой
И осуждение в упор.
Но я с уверенной отрадой
Внимаю ропщущей хуле:
Искусство верная ограда.
Искусство просвет на земле.
(обратно)
«Венеру Милосскую в землю зарыли!..»*
Венеру Милосскую в землю зарыли!
Венера Милосская в черной земле!
О, древние боги, могучие крылья
Скорее расправьте в синеющей мгле!
Скорее на помощь! Но заперты боги
В гробницы музеев – застенки-дворцы,
А мы изнываем в уныньи убогом,
Прекрасного Феба плохие жрецы.
Исполненный силы, исполненный веры,
Безудержный Марс мировой властелин;
Забыты прозрения дивной Венеры,
Когда над Парижем кружит цеппелин.
Быть может, в смятеньи сражений окрестных,
В усталой покорности сломленных сил,
В испуге забудут священное место,
Найти не сумеют бесценных могил.
Промчатся столетья. Давнишние войны
Покажутся призраком злобно-смешным;
Разумные люди, привычно спокойны,
Его вспоминая, смеются над ним.
Венеру отроют раскопкой случайной;
Случайно нарушат надежный приют;
Пленяясь внезапно раскрывшейся тайной,
Молитвенно-робко «Осанну» споют.
И вымолвят тихо: «Святая богиня!
Наивные варвары древних веков
Богов отдавали невидящей глине
Во имя стальных безобразных оков!
Они провожали цветами напутствий
Людей, громоздящих безмерность гробниц,
Они полагали – важнее Искусства
Недвижная власть золотых колесниц.
Отсюда – весь ужас. Отсюда все беды.
Мечта, воплощенная мощным резцом,
Дороже богатства, почетней победы,
Святее молитвы, прочтенной жрецом».
(обратно)
IV
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(обратно)
V
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(обратно)
VI
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(обратно)
VII
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(обратно)
(обратно)
(обратно)
Деревянный крест*
Вторая книга стихов
1917
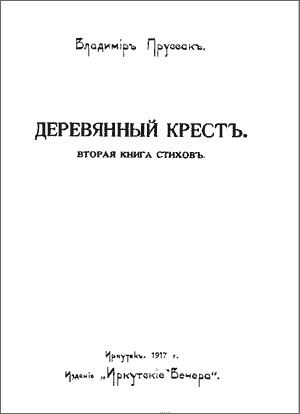 (обратно)
(обратно)
Узкие врата
«Сарматы смачивали стрелы…»*
Сарматы смачивали стрелы
В крови клокочущей своей,
Чтобы, заклятые, верней
Разили вражеское тело.
Порывы творчества бесцельны,
Искусством песню не зови,
Пока не смочена в крови
Души, пораненной смертельно.
Я сам, уверенным ударом,
Поранил крепнущую грудь,
И вот – запел и вышел в путь
Навстречу неотвратным карам.
Подобье верного стилета,
Сверкает стих, как бы стальной…
Какою страшною ценой
Я отыскал в себе поэта!
(обратно)
«Ясность в душе пустынной; холодно мне и странно…»*
Ясность в душе пустынной; холодно мне и странно,
Стало вокруг светло.
Трудные битвы были, были глухие раны,
Было – и все прошло.
Не за что мне сражаться, некому мне молиться,
Трудный свершен обет;
Холодно мне и странно, пусто в моей светлице,
Бледный мерцает свет.
Радость поет и плещет, ясным ликует хором,
Властен в руке резец;
Многие вижу тайны, острым впиваясь взором,
Пламенной лжи творец.
Отдал я жизнь Искусству; отдал – и стал свободным,
Горных достиг вершин;
Людям бросая пламя, сам остаюсь холодным,
Тихо грущу один.
(обратно)
«Если ты хочешь создать гармонично-звучащие ритмы…»*
Если ты хочешь создать гармонично-звучащие ритмы,
2 Новые песни найти;
Если ты хочешь людей увлекать полнопевною речью,
2 Хочешь учить красотой, –
Быстробегущие дни непрестанно, упорно работай,
2 Старых певцов изучай;
Каждую форму стиха терпеливою мыслью исследуй,
2 Трудные строки чекань,
Чтобы таинственный час вдохновенья и смутных порывов
2 Слабым тебя не застал,
Чтобы ты смело запел, выливая в готовые формы
2 Полные силой слова.
(обратно)
«Быть одному – страданье и отрада…»
М. ФЕЛЬДМАНУ
Быть одному – страданье и отрада;
Крепка моя надежная ограда;
Среди любимых неизменных книг
Я отдыхаю, верный ученик, –
Со мной творцы, взыскующие Града.
В унылые недели листопада
Так внятен в небе журавлиный крик,
Так хорошо, перелистав дневник,
Быть одному.
Опавший лист желтит аллеи сада,
Едва трепещет тихая лампада
И озаряет неподвижный лик
И я один. Какой блаженный миг!
Поистине, роскошная награда –
Быть одному.
(обратно)
«Темнеет. Тишина. Давно закрыты двери…»
Темнеет. Тишина. Давно закрыты двери.
Обычные мечты свершают точный круг.
Я вижу кабинет пытливого Сальери,
Дерзнувшего разъять, исчислить легкий звук,
Направить, обуздать, усилить в нужной мере
Порывы творческих неизреченных мук.
Расчетом сжатые, взволнованно и гордо,
Вздымаются волной свободные аккорды.
Еще любимый лик. Упорный соглядатай
Несознанных чудес, творимых на земле,
Искавший каждый день – везде, в печали брата,
В улыбке женских уст и предвечерней мгле
Сплетений красочных. Внимательный вожатый,
Равно презрительный к восторгу и хуле;
Пророчества и страх и лепет беззаботный
Да Винчи вбрасывал в бессмертные полотна.
И если ты придешь – неведомый избранник,
Ваятель вещих слов, свершитель и пророк,
Не жрец увенчанный, но истомленный странник,
Отверженник толпы, один, спокойно строг,
Не вспышек и мечты, – труда покорный данник,
Ты в песнях изъяснишь значенье слов и строк;
И нежность и тоску пылающего слова
Разъяв, разъединив, в созвучьях свяжешь снова.
(обратно)
«Когда потухнет бледный мой ночник…»*
Когда потухнет бледный мой ночник
И смерть, вздохнув, приникнет к изголовью,
В мечтах последних светлый женский лик
Не улыбнется нежною любовью;
Отец духовный, – ласковый старик
Не повторит докучных суесловий.
Один, один. И буду в грозный миг
Еще бесстрастнее, еще суровей.
Тогда учителей предстанет клир,
Зовут к себе, на сладостный Маир,
И внятны мне призывы и укоры
Хранителей желанного огня;
И встретят недостойного меня
Спокойные торжественные хоры.
(обратно)
(обратно)
Возвращение
«Верую, Господи, помоги моему неверию».
(обратно)
«Как хорошо, окончив пыльный путь…»
Как хорошо, окончив пыльный путь,
Легко сплетать созвучья песнопений
И в холоде спокойном отдохнуть,
Вникая в книги, вызывая тени
Борцов давно минувших поколений,
И, равнодушно слыша долгий стон,
Сказать себе: опять борьба и пени
И кличи гневные сменили сон
И воздух над землей тревогой напоен.
Я был с людьми, я был с людьми когда-то,
Меня взметнула сильная волна,
Я заплатил неисчислимой платой
За свой порыв: душа опалена
И возвратиться больше не вольна;
Уходит день и день приходит новый,
Но исцелить не может тишина;
Я издали слежу борьбу и зовы
И ропоты рабов и тяжкие оковы.
Когда бы хоть горчичное зерно
Во мне горячей веры уцелело!
Но мне свободным быть не суждено.
Поодаль я стою оцепенело
И вдаль смотрю в тревоге онемелой –
Отверженным зажегся светлый день,
Склоняется для жатвы колос спелый
И за ступенью пройдена ступень
И шлет упреки мне отверженная тень.
(обратно)
«Твое терпенье – тягостный укор…»
Твое терпенье – тягостный укор.
Покоя нет и нет нигде забвенья.
Моя судьба – скитанья и позор,
Я проклят был отверженною тенью,
И вот – один скитаюсь с давних пор.
О, родина! Безрадостный простор
И звон цепей и душный запах тленья;
Изменнику – суровый приговор –
Твое терпенье.
Я не могу поднять усталый взор,
Поверить не могу в освобожденье;
Мне кажется – окончен давний спор,
Грохочут нераскованные звенья,
В тяжелой тьме горит один костер –
Твое терпенье.
(обратно)
«В огнях пророческих зарниц молюсь…»
В огнях пророческих зарниц молюсь.
Над множеством слепых гробниц молюсь.
Не верую, неверием горю,
Но разрушителям темниц молюсь.
В предчувствии немотствуют уста;
Страдальчески склоняясь ниц, молюсь.
В сомнении гляжу на страшный путь
И молча, в скорби без границ, молюсь.
(обратно)
«На каменном полу лежу в пыли…»*
На каменном полу лежу в пыли,
Я исходил неведомые страны,
Но не нашел своей родной земли, –
Дорогу скрыли белые бураны.
О, Господи, молю Тебя, внемли,
Я вышел до зари, я вышел рано!
Пусть родина покажется вдали,
Целя улыбкой пламенные раны.
И мне явилась в дымном серебре
Некрашеная церковь на бугре,
Худые избы, снег в неровных кучах,
Плетнями сжатый на реку проезд
И над селом в тяжелых темных тучах
Колеблющийся Деревянный Крест.
(обратно)
«Гармоники завели плясовую…»
Гармоники завели плясовую,
Полным-полны балаганы.
Плясовую, веселую такую,
Пройду на подмостках деревянных.
Шутовское, с бубенцами, платье,
На лице румяна и белила…
Господи, сними С меня проклятье!
Дольше лгать не стало силы.
Господи, прости мои блужданья,
Смертную тоску мою прости;
Волю дай очиститься страданьем,
Силу дай тяжелый крест нести.
Родину люблю любовью трудной
И, любя, стыжусь любви моей
И влачу в печали непробудной
Длинный ряд постыдно вялых дней.
Русь моя! Непаханые нивы,
Тишина, повсюду тишина,
И судьбу пророчащий, тоскливый,
Заунывный шепот колдуна.
Всю люблю тебя, земля родная,
Край терпенья, нищих и крестов;
Родина, любимая и злая,
За тебя погибнуть я готов.
Препоясанный, спокойный воин
Перед битвой земно поклонюсь;
Пусть я буду, Господи, достоин
Умереть за Русь.
(обратно)
«Мечтой пленяясь невозможной…»
Мечтой пленяясь невозможной,
Я мыслил в веру испытать,
И меч упал по рукоять
В давно бездейственные ножны.
Ученых слушал и волхвов,
Но в сумерках лабораторий
Я различал в ненужном споре
Тоску вдвойне ненужных слов.
И я поднялся на высоты,
Свои скитанья в песнях сплел;
Ценою жизни верных пчел
Копятся сладостные соты.
И там, вверху, меж льдяных скал,
Я увидал поля и села,
И блеск всевластного престола
И Русь родную увидал.
И то же горестное знамя,
И ту же древнюю беду,
И слыша голос: «Будешь с нами?»
Я отвечал: «Иду! Иду!»
И снова я у той же грани,
Среди отверженных борцов.
Где верой мудрых простецов
Все предуказано заране.
И снова я на старый стяг
Смотрю, как древле Иудея
На меднокованного змея –
Спасенья благостного знак.
(обратно)
(обратно)
Ожидание
«Страна моя! Смиренная обитель…»
Страна моя! Смиренная обитель,
Где звон цепей и грохоты вериг,
Где каждый – жертва и беспечный зритель,
Где юноша – морщинистый старик,
Где навсегда задушено веселье,
Где смех – придавленный и злобный крик,
Где радость – беспросветное похмелье,
Где все – рабы, где каждый с детства пил
Отчаянья и гнева злое зелье
И ждал в тоске необычайных сил
И меры ждал страдальческим блужданьям,
И тщетно числил длинный ряд могил,
Исполненных великим ожиданьем.
(обратно)
Петербург
(Сонет)
Колючий ветер воем и свистками
Нарушил отдых мнительной Невы
И волны, цвета грязной синевы,
Сердито машут белыми платками.
Ложится пыль неровными кругами
На площади, где, чуждые молвы,
Хранят покой, завещанный веками,
Седой солдат и бронзовые львы.
Встают Екатерининские тени,
Торжественно проходят в Летний сад
И грустно смотрят вдаль, в туман осенний,
Где врезались в оранжевый закат
И загудели, мстительно и грубо,
Фабричные чернеющие трубы.
(обратно)
Деревня*
(Сонет)
Закрыты ставни; скучно и темно;
Текут часы постылого досуга,
И нищая назойливая вьюга
Опять стучится в низкое окно.
Печатью вековечного испуга
Отец и сын отмечены равно;
За годом год – и так давным-давно
Налоги да ярмо кормильца-плуга.
Носитель темный тяготы земной,
Затеплив свечку зимнему Николе,
Грозит кому-то, злобный и хмельной,
И другу шепчет о «земле и воле»,
Потом в цепях, с повинной головой,
Идет в толпе дорогой в чистом поле.
(обратно)
Евреи
(Сонет)
Скитается рассеянное племя
Среди чужих безрадостных равнин;
За славою – позор приносит время
И выю гнет вчерашний господин.
Сдержать отступников, сложивших бремя,
Не может негодующий раввин;
Презренным гоям робко держит стремя
Свободных предков недостойный сын.
Пророки лгут. Не к нам придет Мессия.
В пустыне нет спасительного змия.
Карает Иегова из рода в род.
Пришлец назойливый и гость незваный,
Бездомный нищий – избранный народ,
Взыскующий земли обетованной!
(обратно)
Финляндия*
(Сонет)
Спят сосны стройные. Холодная луна
Бросает мертвый луч на сумрачные скалы;
Не дрогнет в озере свинцовая волна
И вереска цветы – ковер лиловоалый.
Суоми, севера суровая страна!
Пора богатырей еще не миновала.
Не спишь, но чутко ждешь. Твоя душа верна
Свободным и родным напевам Калевалы.
И солнечный, счастливый яркий свет
Бойцам в морозный день укажет лыжный след
На север, далеко, через леса и долы,
Где злобой сильная, одетая в гранит,
В пределах вражеской и гибельной Похьолы
Седая Лоухи сокровище хранит.
(обратно)
Польша*
(Сонет)
В старинном замке – яркий блеск свечей.
Мотив мазурки, вежливо-веселый,
Поет о паннах, пышности речей,
О днях войны, о мудрости престола.
Но кончен сон. Удары палачей
Крушат дворцы и строгие костелы,
Кричат в тоске измученные села
В тяжелой тьме спустившихся ночей.
О, гордость, сжатая в тисках насилий,
Свободою заплаченная дань,
О, знамя вольности в объятьях пыли!
Не сгибла Польша. Снова будет брань.
Батория на Висле не забыли,
И крепнет клич: «Воскресни и восстань!»
(обратно)
Сибирь*
(Сонет)
Покоится зловещая тайга
В объятиях морозного тумана.
Сторожат золото в глуши урмана
Ревнивые речные берега.
Свистит и скачет злобная пурга.
И вторит крику дикого шамана
Размеренная песня Океана,
Поющая безбрежные снега.
Здесь символ чести – скованные руки,
И города зевают в алчной скуке,
И жизнь обвило узкое кольцо,
Но вдруг мелькнет, неведомо откуда,
Раскосый взгляд насмешливого Будды
И желтое скуластое лицо.
(обратно)
(обратно)
Деревянный крест
«Честь имею донести Вашему Превосходительству: снарядов не хватает».
(обратно)
«Ветер осенний и пьяный…»
Ветер осенний и пьяный
Сеет в равнинах дождем.
Вижу я Крест Деревянный,
Грузное тело на нем.
Корчится в приступах муки,
Воплем на помощь зовет;
Кроет широкие руки.
Каплями выступив, пот.
Взора не смею поднять я,
Голос возвысить боюсь:
Там, на высоком распятье:
Родина! Русь!
(обратно)
«Спешу уйти куда-нибудь…»
Спешу уйти куда-нибудь,
Изнемогая слишком рано;
В душе сочащаяся рана,
В нее так больно заглянуть.
Но не укрыться никуда,
Не отдохну и не забуду,
Что всюду кровь и стоны всюду
Несут безумные года.
И я тоски своей стыжусь,
А по ночам, в лампадном свете,
Молюсь, как маленькие дети,
Тебе, поруганная Русь.
Одно страдание у всех,
И одиночество все то же,
Смягчить отчаянье не может
Продажный пыл, поддельный смех.
И будут новые кресты,
И разрушительные беды,
И будет чаянье победы
Обманом призрачной мечты.
И, недостойны до конца,
Пройдем голгофские ступени
До суесловных песнопений,
Взамен тернового венца.
(обратно)
«Грозный час. Великая беда…»*
Грозный час. Великая беда.
Будет слава. Будут кровь и стоны.
Каждый день уходят поезда,
Вьются лентой красные вагоны.
Все, что было, – нынче прощено.
Мы сильны, но силы мы утроим.
Каждый – только малое звено,
С грудью грудь – сомкнулись крепким строем.
– Эй, товарищ! Родина – в огне!
Подымай походные знамена!
Слышишь крик: «Сюда, сюда, ко мне!» –
Нас зовет собрат иноплеменный.
Смерть за Русь легка и не страшна.
Многим смерть. Не только нам одним.
Все напьемся бранного вина,
Победим!
Нынче в ночь уходят эшелоны.
На вокзале смутная толпа.
Будет слава. Будут кровь и стоны
И к могилам узкая тропа.
– «Мать, прощай!» – Заплакала седая.
– «Твердым будь. Грядущее светло».
И дрожит рука, благословляя
Юное, открытое чело.
– «Милый! Ясный! Ближе… Я целую
И не кончить поцелуя ввек».
Грянем песню! Грянем удалую!
В битвах станет вольным человек!
Поезд тронулся. Стучат колеса. Тише.
В облака вползает черный дым.
Клич несется, клич великий слышен:
– «Победим!»
Карты бросает гадалка
Налево – направо.
Сына далекогожалко:
Смерть или слава?
Карты всю правду расскажут.
Направо-налево.
Ломятся полчища вражьи
С криками гнева.
Брошены карты. Склоняется ниже.
Что я увижу?
– Светлый витязь на коне
Скачет в шлеме и броне.
Смешаны карты. Опять и опять.
Направо – налево. Что там видать?
– Мчится туча саранчи,
В битве тупятся мечи.
Смешаны карты. Брошены вновь.
– Кровь.
Смешаны карты. Налево – направо, налево – направо…
– Господи, суд неправый!
Подбираются к нашей ограде,
Удары сыпятся сзади!
Брошены карты. Налево – направо, направо – налево,
Налево – направо…
– Силе лукавой
Нет преграды, нет отпора,
Гибнут наши. Скоро! Скоро!
Брошены карты. Ветер хлестнул в окно.
В картах темно.
Рыдает у скорбной иконы,
Считает земные поклоны,
Рыдает в тяжелой кручине,
Господа молит о сыне.
Белые бумажки шуршат, шуршат,
Те, кто ушли, не придут назад!
Ночью в кабинете скрипел паркет.
В час неурочный зажегся свет.
Если быть в ответе – не нам одним.
Сказано. Решенье. Предадим.
Те, кто ушли, не придут назад.
Белые бумажки шуршат, шуршат.
В один удар сливаются раскаты,
Дрожат от ярости чудовищные жерла.
Взвивается земля. Кусками черной ваты
Поднялся дым, и тьма покров простерла.
Но тьму бичуют полосы огня.
Чугунный ураган бушует, не смолкая.
В холодных рвах безмолвно умирая,
Припомни скудный свет родного дня.
Надвинулись темною тучей,
Вспоминая в молитве Христа,
Встретим конец неминучий,
Троекратно целуясь в уста.
Нас, безоружных и сирых,
Смертной тоской не томи,
Сопричисли к усопшим в мире,
В Царство Твое приими.
Мертвые срама не имут,
В честном бою полегли.
Приняли черную схиму
Ради родимой земли.
В грохоте рвущейся стали
Лютую встретив беду,
Имя Твое прошептали
В тяжком предсмертном бреду.
Раны зияют на теле.
Родины ради своей,
Мы до конца претерпели
Страду кровавых полей.
Фыркают кони, ступая
По распростертым телам…
Скоро ли справишь, родная,
Тризну своим сыновьям?
Мчится стремительней птицы,
Мчится проклятая весть,
Вспыхнули бледные лица,
Копится правая месть.
Денежки, денежки!
Грошик – к грошику,
Рублик – к рублику,
Катеньки, катеньки,
Белые бумажки!
Хлебец купим,
Мясо купим.
Сахар купим,
Продадим.
Сыты будем,
В холе будем
И на старость
Приготовим
Теплый угол.
Сыну хватит,
Внукам хватит,
Всей семье.
Хлебец купим,
Мясо купим,
Сахар купим,
Продадим.
Денежки, денежки!
Грошик – к грошику,
Рублик – к рублику,
Катеньки, катеньки,
Белые бумажки.
Эй,
Пей,
Веселей
Пляши,
Пой
На пропой
Души.
Эх, стоят неубраны поля,
Пропади пропадом горькая земля,
Эх, солдатики калечные,
Все слепые да увечные,
Будем вас с почетом принимать,
За широкий стол с поклонами сажать,
Звать по имени да отчеству,
Из пустых тарелок потчевать!
Поистратились хлеба у нас,
А святой Георгий новых не припас.
Застыло поле в лапах тишины,
Иссяк грохочущий чугунный ливень.
Орудий брошенных беспомощные бивни
В ночные облака устремлены.
И слышится в предутреннем тумане
Невнятное, глухое бормотанье –
– Воскреси нас, Господи!
Но голос Господа не будит тишины
И тела павшего не поколеблет.
Не дрогнут крохотных травинок стебли,
Рассвета ожиданием полны.
И, силясь приподняться на колени,
Сливают мертвые с угрозою моленье
– Воскреси нас, Господи!
Но голос Господа не будит тишины!
Не могут павшие пошевелить руками
И видят просветленными очами:
Без счета гибнут родины сыны,
Но сильный враг давно под русским кровом…
И раздирают сумрак страшным ревом,
– Воскреси нас, Господи!
(обратно)
(обратно)
Русь
«Ты вся – неизреченный свет…»
Ты вся – неизреченный свет,
Твои пути неизъяснимы;
Тоски – едва ли исцелимой –
Тебе сопутствует обет.
Хранишь – сквозь беды трудных лет –
Величье будущего Рима.
Ты вся – неизреченный свет,
Твои пути неизъяснимы.
Ни в чем святее боли нет,
Как тронуть край неопалимой
Одежды облачного дыма
И сохранить багровый след –
Ты вся – неизреченный свет.
(обратно)
«О, Русь! Раскинутая ширь…»*
О, Русь! Раскинутая ширь
Молчит, как древняя могила,
И шепчет ветер свой псалтырь
Над умирающею милой.
На белый камень Алатырь
Пойдешь ли ты хвалиться силой
Или схоронишься в унылый
Уединенный монастырь?
Молчит – и сдерживает стоны.
И знает – в битве нерешенной
Давно ломаются мечи.
И умножаются гробницы
И белым пламенем в ночи
Горят тревожные зарницы.
(обратно)
«В час туманного заката неприветливого дня…»
В час туманного заката неприветливого дня
На проселочной дороге, завивая и звеня,
Пьяный ветер носит листья, заплетает в хоровод,
Воет, кается и плачет, богохульствует, зовет
Что-то сделать, биться с кем-то, не сгибаться под ярмом,
И бессильно затихает, вея пылью и дождем.
В час туманного заката в поле пусто и светло,
Мелкий дождь скрывает небо, застит ближнее село.
Пьяный ветер клонит ветви придорожных чахлых ив,
Ходит шаткою походкой вдоль осенних черных нив;
Запевает, завывает, ослабел, понесся вскачь…
На проселочной дороге слышен тихий женский плач.
«Сколько лет я изнываю, сколько лет покорно жду
И несу, в упрямой вере, за бедою– вновь беду.
Хороню моих отважных, обнаживших крепкий меч,
Чтоб меня для светлой встречи нерушимою сберечь.
Я состарилась в рыданьях, мой венок – кольцо седин;
Что же медлишь, мой любимый, мой желанный господин?»
Русь моя! Ужель в лохмотьях, у дороги, это ты?
Русь, страдалица-невеста, только боль растит цветы!
Только тот взойдет свободным на вершины снежных гор,
Кто в болотистых низинах знал прилипчивый позор.
Пьяный ветер тихо стонет, ветер тише, ветер стих…
Близок, близок, скоро будет твой ликующий жених!
Серый день прощально брезжит, безвозвратно уходя,
Вся окуталась фатою – серым пологом дождя,
И в надежде безнадежной ожидая новый день,
Смотрит вдаль, поверх убогих, в землю вросших деревень.
Шепчут скорбные молитвы побледневшие уста…
Неневестная Невеста непришедшего Христа.
(обратно)
«Бредет старуха по проселкам…»*
Вл. Бакрылову
Бредет старуха по проселкам
С неизменяющей клюкой,
Твердит молитвы тихомолком,
Крестясь дрожащею рукой.
Заклятьем отвращает беды
И светит – сквозь всегдашний страх –
Огонь пророческого бреда
В полупотухнувших глазах.
Идет – и сковывает нивы
И города тяжелый сон,
Но путь старухи юродивой
Уже исчислен и свершен.
Вотще твердит: «Да будет чудо!
Пускай молитвой исцелюсь!»
Не ждать спасенья ниоткуда
Тебе, поруганная Русь,
Пока огнем негодованья
Не вспыхнешь в гордости своей,
Не позовешь для новой брани
Твоих несмелых сыновей.
Мы ждем во сне глухом и темном,
Покоясь в равнодушном зле,
И каждый путником бездомным
В родной скитается земле.
(обратно)
«Господи, с последнею мольбою…»
Господи, с последнею мольбою
Именем Твоим,
Мы последний раз перед Тобою
Ныне предстоим.
Одарив Твоей одеждой новой
Любящих невест,
Нам Ты отдал свой венок терновый,
Деревянный Крест.
Поползли мы, полные печали,
В прахе и пыли,
Крепко к сердцу Твой венок прижали,
Честно берегли.
Впились терны с болью небывалой
В страждущую грудь;
Обагрился кровью ярко-алой
Одинокий путь.
И, когда спустились на дорогу
Сумрак и закат,
Мы в крови своей, моляся Богу,
Омочили плат.
И, следя за истекавшей кровью,
Боль запечатлев,
Позабыли преданность сыновью –
И очнулся гнев.
Альный плат зажегся перед нами
Верною звездой
И повел суровыми тропами
На заветный бой.
Нас, идущих за последней бранью,
На ином пути,
Отложивших крест и покаянья,
Господи, прости.
(обратно)
«Всегда и всюду и с тобою…»*
«Люблю тебя в облике рабьем».
М. Волошин
Всегда и всюду и с тобою
У неразгаданной черты,
Но не смиренною рабою
Ко мне в мечтах приходишь ты.
И не распутною черницей,
В мерцаньи гаснущих свечей, –
Я вижу в огненной зарнице
Лицо владычицы моей.
В ржаных полях, вспоенных потом,
В гуденьи верного станка,
Великим правит поворотом
Твоя надежная рука.
Пора, пора! Пускай кадила
Еще струят священный дым,
Но ты ушла, ты изменила,
И твой порыв неудержим.
В краю испуганном и нищем
Окончи тягостные дни
И перед ярким полотнищем
Хоругви ветхие склони.
Не крест, но сталь. На смутном небе
Не видно знамений. Иди.
Твой час настал, и вынут жребий
И сорван крест с твоей груди.
А на распутьи всех распутий,
Где распят плачущий Христос,
Взнеслись кровавые лоскутья
Предвестником грядущих гроз.
(обратно)
Дракон*
Памяти Вл. Соловьева
(Венок сонетов)
I
Давно забыт обет земного рая,
Среди жестоких ежедневных сеч
Трибун молчит, смущенно обрывая
О вольности затверженную речь.
Предчувствие трепещет, угасая;
Пленительной надежды не сберечь,
И в первый день восторженного мая
Не упадет тяжеловесный меч.
К минувшему не может быть возврата
Тревожная душа ослеплена,
И брат уверенно пошел на брата.
Недобрая задача решена,
Свершилася постыдная утрата,
Тяжка братина бранного вина.
II
Тяжка братина бранного вина.
Вдвойне тяжки ненужные укоры.
Когда земля огнем озарена
И вскрыт ларец карающей Пандоры.
Чья б ни была проклятая вина,
Теперь оставим бешеные споры:
Судьба с судьбою тесно сплетена
И явится таинственное скоро.
Великих чаяний плохой сосуд,
Мы не смогли, в словах изнемогая,
Остановить неизбежимый Суд.
И вот – судьба настигла роковая
И полчища несчетные идут,
Старинную Европу раздирая.
III
Старинную Европу раздирая,
Час от часу огромней и грозней
На рубежах растет стена живая,
Незыблемей незыблемых камней.
Как тягостна наука боевая!
Но тысячи уже сроднились с ней,
В чудовищных сраженьях забывая
О радостном содружестве людей.
Ребяческих, игрушечных мечтаний
Назойливая власть еще сильна,
Но им не место в осажденном стане,
Где дымная поднялась пелена,
И слышно, как вдали, в густом тумане,
Гремит неистощимая война.
IV
Гремит неистощимая война,
С низинами уравнены высоты;
Едва ли есть счастливая страна,
Не знающая воинской заботы!
Однообразнее веретена
Рокочут бдительные пулеметы;
За каждый шаг – безмерная цена,
И умирают храбрые без счета.
Но чуткие весы доселе не дрожат,
Кому торжествовать, еще не зная,
Кому расстроенным бежать назад.
И каждый день слепых снарядов стая
Свирепствует, сражая наугад,
Сметая все, от края и до края.
V
Сметая все, от края и до края,
Текут потоки пламеносных рек,
И кажется, что Истина седая
Безумствующих кинула навек.
За лютой смертью смерть спешит вторая,
Все рухнет, чем гордился человек;
Бессильно вздрагивают, догорая,
Останки храмов и библиотек.
Опять в земле Милосская Венера,
Полотна Винчи, – штуки полотна,
Утеряна погибнувшему мера,
И злобою бушующей пьяна,
Как сказочная жадная химера
Несется беспощадная волна.
VI
Несется беспощадная волна,
Не удержать взметнувшейся стихии;
Поблекнула небес голубизна,
И вслед пророкам смолкнули витии.
Но если б и настала тишина
В смятенном ожидании Мессии, –
Увидела бы красная луна:
Погибли голуби и гибнут змии.
Прогневался неправедный Творец.
За несвершенные грехи карая,
Определил страдальческий венец.
В отчаяньи вопит земля родная,
Как бы предвидя горестный конец,
И стонут люди, в ранах умирая.
VII
И стонут люди, в ранах умирая,
И все лелеют робкие мечты:
Прекрасною воспрянет жизнь земная,
На красной крови – красные цветы.
Но прежде победить! И, напрягая
Остаток сил, указанной черты
Не могут досягнуть, и Смерть, вздыхая,
Бросает им забвенье с высоты.
Все для войны – и подвиги и мысли;
Засеяны костями семена.
И павших невозможно перечислить.
И вновь, в шинелях серого сукна,
Идут на бой на Сомме или Висле,
Но чаша не осушена до дна.
VIII
Но чаша не осушена до дна!
Гонения ушедшим слишком рано!
Подавленная воля не вольна,
Нельзя в себя замкнуться невозбранно.
Петля потомкам явственно видна,
И цепи небывалого обмана
Готовы до последнего звена –
Грозит копьем железный Рах Romana.
Все для войны! Не думай о себе
И не живи, мечтатель, одиноко,
Но принимай участие в борьбе.
Бежит, бежит струя рдяного тока,
И люди доверяются судьбе,
И в гуле битв ничье не видит око.
IX
И в гуле битв ничье не видит око,
И в гуле битв у всех притуплен слух,
Не различить зловещего упрека,
Вотще, вотще предупреждает Дух.
И все рассвет по-прежнему далеко,
И в третий раз не пропоет петух,
И вождь и пленник не поймут урока,
Костер надежды вздрогнул и потух.
Сложил копье воинственный Георгий,
И только золота проклятый звон
И голоса предателей на торге,
А в этот час, заслыша скорбный стон,
Восходит Солнце в яростном восторге
В краю, где в море рухнул небосклон.
X
В краю, где в море рухнул небосклон,
Сливаясь с ним в прозрачно-желтом свете,
И вишен ароматом напоен
Горячий воздух, в снах тысячелетий;
И вечером кули бежит в притон,
Где опиум раскидывает сети,
Задумался Китай, и ждет Ниппон,
И люди – созерцатели и дети.
Оставлены старинные мечи,
В оружье вкралась ржавчина глубоко,
Сгорает жизнь спокойнее свечи,
Но, может быть, пробудятся до срока
И грянут тучей хищной саранчи
Медлительные правнуки Востока.
XI
Медлительные правнуки Востока
Уже давно внимательно следят:
В борьбе междуусобной и жестокой
Арийцы слепо пьют смертельный яд.
И хлещут брызги ярого потока
И странным ожиданием томят:
Тебе, Восток, тебе взойти высоко
И царственный тебе принять наряд.
Что сделает неумудренный кровью
Усталый Запад, в бедах исступлен,
Когда, стекаясь к бранному становью,
Неисчислимым множеством племен,
Монголы, соблюдая месть сыновью,
Нарушили тысячелетний сон?
XII
Нарушили тысячелетний сон
Наследники Великого Могола,
И Майдари насмешливый взнесен
Над желтыми, заполнившими долы.
Как воины, уступами колонн,
Они идут, гудит призыв веселый,
И каждый князь смущен и ослеплен
Величием всемирного престола.
Гордясь, ликуй, воскресший Чингис-Хан!
Отмщение убийства и порока
Твоих сынов непобедимый стан,
Что выстроят, по изволенью Рока,
В святом Петре – незыблемый дацан…
Сбылося предсказание пророка.
XIII
Сбылося предсказание пророка,
Борьба неравносильною была,
Пал третий Рим, не дав любви зарока,
Во прахе Византии купола.
Раздавлено беспечное барокко;
Готических соборов полумгла,
Где Сатро Santo в желтых пятнах дрока
Не оскорбить пришельцев не могла.
Безжалостны дикарские удары,
Обычай крепкий всюду водворен,
А непокорным – плети и пожары.
И, знаменуя Силу и Закон,
Как утро – новый, словно вечер – старый
Взвился над миром пламенный Дракон.
XIV
Взвился над миром пламенный Дракон,
Ему почет и скипетр и порфира,
И тысячи рассеянных корон
Князья приносят самодержцу мира.
И озарит непоколебимый трон
Смиренных подданных – зарею мира,
И желтый лик – в церквах среди икон,
Ему – мольбы и трепетная лира.
Дракон. Не века золотого власть
И не Мессии радость мировая,
Нависла огнедышащая пасть,
И знают люди, тихо засыпая,
Вовек немыслима иная часть…
Давно забыт обет земного рая.
XV
Давно забыт обет земного рая,
Тяжка братина бранного вина;
Старинную Европу раздирая,
Гремит неистощимая война.
Сметая все, от края и до края,
Несется беспощадная волна
И стонут люди, в ранах умирая,
Но чаша не осушена до дна.
И в гуле битв ничье не видит око:
В краю, где в море рухнул небосклон,
Медлительные правнуки Востока
Нарушили тысячелетний сон;
Сбылося предсказание пророка –
Взвился над миром пламенный Дракон.
(обратно)
(обратно)
Sibirica
«Невольной родине моей…»
(Триолеты)
Невольной родине моей
Не посвящу я светлых песен;
Мой плен томителен и тесен
В невольной родине моей.
А милый призрак давних дней
Неуловим и бестелесен;
Невольной родине моей
Не посвящу я светлых песен.
В краю холодном и суровом
Я вспоминаю край родной;
Как много пережито мной
В краю холодном и суровом!
Я здесь любил. Родимым кровом
Мне стал буран и летний зной;
В краю холодном и суровом
Я забываю край родной.
Я примирился и простил
Моей любви, прощаясь с нею,
И злой тоской не пламенею,
Я примирился и простил.
Край искупленья и могил
Мне стал понятней и роднее;
Я примирился и простил
Моей любви, прощаясь с нею.
Слагаю радостные песни
Невольной родине моей,
Где знал чреду счастливых дней,
Слагая радостные песни.
И с каждым часом все чудесней
Изгнанья край и все родней…
Слагаю радостные песни
Невольной родине моей.
(обратно)
«Нередко, в холода декабрьской непогоды…»
(Секстина)
Нередко, в холода декабрьской непогоды,
Изгнанники твердят, беседуя со мной:
«Как трудно вынести страдальческие годы
Вдали от стороны любимой и родной,
И непривычный труд, и скуку, и невзгоды,
И зимы долгие и ветер ледяной».
Но я – изгнанник сам. В Сибири ледяной
Я знаю холода туманной непогоды;
Раскаянье и гнев и злобные невзгоды
Меня не минули и тешились со мной;
И горько вспоминал и я мой край родной,
Где ясно протекли младенческие годы.
Томлюсь уже давно; медлительные годы
Шепнули мне: «Ты наш» и лаской ледяной
Твердили мне: «Забудь. Теперь тебе родной
Морозный, скудный край тоски и непогоды.
Взгляни!» И бледный лик предстал передо мной
В неслыханной красе, и я забыл невзгоды.
Еще ты спишь, Сибирь. Народные невзгоды
Ты сносишь и молчишь и пламенные годы
Еще тебе чужды, но чувствуется мной:
Недолго промолчишь в ограде ледяной,
Под мерный шум тайги и грохот непогоды
И думы о Руси, враждебной и родной.
В сомнениях ее не назовешь родной,
Пока не различишь ты общей нам невзгоды;
Тогда послышатся удары непогоды,
И после гулких битв придут иные годы.
Прорежет яркий луч твой сумрак ледяной
И радостная песнь пропета будет мной.
Пушистый мягкий снег летает надо мной –
Стране изгнания – и все же мне родной,
Пою: ты хороша в короне ледяной!
Придет, придет твой час, и рушатся невзгоды;
Тогда покажутся мучительные годы
Раскатами грозы далекой непогоды.
(обратно)
Зимняя ночь*
Таинственный и непонятный свет!
Приник туман к испуганной земле.
Ничто не дрогнет в серой полумгле;
В недвижном круге бледно-желтая луна,
Но непрозрачная густая пелена
Скрывает призрачный недостоверный свет.
Сливается с полями небосклон;
Пропал в тумане белоглавый лес,
В морозных клубах низкий дом исчез,
И сумрак брезжащий мою похитил тень;
Не знаю, – длится ночь иль бесконечный день,
В белесых мороках сокрылся небосклон.
Слезятся напряженные глаза,
И слезы стынут коркой ледяной,
Но боль уже не чувствуется мной,
И я брожу в лесах, часам теряя счет,
И сказочная ночь пугает и влечет,
Как женщин северных бесстрастные глаза.
(обратно)
Замерзание
Недвижно вкруг луны кольцо, прозрачное и бледно-матовое;
Блестит поляны снежной гладь, таинственный простор охватывая.
Тугие лыжи не скрипят, остановил я бег размеренный
И снегу ровному молюсь; восторженный, молюсь уверенно.
Я клятву верности сдержал, в морозные поля влюбленный;
Зима в покрове снеговом, ты примешь жениха на лоно.
Блистай, холодная луна, светильником в желанный час;
К тебе, владычица, пришел; завистник не расторгнет нас.
Бросаюсь я зиме на грудь, молитвенно целую;
Я ждал тебя, любил тебя, суровую и злую.
Как хорошо, зима, с тобой, я упоенно стих,
Как хорошо, как сладко мне в объятиях твоих.
Я упоен, тебя в объятьях стискивая,
Пренепорочнейшая грудь как близко твоя…
Как ты бледна, моя жена покорная!
Ужели страсть утолена упорная?
Я утомлен, я здесь простерт без силы;
Уходит кровь и цепенеют жилы.
О, быть с тобой еще, еще позволь!
Как странно в тело проникает боль.
И вновь меня ласкают жгуче,
Глаза закрыты темной тучей
И на устах моих печать;
Как хорошо вдвоем молчать
И, тихо засыпая,
У врат земного рая,
Сказать: «Лишь я да ты,
Сполна сбылись мечты».
Ко мне летите,
Снежинок нити,
Со мною – вот –
Ваш хоровод;
Немея,
Как змеи
Струят
Яд.
(обратно)
Ольхон*
Ни дерена. Убогая трава
Ползет к воде, цепляяся по скалам;
Суровым стражем встала над Байкалом
Гигантская Кобылья Голова.
Вдали видны отроги красных гор,
Там сосны лепятся по южным склонам…
Какой народ зовет родимым лоном
Пургой и солнцем сдавленный простор?
Порой толпа приземистых бурят
Несется на косматых кобылицах.
Но пятна белые на смуглых лицах
О смерти и болезнях говорят.
Проклятый остров! Неприютный кров
Пугающих заразой прокаженных.
Где мечется в ущельях обнаженных
Свирепых волн однообразный рев.
(обратно)
На Байкале
Месяца полупрозрачный серп
Потерялся в тучах светло-синих;
Далеко, на неразмытых льдинах,
Слышно лаянье веселых нерп.
Волны дышат вольно и легко,
Тихому дыханью внемлют горы;
Медуник лиловые узоры
Бороздят пострелов молоко.
Месяц скрылся. Гаснет свет ночной,
Трепетные волны покраснели.
Поезд грузно выполз из туннеля,
Громыхая пестрой чешуей.
(обратно)
Заячья охота
Проваливаясь в рыхлый снег,
Из крепкой лиственницы лыжи
Проворный замедляют бег
У летних юрт, где сосны ниже.
Там снег прозрачнее слюды,
Недвижны сосны в белой дымке;
Трехлистным клевером следы
Разбросаны по всей заимке.
Молчит двуствольное ружье
И ждет, в тревоге терпеливой,
Пока на сонное жнивье
Не выпрыгнет ушкан пугливый.
Как будто шумное вино
Из дула вырвется к лазури
И расплывается пятно
По пепельной пушистой шкуре.
(обратно)
«В унтах с узорною каемкой…»*
В унтах с узорною каемкой
У вод, охваченных тайгой,
Брожу вдоль заберегов ломких
С четырехзубой острогой.
Не промахнется, не изменит
Недавно робкая рука,
Когда налима в сонной лени
На берег выбросит река.
Потом – заиндевев в тумане,
С добычей сяду в кошеву
И, кутаясь в доху яманью,
Собаку свистом позову.
Скрипят сосновые полозья
И дятел прерывает стук
И, поседевший на морозе,
Спешит укрыться бурундук.
(обратно)
«У Белогорья и на Лене…»
У Белогорья и на Лене
Еще не вымерли шаманы.
Умей пройти тропой оленьей
В тайгу, в морозные туманы.
И положи куски хурута
На холм, засыпанный камнями,
Где у скалы, взнесенной круто,
Шаман зарыт в глубокой яме.
Дождись багрового заката
И на опущенные ветки
Повесь ходак голубоватый
И сделай четкие пометки.
Потом откройся при народе,
Ступай с подарками в улусы,
Дари семье, старейшей в роде,
Конфет и пороха и бусы.
Забрезжит день, скупой и серый,
Ищи обратные дороги
И все, о чем попросишь с верой,
Тебе дадут лесные боги.
(обратно)
Заклятье
Белогорье копило свинцовые тучи,
Собирался ударить буран,
Но мне предсказал удачливый случай
Уродливый старый бурхан.
Бурхана я смазал медвежьим жиром,
Положил ему два рубля.
И опять помолился и вышел с миром
В занесенные снегом поля.
И, встретив шамана в тяжелых бляхах,
С худощавым и нервным лицом,
Попросил я его, без детского страха,
Подарить венчальным кольцом.
Пусть на снежную поляну
Выведут козла;
Заклинать я духов стану,
Черных духов зла.
Пусть шаман ударит в бубны,
Кликнет в хоровод,
Чтоб со лба стекал на губы
Почерневший пот.
Пусть шаманки Адыгомки
Встанет вещий дух,
Я торжественно и громко
Имя бросил вслух.
Закричал шаман в весельи,
Глянул на бурят
И нанес удар смертельный
И отпрянул в ряд.
Понеслись по бычьим кожам
Меж отвесных скал,
Я, чужой и непохожий,
С ними заплясал.
Окропляя кровью дымной
Голые кусты,
Лишь тебе слагаю гимны,
Знаешь, знаешь ты.
И, молясь о светлой встрече
Богу своему,
Я дымящуюся печень
Выше подниму.
Рву трепещущие жилы
Сломанным ногтем,
Желчь закапала бессильно
Медленным дождем.
Рвем куски из общей чаши,
Прячем в рукавах;
Был я в те минуты страшен
С кровью на устах.
В пьяных криках и объятьях
Возрастает гул…
Я зловещее заклятье
Яростно швырнул.
И еще я не кончил вопроса,
Бросил в воздух шаман копье
И тотчас, между стройных сосен,
Показалось лицо твое.
К земле приникали тени,
Уже догорал костер,
Я упал в толпе на колени
И руки к тебе простер.
И слезы твои, как жемчуг,
Стекли на кровавый песок,
А на лбу повязка, и венчик
И давит грудь образок.
Я видел лицо родное,
Сияние милых глаз…
…И сердце сладостно ноет,
Вспоминая счастливый час.
(обратно)
В городе*
«Здесь города зевают в алчной скуке
И жизнь обвило узкое кольцо».
1.
Часов унылый караван
Ползет, как будто надо мною
Навис тяжелой пеленою
Непроницаемый туман.
Пройдут часы унылых буден,
Глухим окованные сном,
И новый день, угрюм и скуден,
Неспешно встанет под окном.
И вновь заученные позы,
Однообразные слова
И заблестевшие едва,
Вином рожденные угрозы.
Тоска слепорожденных дней
Ко мне приходит в пыльном платье
И нет любви и нет проклятья
И обещающих огней.
И сжата жизнь железным кругом,
Докучный плен нерасторжим
И немирящиеся с ним
Бесплодно гибнут друг за другом.
2
Зевают города в истоме алчной скуки.
Как тяжко каждый день один и те же звуки
Встречать и провожать, свершая дряхлый чин
Постылого труда, заплаканных кручин
И вялых праздников, опершихся на клюки!
Вокзальные гудки – протяжный стон разлуки,
Кривые улицы – как будто сеть морщин;
Не в силах одолеть давно приникший сплин,
– Зевают города.
Пройдут года, и так же будут внуки
В отчаяньи ломать протянутые руки.
Но страх томительный – привычный господин
И плена избежать не сможет ни один.
В дремоте тягостной, в неисцелимой муке
– Зевают города.
(обратно)
Степь*
«И вдруг мелькнет, неведомо откуда,
Раскосый взгляд насмешливого Будды
И желтое скуластое лицо».
1
Зной струится. Степь раскалена.
Красноклювы прячутся в болоте.
Ветер дышит в тягостной дремоте.
Жжет лицо горячая волна.
В яром гневе мстительное Солнце,
Из лучей свивая белый жгут,
Хлещет край, где идолопоклонцы
До сих пор шаманский бубен чтут.
Только ты, смиренный Шаджи-Муни,
Только ты воистину велик!
Солнце, люди, журавлиный крик
Славят Будду в смене новолуний.
В серых складках горного гребня
Удлиненные ложатся тени;
Всадник опустился на колени
Для молитвы на закате дня.
Южный ветер утомленно дышит,
Отдыхает солнце на горе,
Золотя изогнутые крыши
Белого кирпичного хуре.
Истомленно каркнул черный ворон,
Жжет лицо горячая волна.
Давит степь зовущий и упорный
Рев ухыр-бурэ, как рев слона.
2
Ветер северный грянул в трубу
На просторе.
Грозный враг, испытаем судьбу
В равном споре.
Ты силен, ты владеешь огнем;
Битве рады,
Друг над другом удары взнесем
Без пощады.
Ты пришел из далекой земли
В зной Востока.
Ты устал, ты в дорожной пыли,
Синеокий!
Ты родился, где взносит пурга
Свист змеиный,
Где в лесные – весной – берега
Бьются льдины.
Грозный враг, испытаем судьбу
В равном споре.
Ветер северный грянул в трубу
На просторе.
3
Под солнцем яростным стоячая вода
С утра гниет, грозя болотной лихорадкой;
Медлительно мыча, жуют кустарник сладкий
Косматых сарлуков покорные стада.
Сковала кругозор безлесная гряда
Угрюмых серых гор, раскинутых в порядке.
Тумана знойного струящиеся прядки
Хранят степных племен заснувшие года.
Огромный Майдари, с насмешливой улыбкой,
В туманном сне встает, расплывчатый и зыбкий,
Улыбка с каждым днем становится грозней
И скоро, вспомянув давнишнее величье,
Монголы издадут воинственные кличи,
Лаская в серебро украшенных коней.
4
Близок день – воплотится Будда
В желанный, последний раз!
Свершится, свершится чудо,
Наступит обещанный час!
Охвачены дикою волей,
Заслышат далекий гром
И вырвутся всадники в поле,
На солнце блестя серебром.
На Запад направлены луки,
Как струна, туга тетива;
Не дрожат загорелые руки,
Копытами смята трава.
Храпят низкорослые кони,
Доносится скрип телег.
Скорей бы метнуться в погоне,
Скорей бы внезапный набег!
Быстрый бег коней не измучит,
Каждый жаждою битвы пьян;
Оделись в сизые тучи
Хребты родимых Саян.
Ветер взвихрил облако пыли;
Эй, пора, занимается день!
Раскинула черные крылья
Чингис-Хана зовущая тень.
ПРИМЕЧАНИЯ
Унты – меховые сапоги.
Забереги – тонкий лед вдоль берегов еще не застывшей реки.
Яман – баран.
Бурундук – сибирская белка.
Медуника и пострелы – весенние сибирские цветы.
Хурут – сыр из кислого молока.
Ходак – лента для жертвоприношений.
Бурхан – общее название для богов у шаманистов-бурят.
Шаджи-Муни – халхаское произношение индусского «Сакья-Мунн».
Хуре – буддийский монастырь.
Ухыр-бурэ – огромная труба, употребляемая при богослужениях. Звук ее подобен реву слона.
Сарлук – монгольский бык.
Майдари – ожидаемое воплощение Будды. С его именем часто связывается пророчество братства келанов об освобождении Тибета от китайского влияния и утверждении власти буддистов над всем миром (См. Подгорбунский, «Буддизм», вып. 1, 1900 г., стр 189–190).
(обратно)
(обратно)
Sentimentalia
Сентиментальные рондо*
1.
(Ассо-рондо)
(обратно)
«Письма не будет. Знаю. Знаю.
Писать ведь письма нелегко».
Г. Адамович
Всеволоду Курдюмову
И нынче нет письма! Еще звонок,
И поезд тронулся, вдали теряя очерк.
Ужели я забыт? Ужели одинок,
И мне не скажет полудетский почерк,
Чтоб я пришел дремать у милых ног?
Темнеет. Дни становятся короче,
Чернеет в поле позабытый стог.
Я вспоминаю, сумрачен и строг,
И нынче нет письма.
Не так ли Вы, в саду ломая дрок
У флорентийской церкви Санта-Кроче,
Твердили, как заученный урок,
– Хотя бы несколько неровных строчек! –
И повторяли, глядя на Восток,
– И нынче нет письма…
2
Не ты, но Вы: сполна сбылись приметы,
Ушла, смеясь, «прости» сказала мне.
Едва слагаю скучные сонеты
В такой же одинокой тишине,
Как ростовщик, считающий монеты.
Воспоминания встают во сне,
Уходят вновь, стремительней кометы,
И, просыпаясь, восклицаю «где ты?»
Не ты, но Вы.
Чужие мы и в песне недопетой,
Задуманной с тобой наедине
В лесу, в потоках солнечного света,
Я всем солгу и, сдержанный вполне,
Я буду говорить, забыв обеты,
Не ты, но Вы.
3
Не попрошу докучных сожалений
Полупрезрительных и нежных фраз.
Не упаду с мольбою на колени,
Но я напомню Вам в последний раз
О хрупком и недолговечном плене.
Апрельский вечер, вздрагивая, гас,
Как яркие цвета на гобелене…
Не бойтесь, повторить прошедший час
Не попрошу.
Я не могу перенести томлений,
Так пусть в кафе зажжется тусклый газ;
Абсент, хранящий память о Верлене,
Навеет мне спасительный экстаз
И Вас прийти спасать меня из лени
Не попрошу.
(обратно)
(обратно)
Сентиментальные рондели
1
Амуров – розовых божков –
Молю, коленопреклоненный,
Пускай, беспечный и влюбленный,
Дождусь умолкнувших часов
И брошу связку васильков
В ее окошко у балкона.
Амуров – розовых божков –
Молю, коленопреклоненный.
Часы невысказанных слов,
Лицо – печальный лик Мадонны –
Сомнений сдержанные стоны
И дружный хохот из углов
Амуров – розовых божков.
2
Она бежала по аллее,
Убрав сиренью волоса.
Прозрачно искрилась роса,
Траву прохладою лелея.
Догнал. И стали тяжелее
Прерывистые голоса,
Мы целовалися в аллее,
Убрав сиренью волоса.
С улыбкою лукавой феи
Глядела молча в небеса,
Сковала цепью в полчаса,
Что бурной вольности милее,
И убежала по аллее.
3
Я помню тяжесть первой ссоры,
С упреком брошенное «Вы»,
Ковер намокнувшей листвы,
В тумане августовском горы,
Небес слинявшие просторы,
Взамен горячей синевы.
Я помню тяжесть первой ссоры,
С упреком брошенное «Вы».
О, дни, минувшие так скоро!
Боязнь соседок и молвы
И ложе ласковой травы
В тени у ветхого забора.
Я помню тяжесть первой ссоры.
4
Я раскрываю свой дневник,
Читаю блеклые страницы,
Теней проходят вереницы
И повторяют милый лик
Цитаты из ученых книг
И были – словно небылицы.
Я раскрываю свой дневник,
Читаю блеклые страницы.
И мнится – я седой старик
Уже в предчувствии гробницы
С мерцаньем трепетной денницы
Опять мечтою к Вам приник.
Я раскрываю свой дневник.
(обратно)
В меблированных комнатах*
Все так же, все так же, как было – открытки и бабушкин плед;
Ряды статуэток японских – в несчастной любви амулет.
Часов коридорных я слышу тяжелый размеренный бой
И так же считаю тревожно, как раньше считали с тобой.
Двенадцать. На улице холод – метель и не видно ни зги.
Ну, что же? Довольно работать… На лестнице чьи-то шаги,
В соседнюю дверь постучались. «Войдите!» И щелкнул замок.
Как скучно! И ширится в горле противный и скользкий комок.
Ужели заплачу? Не стыдно ль? Внизу заиграли матчиш.
Воткарточка… Кончено, значит? Не любишь, не пишешь, молчишь?
Матчиш оборвался и стихнул. Упорно трещит телефон.
Швейцар вызывает соседку… Какой надоедливый звон!
Стакан с молоком недопитым вчерашней газетой накрыл.
Кухмистерский ужин не тронут – и жир на котлете застыл.
С небрежно разрезанной книгой ложусь в сапогах на кровать;
Сегодня и завтра и после – мне некого… некого ждать!
(обратно)
«Белый снег заметает пути…»
Белый снег заметает пути.
Никуда одному не пройти.
Свет погаснул в родимом дому;
Не пройти никуда одному.
Год за годом плетутся года,
Одному не пройти никуда.
Тихо падает медленный снег…
В полумгле где найду свой ночлег?
Как забыть, как избыть мне беду,
Свой ночлег в полумгле где найду…
Как пустынно на скудной земле!
Где найду свой ночлег в полумгле?
Вечера коротают вдвоем
Где-то тут, за стеной, за окном.
Добрый друг посылает за мной
За окном, где-то тут, за стеной,
Но меня никогда не найдут
За стеной, за окном, где-то тут.
(обратно)
Письмо
1
Люблю размер, немногим милый,
В нем речь течет едва-едва
И вдруг блеснут внезапной силой
Среброчеканные слова.
Послушай, ямб четырехстопный,
Ты – мой товарищ расторопный,
Авось с тобою как-нибудь
И мы к Парнасу сыщем путь.
А, впрочем, рано нам с тобою
Отважно лазить по горам,
Где незабвенным мастерам
Царить означено судьбою.
Недосягаемый пример
Старинный Пушкинский размер.
2
Ему прилежно подражая,
Я чту великий образец
И вспоминаю свежесть мая,
Любви сияющий венец,
Когда – нетрудно догадаться –
Мне было только восемнадцать,
А ей почти шестнадцать лет,
Лукавой юности рассвет.
Я помню старую усадьбу,
Луга, где мы плели венки
И улыбались старики,
Пророча праздники и свадьбу;
Слегка дремали жарким днем
И оставляли нас вдвоем.
3
Кружится время хороводом
Быстрей, чем в марте тают льды,
И оставляет – год за годом –
Неизгладимые следы.
Мой прадед был старик гуманный,
Он ждал реформ, как божьей манны,
В мечтах рисуя идеал,
Парней в солдаты отдавал.
А деду Невский стал милее,
Но после суетной зимы
В деревню уезжали мы:
Я помню чинные аллеи,
Портреты предков, старый дом,
Крестьянам проданный потом.
4
В молельной – древняя икона,
Натертый воском желтый пол,
У деревянного балкона
В саду – накрытый чайный стол.
И осенявшие ступени
Кусты задумчивой сирени
И обмелевшая река
В зеленой чаще ивняка.
По праздникам в двухсветном зале
Провинциальные пиры,
В лесу высокие костры,
И беззаботные печали…
Забытый дедовский уклад, –
Как будто вырубленный сад.
5
Для жирных яств и мирной лени
Покинув невский шум и звон,
В приюте сельских вдохновений
Я был вполне вознагражден.
Она была… одна минута…
Сказать, какого института?
Ну, нет… А то бы по сердцам
Как раз ударил классных дам.
Молчали мы… Напрасны речи,
Вопрос, ответ, опять вопрос,
Коль прядь каштановых волос
Небрежно падает на плечи.
И я завел себе дневник,
Чтобы запомнить каждый миг.
6
Улыбки, беглые пожатья,
Под утро встречи у пруда
И треск барежевого платья
И быстрый шепот «навсегда».
Но вот – пересказать смогу ли? –
Мой отпуск кончился в июле,
Ее отец, упрям и крут,
Повез обратно в институт.
Сентиментального романа
На том и кончилась игра,
Его забыть бы мне пора,
Но что ж поделать… так… не рана,
А просто глупая печаль:
Мне свежей молодости жаль.
7
Немного гибкого уменья,
Немного вдумчивых минут,
И я – обычный данник лени –
Закончил свой недолгий труд.
Моя окончена дорога,
Я у последнего порога,
Все это было, но давно
Годов потоком сметено.
А все же вечером в апреле
Я вспоминаю до сих пор
В густом малиннике забор,
В кустах разливистые трели,
Зарею осиянный час
И – что греха таить? – и Вас…
(обратно)
(обратно)
(обратно)
Публикации в альманахах, сборниках и журналах
Клуб самоубийц*
(Отрывок из повести «Гимназичество»)
Глава VI
Несколько юношей, непринужденно развалясь в мягких креслах и качалках, расставленных в зеленой гостиной, курили, изредка перебрасываясь короткими фразами. Большинство в гимназической и студенческой форме, двое в смокингах. Хорошенький зеленый попугай, покачиваясь на трапеции, подвешенной к потолку высокой клетки, насвистывал французскую шансонетку. Дымок крепких египетских папирос принимал причудливые очертания и застывал в воздухе. Белый медведь, подбитый ярко-красным сукном, тупо глядел на собравшихся вставными желтыми глазами.
– Ну, что же, начнем? – предложил румяный блондин в смокинге и запел, потягиваясь, арию из «Пиковой дамы»:
– Однажды, в Версале, au jeu de la reine…
– Не нужно, Юрка! – остановил его бритый сероглазый путеец. – Начать бы можно, да мы ждем одного субъекта, гимназиста…
– Сегодня чрезвычайное собрание?
– Да, милый Юрочка, сегодня собрание чрезвычайное, с вынутием жребия. Один из здесь присутствующих, не позже, чем через двадцать пять часов, отправится ad patres.
Гимназист в мундире перестал дразнить попугая и обернулся:
– Прошлый раз ушел Борис?
– Совершенно верно, Коленька. Прошлый раз ушел Борис, господин гимназист С.-Петербургской XX гимназии. В газетах по этому поводу была поднята нелепейшая шумиха.
– Ну, господа, мы скоро начинаем? Я уже два часа здесь! – заволновался Коленька.
– Мой дорогой, я не понимаю, почему вы плохо чувствуете себя. Возьмите танагру, садитесь в качалки и помечтайте или перелистайте этот томик. Это восхитительные «Les trofees» Эредиа в редком, хотя чересчур громоздком, академическом издании.
– Однажды, в Версале, au jeu de la reine, – снова затянул Юрий.
В комнату вошел Паша и остановился, растерянный.
– Творец, и откуда ты нам посылаешь такого раритета! – повернулся путеец к Юрию.
– Однажды, в Версале, au jeu de la reine… Казимир, этот раритет, как ты изволишь выражаться, уже давно хочет побывать в клубе. Почему бы нам не доставить ему удовольствия? Я уверен, что на наше настроение не сможет повлиять никто.
Казимир резко повернулся, так что громко звякнул браслет с золотым медальоном – миниатюрный снимок с Джио- конды.
– Господин прозелит, садитесь, вот на этом кресле удобно! – закивал Юрий. – Казимир, начинай.
Казимир уселся в качалку и, плавно раскачиваясь, заговорил медленно и мечтательно.
– Мы ничего не ждем в жизни. Жизнь скучная и пошлая вещь. В жилах у людей иная кровь, чем текла раньше. Голубая кровь течет в жилах мечтателей, возлюбивших белую невесту-смерть больше хамки-жизни с раскрашенным лицом. Но мало голубокровых и чужды им люди с горячей, клокочущей в жилах, красной кровью. Все, что придумывали люди, чтобы забыться, мы испытываем: вино, прекрасный опиум, изощренные ласки. Раз в две недели мы собираемся вместе, чтобы поскучать, покурить, прочесть две- три страницы достойного нашего внимания поэта и поболтать. Раз в два месяца мы в первом часу ночи надписываем свои имена на кусках картона и бросаем картон в вазу. Вазу подносим попугаю. Попугай великолепно обучен и вытаскивает один кусок. Тот, чье имя на нем написано, кончает с собой не позже, чем через сутки. Яды, браунинги, ножички для вскрытия жил у нас всегда имеются. Пока попугай возится с вазой, приходится испытать несколько острых мгновений. Ради этих мгновений мы и устроили клуб. Уставов, конечно, никаких. Уклонений не бывало. Каждый волен не приходить в зеленую гостиную. Если вы, господин прозелит, ждали каких-нибудь страшных слов и мистических обрядов, вы разочаруетесь. Ничего подобного у нас нет. Я уже устал говорить… Картон на круглом столике. Юрий, ты обнесешь гостей, не правда ли? Карандаши тоже на столике. Картон с надписанным именем бросайте вот сюда.
Он указал на ажурную вазу и опустил в нее свою визитную карточку, украшенную гербом.
– Прошу вас!
Юрий, взяв четырехугольный продолговатый картон, задумался. Сколько раз ему приходилось участвовать на этих «чрезвычайных собраниях», и все же он не мог не волноваться. Ему казалось, что все это несерьезно, что он играет в какую-то запретную игру и сейчас все кончится и можно будет уйти.
Паше хотелось спать, и он плохо сознавал, как попал сюда и что от него требуется. Машинально написал свое имя; когда напомнили – опустил картон в вазу.
Стало неожиданно весело.
– Господа, вспомним Петрония! – неестественно развязно предложил Казимир. – Розы, кто хочет роз!
Он сломал несколько стеблей бледно-алых тепличных роз и бросил цветы на пол.
– Подбирайте, кто хочет! Коленька, будь виночерпием, шампанского!
Наполнив узкие бокалы редерером, выстроились рядом. Казимир схватил вазу, поставил перед попугаем и закричал:
– Господа, что-нибудь веселенькое!
«Иду к Максиму я,
Там ждут меня друзья», –
сочным юношеским голосом затянул Юрий. Все подхвати-
ли. Паша заулыбался и тоже хотел петь, но не знал слов.
Попугай посмотрел на вазу и, подсвистывая Юрию, нагнулся и вытянул картон. Песня оборвалась. Юрий подбежал к попугаю, отнял картон, взглянул и тихо сказал:
– Паша.
Общий облегченный вздох.
Казимир подошел к обреченному и пожал ему руку.
– Поздравляю Вас. Вам яду?
– Пожалуйста! – обрадовался Паша, сознавая, что его желание исполняется и смерть близка и уже готова взять его.
– Вот. Действие начнется через четыре часа, почти безболезненно; умрете приблизительно часов через десять. Впрочем, Вы, вероятно, раньше. Примете в вине?
Казимир с ласковой и серьезной улыбкой высыпал в бокал порошок и передал Паше.
– Вот.
Паша перекрестился и выпил. Виновато улыбнулся: «Горьковато немножко».
Клубисты смущенно переглядывались. Казимир, подняв над головой вырванный из книги листок, заговорил нараспев:
– Кончим наш прекрасный вечер чтением поэта, умеющего радоваться и призывать к радости. Коленька, читай, ты умеешь.
Коленька улегся на медведя, обнял красивую белую голову и, взглянув на листок, начал декламировать:
Шампанское в лилию! Шампанское в лилию!
Ее целомудрием святеет оно,
Mignon с Escamilio! Mignon с Escamilio!
Шампанское в лилии – святое вино.
(обратно)
Страсть*
(Сонет)
В тяжелой тьме, нависшей над альковом,
В усталости разъединенных тел,
Поставившей желанию предел,
В смятении, неизъяснимом словом,
Я чувствую, властителен и смел,
Что, весь в огне, хочу желаньем новым –
И снова отдаюсь блаженным ковам,
Слепорожденный, в ласках я прозрел.
Но замираю в упоенной лени:
Восторженный порыв утихнул и угас.
Целую обнаженные колени,
Ловлю мерцание усталых глаз,
И вижу небо в звездном облаченьи,
Где ангелы ликуют о свершеньи.
(обратно)
Кутеж*
(Сонет)
Угрюмо пьют вино. Трусливы и грубы,
В шелку и шеншелях шикарные кокотки.
Сигарный дым свился в душистые клубы.
Бриллианты свет струят, разнузданный и четкий.
Колышет жирный смех двойные подбородки.
Гул покаяний, клятв и смрадной похвальбы,
И похоть, хохоча, рукой сжимает лбы,
Прокравшись в кабинет скользящею походкой.
Зажгла тупым огнем бессильных стариков
И, с пьяными следя истомный стон смычков,
Блестя глазами, вышла на ловитву.
И все слышней, слышней по гулкой мостовой
Тяжелые шаги солдат, идущих в битву,
И псов встревоженных недоуменный вой.
(обратно)
«Пианино. Канарейки. Фикус…»*
Пианино. Канарейки. Фикус.
На окне – дешевая герань…
Даже здесь возможен строгий искус
И упорная, недремлющая брань.
Будь один. Испытывай повсюду,
Проходи сквозь Узкие Врата.
В мезонине совершится чудо,
В строчках блекнущих проснется красота.
(обратно)
Слово о полку Игореве*
(Сонет)
Закликал Черный Див, готовясь к встрече,
Дружинники багряные щиты
Безмолвно подняли – и в лютой сече
Спокойно примут вольные кресты.
Молись Дажьбогу! Тепли в храмах свечи!
Плачь, Ярославна, плачь! Не знаешь ты –
Погибла рать в чужой степи далече
И половцам ворота отперты.
Шумит ковыль над павшими полками;
Рабом князь Игорь уведен в полон
Трояновыми темными тропами!
Обида встала, слыша горький стон,
И плещет лебедиными крылами,
И кличет русичей на тихий Дон.
(обратно)
Марк Аврелий*
(Сонет)
Пребудь один – не пастырь и не брат;
Всегда приветлив, сдержан и спокоен.
Не бойся смерти. Помни, строгий воин,
Что умерли Сенека и Сократ.
Не жди триумфов, славы и наград,
Беги пиров и в цирках мерзких боен.
И жребия высокого достоин
Блюди священный Рим – вселенский Град.
Приникла ночь. Уже умолкнул форум.
Я нынче не смутил себя укором,
Ни радостью. Окончены дела;
Красс отразил парфян надежным станом,
Благим богам принесена хвала
И приговор подписан христианам.
(обратно)
Узкие врата*
М. Фельдману
I
(Терцины)
На улицах дымящие костры
Едва виднелись в облаке тумана,
Что медленно вставал от Ангары,
Холодный пар и окна ресторана,
Огни пролеток – все казалось мне
Страницею старинного романа,
Где я герой, спешащий в тишине
На выручку прекрасной героини,
Томящейся в морозной западне;
На окнах и столбах лукавый иней
Чертил узор, капризный и простой,
Слагая чертежи из белых линий.
Я вспоминал блаженный летний зной
И подымался, холод проклиная,
По лестнице знакомой и крутой.
Звонил. Давнишний друг уже встречая,
Меня в большую комнату вводил,
Где ждал стакан дымящегося чая,
И, шкаф раскрыв, тихонько говорил,
Что нынче будет очередь де Лиля
И подождут Эпиктет и Эсхил.
И долго мы за строчками следили,
Пленяясь красками чужой мечты;
Мы в те часы причастниками были
Молитвенной, нетленной красоты!
II
Закрыта книга. Поздно. Первый час.
Пусть завтра вновь к себе зовет столица,
Сегодня мне напомнит мой рассказ,
Что жизни перевернута страница.
Пусть маятник отсчитывает бег
Моих минут, часов, кричит о деле,
Я помню холод, помню первый снег,
В глухой тиши счастливые недели.
Я знаю, помню; сумрачен и строг,
Учась, следил чужие песнопенья
И в первый раз тогда в созвучья строк
Упорно вкладывал свои сомненья.
И в первый раз таинственной любви
Я ждал в тревожном сумраке предчувствий
И я творил, любви сказав «живи»,
И я любил, мечтая об Искусстве.
Мне давних дней забыть вовек нельзя,
Пусть я ушел, мечта моя едина;
Во мне твой холод, ты моя, моя,
Великая Сибирская равнина!
Август 1917 г. Петроград.
(обратно)
Письмо в ссылку*
Маме
Все как было, мальчик, все в порядке:
Пыль всегда обтерта со стола;
Все твои альбомы и тетрадки
Для тебя, хороший, сберегла.
Все как было: красные гвоздики
Каждый день меняю на окне;
Та же грусть в старинном темном лике,
Только ты – в далекой стороне.
А в часы, когда приходит вечер,
Я в углу тихонько становлюсь
И о нашей долгожданной встрече
Всех Скорбящих Матери молюсь.
Чуть мерцает тихая лампада…
Помню, помню длительный звонок
И твое суровое: «Так надо»,
И твое молчание, сынок!
Дни бегут; недели мчатся мимо,
Увели – и нет тебя со мной…
Где ты, где ты, мальчик нелюдимый,
Жив ли ты, ответишь ли, родной?
Иль в тайге холодной и дремучей
Разгулялась злобная зима…
Горький мой! Ужели не получишь
Этого несвязного письма?
(обратно)
21 апреля*
Злобные толпы, покрыв перекрестки,
Кипели в глухой борьбе;
Женщины шли, бежали подростки,
Кричали: «Убей, убей!»
Свободный город волна затопила
Враждебных, чуждых племен!
Пылали злобой и дикой силой
Кровавые сгустки знамен.
Песни вздымались и падали тотчас,
Шли солдаты, за рядом ряд,
И никто не молился: «Будь милостив, отче,
Не ведают, что творят».
Но было смятенье и скорбный ужас,
И ненависть была;
Столкнулись толпы, и вскинуты ружья,
На землю пали тела!
Свободным людям кричали: «Убийцы»,
В ответ глумились штыки…
Какие печальные, строгие лица
У погибших от братской руки!
(обратно)
Оборотень*
Мы верили, знали, посмели,
И древняя пала тюрьма;
Счастливым румянцем зарделись
Одежды, ворота, дома.
Изменникам – должная кара;
Россия, ликуя, цветет…
Но мало ли нечисти старой
И нынче таится и ждет!
Таится… пора не приспела…
Является спящим в бреду…
И правит лукавое дело,
На Родину кличет беду.
Прикинется странницей ловкой,
Зашепчет: «Ой, плохо! Не зря
Видение было в Соловках –
Народу не жить без царя».
Метнется в поля, за сугробы,
Зовет: «Выходи, мужики,
Избыть вековечную злобу,
Пустить по Руси огоньки».
В казарме, в подвале, в гостиной
Пророчит разгром и позор,
И страшную ткет паутину,
Хихикая, сеет раздор.
Все чаще пустое витийство
Туманит растерянный взгляд,
И призраки братоубийства
Встают, обступают, теснят!
Смущаются люди, не зная,
Рассвет или тьма впереди…
Стань, юркая, нечисть ночная,
Не радуйся! Сгинь, пропади!
(обратно)
Княжна*
Меняя Петроград в мечтательном апреле
(«Назойлив слишком стал фабричный едкий чад»)
На светлый барский дом, построенный Растрелли,
Княжна хранит прадедовский уклад.
В отставке капитан, соседями ославлен:
– Ему Романов ли, свобода, – все равно –
Ломаясь и смеясь, о прошлогодней травле
Рассказывает барышням красно.
Княжна сердита. Он рассказывает снова:
Легко ль ему терять на свадьбу лишний шанс!
За ломберным столом – изделье крепостного –
Раскладывает бабушка пасьянс.
Зато по вечерам, в двухсветной белой зале
Сулит таинственность часов докучный ход,
И английский роман, отысканный в журнале
За восемьсот пятидесятый год.
Под утро почтальон. «Как славно встать до света,
Посылки разбирать – сестре, кузине, мне…
Ах, писем нынче нет!» Отброшена газета:
Ни жениха, ни брата на войне.
А что за толк читать о русской вольной силе,
О муках родины! Мечты сломал февраль.
Никто не поддержал склоненных белых лилий…
Эх вы, дворяне! Скучно и не жаль.
Солдатам-мужикам отдать гвардейцу шпагу,
Забыв предания и верность и гербы
И снова присягать, сломав свою присягу!
Не все ль равно? Рабы – всегда рабы.
Они сильней, сильней… А были батраками!
Но к царской мантии вовек возврата нет.
…Под легкими и быстрыми шагами
Едва скрипит рассохшийся паркет.
(обратно)
Марсельеза*
В газетах и на сходках до сих пор еще грезят
О бескровной революции! Об идеальных средствах и цели!
Разве не различили за последние недели
Особенных звуков в Марсельезе?
Песни восстания тяжелой лавиной
Падают на заснувшие города и зовут!
Марсельеза изменников посылает на суд,
Казнит предателей, пощадит ли невинных?
Снова Марсельеза поет о смерти,
Поет в мятежной и радостной силе;
Неужели кто-нибудь думал: ее укротили,
Потому что сыграли на митинге-концерте?
Звуки растут и расходятся шире и шире,
Начались на фронте, перекидываются в тыл;
Быстро стихает митинговый пыл:
Нет отдыха и сказок! Война и революция в мире!
Только красное знамя на опустевшей трибуне…
Марсельеза растет! В грозно нависающем пеньи –
Прислушайтесь – говорят о жестоком отмщеньи
Павшие восемнадцатого июня!
(обратно)
Дворцы*
Газетной лживой беготне
Мы ежедневно платим дани,
Но кто почувствует вполне
Трагедию старинных зданий?
Как нынче Мраморный угрюм…
Едва ль спокоен пышный Зимний…
От мрачных обессилев дум,
Дворцы скорбят о плавном гимне.
Пусть изменил солдатский штык,
Но им, огромным, близки тени
Самодержавнейших владык –
Полузабытых сновидений.
Вздыхают: «Что ж! Всему конец!»
И плачут в горести невольной.
Молчит Таврический дворец,
Но пылко негодует Смольный.
«Растрелли и Гваренги здесь
Творили вдумчиво и четко –
И я теперь поруган весь,
Я полонен косовороткой!»
Ему сочувствуя, поют
В унылой крепости куранты –
В тюрьме последний ваш приют,
Торжественные аксельбанты…
Дворцы тоскуют в тишине
Теней отверженных Элизий
И Петр на взвившемся коне
Тревожится о Парадизе.
(обратно)
Близок срок*
Новых чреда испытаний
Злобно встает в темноте;
Пусть до конца не устанет
Верный прекрасной мечте!
Пусть равнодушие наше
Дрогнет, понявши урок –
Еще не исполнена чаша,
Но приближается срок.
День приближается грозный,
День унижений раба,
Когда безвозвратное: «поздно»
Нам отчеканит судьба.
От павших соратников наших
Горький услышим упрек!
Еще не исполнена чаша,
Но приближается срок.
(обратно)
Распутье*
Опять к тяжелому распутью
Россия тихо подошла,
Но дали скрыты серой мутью,
Пути окутывает мгла.
Куда идти, кому поверить,
Кто нам поверит и спасет!
Незабываемым потерям
Уже давно утрачен счет.
Знамена, красные знамена,
Надежда долгих рабских дней,
Ужели враг иноплеменный
И их, восторженных, сильней?
Иль, за позор отмстив сторицей,
Вновь императорский штандарт
Над усмиренною столицей
Поднимет новый Бонапарт?
Не различить пути в тумане,
Врага успей, устереги!
Но скоро кто-то въявь предстанет
И слышны мерные шаги.
Недоуменны и тревожны,
Готовы к новому кресту,
Мы древний меч не вложим в ножны
И не задремлем из посту.
Но дали замкнуты глухие,
Дрожит усталая рука…
– Храни, Христос, Твою Россию,
Опасность смертная близка.
(обратно)
После митинга*
Насилу миновал автомобиль
Грохочущие красные заводы;
Я грустно думал: «Пыль и только пыль,
Мы – книжники, не рыцари свободы.
Не вспыхнуть очищающим огнем:
Да, тусклы мы и тускло наше небо…»
Аплодисменты. Крики: «Все умрем»,
И резкий возглас: «Лучше дайте хлеба».
Не верим, радуясь, и холодны, кляня;
Порыв залил, едва ль возникнет снова
И нет в глазах ни гнева ни огня,
И Марсельеза гаснет с полуслова.
Мы пламенели несколько минут –
Благословенна память их да будет!
Слова исчерпаны и нужен труд,
Но мы скорбим и молимся о чуде.
Молчания суровую печать
Когда бы на себя спокойно наложили!
Когда бы так! Работать и молчать,
Своей доверясь напряженной силе.
Идем вперед, товарищ, ты готов?
Трусливые пускай уходят в норы!
Пусть не смущают искренних борцов
Сектантские назойливые споры.
Но так не будет. Бдителен и нем
Не будет каждый в день последней брани.
Обсудят фракции… Воззвание «ко всем»,
Решил издать пленарное собранье.
Стремительно скользит автомобиль
По грязному рабочему кварталу.
Опять на митинг. Надо бы к началу…
Слова и жесты. Пыль и только пыль.
(обратно)
1918
Окончен год. На новой грани,
Недоуменные, стоим –
Кто в дали темные поманит,
Россия, именем твоим?
В куски разбитая корона
Сердца надеждой не зажжет;
Что с ней вернется! Рабьи стоны,
Тупая злоба, мертвый гнет!
Но вера в пламенное слово,
В святую вольность есть ли в нас?
Убор к венцу, – венок терновый
И залит кровью светлый час.
Так. Пусть убогие витии
Слепой покорствуют молве –
Ключи вселенской Византии
Недаром вверены Москве.
Пускай дряхлеет наша слава;
Велик, Россия, жребий твой,
Не может древняя держава
Быть усмиренною рабой.
Пусть императорские плети
Не сдержит жалкая мольба –
Не годом, не десятилетьем
России мерится судьба.
Какой бы срам ни выпал ныне
И кто бы ни сулил ярем, –
Оставим праздное унынье
И рабской доли не снесем.
И дрогнут короли лихие
И будет грозен смертный бой…
Вовек да здравствует Россия,
Да крепнет в буре роковой!
(обратно)
Письмо из Петербурга*
I
Издавать стихи, выпускать художественные журналы – дело по нынешним временам трудное. Когда проф. Само- киша красногвардейцы, как «саботажника», заставляют чистить снег на улицах, а длинный ряд лучших наших писателей и художников ежедневно анафемуется на страницах официальной печати, об искусстве много не поразговариваешь, а публично – тем более.
Еще сразу после октябрьских дней, после варварского разгрома Зимнего дворца, Кремля и многих храмов (на улицах Петрограда матросы продавали части мощей в золотых ковчежцах по 200 рублей за «штуку») – бывш. Союз деятелей искусств попытался в зале Академии художеств устраивать популярные лекции о старом Петрограде – нарочито для солдат и рабочих. Лекции, однако, ни теми, ни другими не посещались совершенно, а собиравшаяся любоваться исключительно интересными старыми гравюрами немногочисленная публика (человек 40–50) уж, конечно, меньше всего нуждалась в «популярности» лекций. Вторым осенним опытом широких выступлений, предпринимаемых художниками, были газеты-однодневки в защиту свободного слова и в защиту Учредительного Собрания. Газеты эти не привлекли широкого внимания. Новых изданий в Петрограде, за исключением двух-трех брошюр дебютирующих поэтов, не было совсем; новых постановок в театрах тоже почти не было. Усердно посещался только поставленный у Незлобина «Царь Иудейский», где поражали великолепные эрмитажные костюмы – подлинные костюмы эпохи. Пытались в Мариинском к январю поставить Стравинского, но не удалось – плотники отказывались ставить даже стариннейшего «Конька-Горбунка», находя, что в нем слишком много картин. Жизнь эстетическая теплилась только в изредка собиравшемся неизменно замкнутом цехе поэтов, да на вечерах у Сологуба, где по-прежнему можно было думать и говорить о стихах
Все же многочисленные кружки и общества либо распались, либо не собирались вовсе. В декабре были устроены 2–3 студенческих вечера поэтов.
В декабре же вечер поэтов в Академии художеств, где читали и Блок и Сологуб и Ахматова и многие другие; вечер, уже не популярный, собрал переполненный внимательными слушателями зал. В общем же искусство было придавлено. В Москве, пожалуй, было благополучнее. Там и все тот же привычный кружок писателей возле «Московского книгоиздательства» с Ив. Буниным во главе устраивал периодические вечера, и Маяковский со своей компанией докладывал приютившимся за столиками посетителям его вечеров:
«Ешь ананасы,
Рябчика жуй,
Последний твой денечек
Приходит, буржуй».
Почти единодушно за немногими исключениями (из них отметим статьи А. Блока в казенном петроградском «Знамени труда») писатели и поэты отказались участвовать в большевистских изданиях. Соглашающихся возили для очистки от буржуйности в Кронштадт на матросские вечера и потом признавали невиновными в «саботаже» и «соглашательстве». Первым совершил эту поездку маститый Ясинский, которого уж никак нельзя было заподозрить в пристрастиях к крайним течениям в политике.
Не избег этого и Шаляпин, удостоенный лаврового венка и похвальной статьи в «Известиях».
В общем же, эстетическая жизнь замерла в обеих столицах.
Я не был удивлен, увидев в Тифлисе объявления о художественном журнале и эстетических вечерах: всюду, где есть возможность жить, пробиваются и художественные начинания.
В январе в Ростове мне бросились в глаза объявления о «Вечере 13». Пошел; имена сплошь незнакомые: молодежь гимназического возраста. Кое-кто, усвоив себе эффектные псевдонимы вроде «Дар Гер» и «Скалагримм Березарк», дивил милую, но все же провинциальную публику плохими подражаниями Северянину и Маяковскому, в простоте душевной принимая их за последний крик моды, но в некоторых (прежде всего М. Лещинский) чувствовалось неокрепшее, но оригинальное дарование.
Как бы там ни было, вечер поэтов. Радуешься и тому, что дала молодежь, имевшая смелость устроить свой вечер.
(обратно)
Бабушкин шифоньер*
Пора забыть дубовый шифоньер:
В нем только ноты старого романса
С пометкою: «Не забывать нюанса»
И – утешение смятенных вер –
Потрепанная карта для пасьянса,
Еще – тарелки блеклого фаянса,
На них – цветы и бравый шантеклер…
Всю мелочь, праздности пример,
Пора забыть,
Внизу – альбом, где юный офицер
Или заезжий щеголь из Прованса
Чертил слова восторженного станса –
И на полях: «Мятежный Агасфер»,
И ниже твердо: «Дурня Санчо-Панса
Пора забыть».
(обратно)
Весна*
1
Синее небо. Солнце весеннее.
Талых сугробов веселое пение.
Боль нестерпимая. Я не любим.
Встречи и ласки ты делишь с другим.
Я не любим. Ты не мне бережешь
Встречи и ласки и нежную ложь.
Встретил я нынче – вы медленно шли.
Я поклонился. Взглянул издали.
Ты улыбнулась. В глазах сожаление…
Синее небо. Солнце весеннее.
2
Легкий шелест смолы.
На опушке – проталинки.
Стали мне тяжелы
Неуклюжие валенки.
Снег лежит голубой
На расчищенной просеке;
Встали тихой стеной
Невысокие сосенки.
Запах талой земли.
Всюду радость согласная.
Об ушедшей любви
Сожаленье неясное.
3
Когда над полем запах хлебный
Что день – становится сильней,
Смиренномудрые молебны
Я слышу в шорохе полей.
И в городах, в звонках трамвая,
В отгулах тротуарных плит
Все та же ясность мировая
Всегда трепещет и горит.
Еще не смея верить чуду,
Я различаю наугад
Премудрый чин и строгий лад,
И ясность тихую повсюду.
Приемля благостную суть
И правду жизни повседневной,
Я, примиренный и безгневный,
Иду в земной и светлый путь.
(обратно)
(обратно)
С. Шаргородский. «Пыль и только пыль…»
(К поэтической биографии В. Пруссака)
«Сколько таких горевших, сгоревших, забытых искр! Одни – рано погибшие и неиспользованные жизнью. Погибшие в юности. Другие и прожившие долгие годы, да оказавшиеся ненужными» – записывала в дневнике в сентябре 1974 г. Н. И. Гаген-Торн – ученый-этнограф, писательница и дважды сиделица, колымская и мордовская. «А Владимир Пруссак? Ему было 24 года, когда он заразился сыпным тифом и умер. Никто уж и не помнит, что был такой поэт. Кто, кроме меня, знает его прекрасные строки:
Сарматы смачивали стрелы
В крови клокочущей своей,
Чтоб прокаленные верней
Разили вражеское тело.
Порывы творчества бесцельны:
Искусством песню не зови,
Пока не смочена в крови
Души, пораненной смертельно.
И я – уверенным ударом –
Поранил крепнущую грудь,
И вот – запел. И вышел в путь
Навстречу неотвратным карам.
Путь был недолог. И – не оставил следа»
[1].
Гаген-Торн цитировала по памяти и с искажениями. Не знала она и того, что еще в 1967 и 1972 гг. видный сибирский литературовед В. П. Трушкин уделил Пруссаку немало места в своих книгах «Литературная Сибирь первых лет революции» и «Пути и судьбы: Литературная жизнь Сибири 1900–1920 гг.»
[2]. И хотя Гаген-Торн было известно мемуарное сочинение Л. В. Успенского «Записки старого петербуржца» (1970), где рассказывалось и о Пруссаке, по сути она была права: стихи поэта мало кто помнил. Между тем, о Пруссаке в свое время похвально отзывались Ф. Сологуб, Д. Бурлюк, Вс. Иванов, Н. Чужак, позднее Л. Мартынов, он выступал на одних литературных вечерах с А. Блоком, А. Ахматовой, О. Мандельштамом, В. Маяковским и С. Есениным.
В 1985 г., когда книга Трушкина «Пути и судьбы» вышла вторым исправленным изданием, в журнале «Сибирские огни» был опубликован большой, хотя и не свободный от преувеличений, ошибок и, разумеется, аккуратно расставленных советских «акцентов» очерк о Пруссаке
[3]. Да и в XXI веке биография Пруссака не была обойдена вниманием: в пятом томе биографического словаря «Русские писатели 1800–1917» появился обстоятельный биографический очерк К. М. Азадовского; любопытные сведения о Пруссаке и его семье привела в своей работе Е. Н. Груздева
[4].
Так сложилась парадоксальная ситуация – биография совершенно неведомого читателям поэта была изучена достаточно подробно, тогда как стихи его продолжали пребывать в безвестности
[5]. Ситуацию эту трудно назвать случайностью: биография В. Пруссака часто кажется намного весомей его творений – хотя бы как некий символ эпохи и история упущенных возможностей и далеко не реализованного поэтического таланта. И в самом деле, молодой поэт, едва проживший на свете 24 года, обладал удивительной способностью оказываться в самой гуще событий. Он успел побывать и героем нашумевшего политического процесса, и пожизненным ссыльным в Иркутске, и фронтовым агитатором, и деятельным участником литературной жизни Сибири, Петрограда и Тифлиса…
Владимир Владимирович Пруссак родился 21 июня 1895 г. в семье известного петербургского инженера-архитектора В. Ф. Пруссака (1850–1917), построившего в столице несколько доходных домов, дач и особняков
[6]. В. Ф. Пруссак также состоял в комиссии Городской управы по изысканию мер для ограждения Петербурга от наводнений и в 1899 г. разработал «Проект обращения части Финского залива в коммерческую гавань», который представил городскому голове. В политике Владимир Федорович, как указывает Е. Груздева, придерживался умеренно-«кадетских» позиций, однако под влиянием революционных событий 1905 г. выступил с речью по вопросам социально-политического устройства России, которую опубликовал отдельной брошюрой и предлагал обсудить ко дню созыва Государственной Думы
[7].
Семья жила в собственном доме на Петроградской стороне (Лопухинская ул. 7-г)
[8]. Владимир был третьим из четырех детей. Старшая дочь В. Ф. Пруссака Анна (в замужестве Беляева, 1888–1956), выпускница Женского педагогического института, плодотворно работала как этнограф, филолог и историк-источниковед
[9]. Старший сын Евгений (1890–1942) пошел по стопам отца: окончил Институт гражданских инженеров, в качестве инженера-строителя был занят в нескольких отцовских проектах, впоследствии стал инженером-нормировщиком и автором нескольких пособий. Вместе с тем, он был не чужд прекрасному: писал стихи и как композитор-любитель сочинил совместно с А. Гладковским первую советскую оперу на современный сюжет – «За Красный Петроград» («1919 год»), премьера которой состоялась в 1925 г. После смерти отца в 1917 г. Евгений и Анна приняли на себя заботу о матери и младшей сестре Елене (1899 – после 1956)
[10].
Поступив в Введенскую гимназию, Владимир Пруссак вскоре сблизился с другими учениками, исповедовавшими революционные взгляды – благо в гимназии хватало кружков и групп и политического, и самообразовательного толка. Здесь действовали, к примеру, кружок им. Л. Н. Толстого, издававший «Газету Санкт-Петербургской Введенской Гимназии», кружок старшеклассников, редакция ученического журнала «Недотыкомка» и, по выражению одноклассника Пруссака А. Ильина, «какой-то третий кружок»
[11].
В 1911 г. Пруссак и Ильин, согласно хронологии последнего, вступили в редакцию «Недотыкомки» и быстро превратили юмористический листок на четырех гектографированных страничках, созданный гимназистом Ю. Васильевым, в «агитационно-пропагандистское издание».
«Я, по преимуществу, писал статьи, подписывая их псевдонимом „эс-дек“, Пруссак писал революционные стихи, Васильев составлял хронику» – вспоминал Ильин. «Пруссак был, по преимуществу, поэт. Ему не хватало политической выдержанности. Но революционному движению он отдавался горячо и беззаветно <…> Стихотворения Пруссака имели большой успех среди учащейся молодежи. Они подкупали своей искренностью и преданностью революции».
Ильину запомнилось одно из гимназических стихотворений Пруссака, навеянное революционными событиями в Китае:
В стране далекой встал народ на битву,
Колеблет трон могучею рукой.
Читает богдыхан предсмертную молитву…
У нас по-прежнему томительный покой,
По-прежнему бездушна атмосфера,
По-прежнему предательством полна,
Не вспыхнет прежняя, горевшая в нас вера,
К нам не докатится далекая волна…
В грязи и пыли мучится рабочий,
Под тяжестью труда не опуская вежд,
И лишь в бессонные, мучительные ночи
Оплакивает боль несбывшихся надежд.
Забыты гимны счастья, славы,
Забыты дни великие побед…
[12]
В 1911 г. начало оформляться объединение представителей гимназических кружков и группировок; первое собрание новосозданной межученической организации, согласно Ильину, состоялось зимой 1911–1912 г. на квартире Г. О. и М. М. Шкапской
[13].
К лету или осени 1912 г. Пруссак стал одним из основателей «Революционного Союза» – организации, ставившей целью активную революционную борьбу. Как пишет Ильин-Женевский,
задачей «Революционного Союза» являлось объединение всех партий, состоящих левее кадетов на почве совместной активной борьбы с самодержавием. «Врозь идти, вместе бить», – таков был лозунг «Революционного Союза». «Надо сперва покончить с самодержавием, – говорил мне неоднократно В. Пруссак, – а потом мы уже будем говорить, что делать дальше».
В «РеволюционныйСоюз» охотно шли эсеры, анархисты и все те революционно настроенные юноши, которые не могли еще разобраться в программах существующих революционных партий <…>
Серьезного влияния на межученическую организацию «Революционный Союз» не имел. Это в значительной степени объясняется тем, что члены организации, вступившие в «Союз», несколько отошли от работы в организации и уже значительно меньше интересовались ею. Помню, как В. Пруссак на мой прямой вопрос, почему он уже который раз пропускает заседание комитета, заявил: «Мне не до учеников. Надо организовывать рабочие массы».
Впрочем, в последнюю минуту «Союз» решил организационно привлечь на свою сторону межученическую организацию. С этой целью Вл. Пруссак и пришел на общее собрание 9 декабря 1912 года в гимназию О. К. Витмер. Но, увы, собрание, которое должно было бы быть чрезвычайно интересным, так как на нем должны были решительным образом столкнуться различные течения организации, оказалось оцепленным полицией и арестовано[14].
Разгром был неминуем: полиция располагала информаторами в среде гимназистов, один из которых и доложил о готовящейся сходке на Садовой улице. Были задержаны 34 человека, конфискованы всевозможные документы – от личной переписки и гимназических журналов до журнала «Союза» «Религиозная чума», воззваний «К крестьянам», «К польскому народу» и пр. Девять участников собрания были арестованы и провели в заключении от нескольких дней до месяца. Предоставим вновь слово Ильину-Женевскому:
Арест гимназистов (всего на собрании было арестовано 31 ученик и 3 ученицы) произвел большой переполох в Петербурге. Левые газеты воспользовались этим, чтобы начать новую ожесточенную кампанию против правительства. Правые газеты пытались всячески замарать нас, доходя в этом отношении до попыток изобразить нашу организацию чем-то вроде лиги свободной любви.
Дело дошло до Государственной Думы, которая вынудила министра народного просвещения <Л. А.> Кассо выступить с объяснением по этому поводу.
Ввиду большого общественного интереса, который вызвало это дело, правительство не смогло применить особо строгих мер взыскания к арестованным ученикам. Вскоре все арестованные были выпущены на свободу. Половина участников собрания была исключена из гимназии, но с правом держания экзаменов экстерном, девять же человек, и я, пишущий эти строки, в том числе, особым циркуляром министра народного просвещения, были лишены даже и этого права[15].
Исключенных взял под крыло делец и политический филантроп Н. А. Шахов, предоставивший им стипендии для учебы за границей. Но Пруссак, также оказавшийся с «волчьим билетом» на руках, великодушным предложением не воспользовался, а вместо того с головой ушел в деятельность «Союза», составил прокламации «К солдатам» и «К 300-летию дома Романовых». В конце марта 1913 года он был вновь арестован за распространение написанной А. Ф. Керенским прокламации к годовщине Ленского расстрела и на время следствия помещен в одиночную камеру.
«Полудетский организм Пруссака не выдержал одиночного заключения; он захворал острым нервным расстройством и был переведен на арестантское отделение больницы Николая Чудотворца» – писала сестра поэта Анна М. К. Азадовскому
[16]. Подобная тонкость душевной организации, очевидно, была чертой семейной: Анна, арестованная в 1924 г. в связи с гонениями на католиков, после оглашения приговора испытывала истерические припадки, в результате чего у нее была диагностирована «тяжелая форма истеро-эпилепсии»
[17].
В больнице Пруссак составил небольшую работу о воровском жаргоне и песнях, которую Анна предложила для публикации профессору А. А. Шахматову. Она писала:
Уважаемый Алексей Александрович! Ввиду того, что мне неоднократно приходилось читать в Известиях Императорской Академии наук труды о различных «условных» языках, я позволила себе переслать вам работу моего брата, гимназиста VIII кл., о воровском жаргоне. <…> В… больнице политические и уголовные помещаются вместе, и брат более трех месяцев провел вместе с уголовными, присланными сюда на «испытание» со всех концов России. Еще на воле интересуясь вопросами языкознания, брат здесь занялся наблюдением над воровским жаргоном и собиранием песен, поющихся в настоящее время преступным миром на воле и в тюрьмах. Если работа брата заслуживает быть напечатанной, то не откажите посодействовать ее напечатанию…[18]
Работа заключенного, однако, не заинтересовала Шахматова и была возвращена отправительнице.
«Революционный Союз» виделся группой куда более опасной и радикальной, нежели школярская межученическая организация, и меры к Пруссаку и его товарищам были применены самые жесткие. После года пребывания в тюрьме и госпитале и судебного процесса (с блестящей речью защитника – А. Ф. Керенского) Пруссак 19 марта 1914 г. был приговорен окружным судом к пожизненной ссылке в Сибирь.
К слову, не кого иного, как Керенского, А. В. Пруссак винила в несчастьях брата: дескать, тот
поручил Пруссаку распространение собственной прокламации, затем скрыл свою роль и предложил родственникам выступить на процессе защитником, а «за произнесенную на суде речь стребовал с них крупную сумму денег, которая с трудом была собрана»
[19]. Но необходимо учитывать, что все это Анна излагала в конце двадцатых, после полуторагодичного тюремного заключения в 1924–1925 гг. Естественно, она придавала событиям соответствующую окраску, скрывая эсеровскую политическую деятельность брата после Февральской революции и близость его к Керенскому (по словам Л. В. Успенского, по возвращении в Петроград Пруссак «стал своим <…> в семье Керенских»)
[20].
Весной 1914 г. восемнадцатилетний изгнанник прибыл к месту ссылки – в село Суховское в 40 верстах от Иркутска. Здесь он пробыл всего полгода и уже в октябре получил разрешение на временное проживание в Иркутске «для лечения». Разрешение это, однако, постоянно продлевалось, что позволило юному поэту обзавестись литературными знакомствами
[21] и устроиться на работу в банк. «Я два года честно торчал за банковской конторкой и делал завидную карьеру», – писал он Шкапской 31 октября 1916 г.
[22] В стихах работа «у конторки», правда, обрела северянинский флер:
…В плоскопресном Иркутске я картавлю о Бисмарке,
У банкирской конторки заскучав оманжеченно…
Брат Евгений и сестра Анна регулярно навещали Владимира в ссылке. Евгений жил в Иркутске в июне-июле 1914 и в феврале-марте 1916 г. Анна, заручившись командировкой для сбора диалектологического материала от Отделения русского языка и словесности Академии наук, провела с братом все лето 1914 г. и вновь побывала в Иркутске летом 1915 г.
[23] Видимо, она и привезла в столицу рукопись первой поэтической книги Пруссака «Цветы на свалке», вышедшей в октябре 1915 г. как авторское издание.
К. Азадовский описывает «Цветы на свалке» следующим образом:
Название – очевидная реминисценция «Цветов зла» Ш. Бодлера. В желании эпатировать своими «поэтезами» начинающий поэт откровенно подражает И. Северянину, утрируя его манеру и доводя ее порой до нелепости (словообразования типа «грезошалость», «рифмовздохи»; аллитерации «В лилеалой аллее олелея лилейно»; богемно-эстетский колорит создают «поцелуйные пляски», «интимные будуары», «угарные желания»). Встречаются и страницы, заполненные многоточиями подобно текстам A. M. Добролюбова, возможно, к нему восходят религ. настроения, стремление расстаться с «городом», удалиться от суеты. Звучит в сб-ке и автобиогр. мотив подпольной борьбы (стих. «Я уничтожил перед обыском…», упоминаются «нашумевший процесс», «партийный оратор», «эсеровская явка»). В целом первый сборник П. выделяется эклектичностью, в нем слышны разные голоса[24].
«Все принципы поэтики и эстетики эгофутуризма, – замечал В. Трушкин, – здесь крайне обнажены и нередко доводятся до абсурда, до полной потери чувства меры и вкуса»
[25].
Однако подобный лобовой подход к «Цветам на свалке» не представляется целиком и полностью оправданным. Наряду с юношеской наивностью, подражательностью и поэтической неискушенностью в книге ощущается и изрядная доля рефлексии, от явно иронического использования эгофутуристических приемов и осознанного «кэмпа»
[26] до нарочитого конструирования авторской личности в расчете на успех эпатажа.
Последнего мнения придерживался, похоже, С. Городецкий, разглядевший на поэтическом лице Пруссака «смешную маску»:
А между тем средь всей этой пошлятины вдруг встречаются живые слова, говорящие подлинную правду о молодом, может быть, и поэте:
«Я петербургской мостовой
Невоплотившийся ребенок».
Конечно, ребенок! Так только дети умеют молиться, как молится г. Пруссак Богородице:
«Душу скорбную, нетронуто-печальную,
Ты не выдай на смех лютым ворогам!»
Конечно, невоплотившийся! Ибо то, в чем он вышел на свет, еще не плоть, а только платье, шутовской наряд, да еще от плохого портного, дань моде. Любопытно проследить, как все веянья в поэзии оставляли свои следы на работе г. Пруссака. Тут и Блок с его мертвой красотой, тут и Саша Черный с его наскоком на тему, и Алексей Ремизов со своей чертовщиной. Конечно, это «прошлое» много лучше настоящего. Личности у автора еще нет, или, пожалуй, она есть, но не имеет еще права на то, чтоб являться публично[27].
Об установке на «вкус толпы» и подражании «наиболее счастливым предшественникам» писал и Вс. Рождественский, при этом начисто отказывая автору «Цветов на свалке» в каком-либо таланте: «Владимир Пруссак прямой тропой пришел к „несравненному Игорю“ и взял от него то, что было по душе: ресторанный чад и лакейскую пошлость. Его „поэтезы“ – родные сестры „Ананасов в шампанском“ <…> Книга томит длиннотами и в лучшем случае заставляет вспомнить „поэзы“ Игоря Северянина, увы, не в пользу автора „Цветов на свалке“, где дано все, чтобы оправдать это название и нет только цветов»
[28]. В горьковской «Летописи» Д. Выгодский высказался благодушней и в духе «в них что-то есть» своего патрона: «Некоторые страницы книги все же останавливают на себе внимание и заставляют подозревать, что у автора их кое-что свое, что он бы мог даже это высказать своими словами, простыми и искренними»
[29].
С чрезвычайно резкой рецензией выступил Н. Гумилев; приведем ее целиком:
Если вспомнить андреевский рассказ «В тумане», нам многое прояснится в стихах Владимира Пруссака. Без этого непонятно, почему он ломается, представляя то сноба скверного пошиба a la Игорь Северянин, то опереточного революционера, то доморощенного философа, провозглашающего, что искусство выше жизни, и наполняющего свои стихи именами любимых авторов. Почему он не пишет о продуманном, а не о придуманном, если хочет быть поэтом, а не флибустьером в поэзии – а кажется, он действительно этого хочет? Помимо неврастеничности, жидкости и слабости духа, неспособности выбирать и бороться за выбранное, качеств, общих с героем Андреева, у Владимира Пруссака есть как будто мысль, очень распространенная у молодых поэтов и крайне для них губительная – желание быть не таким, как другие, пусть мельче и пошлее, только не как другие. Но, увы, только пройдя общий для всех людей путь, можно обрести свою индивидуальность, и нет такого смрадного закоулка мысли, где бы уже не сидел какой-нибудь шевелящий усами мыслитель-таракан.
Свалка? – сколько угодно свалок в литературе. Обольщение гимназисток – и столько гимназисток-то не наберется, сколько их обольщали в стихах и в прозе. Веселые прогулки с проститутками воспевались сотни раз. Все это кажется новым только оттого, что легко забывается. Каких-нибудь три, четыре года, как появился эго-футуризм, а каким старым и скучным он уже кажется. Владимиру Пруссаку надо сперва рассеять в своих стихах туман шаблона, чтобы о нем можно было говорить, как о поэте.[30]
Как бы то ни было, Пруссак сумел заставить известных критиков говорить о своей книге, что само по себе являлось достижением.
В начале июня 1916 г. Пруссак и его молодые сотоварищи-поэты – К. Журавский, Н. Камова, Л. Повицкий и В. Статьева – выступили с первым и оставшимся единственным выпуском альманаха «Иркутские вечера»
[31].

Альманах открывался декларацией:
В стране непробужденных просторов и злых морозных туманов, где искусство живет вчерашним днем, где поэзия кажется тихой заводью, пугающейся свежего ветра, мы, немногие, случайно спаянные временем и местом, дерзаем вступить на путь действенного и гласного творчества.
Не примыкая ни к одной из существующих групп в поэзии, не замыкаясь в свою собственную, мы предоставляем каждому из нас выявлять себя в избранных им образах и мотивах. Общее между нами – наша любовь к поэзии и веротерпимость. Наш альманах – стихи, которые каждый из нас считает для себя наиболее характерным в данное время.
Мы рады будем, если к нашим голосам присоединяется новые. Мы ждем их.
Иркутск. Июнь. 1916.
Альманах, действительно, был весьма разнороден по составу – от камерной лирики Журавского до откровенно перепевавших Блока и Ахматову стихов Камовой и политических мотивов Повицкого («Централ», «Забастовка» и т. п.). Пруссак опубликовал в альманахе ряд стихотворений, многие из которых позднее, с некоторой правкой, вошли в его второй сборник «Деревянный крест» (1917); подборку открывал сонет «Сибирь» («Покоится зловещая тайга…»). Цитируя это стихотворение, большевистский публицист и литературный критик, деятель дальневосточного футуризма и будущий лефовец Н. Ф. Чужак-Насимович (1876–1937) писал: «Само собой разумеется, что подобная (не буколически-патриотическая) интерпретация Сибири не могла понравиться обломкам областничества, державшим всю сибирскую печать в своих руках <…> „Иркутские вечера“ были встречены свирепым воем, всех без исключения, сибирских газет, – в то время, как столичная критика их оприветствовала»
[32].
Вероятно, Чужак имел в виду, прежде всего, разгромную рецензию И. Г. Гольдберга (1884–1938). Писатель и критик не нашел в альманахе ничего, кроме малограмотности, подражательности и «рабского служения мертвому слову, форме». «Оставьте нам Анну Ахматову, Александра Блока, К. Бальмонта, Игоря Северянина, В. Брюсова и др., мы будем брать их в подлиннике, а не в вашем ухудшенном издании…» – восклицал он. «Уйдите в тишину и поработайте <…> А уж потом выходите на свет Божий. Быть может тогда в ваших словах будет трепетать сила, а не бессилие, жалкое и смешное, как теперь»
[33]. Однако альманах приобрел известную популярность в Иркутске; еще более популярной сделалась пародийная пьеска участника кружка «Вечеров», поэта и переводчика Д. И Глушкова-Олерона (1884–1918) «Миракль „Иркутских вечеров“, или Сон ночного сторожа» – любители переписывали ее и заучивали наизусть
[34].
Летом 1916 г. Пруссак побывал в Забайкалье, где осматривал буддийские монастыри (Азадовский считает эту поездку частичной причиной появления в его творчестве «восточных мотивов»). В августе вышел в свет первый номер журнала «Багульник» (редактор-издатель А. И. Миталь), сыгравший недолгую, но значительную роль в литературной жизни Сибири. Журнал, по словам его активнейшего участника Чужака-Насимовича, продолжил «энергичную кампанию по возрождению в Сибири поэзии вообще», начатую поэтами «Иркутских вечеров»: «„Багульник“ действительно объединял все не застойное в поэзии сибиряков <…> „Багульник“, можно смело это сказать, был единственным в 1916 году печатным органом в Сибири, делавшим ту самую работу нового осознания всего сибирского через художество, которую в 1900-ых годах открыла группа беллетристов. Немудрено, что один за другим все раскиданные по широкой Сибири поэты входят так или этак, путем ли переписки и бесед, путем ли прямого сотрудничества в журнале – в действенную связь с группой иркутских поэтов»
[35].

В журнале участвовали стихами и прозой все поэты «Иркутских вечеров». Пруссак, некоторое время состоявший секретарем редакции, напечатал в первом же номере написанную в Забайкалье малую поэму «Сибирь». Поэма, основанная на «панмонголистских» прозрениях Вл. Соловьева и распространенных ощущениях грозящей Западу «желтой опасности», не только – хотя и в противоположной тональности – предвосхитила «Скифов» Блока, но словно пророчествовала о появлении в монгольских степях кровавого безумца барона Унгерна:
Близок день – воплотится Будда
В желанный, последний раз!
Свершится, свершится чудо,
Наступит обещанный час!
Охвачены дикою волей,
Заслышат далекий гром
И вырвутся всадники в поле,
На солнце блестя серебром. <…>
На Запад направлены луки,
Как струна, туга тетива;
Не дрожат загорелые руки,
Копытами смята трава. <…>
Ветер взвихрил облако пыли;
Эй, пора, занимается день!
Раскинула черные крылья
Чингис-Хана зовущая тень.
Н. Чужака поэма привела в восторг; в 1920 г. он писал: «„Степь“ носит следы такого величавого, такого грозного и полного воплощения в судьбы Сибири, до которого не возвышался ни один коренной поэт Сибири
<…> Такого эпического осознания Сибири, далекого от идиллического патриотизма Омулевского, равно и от тревожной импрессионистичности беллетристов-сибиряков, конечно, еще не бывало в „сибирском“ творчестве»
[36].
Во втором номере «Багульника» привлекает к себе внимание прозаический фрагмент Пруссака «Клуб самоубийц», означенный как отрывок из повести «Гимназичество». О степени автобиографичности этого сочинения судить сложно, но некоторые моменты настораживают: так, в изображенном Пруссаком кружке самоубийц, состоящем из пресыщенных и эстетствующих гимназистов и студентов, царит культ Северянина – «поэта, умеющего радоваться и призывать к радости». В финале один из героев декламирует северянинский «Шампанский полонез». В гимназические годы Пруссак, как свидетельствует М. Л. Слонимский, с подобным «клубом самоубийц» по меньшей мере соприкасался:
Иногда так мне становилось душно, что хоть в петлю. Но в петлю полез Валя Ковранский, мой задумчивый одноклассник, писавший туманные стихи. Один из витмеровцев, по фамилии Пруссак, тоже писал стихи, и Ковранский однажды виделся с ним, поэтому я уважал его. Но Ковранский организовал в седьмом классе кружок самоубийц, и я самолично сорвал его с петли в гимназической уборной[37].
Вместе с тем, «Клуб самоубийц» Пруссака напоминает и о газетной шумихе 1912 г., когда петербургская пресса вовсю раздувала сообщения о мифической «Лиге самоубийств»: члены ее якобы «эстетизировали смерть» и прощались с жизнью с помощью цианистого калия в бокале шампанского (нечто похожее и у Пруссака), только по-клонялись не Северянину, а Ф. Сологубу и М. Арцыбашеву
[38].
С Сологубом Пруссак встретился лично 16 октября 1916 г., когда писатель выступил в Иркутске с лекцией «Россия в мечтах и ожиданиях». 20 октября Сологуб писал жене:
Познакомился с Чужаком. Молодой человек довольно жизнерадостного вида, по манерам нечто вроде смеси Минского и Луначарского. Заведует какою-то маленькою типографиею. В сибирских газетах не участвует. Принят в «Летопись», но в Горьком разочарован: посылал ему критическую статью о Горьком без похвал, и не получил даже ответа. Под руководством Чужака образовался кружок поэтов, выпустили сборник «Иркутские вечера», издают журнал «Багульник». Не очень талантливые, но милые молодые люди, все не сибиряки, один, В. Пруссак, ссыльный витмеровец. Были у меня, после лекции угощали меня ужином[39].
В 1916 – начале 1917 г. Пруссак публиковался также в журнале «Современный мир» (1916, №№ 4 и 5), сибирских газетах «Амурское эхо», «Голос Сибири», «Лучи», «Омский день», напечатал ряд стихотворений в красноярском журнале «Сибирские записки». В рецензии на первый номер журнала Вс. Иванов писал, что «из десятка стихотворений, помещенных в книжке, имеют только относительную ценность стихи Вл. Пруссака»
[40].
В начале 1917 г. под маркой «Иркутских вечеров» Пруссак выпустил свой второй сборник «Деревянный крест», где резко отошел от прежних экскурсов в эгофутуризм в пользу классических тем, размеров и форм. В его поэзии начинают звучать гражданские мотивы (особенно ощутимые в военном, если не антивоенном, титульном разделе «Деревянный крест»). Вместе с тем, стенания о «распятой» и «поруганной» святой Руси, стране «терпенья, нищих и крестов», загадочной, мистической и непознаваемой «страдалице-невесте» Христа («Ты вся – неизреченный свет, / Твои пути неизъяснимы»), которой суждены и «новые кресты и разрушительные беды», и «великий поворот» революции, и «величье будущего Рима», отдают шаблонностью и блоковскими, а по временам тютчевско-некрасовскими интонациями.
В особом разделе «Sibirica» – попытка повернуться лицом к Сибири вплоть до погружения в ее «шаманскую» стихию: нарратор стихотворения «Заклятие» участвует в фантастическом камлании и воссоединяется с умершей невестой
[41]. Раздел этот можно рассматривать как эксперимент того же свойства, что и некоторые стихотворения «Цветов на свалке»: если раньше Пруссак пытался соединить северянинскую поэтику с описаниями революционного подполья, то теперь он силится привить розы классических форм к «дичку» сибирской природы и быта, пусть эти розы и окружены ореолом весьма чуждых предмету коннотаций.
Сборник произвел огромное впечатление на молодого Л. Мартынова: «Этот юный поэт покорил меня, юного тогда читателя, даже просто только названием своей книги, названием и простым, и трагическим, и глубоко соответствующим содержанию, смыслу, духу этого сборника стихов: „Деревянный крест“»
[42].
Сразу после Февральской революции, несмотря на «жесточайшее», по словам сестры, воспаление легких, Пруссак устремился в Петроград
[43]. Однако он продолжал опосредованно присутствовать в сибирской литературной жизни. В последнем, пятом номере «Багульника» (март 1917) в составе цикла «Шаньги и оладьи (Молодым сибирским литераторам)» была напечатана запоздалая пародия «Язвы» (Ф. И. Чудакова, 1888–1918):
Владимиру Пруссак<у>
Однажды Феб молоденькой весталке
В порыве чувств читал «Цветы на свалке».
Едва прочел полдюжины «газелл», –
Раздался треск, как от «ломимой» палки, –
То надвое язык «перелетел».
Сломав язык, вонзя в прическу руки,
Состроивши свирепое лицо,
Зевает Феб «в истоме алчной скуки»,
Раскрывши рот, как «темное кольцо»…
Пруссак также поддерживал переписку с редактором-издателем «Сибирских записок» В. М. Крутовским; как указывал последний, «Пруссак написал нам, что он не покидает журнала, будет писать из Петрограда, что связь с Сибирью ему теперь дорога. Он дал свой адрес и просил высылать ему „Сибирск. записки“»
[44]. В декабрьском номере журнала за 1917 г. были напечатаны два стихотворения Пруссака из цикла «Узкие Врата», написанные в августе 1917 г. в Петрограде и завершавшиеся знаменательными строками:
Во мне твой холод, ты моя, моя,
Великая Сибирская равнина!
В Петрограде Пруссак, сдав экстерном экзамен на аттестат зрелости, погрузился в общественно-политическую деятельность, стал почетным председателем Организации средних учебных заведений (ОСУЗ), способствовал созыву в Москве Первого всероссийского съезда учащихся средней школы, публиковал в газете ОСУЗа «Свободная школа» зажигательные стихи: «И юное, бодрое слово „Товарищ“ / Раздастся свободно и звонко теперь». Об этом периоде его жизни вспоминает Л. Успенский
[45]:
<…> Среди членов Управы ОСУЗа уже с начала апреля появился один более взрослый человек – только что вернувшийся из ссылки «витмеровец», эсер и поэт, Владимир Пруссак.
Что значит – «витмеровец»?
Несколько учеников одной из питерских гимназий во главе с юношей по фамилии Витмер[46] были два или три года назад арестованы по обвинению в принадлежности к партии эсеров. Их судили и выслали на поседение в Сибирь.
В ссылке молодые люди эти попали под крыло старой эсерки, «бабушки русской революции», как ее именовала партийная пресса, Екатерины Брешко-Брешковской.
Владимир Пруссак, юноша из интеллигентской семьи, не то докторской, не то инженерской, еще до всего этого выпустил небольшой сборник стихов под замысловатым, «бодлеровским» заглавием – «Цветы на свалке». Стихи – что и понятно – были еще совсем не самостоятельные, подражательные. Образцом был – никак не гармонируя с названием сборника – Игорь Северянин. Шестнадцати- или семнадцатилетний гимназист В. Пруссак рассказывал в северянинской лексике и ритмике о том, как он (они – такие, как он) после очаровательно проведенного дня «развратно поаскетничать автомобилят в „Метрополь“» и т. д. и т. п. Критика отнеслась к выпущенному на собственные средства автора белому сборничку, пожалуй, иронически. Публика им не заинтересовалась… <…>
Как совмещались в голове и в душе юного поэта северянинские эксцессы с эсерством, я сейчас уже не берусь растолковать ни читателю, ни даже себе. Воображая теперь психологию тогдашней интеллигенции, мы невольно стараемся рационализировать (и – схематизировать) ее странную противоречивость. Нам все кажется, что такой причудливой двойственности быть не могло, что это – либо полная беспринципность, либо камуфляж, либо… А на деле все обстояло вовсе не так, и тот же Пруссак был совершенно искренен в обеих своих ипостасях – и когда переносил с одной конспиративной квартиры на другую эсеровскую литературу, и когда наслаждался «бронз-оксидэ, блондинками – Эсклармондами» Северянина, его распутными «грэзэрками», его «принцессами Юниями де Виантро» и пытался – в стихах, конечно, только в стихах! – изобразить и себя удачно «смакующим мезальянсы» с различными «напудренными, нарумяненными Нелли».
Никаких Нелли не было; не было и доступных гимназисту «Метрополей». И как только постановлением суда В. В. Пруссак был отправлен по этапу в Сибирь, он забыл о «двенадцатиэтажных дворцах» своего кумира, об «офиалченных озерзамках» Мирры Лохвицкой и всей душой переключился в иную тональность.
В сибирском издательстве «Багульник» вышел второй сборник стихов В. Пруссака, с совершенно иным настроем. Назывался он «Крест деревянный» и был полон не очень определенными, но скорее блоковскими, чем северянинскими, реминисценциями. Этот сборничек был замечен и получил совсем другую оценку. И стихи стали много серьезнее, самостоятельнее (среди них – несколько просто превосходных), и – отчасти – сыграло свою роль положение автора: «витмеровцев»-гимназистов защищал чуть ли не сам Керенский, процесс был «громким», осужденные в глазах общества стали жертвами и героями. Стихи такого начинающего поэта невольно производили впечатление…
В ссылке «витмеровские» связи с эсеровской (право-эсеровской) группировкой укрепились. Вернувшись из Сибири в первые же дни свободы, и Пруссак, и его единомышленник, друг и «сообщник» Сергеев оказались в центре внимания старшего поколения эсеров – Пруссак стал своим у Савинкова, у приехавшей в Петроград «бабушки», в семье Керенских.
На одно из осузских заседаний они – он и Сергеев – явились вдвоем. Ореол вчерашних ссыльных осенял их. Под гул всеобщей овации оба героя были «оптированы» в состав Управы в качестве ее почетных членов. Сергеев после этого сразу же исчез с нашего горизонта, а Владимир Владимирович Пруссак оказался деятельным нашим сочленом, интересным и приятным товарищем…
Да и неудивительно: вчерашний «каторжанин», «кандальник», овеянный романтикой следствия, суда, ссылки «в места отдаленные», и в то же время – поэт с двумя книгами! Он пленил ОСУЗ, осузцы пленили его… увы ненадолго: летом 1918 или 19-го года он скончался от аппендицита.
Посреди бурной общественной деятельности Пруссак не забывал и о поэзии. Сохранились сведения о его участии в «Вечере свободной поэзии», организованном обществом «Искусство для всех» в зале Тенишевского училища 13 апреля 1917 г.; на вечере выступали, среди прочих, Ф. Сологуб, С. Есенин, К. Чуковский, Р. Ивнев и объявленный «сверх программы» В. Маяковский
[47]. Считанные дни спустя разногласия по поводу политики Временного правительства выливаются в кровавые уличные столкновения (так называемый «апрельский кризис»). Стихотворение Пруссака «21 апреля» проникнуто ужасом и предчувствием братоубийственной бойни:
Свободным людям кричали: «Убийцы»,
В ответ глумились штыки…
Какие печальные, строгие лица
У погибших от братской руки!
С мая Пруссак начал достаточно регулярно публиковать свои стихи в «Новом Сатириконе». Эти стихотворения постепенно сложились в своеобразный цикл на злободневные политические темы. Летом он в качестве эмиссара Петросовета выезжает на фронт, агитирует солдат, вручая им «Знамя Свободы»
[48], старается «наладить» полки
[49], участвует в расформировании мятежных частей. Попытка расформирования одного из полков, несмотря на все усилия Пруссака, оборачивается орудийной дуэлью и жертвами
[50]. «Ответственный агитатор» (так назвал себя Пруссак в одном из очерков) видит, как разваливается армия и захлебывается «наступление Керенского» – последняя наступательная операция русских войск в Первой мировой войне. Порой кажется, что он гипнотизирует сам себя «революционной необходимостью», как в стихотворении «Марсельеза» («Нет отдыха и сказок / Война и революция в мире!») или в статье «Умывающие руки», где решительно выступает за применение введенной Временным правительством смертной казни на фронте:
Памятуя о павших в проклятые, отравленные июльские дни мы должны были сказать «смертная казнь тем, кто хочет смерти революции».
С невыразимой болью сказали мы – если ничто не может остановить безумное бегство, грозящее погубить Россию, пусть смерть остановит бегство.
И бегство было остановлено.
Когда Керенский говорит, что он половину души отдал, когда восстанавливал смертную казнь – в этой ужасающей, предельной искренности выявилась та правда, которую сознали все мы. Но ради спасения революции революционер должен жертвовать всем[51].
В сентябре с Пруссаком несколько раз встречается Р. Ивнев – и записывает в дневнике:
18 сент. 11 ч. вечера, столовая, у самовара.
Странное впечатление производит В. В. Пруссак. Он какой-то особенно целомудренный, девственный. Краснеет, как девушка. И должно быть безукоризненно нравственный человек. И мне с ним трудно. Я чувствую себя слишком грешным, грязным, низким (хотя тысячу раз значительнее, но это одно другому не мешает) на фоне его белизны. Когда с ним говоришь – представляешь себе бесконечно ровное белое поле.
19 сент. Политическое управление Воен.<ного> М-<инистерст>-ва. Мойка. И потом еще – у остановки трамвая на Невском.
Р. S. В. В. П<руссак> мне неприятен, несмотря на явные достоинства, а может быть только благодаря им[52].
После Октябрьского переворота Пруссак отходит от политической и общественной деятельности. В его стихах, как справедливо замечает К. Азадовский, «все явственней звучат мотивы разочарования в революции, тревога за будущее России („Опять к тяжелому распутью / Россия тихо подошла“), уныние и отчаяние от несбывшихся надежд („Храни, Христос, твою Россию / Опасность смертная близка)“».
«Слова и жесты. Пыль и только пыль…» – размышляет усталый и до предела опустошенный агитатор в стихотворении-автопортрете «После митинга». Это предпоследнее стихотворение из условного цикла «Нового Сатирикона», последнее же, «1918», открыло первый номер журнала за 1918 год. Не новых ли властителей подразумевал поэт под «королями лихими» в этой «оде вольности»?
Пускай дряхлеет наша слава;
Велик, Россия, жребий твой,
Не может древняя держава
Быть усмиренною рабой.
Пусть императорские плети
Не сдержит жалкая мольба –
Не годом, не десятилетьем
России мерится судьба.
Какой бы срам не выпал ныне
И кто бы ни сулил ярем, –
Оставим праздное унынье
И рабской доли не снесем.
И дрогнут короли лихие
И будет грозен смертный бой…
Вовек да здравствует Россия,
Да крепнет в буре роковой!
16 декабря 1917 г. Пруссак участвовал в «Вечере поэтов» в Академии художеств, собравшем цвет петроградской поэзии (А. Ахматова, А. Блок, О. Мандельштам, И. Северянин, Ф. Сологуб и многие другие). В начале 1918 г. он вступил в брак с В. Браун, дочерью профессора германистики Петербургского университета Ф. А. Брауна, и выехал на юг.
Поездка эта окружена таинственностью. «Слабые легкие дали о себе знать и в Петрограде, – пишет В. Бондаренко. – Зимой 1918 года он [Пруссак] вынужден был отправиться для лечения на юг, в Грузию»
[53]. Версия о «лечебной» поездке в Грузию через уже охваченный гражданской войной юг России едва ли выдерживает критику. Е. А. Динерштейн, напротив, утверждает, что «в 1918 году по правительственной командировке Пруссак направляется в Закавказье, а затем с отчетом возвращается в Москву, где его принял В. И. Ленин»
[54]. Вероятно, Пруссаку понадобился для этого путешествия какой-либо мандат, которым он мог заручиться благодаря своим знакомствам в большевистской среде. Возможно, он замыслил на долгое время покинуть Петроград или примерял на себя эмиграцию.
В январе Пруссак присутствует в Ростове-на-Дону на вечере местных авангардных поэтов, а затем оказывается в Тифлисе, где вскоре присоединяется к литературной группировке С. Городецкого, печатается в журналах «Русская дума» и «Ars». В марте он вместе с Городецким, Г. Робакидзе и Ю. Дегеном входит в состав «отборочного жюри» будущего «Цеха поэтов», в апреле участвует в обсуждении стихотворений, прочитанных на открытии «Цеха»
[55], затем возвращается в Петроград.
Осуществить задуманные планы – продолжить образование в университете, выпустить готовившиеся сборники «Sibirica» и «Воскресение» – Пруссаку не удалось. Как кратко пишет А. В. Пруссак, поэт «заболел аппендицитом, перешедшим в перитонит, и после неудачно произведенной операции скончался 9 июля 1918 г.»
[56]
В 1919 г. в первом и единственном сборнике тифлисского «Цеха поэтов» «Акмэ» был посмертно опубликован цикл Пруссака «Весна», состоящий из трех коротеньких стихотворений. В 1920–1922 гг. о Пруссаке еще вспоминали невольные «сибиряки» – Н. Чужак во Владивостоке, Д. Бурлюк в Берлине, с грустью писавший: «В Иркутске я нашел развалины издательства г-жи Миталь „Багульник“. Вокруг этого журнала группировалась плеяда самобытных авторов, из которых сосланный в далекую Сибирь гимназист Влад. Пруссак являлся весьма значительным поэтом»
[57]. После 1927 г. какие-либо упоминания о нем надолго исчезли с печатных страниц.
(обратно)
Комментарии
В настоящем издании собрана основная часть сохранившегося литературного наследия В. В. Пруссака, за исключением публицистики и некоторых стихотворений, разбросанных по сибирским периодическим изданиям.
Тексты публикуются по первоизданиям в новой орфографии, с сохранением авторской пунктуации. Безоговорочно исправлены некоторые явные опечатки.
Приношу глубокую благодарность И. Лощилову и А. Соболеву за помощь в работе над книгой.
С. Ш.
Цветы на свалке*
Публикуется по:
Пруссак Владимир. Цветы на свалке: Стихи. Петроград, издание автора, октябрь 1915.
«Я знаю, дамы! Я знаю, барышни…»*
…
billets-doux – любовные записки
(фр.).
…
demoiselle – девушка, барышня (
фр.).
…
dame de coeur – дама сердца
(фр.).
…
pour la bonne bouche – на закуску
(фр.).
…
«Metropole» – здесь, вероятно, как общий символ «шикарной» жизни. Но, с учетом других иркутских реалий в сборнике, не исключено, что имелся в виду известный ресторан «Метрополь» при одноименной гостинице на ул. Луговой (ныне Марата), кот. открылась в 1899 г. и считалась в Иркутске фешене-
бельной. Деревянное здание сохранилось до наших дней.
…
demi-vierge – девица легкого поведения
(фр.).
«Вечерами волшебными, вечерами морозными…»*
…
Нелли – имеется в виду поэтич. сборник
Стихи Нелли (М., 1913), представлявший собой мистификацию В. Я. Брюсова, написанную от лица вымышленной поэтессы и навеянную его романом с поэтессой Н. Г. Львовой (1891–1913). См. также с. 32.
…
tete-a-tete – здесь: свидание наедине (
фр.).
…
mon ami – здесь: приятель (
фр.).
«Девочка в коричневом. Быстрая цыганочка!..»*
…
распуколки – распускающиеся почки, бутоны.
«Это было прелестно: будуара интимней…»*
…
плерезами – Плерезы – траурные нашивки на платье, обычно по рукавам и воротнику.
«Ах, уж эти гимназистки! Как недавно белый крем…»*
…
chaiselongue – шезлонг
(фр.).
«Мы друг другу надоели…»*
…
тюрбо – рыба из отряда камбалообразных, обладающая высокой гастрономической ценностью.
…
О. Мирбо – франц. романист, драматург и публицист (1848–1917), чрезвычайно популярный в России в предреволюционные годы!., автор скандальных
Сада пыток (1899) и
Дневника горничной (1900).
«Облака – проворней белки…»*
…
присух – Присуха – приворотное средство, заговор, чары.
…
челдон – также чалдон, наименование старинных русских переселенцев в Сибири и их потомков; употреблялось и в знач. «бродяга, беглый каторжник».
«На затопленный остров, где накидан булыжник…»*
…
Игоря, несравненного Игоря – т. е. И. Северянина.
…
духами Rigaud – подразумеваются духи основанной в 1854 г. (и существующей до сих пор) франц. парфюмерной фирмы Jehanne Rigaud.
…азяме – Азям – крестьянская одежда в виде длинного кафтана с кушаком.
«Ударили воду тяжелые весла…»*
…
Тору – Тора – Пятикнижие
(ивр.).
«О, мечтам заплатил я сероскучною данью!..»*
В лилоалой аллее олелея лилейно – намек на сологубовскую аллитерацию «Лила, лила, лила, качала / Два тельно-алые стекла. / Белей лилей, алее лала / Бела была ты и ала»
(Любовью легкою играя…, 1901).
«Вы помните, царица Гиперборейских стран…»*
…
en trois – здесь: ужин втроем
(фр.).
…
ирруа – сорт французского шампанского вина.
…
я невольник, срывающий Анчар – отсылка к стих. А. С. Пушкина
Анчар (1828).
«Разбирая перчатки в магазине Кальмеера…»*
…
магазине Кальмеера – имеется в виду галантерейный магазин крупнейшего иркутского торгового дома «С. С. Кальмеер и Сыновья».
…
causerie – непринужденная беседа (
фр.).
…
утончайте искусственность – В ориг. публикации «утончайше»; возможно, здесь опечатка и должно было стоять «утончая».
«Жарким вечером томимый…»*
…
гоноболь – также гонобобель, голубика.
«Черные лужи на грязной земле…»*
«Как пыль металла / Лазурь тускла» – эпиграф взят из
Песни без слов П. Верлена (1844–1896) в пер. Ф. Сологуба; пер. был опубликован в кн.:
Верлен П. Стихи, избранные и переведенные Федором Сологубом (СПб., 1908).
«Меня ты спрашиваешь: кто я?..»*
Брату Евгению – Е. В. Пруссак (1890–1942) – старший брат автора, инженер-строитель, баловавшийся сочинением стихов и музыки, впоследствии инженер-нормировщик, составитель ряда пособий. Посещал брата в ссылке в июне-июле 1914 и в феврале-марте 1915 г.
…
мазаграна – Мазагран – прохладительный напиток, холодный черный кофе с сахаром и коньяком, иногда с лимоном.
…
бесстыдно высунув язык – Высунутый язык – традиционный иконографический атрибут дьявола; см. ниже: «Вы назовете
князем мглы / Кому напрасно расточали / Неудержимые хвалы».
«Огонь молодой одалиски…»*
…
де Лиля… Верхарен – речь идет о франц. поэте, главе Парнасской школы Ш. Леконте де Лиле (1818–1894) и выдающемся б ельгийском поэте-символисте Э. Верхарне (1855–1916).
«Венеру Милосскую в землю зарыли!..»*
Венеру Милосскую в землю зарыли! – Видимо, до автора дошли искаженные слухи о защите шедевров Лувра от возможных бомбежек во время Первой мировой войны, основанные на мерах, принятых в 1870 г. в период франко-прусского конфликта, когда статуя Венеры Милосской была спрятана в подвале парижской префектуры. На самом деле статуя на сей раз была помещена в комнату-сейф; для защиты др. греческих скульптур использовались
мешки с землей (см.:
Protecting the Louvre //American Art News (N. Y.). 1914. Sept. 19).
Деревянный крест*
Публикуется по:
Пруссак Владимир. Деревянный крест: Вторая книга стихов. Иркутск, изд. «Иркутские вечера», 1917.
«Сарматы смачивали стрелы…»*
Впервые:
Иркутские вечера: Стихи. Альманах первый. Иркутск, изд. группы поэтов в Иркутске, июнь 1916 (далее –
ИВ). Здесь иная композиция цикла: под № 3. идет стих.
Пианино. Канарейки. Фикус… (см. с. 189), № 4 из
ДК отсутствует.
«Ясность в душе пустынной; холодно мне и странно…»*
Впервые:
ИВ, с разночтениями в ст. 1: «радостно мне и странно», ст. 7: «пусто в моей светлице», ст. 9: «мощным ликует хором», ст. 13: «искусству».
«Если ты хочешь создать гармонично-звучащие ритмы…»*
Впервые:
ИВ, с разночтениями в ст. 13: «принявший все утраты», ст. 17: «придешь, неведомый», с. 19: «исступленный странник».
«Когда потухнет бледный мой ночник…»*
Впервые:
ИВ, с разночтениями в ст. 2: «смерть, вздремнув», с. 5: «духовный, ласковый», ст. 12: «Иду! И встретят».
…
сладостный Маир – аллюзия к фантастическому стихотворному циклу Ф. Сологуба
Звезда Маир (1904), мотивы кот. прослеживаются в стих.
«На каменном полу лежу в пыли…»*
Я вышел до зари, я вышел рано! – отсылка к пушкинскому «Свободы сеятель пустынный / Я вышел рано, до звезды…» (1823).
Финляндия*
…
Похьолы… седая Лоухи – Похьола (Похьёла) – в карельских эпических песнях и карело-финском эпосе
Калевала далекая враждебная страна, где царит злая колдунья Лоухи; отсюда, однако, герои похищают женщин и культурные блага. В этом же краю, согласно мифологическим представлениям, находился корень мирового дерева.
Польша*
Не сгибла Польша… – частичный пер. первой ст. польского гимна («Jeszcze Polska nie zgin^la»). В связи с данным стих. уместно вспомнить воззвание
К польскому народу, распространявшееся (и, возможно, составленное Пруссаком) в период его гимназической деятельности в «Революционном Союзе». Текст см.:
Революционное юношество: Из прошлого социал-демократической учащейся и рабочей молодежи. Сб. I. <…> Л., 1924. С. 156–157.
…
Батория – имеется в виду Стефан Баторий (15331586), трансильванский князь, король Польши с 1576 г., успешно воевавший с Московским царством.
Деревня*
Также:
Сибирские записки. 1917, январь, без разбивки на строфы и с разночтениями в ст. 2: «досуга», ст. 3: «нищая, назойливая», ст. 12–13: «Потом, в толпе, с повинной головой / Идет в цепях дорогой в чистом поле».
Сибирь*
…
урмана – Урман – в Сибири обозначение темнохвойного леса на приречных участках.
«Грозный час. Великая беда…»*
Также:
Багульник. 1917. № 5, март, под заг.
Из цикла «Деревянный крест» с незначит. вариациями в пунктуации и разбивке на строфы и перестановкой ст. («Считает земные поклоны / Рыдает у скорбной иконы»). В журн. публ. в последней строфе: «Напрасно гибнут родины сыны! / Измена и позор под русским кровом…» (видимо, в кн. имели место цензурные замены).
«О, Русь! Раскинутая ширь…»*
И белым пламенем в ночи / Горят тревожные зарницы… – возможно, подсказано загл. сб. К. Бальмонта
Белые зарницы (1908).
«Бредет старуха по проселкам…»*
Вл. Бакрылову – В. В. Бакрылов (1893–1922) – соратник автора по процессу «Революционного Союза», эсер, личный секретарь Е. К. Брешко-Брешковской. После революции коммиссар госуд. театров, позднее секретарь Репертуарной секции ТЕО Наркомпроса, секретарь Вольфилы. Покончил с собой, бросившись в Неву.
«Всегда и всюду и с тобою…»*
«Люблю тебя в облике рабьем»… – Эпиграф – искаж. цит. (правильно: «в лике») из стих. М. Волошина
Россия (1915).
Дракон*
…
Pax Romana – букв. «римский мир», исторический период стабильности и процветания в римской империи (27 г. д. н. э. – 180 г. н. э.); здесь в переносном смысле.
…
Campo Santo – монументальное историческое кладбище на Пьяцца деи Мираколи (площади Чудес) в Пизе.
Зимняя ночь*
Также:
Сибирские записки. 1917. № 2, март, без разбивки на строфы и с разночтениями в с. 6: «призрачный, недостоверный», с. 16: «брожу в полях».
Ольхон*
Ольхон… Кобылья Голова… прокаженных – Ольхон – крупнейший остров оз. Байкал, где была в свое время распространена проказа; Кобылья Голова – полуостров на западе этого острова.
«В унтах с узорною каемкой…»*
…
кошеву – Кошева – широкие и глубокие сани, обитые кошмой или рогожей
(диал.).
В городе*
Впервые:
Багульник. 1916. № 3, октябрь; здесь вместо «докучный плен» – «тяжелый плен», № 2 под заг.
Рондо, вместо «постылого туда» – «докучного труда».
«Здесь города… кольцо» – автоэпиграф (с вариациями) из сонета
Сибирь (с. 118).
Степь*
Впервые:
Багульник. 1916. № 1, август с перестановками ст. в II–IV и датировкой: «Гусиное озеро. Июнь, 1916».
«И вдруг мелькнет… лицо» – чуть искаж. автоэпиграф из сонета
Сибирь (с. 118).
Сентиментальные рондо*
«Письма не будет… нелегко» – эпиграф взят из стих. Г. Адамовича
Последняя любовь, включенного в авторский сб.
Облака (1916).
Всеволоду Курдюмову – В. В. Курдюмов (1892–1956) – поэт, драматург, к 1916 г. автор пяти стихотворных сб., в советские годы автор многочисл. агитационных произведений. В Иркутске в 1916 г. проходил военную службу, публиковался совместно с Пруссаком в журн.
Багульник.
В меблированных комнатах*
Также:
Сибирские записки (1917. № 2, март) с разночтениями в пунктуации, ст. 11: «звенит телефон» и добавлением двух финальных строк: «Все так же… все так же, как было; как было тогда и давно. / Опять электричество гаснет… Испорченный провод! Темно». См. об этом стих. также биографич. очерк, с. 225–226.
Клуб самоубийц*
Впервые:
Багульник. 1916. № 2, сентябрь. Целиком повесть
Гимназичество, видимо, не сохранилась либо не вовсе была дописана. Коммент. к данному отрывку см. в биографии. очерке, с. 231–232.
…
au jeu de la reine – на карточной игре у королевы
(фр.).
…
ad patres – к праотцам
(лат.).
…
«Les trofees» – сб. сонетов
Трофеи (1893), главное произведение франц. поэта Ж. М. де Эредиа (1842–1905).
«Иду к Максиму я…» – припев куплетов графа Данило в оперетте Ф. Легара (1870–1948)
Веселая вдова (1905).
«Шампанского в лилию!.. вино» – Цитируется
Шампанский полонез (1912) И. Северянина.
Страсть*
Впервые:
ИВ.
Кутеж*
Впервые:
ИВ. В тексте: «в шелку и шеншеля».
«Пианино. Канарейки. Фикус…»*
Впервые:
ИВ как № 3 в цикле
Узкие врата.
Слово о полку Игореве*
Впервые:
Сибирские записки. 1917. № 1, январь.
Марк Аврелий*
Впервые:
Сибирские записки. 1917. № 4–5, август-октябрь.
Узкие врата*
Впервые:
Сибирские записки. 1917. № 6, декабрь.
Письмо в ссылку*
Впервые:
Новый Сатирикон. 1917. № 16, май.
21 апреля*
Впервые:
Новый Сатирикон. 1917. № 19, июнь.
Стих. посвящено событиям 20–21 апреля 1917 г., когда политический кризис, связанный с политикой Временного правительства в отношении участия России в Первой мировой войне, вылился в уличные столкновения в Петрограде, Москве и др. городах.
Оборотень*
Впервые:
Новый Сатирикон. 1917. № 22, июнь.
Княжна*
Впервые:
Новый Сатирикон. 1917. № 32, сентябрь.
Марсельеза*
Впервые:
Новый Сатирикон. 1917. № 34, сентябрь.
Павшие восемнадцатого июня – 18 июня – дата начала т. наз. «наступления Керенского» на Юго-Западном фронте, последней наступательной операции российской армии в Первой мировой войне. Наступление вскоре провалилось из-за катастрофического разложения в армии.
Дворцы*
Впервые:
Новый Сатирикон. 1917. № 37, октябрь.
Близок срок*
Впервые:
Новый Сатирикон. 1917. № 39, октябрь.
Распутье*
Впервые:
Новый Сатирикон. 1917. № 41, ноябрь.
После митинга*
Впервые:
Новый Сатирикон. 1917. № 42, ноябрь.
* * *
Впервые:
Новый Сатирикон. 1918. № 1, январь.
Письмо из Петербурга*
Впервые:
Ars: Ежемесячник искусства и литературы (Тифлис
). 1918. № 1.
…
проф. Самокиша – видимо, речь идет о знаменитом баталисте, иллюстраторе и педагоге Н. С. Самокише (1860–1944).
…
газеты-однодневки в защиту свободного слова – Эти издания стали формой протеста против большевистского декрета
О печати от 27 окт. 1917 г. и начавшегося удушения «буржуазной» прессы. 26 ноября в Петрограде под девизом «В защиту свободы печати» вышла однодневная
Газета-протест Союза русских писателей, в кот. участвовали З. Гиппиус, Е. Замятин, В. Короленко, А. Кугель, Е. Ляцкий, Д. Мережковский, Ф. Сологуб, А. Тыркова и др. В Москве 10 дек. вышла изданная Клубом московских писателей однодневная газета
Слову – свобода! (среди участников Ю. Балтрушайтис, К. Бальмонт, И. Бунин, В. Вересаев, М. Волошин, М. Гершензон, Б. Зайцев, Вяч. Иванов, М. Осоргин, А. Соболь, Н. Телешов, А. Толстой, Е, Чириков, Л. Шестов, И. Эренбург и др.).
…
поставленный у Незлобина «Царь Иудейский»… великолепные – Драма «августейшего поэта» К. Р. (вел. князя Константина Константиновича, 1858–1915)
Царь Иудейский (1909–1912, изд. 1914) была поставлена в театре Н. К. Незлобина осенью 1917 г. с использованием реквизита и декораций любительского спектакля 1914 г. в Эрмитажном театре, в котором играл и сам автор.
…
вечер поэтов в Академии художеств – На этом вечере, организованном Союзом деятелей искусств, выступили А. Ахматова, А. Блок, Ю. Верховский, М. Зенкевич, Р. Ивнев, А. Кондратьев, О. Мандельштам, В. Пруссак, И. Северянин, Ф. Сологуб, Н. Тэффи, в хореографической части – О. Глебова-Судейкина и Е. Анненкова. См.:
Литературная жизнь России 1920-х годов… Т. 1. Ч. 1: Москва и Петроград. 1917–1920 гг. М., 2005. С. 79.
«Ешь ананасы…» – искаж. цитируется двустишие В. Маяковского «Ешь ананасы, рябчиков жуй / День твой последний приходит, буржуй» (1917).
Первым совершил эту поездку маститый Ясинский… – 14 ноября 1917 г. беллетрист И. И. Ясинский (1850–1931) выступил в Кронштадте с лекцией о Ф. Ницше; во время пребывания в Кронштадте он также выступил с приветствием на заседании Кронштадского Совета. 17 ноября А. Луначарский изложил в статье в «Известиях» частную беседу с Ясинским, поддержавшим новую власть. С осуждением Ясинского выступили М. Горький, Е. Чириков, В. Короленко и др.
Не избег этого и Шаляпин… – Концерт Ф. И. Шаляпина в Кронштадте под эгидой Исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов, подробно описанный им в мемуарах
Страницы из моей жизни, состоялся 17 декабря 1917 г.
…
«Вечере 13»… «Дар Гер» и «Скалагримм Березарк»… М. Лещинский – Нам не удалось обнаружить отчеты об этом вечере. Псевд. «Дар Гер» не расшифрован; возможно, это А. О. Гербстман (1900–1982), уже издавший к тому времени кн. стихов
Отблески молний (1917), впоследствии филолог, литературовед и выдающийся шахматный композитор. «Скалагримм Березарк» – очевидно, И. Б. Березарк (Рысс, 1897–1981), поэт, журналист, театральный критик и мемуарист. М. М. Лещинский – младший брат поэта, художника и революц. деятеля О. Лещинского (1892–1919), автор сб.
Сожженный сад (Париж, 1920, под псевд. Эварист Лин),
Стихи (1922) и поэмы
Отто Ранке: (социал-демократ) (1932).
Бабушкин шифоньер*
Публикуется по:
АБГ (Тбилиси). 2001. № 2, июнь.
Весна*
Впервые:
Акмэ: Первый сборник тифлисского Цеха Поэтов (Тифлис, 1919).
Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т. п.
(обратно)
Примечания
1
См. Гаген-Торн Н. И. Из дневников 1974–1979 гг. Публ. и вступ. заметка Г. Ю. Гаген-Торн. Комм. Г. Ю. Гаген-Торн и А. В. Лаврова // Звезда. 2004. № 2. С. 135–164.
(обратно)
2
Трушкин В. П. Литературная Сибирь первых лет революции. Иркутск, 1967. С. 15–24, 35–37; он же. Пути и судьбы: Литературная жизнь Сибири 1900–1920 гг. Изд. 2-е, испр. Иркутск, 1985. С. 276–282, 296298.
(обратно)
3
Бондаренко В. Пожизненный данник Сибири // Сибирские огни. 1985. № 10. С. 162–166.
(обратно)
4
Азадовский К. М. Пруссак Владимир /Владимирович // Русские писатели 1800–1917: Биографический словарь. Т. 5. М., 2007. С. 169–170; (далее – Азадовский 2007); Груздева Е. Н. Анна Владимировна Пруссак – источниковед и ученый петербургской исторической школы начала ХХ в.: (материалы к биографии) // Вспомогательные исторические дисциплины: Сб. статей. Т. 32. СПб., 2013. С. 447–471. Предлагаемый читателю биографический очерк в значительной мере основывается на этих исследованиях.
(обратно)
5
Исключением являлись три не лучших, но показательных стихотворения из первого сборника В. Пруссака, опубликованных в кн.: Поэзия русского футуризма. СПб., 1999. С. 571–574 (Новая библ-ка поэта).
(обратно)
6
В том числе хорошо сохранившийся особняк М. И. Соколовой (1902) на Петроградской стороне (Петрозаводская 1). См. Груздева, с. 448–449.
(обратно)
7
Речь «Народникам» (сказанная инженер-архитектором В. Ф. Пруссаком 6 декабря 1905 г.). [СПб.], 1906. См. Груздева, с. 448.
(обратно)
8
Ныне ул. акад. Павлова. Индекс дома в предреволюционные годы менялся: 7-в, 7-б, затем 7-г.
(обратно)
9
Помимо указанной статьи Е. Н. Груздевой, см. также: Ганелин Р. Ш. Анна Владимировна Пруссак (1888-?). Материалы к биографии // Времена и судьбы. Сборник в честь 75-летия Виктора Моисеевича Панеяха. СПб., 2006. С. 415–440; то же в кн.: Ганелин Р. Ш. В России двадцатого века: Статьи разных лет. М., 2014. С. 696–722; обобщенные сведения на сетевом ресурсе Биографика СпбГУ.
(обратно)
10
Личное дело машинистки Е. В. Пруссак хранится в СПФ АРАН (фонд 273 Ботанического института, оп. 003, дело 801); ее дело также имеется в ЦГИА СПб. (ф. 436, оп. 1, дело 14065).
(обратно)
11
А. Ильин, позднее известный как А. Ф. Ильин-Женевский (1894–1942) – младший брат Ф. Раскольникова, большевистский партийный деятель, литератор, шахматист, организатор шахматной жизни в России и СССР. См.: Ильин-Женевский А. Воспоминания о межученической организации 1911-12 гг. // Революционное юношество: Из прошлого социал-демократической учащейся и рабочей молодежи. Сб. I. <…> Л., 1924. С. 130.
(обратно)
12
Ильин-Женевский А. Там же, с. 127–128.
(обратно)
13
Там же, с. 130. Речь идет о гремевшей в 1920-е гг. поэтессе Марии Шкапской (урожд. Андреевская, 1891–1952). В своих воспоминаниях А. Ильин-Женевский настаивает на том, что межученическая организация «имеет прямую преемственную связь со среднешкольной организацией 1906-09 гг. Многие ее основатели, как то: Сергей Дианин, Владимир Городецкий, Шкапские были активными работниками и старой организации» (Ильин-Женевский А. И. Еще о «витмеровцах» // Революционное юношество… С. 161). Между тем, по мнению полиции, идея организации зародилась в кружке им. Толстого (см. в данном сб. архивную справку Юр. Новина «О „витмеровцах“», составленную на основе дела № 25, часть 57 особого отдела департамента полиции (1912) «об ученических организациях по гор. С.-Петербургу», с. 137); который Ильин-Женевский характеризует как просветительский и направленный «против „политики“». Руководящую роль в нем играл младший брат Шкапской И. М. Андреевский (1894–1976), будущий психиатр, литературовед, деятель подпольной церкви, коллаборант и эмигрант.
(обратно)
14
Ильин-Женевский А. И. Еще о «витмеровцах» // Революционное юношество… С. 160–161. Отметим еще одно несоответствие: в полицейских документах В. Пруссак фигурировал как инициатор собрания.
(обратно)
15
Ильин-Женевский А. Воспоминания о межученической организации 1911-12 гг. // Революционное юношество… С. 135.
(обратно)
16
Письмо А. В. Пруссак М. К. Азадовскому от 17 апр. 1928 г. // Литературное наследство Сибири. [Том 1]. Новосибирск, 1969. С. 246.
(обратно)
17
Ганелин Р. Ш. Анна Владимировна Пруссак (1888-?). Материалы к биографии // Времена и судьбы… С. 432.
(обратно)
18
СПФ АРАН, ф. 134, оп. 3, д. 1252, л. 1–1 об. Цит. по: Груздева, с. 450.
(обратно)
19
Письмо А. В. Пруссак… С. 246. «Именно Керенский уговорил Пруссака взять на себя ту роль в напечатании прокламаций „Революционного союза“, которая принадлежала ему самому, тогда еще радикальному адвокату, порой игравшему в революционные игры. <…> В благодарность Пруссаку Керенский произнес на суде одну из своих „лучших речей“, он „блистал“ в упоении собственной славой защитника революционеров, но меняться с ними местами не собирался», – негодует В. Бондаренко (Бондаренко В. Пожизненный данник Сибири… С. 164).
(обратно)
20
Успенский Л. В. Записки старого петербуржца: Главы из книги. Л., 1990. С. 243.
(обратно)
21
Первые публикации Пруссака уже появились к тому времени в печати. Это были мрачные тюремные зарисовки, пересланные родителям: «Меня гнетет тюрьмы насильственный покой, / Неволя мысль сковала камнем злобным, / И если я взошел сюда беззлобным, / То выйду с навсегда отравленной душой» (Одесский листок. 1914. 29 марта; также: Одесские новости. 1914. 27 марта) (Азадовский 2007).
(обратно)
22
РГАЛИ, ф. 2182, оп. 1, № 443, л. 3) (там же).
(обратно)
23
Собранные материалы были ею опубликованы в «Живой старине» (1916) и «Сибирской живой старине» (1926). См. Груздева, с. 451.
(обратно)
24
Азадовский 2007. В. Бондаренко (op. cit., c. 165) считает упомянутые отточия «многозначительными» цензурными изъятиями, связанными с антивоенной темой.
(обратно)
25
Трушкин В. П. Пути и судьбы… С. 277.
(обратно)
26
Что станет характерным для целого ряда сибирских и дальневосточных поэтов, напр. В. Рябинина или С. Алымова.
(обратно)
27
Городецкий С. Тотс и Пруссак: Две маски // Лукоморье. 1916. № 2.
(обратно)
28
Новый журнал для всех. 1916. № 2–3. С. 75.
(обратно)
29
Летопись. 1916. № 3, март. С. 347.
(обратно)
30
Гумилев Н. Письмо о русской поэзии // Аполлон. 1915. № 10, декабрь. С. 53). При всех недостатках дебютной книги Пруссака, совершенно непонятно, что подвигло Гумилева опуститься до площадного обыгрывания фамилии молодого поэта
(прусак – распространенное обозначение рыжего таракана). Отметим, что в библиотеке Гумилева имелся второй сборник Пруссака «Деревянный крест» (1917) с дарственной надписью: «Николаю Степановичу Гумилеву от автора. Владимир Пруссак. Петроград, 22 марта 1917» (см.: Филичева В. В. К реконструкции и описанию библиотек Ф. Сологуба и Н. С. Гумилева // Что и как читали русские классики… СПб., 2017. С. 438–439). Позднее рецензия Гумилева подсказала Пруссаку «ход» к Л. Андрееву: нарратор стих. «В меблированных комнатах», вошедшего в сб. «Деревянный крест», явно напоминает героя Андреева; сходство подчеркнуто строкой «Кухмистерский ужин не тронут – и жир на котлете застыл», репродуцирующей андреевское: «В столовой стоял приготовленный для него ужин, и толстая котлета была покрыта слоем белого застывшего жира».
(обратно)
31
Согласно помещенному в альманахе объявлению, второй выпуск предполагался в октябре (материалы для него собирал К. С. Журавский), однако планы эти, очевидно, стали неактуальны в связи с появлением журн. «Багульник». Сведений об участниках альманаха сравнительно мало; помимо В. Пруссака, заметный след в литературе оставил Л. О. Повицкий (1885–1974), революционер, журналист, мемуарист, близкий друг С. Есенина и адресат его стихотворения. К. С. Журавский, как указывает Н. В. Здобнов (Материалы для сибирского словаря писателей. М., 1927. С. 25) публиковался в 1912–1916 гг. в газетах «Сибирская заря», «Сибирь», журналах «Багульник», «Сибирские записки», «Иркутская незабудка», сб. «Северные зори»; в 1918 г. напечатал некролог Пруссаку в красноярской «Воле Сибири». Мы не располагаем какими-либо сведениями об уроженке Иркутска Н. Камовой. В. М. Статьева-Перевощикова (188? – после 1922) с 1907 г. учительствовала в Москве, переехала в Иркутск в 1914 г. вместе со своим мужем, получившим работу в пароходстве Громовых, и младшими сестрами, публиковалась в «Багульнике» и «Сибирской летописи». В конце 1910-х гг. перебралась во Владивосток, в 1919–1920 гг. печаталась в журн. «Лель», «Бирюч», «Творчество»; в декабре 1919 г. разделила с С. М. Третьяковым вторую премию на конкурсе Литературно-художественного общества им. Н. П. Дукельского. В бредовых «воспоминаниях» Ю. Галича (Г. И. Гончаренко, 18771940) «Абракадабра» описана как постоянная посетительница кабаре «Би-Ба-Бо» и одна из «целой фаланги мелких, бездарных, бесповоротно свихнувшихся эротоманов кокаинистов» (мемуар этот позднее творчески «обработал» в романе «Три возраста Окини-сан» В. Пикуль: «К ним, пошатываясь, как сомнамбула, сразу же подошла стройная и красивая поэтесса Варвара Статьева, провывшая: – Горбатые ландыши задушили мне горло… – Брысь, курва! – сказал ей Старк»). С 1920 г. В. Статьева жила в Шанхае, где стала редактором-издателем газ. «Шанхайский понедельник», публиковалась в журн. «Фиал» и издала собственный сб. «Стихи. Т. 1» (1920); по сведениям Б. А. Ивашкевича, в июне 1922 г. вернулась во Владивосток (И-ч. Писатели, ученые и журналисты на Дальнем Востоке за 1918–1922 гг. Владивосток, 1922. С. 62).
(обратно)
32
Чужак Н. Сибирский мотив в поэзии: (От Бальдауфа до наших дней). Чита, 1922. С. 67–68.
(обратно)
33
Ис. Г. Иркутские вечера – стихи… // Сибирь. 1916. № 142, 8 июля. С. 2.
(обратно)
34
Трушкин В. Литературная Сибирь первых лет революции. Иркутск, 1967. С. 18.
(обратно)
35
Чужак Н. Сибирский мотив… С. 66, 68.
(обратно)
36
Чужак Н. Там же, с. 75.
(обратно)
37
Слонимский М. Завтра: Проза. Воспоминания. Л., 1987. С. 288. На Пруссака и др. «витмеровцев» большое впечатление произвело самоубийство восьмиклассника Введенской гимназии и председателя межученической организации Николая Сергеева (8 ноября 1912). См.: Революционное юношество… С. 137, 145–148, 150–151, 162–164. Как известно и из статистики, научных работ, публицистики и беллетристики начала века, и из современных исследований, самоубийства среди учащейся молодежи приняли в 1906–1913 гг. эпидемический характер.
(обратно)
38
См. Могильнер М. Мифология «подпольного человека»: Радикальный микрокосм в России начала ХХ века как предмет семиотического анализа. М., 1999. С. 190–196.
(обратно)
39
Сохранилось письмо Пруссака к Сологубу: «Группа иркутских поэтов позволяет себе просить Вас уделить время для беседы о родной поэзии. Надеемся застать Вас 16-го, в воскресенье, в 12 час. дня» (ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 3. № 566). В № 3 «Багульника» было напечатано переданное Сологубом Чужаку стих. «Только мы вдвоем не спали…» (в том же номере, с. 11, была опубликована большая статья о Сологубе и его лекции) Ан. Чеботаревская позднее напечатала сочувственную рецензию на «Багульник» и «Иркутские вечера», особо выделив сонет Пруссака «Страсть» (Биржевые ведомости. 1917. 6 января, утр. вып.). По возвращении в Петроград Пруссак поддерживал отношения с Сологубом и Чеботаревской; в очерке «Письмо из Петербурга», опубликованном в тифлисском журн. «Ars», он писал: «Жизнь эстетическая теплилась только в изредка собиравшемся неизменно замкнутом цехе поэтов, да на вечерах у Сологуба, где по-прежнему можно было думать и говорить о стихах» (Ars. 1918. № 1. C. 75). Сологуб и Чеботаревская, согласно автографу (ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 1. № 400) совместно написали некролог Пруссаку, опубликованный за подписью Сологуба в «Новых ведомостях» (1918. 31 июля, веч. вып.). См.: Неизданный Федор Сологуб: Стихи, документы, мемуары. Под ред. М. М. Павловой, А. В. Лаврова. М., 1997. С. 366–368.
(обратно)
40
Иванов В. Сибирские записки. Январь, 1917 г. // Степная речь [Петропавловск]. 1917. 15 февр.).
(обратно)
41
При всей своей «сторонней холодноватости» Пруссак, по удачному выражению Н. Чужака, выступает в сибирских стихотворениях как «тонкий наблюдатель и, мы бы сказали,
естествоиспытатель местного образа», который, «как бы нечаянно для себя, „ошаманивается“ „сибирским“ (явление – характерное для многих ссыльных)» (Чужак Н. Сибирский мотив… С. 74–75. Курсив авт.).
(обратно)
42
Мартынов Л. Черты сходства: Новеллы. М., 1982. С. 77.
(обратно)
43
Куда прибыл не позднее 9 марта: этим числом датирован его инскрипт на экз. «Деревянного креста»: «Милому Владимиру Алексеевичу Милашевскому на память о Сибири» (Книги и рукописи в собрании М. С. Лесмана: Аннотированный каталог. Публикации. М., 1989. С. 178).
(обратно)
44
Крутовский В. Тяжелые утраты: Некрологи // Сибирские записки. 1918. № 4. С. 104.
(обратно)
45
Успенский Л. В. Записки старого петербуржца… С. 261–264.
(обратно)
46
Автор путает: «витмеровцы» получили свое наименование по имени гимназии, где были задержаны. Сын начальницы, Л. Б. Витмер (18941915), никак не стоял во главе межученической организации, хотя принимал в ней активное участие и был в числе задержанных и изгнанных с «волчьим билетом». Биографический очерк о нем с упоминанием переписки с Пруссаком см. на сайте «Школа Карла Мая». Прочие фактологические ошибки мемуариста достаточно очевидны.
(обратно)
47
Доль [Тигер Д. Н.]. Вечер свободной поэзии // Петроградская газета. 1917. № 87, 15 апреля. С. 4. Как отмечено в этом написанном в юмористических тонах отчете, Пруссак прочитал «утомительно длинное» стихотворение. Согласно афише (репр. в: Николай Клюев. Воспоминания современников. М., 2010. С. 787), речь идет о малой поэме «Грозный час…» из цикла «Деревянный крест».
(обратно)
48
Знаменательный день в жизни…го Вяземского ген. Несветаева полка // Огонек. 1917. № 29, 30 июля (12 авг.). С. 455.
(обратно)
49
Пруссак В. Обдумывайте слова: (Очерки фронта) // Воля народа. 1917. № 90, 12. августа. С. 1.
(обратно)
50
Телеграфное донесение начальника штаба верховного главнокомандующего // Разложение армии в 1917 году. Подг. к печ. Н Е. Какуриным. С предисл. Я. А. Яковлева. М.-Л., 1925. С. 101–102; Пруссак В. Полковник Швайкин: (Очерки фронта) // Воля народа. 1917. № 91, 13 августа. С. 2.
(обратно)
51
Пруссак В. Умывающие руки // Воля народа. 1917. № 101, 25 августа. С. 1.
(обратно)
52
Ивнев Р. Дневники 1916–1918 гг. // Крещатик. 2008. № 2.
(обратно)
53
Бондаренко В. Пожизненный данник… С. 166.
(обратно)
54
Динерштейн Е. А. Маяковский и книга: Из истории издания произведений поэта. М., 1987. С. 11.
(обратно)
55
Закарян А. Деятельность тифлисского «Цеха поэтов» // Историко-филологический журнал (Ереван). 2011. № 2. С. 113; Б. п. Артистериум // Ars. 1918. № 1 (март). С.73.
(обратно)
56
Письмо А. В. Пруссак М. К. Азадовскому… С. 246.
(обратно)
57
Бурлюк Д. Литература и художество в Сибири и на Дальнем Востоке (1919-22 г.): (Заметки и характеристики очевидца) // Новая русская книга (Берлин). 1922. № 2. С. 46.
(обратно)
Оглавление
Цветы на свалке*
Поэтезы
«Поэты вписаны в угрюмые реестры…»
«Потише, люди! Поэт в ударе…»
«Я молился с сектантами о Христовом пришествии…»
«Кую безжизненные звенья…»
«Я знаю, дамы! Я знаю, барышни…»*
«Ты в ассонансах – праздный шут…»
Зазыв
«Свежие орехи! Тепленькие пончики!..»
«Больше я не фокусник, чинно напомаженный…»
«Капельку внимания! Правда или ересь?..»
Мои знакомые
«Неужели проиграна жизнеценная ставка?..»
«Вечерами волшебными, вечерами морозными…»*
«Девочка в коричневом. Быстрая цыганочка!..»*
«Это было прелестно: будуара интимней…»*
Поцелуйные пляски
«Ах, уж эти гимназистки! Как недавно белый крем…»*
«Мы друг другу надоели…»*
«Мы давно не встречались. Так лучше. Я рад…»
«Облака – проворней белки…»*
«На затопленный остров, где накидан булыжник…»*
«Ударили воду тяжелые весла…»*
«Туманное утро. Предутренний сон…»
«Гремел оркестр на скетинг-ринке…»
«О, мечтам заплатил я сероскучною данью!..»*
«Мне будет другом, мне будет братом…»
Шампанские поэзы
«Вы помните, царица Гиперборейских стран…»*
«Разбирая перчатки в магазине Кальмеера…»*
«Я помню фонтаны горящих минут…»
IV
«Эй, послушайте, девица за четырнадцать рублей!..»
«Она отдавалась, закурив пахитоску…»
Горная радость
«Развиваются, рвутся клочья черного дыма…»
«Пламенное Солнце ранит нежный Вечер…»
Молитвы
«Божья Матерь, строгая Владычица!..»
«Храм Василия Блаженного…»
«Леший, леший, будь мне братом!..»
«Солнце! Море!..»
«Жарким вечером томимый…»*
«Господи, спаси, спаси меня!..»
Стихи об умершем Петербурге
«Черные лужи на грязной земле…»*
«Меня ты спрашиваешь: кто я?..»*
«Умер Петербург, великая столица!..»
Мерцания
«Мысли, реченья, цвета…»
«Огонь молодой одалиски…»*
«Добро. Чистота. Справедливость…»
«Бунина я вечером читал…»
«Перехожие калики…»
«В городе душно и пыльно…»
«Аляповатое барокко…»
«Марк Ильич, Вы помните вчерашнее?..»
Косоворотка
«Я уничтожил перед обыском…»
«Нет, полюбить я не смогу…»
Проволочные заграждения
I
«Внезапно вскинувшейся сворой…»
«Венеру Милосскую в землю зарыли!..»*
IV
V
VI
VII
Деревянный крест*
Узкие врата
«Сарматы смачивали стрелы…»*
«Ясность в душе пустынной; холодно мне и странно…»*
«Если ты хочешь создать гармонично-звучащие ритмы…»*
«Быть одному – страданье и отрада…»
«Темнеет. Тишина. Давно закрыты двери…»
«Когда потухнет бледный мой ночник…»*
Возвращение
«Как хорошо, окончив пыльный путь…»
«Твое терпенье – тягостный укор…»
«В огнях пророческих зарниц молюсь…»
«На каменном полу лежу в пыли…»*
«Гармоники завели плясовую…»
«Мечтой пленяясь невозможной…»
Ожидание
«Страна моя! Смиренная обитель…»
Петербург
Деревня*
Евреи
Финляндия*
Польша*
Сибирь*
Деревянный крест
«Ветер осенний и пьяный…»
«Спешу уйти куда-нибудь…»
«Грозный час. Великая беда…»*
Русь
«Ты вся – неизреченный свет…»
«О, Русь! Раскинутая ширь…»*
«В час туманного заката неприветливого дня…»
«Бредет старуха по проселкам…»*
«Господи, с последнею мольбою…»
«Всегда и всюду и с тобою…»*
Дракон*
Sibirica
«Невольной родине моей…»
«Нередко, в холода декабрьской непогоды…»
Зимняя ночь*
Замерзание
Ольхон*
На Байкале
Заячья охота
«В унтах с узорною каемкой…»*
«У Белогорья и на Лене…»
Заклятье
В городе*
Степь*
Sentimentalia
Сентиментальные рондо*
Сентиментальные рондели
В меблированных комнатах*
«Белый снег заметает пути…»
Письмо
Публикации в альманахах, сборниках и журналах
Клуб самоубийц*
Страсть*
Кутеж*
«Пианино. Канарейки. Фикус…»*
Слово о полку Игореве*
Марк Аврелий*
Узкие врата*
Письмо в ссылку*
21 апреля*
Оборотень*
Княжна*
Марсельеза*
Дворцы*
Близок срок*
Распутье*
После митинга*
1918
Письмо из Петербурга*
Бабушкин шифоньер*
Весна*
С. Шаргородский. «Пыль и только пыль…»
Комментарии
*** Примечания ***